Моей жене Элен Ман-Клайн
Предисловие редактора перевода
Что такое математика? Каковы ее происхождение и история? В чем отличие математики от других наук? Чем занимаются математики сегодня и каков, по их мнению, ныне статус науки, которая составляет предмет их интересов и профессиональной деятельности? Все эти вопросы живо интересуют многих, но практически ни одно из имеющихся в нашей литературе научно-популярных сочинений не дает на них достаточно полного ответа. Вопрос «Что такое математика?» вынесен в заглавие пользующейся заслуженной известностью книги Р. Куранта и Г. Роббинса [118]. В этом сочинении Курант сделал попытку «конструктивного» определения математики: «Математикой называется все то, о чем говорится в нашей книге». Однако подобный ответ вряд ли можно признать удовлетворительным: он разъясняет суть дела лишь в той степени, в какой авторам названной книги удалось охарактеризовать главные направления математической науки; без сомнения, многих читателей книга Куранта — Роббинса может и разочаровать. Возможно, более всеобъемлющий ответ на поставленные нами вопросы дает другая книга, в значительной мере также созданная под руководством Р. Куранта, — сборник «Математика в современном мире» [137], в котором собраны посвященные математике статьи из известного американского научно-популярного журнала Scientific American{1}. Однако, уделяя большое внимание общим вопросам, эта книга остается всего лишь сборником статей различных авторов, отличающихся одна от другой по стилю, основным установкам и доступности для читателя.
Одним из авторов «Математики в современном мире» был Морис Клайн, который в годы составления этого сборника возглавлял математический факультет Нью-Йоркского университета и был руководителем одного из отделов Математического института им. Куранта. В настоящее время Клайн отказался от всех своих официальных должностей, сохранив лишь звание заслуженного профессора курантовского института; он входит также в состав редколлегий журналов Mathematics Magazine и Archive for History of Exact Sciences. Клайн является автором многих книг, из числа которых можно отметить часто цитируемые сочинения «Математика в западной культуре» [46]*{2} и, быть может, лучший из зарубежных курсов истории математики, «Математическое мышление от древности до настоящего времени» [45]*. Но в наши дни наибольшим успехом из всех сочинений{3} М. Клайна пользуется его книга «Математика. Утрата определенности», предлагаемая ныне советскому читателю; такой успех обусловлен как бесспорным литературным и педагогическим талантом автора, так и широтой и важностью затронутых в книге вопросов.
Настоящая книга М. Клайна именно и ставит своей целью ответить на вопросы, прозвучавшие в начале нашего предисловия. Автор пытается разъяснить сущность математики читателю, интересующемуся общенаучными проблемами, но не имеющему специального математического образования, и стремится ознакомить его с теми принципиальными проблемами, которые возникли в математике в конце XIX и в XX вв. В этом отношении книгу М. Клайна с полным основанием можно считать уникальной: столь широкий круг вопросов ранее в научно-популярной литературе по математике никогда не рассматривался. Изложение автора имеет «генетический» характер: он уделяет много внимания истории математики, особенно тщательно анализируя кризисные моменты, связанные с необходимостью ломки самой «математической идеологии». При этом автор достаточно подробно говорит о связи «чистой» и прикладной математики, о «непостижимой эффективности математики в естественных науках» (если использовать здесь название известной и цитируемой автором статьи Юджина Вигнера). Но самое значительное место в книге М. Клайна отводится вопросам, связанным с современным положением математики, и трудностям, обнаруженным в ее обосновании уже в нашем столетии, нередко в самые последние десятилетия.
Можно не сомневаться, что для многих читателей изложенные автором факты будут весьма неожиданными: мы привыкли считать, что математика всегда являлась образцом строгости, — автор же говорит о «нелогичном развитии» этой самой строгой и последовательной из наук и указывает, что античный идеал «доказательности» был достигнут здесь лишь во второй половине XIX в., а до этого общенаучный уровень арифметики и алгебры, геометрии и анализа был таким, что от него, безусловно, отшатнулись бы в ужасе древнегреческие мыслители. Неспециалисты привыкли считать, что в математике вообще не осталось никаких нерешенных проблем, но автор подчеркивает, что даже фундамент этой «самой научной из наук» не только не достроен, но, как будто никогда и не будет достроен до конца{4}, так что непротиворечивость математики вызывает известные сомнения (ср. впрочем, с шутливым высказыванием Вейля, процитированным ниже). Главы «Нелогичное развитие» являются, быть может, самыми удачными в книге: читателю будет интересно узнать, с каким трудом входили в математику современное понятие числа или геометрические представления, с которыми мы знакомимся ныне буквально на школьной скамье.
Однако книга Клайна нуждается и в некоторых предостережениях. Рассчитывая на вдумчивого читателя и доверяя его критическому чутью, автор приводит много разных — иногда друг другу противоречащих — точек зрения и свободно сталкивает разные суждения, не настаивая на каком-либо определенном. Однако из того, что Клайн подробно рассказывает, скажем, о философии Канта, вовсе не следует, что сам он является кантианцем. Излагая далее религиозные установки ученых XVII-XVIII вв., Клайн также позже открещивается от них. Автор не претендует на то, чтобы читатель принял какую-либо из изложенных в книге философских концепций, как не требует он и безоговорочно признать правоту той или иной из обсуждаемых им школ, занимающихся основаниями математики: Клайн хочет о многом рассказать, но вовсе не во многом убедить. Это, конечно, не означает, что в книге абсолютно не выражена собственная позиция автора. Так, анализируя взаимоотношения математики с действительностью, Клайн явно стоит на стороне тех, кто видит в математике мощный аппарат познания реального мира, хотя не обходит вниманием и ученых, настаивавших на «объективном» существовании математических понятий как образов, которые складываются в нашем мозгу и позволяют нам судить о Вселенной, существующей для нас лишь в той форме, какую придает ей наш разум (с этой позицией еще в середине XVIII в. полемизировал Л. Эйлер). Впрочем, книга М. Клайна, требующая известного внимания и определенной научной культуры, явно не рассчитана на легковерного читателя — это позволяет нам не спорить со всеми теми из изложенных в книге взглядов, с которыми ни редактор, ни читатель никогда не согласятся.
Впрочем, несколько оговорок, относящихся к книге М. Клайна, возможно, будут здесь полезны. Прежде всего следует иметь в виду, что это отнюдь не учебник, а всего лишь сочинение научно-популярного характера: автор порой позволяет себе упрощать реальную ситуацию — поэтому читателям, которые захотят поглубже ознакомиться с затронутыми в книге вопросами, бесспорно, придется обратиться к дополнительной литературе, начиная с «Философской энциклопедии» (тт. 1-5. — М.: Советская энциклопедия, 1960-1970), содержащей не только достаточно подробные и снабженные дальнейшими литературными ссылками статьи, о всех упоминаемых в книге философах (скажем о Канте и кантианстве, о Юме и его школе), но и весьма отчетливые характеристики основных направлений в области оснований математики [логицизм, гильбертов формализм, интуиционизм и понимаемый Клайном, пожалуй, слишком расширительно конструктивизм (зачастую отождествляемый автором с интуиционизмом)] и даже обсуждение основных фактов и теорем из области оснований математики, упоминаемых в этой книге. Далее, надо учитывать полемическую заостренность этой интересной книги, стремление автора пробудить читателя к размышлениям, вызвать его на спор, для чего Клайн иногда намеренно несколько драматизирует события. Так, он уделяет много внимания дискуссиям об основаниях математики, развернувшимся в начале нашего столетия и не стихающим до сих пор: однако при этом, конечно, надо учитывать, что «истинность» и применимость основного костяка математической теории ни у кого не вызывает серьезных сомнений, так что заключающая гл. XII притча о пауках в старинном замке представляется здесь вполне уместной.
Слишком заострена также и гл. XIII «Математика в изоляции». Действительно, в наши дни, видимо, уже невозможны личности, подобные, скажем, Герману Гельмгольцу — великому врачу, физиологу, физику, механику и математику; тем не менее это еще не дает оснований к тому, чтобы говорить о полном отрыве математики от реальной жизни. Конечно, очень многие современные математики не интересуются приложениями своей науки, и немало из печатающихся ныне в математических журналах статей «канет в Лету», но это никак не относится к вождям математической науки нашего века, по которым стараются равняться все остальные ученые, как не касается и наиболее значительных работ, кстати сказать, нередка оцениваемых по заслугам лишь много позже. Автор специально отмечает глубокий интерес к естествознанию (в иных случаях — и к гуманитарным наукам) и конкретно к физике всех крупнейших математиков нашего столетия, внесших выдающийся вклад в эту область знания. Здесь можно назвать Анри Пуанкаре (небесная механика, специальная теория относительности) и Давида Гильберта (общая теория относительности); Германа Вейля (теория относительности, квантовая механика) и Джона фон Неймана (квантовая механика, создание ЭВМ, математические методы экономики, теория автоматов); Андрея Николаевича Колмогорова (теория турбулентности в механике, теория динамических систем, математические методы в биологии, математическое стиховедение) и Джорджа Дэвида Биркгофа (теория относительности, динамические системы, математические методы эстетики). Сходную картину мы наблюдаем и в наши дни, когда почти все лидеры математической науки разных поколений отнюдь не чураются решения практических проблем. Да и само различие между «чистой» и прикладной математикой точному учету не поддается: нередко творцы новых разделов математики даже не подозревают, сколь большое практическое применение могут найти в дальнейшем их «чиста математические» результаты. Так, теория функций комплексного переменного создавалась Коши, Риманом и Вейерштрассом, которые, конечно, не могли предположить, что много позже H.E. Жуковский укажет на важность этого математического аппарата для решения задач возникшей тогда новой области техники: гидро- и аэромеханики. Дж. Буль и другие логики XIX в. даже не подозревали, что разрабатывают аппарат, который в XX в. будет положен в основу функционирования ЭВМ, а знаменитый Н. Бурбаки в своих «Очерках по истории математики» [68] не так уже задолго до современного «октавного бума» в физике элементарных частиц довольно пренебрежительно отозвался об открытой А. Кэли неассоциативной алгебре гиперкомплексных чисел с восьмью комплексными единицами (алгебре октав; ср. со сказанным ниже).
Стремясь облегчить чтение книги М. Клайна лицам, не имеющим математического образования, или начинающим математикам, мы сочли необходимым дополнить авторский текст некоторыми пояснениями и уточнениями (они собраны в разделе «Примечания» в конце книги). Кроме того, к авторскому списку литературы, ориентированному исключительно на англоязычного читателя (где мы, однако, указали имеющиеся на русском языке переводы некоторых из перечисленных автором книг), был прибавлен список книг (главным образом на русском языке), объединенных в раздел «Дополнительная литература». Следует также заметить, что у М. Клайна использование названной им литературы целиком предоставлено инициативе читателя: в английском оригинале книги не содержится ни одной ссылки на эту литературу. Таким образом, все имеющиеся в настоящем (русском) издании ссылки на литературу принадлежат переводчику и редактору.
Заканчивая это (по необходимости несколько затянувшееся) предисловие, я хотел бы выразить надежду, что читатель получит удовольствие от предлагаемой ему книги — не во всех отношениях бесспорной, но безусловно яркой и очень интересной по содержанию.
И.М. Яглом
Вступление
Эта книга — о глубоких изменениях, которые претерпели взгляды человека на природу и роль математики. Ныне мы знаем, что математика не обладает теми качествами, которые некогда снискали ей всеобщее уважение и восхищение. Наши предшественники видели в математике непревзойденный образец строгих рассуждений, свод незыблемых «истин в себе» и истин о законах природы. Главная тема этой книги — рассказ о том, как человек пришел к осознанию ложности подобных представлений и к современному пониманию природы и роли математики. Краткий обзор избранной темы содержится уже во введении. Отдельные разрозненные факты можно было бы собрать воедино, если проследить историю математики во всех деталях. Но тем, кого интересует главным образом разительные перемены, происшедшие в наших взглядах на природу и роль математики, более доступен и понятен прямой подход, свободный от второстепенных частностей и тем самым позволяющий выделить общие идеи.
Возможно, многие математики предпочли бы вести откровенный разговор о современном статусе своей науки в узком кругу профессионалов. Публичное обсуждение возникающих трудностей они считают таким же проявлением дурного вкуса, как разглашение перед посторонними семейных тайн. Но мыслящие люди должны отчетливо сознавать сильные и слабые стороны тех средств, которыми они располагают. Ясное понимание ограниченности (равно как и возможностей) того или иного подхода приносит несравненно больше пользы, чем слепая вера, способная исказить наши представления или даже привести нас к краху.
Я хотел бы поблагодарить сотрудников издательства «Оксфорд юниверсити пресс» за внимательное отношение к этой книге и выразить особую признательность Уильяму Ч. Халпину и Шелдону Майеру за понимание важности популярного изложения затронутых мной проблем, а также Леоне Кейплесс и Кертиссу Черчу за ценные замечания и критику. Моей жене Элен я обязан многочисленными исправлениями, внесенными ею при чтении рукописи и корректуры.
Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Математическую ассоциацию США за разрешение использовать в книге материалы из статей издаваемого ею журнала The American Mathematical Monthly («Американский математический ежемесячник»).
М. Клайн
Бруклин, штат Нью-Йорк
Январь 1980 г.
Боги людям открыли не все. В поиск пустившись, люди сами познали немало.* * *
Предположим, что мы не так уж далеки от истины.* * *
Ни теперь, ни во веки знать никому не дано Истину о богах и о том, что я вам толкую. Если случится кому истину изречь, То ведать о том он не в силах, И над всем внешняя форма царит. КсенофанВведение: основной тезис
Лучший метод для предвидения будущего развития математических наук заключается в изучении истории и нынешнего состояния этих наук.{5}
Анри ПуанкареОдни трагедии порождают войны, голод, чуму, другие — в мире идей — вызваны ограниченностью человеческого разума. Эта книга — горестный рассказ о бедствиях, выпавших на долю математики — наиболее древнего и не имеющего себе равных творения людей, плода их неустанных и многообразных усилий, направленных на использование способности человека мыслить.
Можно также сказать, что эта книга на общедоступном уровне повествует о расцвете и закате величия математики. Позволительно спросить: уместно ли говорить об упадке математики в наше время, когда ее границы необычайно расширились, когда научная деятельность в области математики ведется во все возрастающих масштабах и достигла небывалого расцвета, когда ежегодно публикуются тысячи работ по математике, все большее внимание привлекают вычислительные машины и когда поиск количественных соотношений захватывает все новые области, особенно в биологических и социальных науках? В чем причина трагедии? Прежде чем ответить на эти вопросы, следует напомнить, какие достижения математики снискали ей высочайший престиж, всеобщее признание и славу.
С самого зарождения математической науки как самостоятельной отрасли знания (у колыбели которой стояли древние греки) и на протяжении более чем двух тысячелетий математики занимались поиском истины и добились на этом пути выдающихся успехов. Необозримое множество теорем о числах и фигурах, казалось, служило неисчерпаемым источником абсолютного знания, которое никогда и никем не может быть поколеблено.
За пределами самой математики математические понятия и выводы явились фундаментом замечательных научных теорий. И хотя новые факты устанавливались в результате сотрудничества математики и естествознания, опирающегося на данные, имеющие нематематический, скажем физический, характер, они казались столь же непреложными, как и принципы самой математики, потому что предсказания, которые делались на основе математических теорий в астрономии, механике, оптике и гидродинамике, необычайно точно совпадали с данными наблюдений и экспериментов. Математика давала ключ к глубокому постижению явлений природы, к пониманию, заменявшему тайну и хаос законом и порядком. Человек получил возможность с гордостью взирать на окружающий мир и заявлять, что ему удалось раскрыть многие тайны природы, по существу оказавшиеся серией математических законов. Убеждением в том, что истины открывают математики, проникнуто известное высказывание Лагранжа: «Ньютон был счастливейшим из смертных, ибо существует только одна Вселенная и Ньютон открыл ее законы».
Для получения своих удивительных, мощных результатов математика использовала особый метод — метод дедуктивных выводов из небольшого числа самоочевидных принципов, называемых аксиомами; этот метод знаком каждому школьнику — прежде всего из курса геометрии. Природа дедуктивного вывода такова, что она гарантирует истинность заключения, если только истинны исходные аксиомы. Очевидная, безотказная и безупречная логика дедуктивного вывода позволила математикам извлечь из аксиом многочисленные неоспоримые и неопровержимые заключения. Эту особенность математики многие отмечают и поныне. Всякий раз, когда нужно привести пример надежных и точных умозаключений, ссылаются на математику.
Успехи, достигнутые математикой с помощью дедуктивного метода, привлекли к ней внимание величайших мыслителей. Математика наглядно продемонстрировала возможности и силу человеческого разума. Почему бы не воспользоваться, спросили мыслители, столь хорошо зарекомендовавшим себя дедуктивным методом для постижения истин там, где прежде безраздельно властвовали авторитет, традиция и привычка, — в философии, теологии, этике, эстетике и в социальных науках? Человеческий разум, столь эффективный в математике и в математической физике, мог бы стать арбитром помыслов и действий также и в других областях, приобщив их к красоте истины и истинности красоты. В эпоху, получившую название эпохи Просвещения (или Века разума), методология математики и даже некоторые математические понятия и теоремы были применены к другим областям человеческой деятельности.
Обращение к прошлому — плодотворный источник познания настоящего. Созданные в начале XIX в. необычные геометрии и столь же необычные алгебры вынудили математиков исподволь — и крайне неохотно — осознать, что и сама математика, и математические законы в других науках не есть абсолютные истины. Например, математики с досадой и огорчением обнаружили, что несколько различных геометрий одинаково хорошо согласуются с наблюдательными данными о структуре пространства. Но эти геометрии противоречили одна другой — следовательно, все они не могли быть одновременно истинными. Отсюда напрашивался вывод, что природа построена не на чисто математической основе, а если такая первооснова и существует, то созданная человеком математика не обязательно соответствует ей. Ключ к реальности был утерян. Осознание этой потери было первым из бедствий, обрушившихся на математику.
В связи с появлением уже упоминавшихся новых геометрий и алгебр математикам пришлось пережить шок и другого рода. Математики настолько уверовали в бесспорность своих результатов, что в погоне за иллюзорными истинами стали поступаться строгостью рассуждений. Но когда математика перестала быть сводом незыблемых истин, это поколебало уверенность математиков в безукоризненности их теорий. Тогда им пришлось взяться за пересмотр своих достижений, и тут они, к своему ужасу, обнаружили, что логика в математике совсем не так уж тверда, как думали их предшественники.
По существу развитие математики имело алогичный характер. Это алогичное развитие включало в себя не только неверные доказательства, но и пропуски в доказательствах и случайные ошибки, которых можно было бы избежать, если бы математики действовали более осмотрительно. Такие досадные изъяны отнюдь не были редки. Но алогичность развития математики заключалась также в неадекватном толковании понятий, в несоблюдении всех необходимых правил логики, в неполноте и недостаточной строгости доказательств. Иными словами, чисто логические соображения подменялись интуитивными аргументами, заимствованными из физики, апелляциями к наглядности и ссылками на чертежи.
Но и когда все это было установлено, математика по-прежнему оставалась эффективным средством описания природы. Кроме того, математика сохранила привлекательность и сама по себе как область чистого знания, и в умах многих, особенно пифагорейцев, являлась частью реальности, представляющей самостоятельный интерес.{6} Учитывая это, математики решили восполнить пробелы в логическом каркасе своей науки и перестроить заново те части ее, в которых обнаружились изъяны. Движение за математическую строгость приобрело широкий размах во второй половине XIX в.
К началу XX в. математики стали склоняться к мнению, что желанная цель наконец достигнута. И хотя им пришлось признать, что математика дает лишь приближенное описание природы и многие утратили веру в то, что природа полностью основана на математических принципах, математики по-прежнему продолжали возлагать большие надежды на проводимую ими реконструкцию логической структуры математики. Но не успели смолкнуть восторги по поводу якобы достигнутых успехов, как в реконструированной математике в свою очередь обнаружились противоречия. Обычно эти противоречия принято называть парадоксами — эвфемизм, позволяющий тем, кто его использует, обходить молчанием кардинальное обстоятельство: там, где есть противоречия, там нет логики.
Ведущие математики и философы начала XX в. сразу же попытались разрешить возникшие противоречия. В результате возникло четыре различных подхода к математике, которые были отчетливо сформулированы и получили значительное развитие; у каждого из этих подходов нашлось немало приверженцев. Все четыре направления математики стремились не только разрешить известные противоречия, но и гарантировать, что в будущем не появятся новые противоречия, т.е. старались доказать непротиворечивость математики. Интенсивная разработка оснований математики привела и к другим результатам. Приемлемость некоторых аксиом и принципов логики дедуктивного вывода также стала яблоком раздора: позиции школ по этим вопросам разошлись.
В конце 30-х годов XX в. математик мог бы принять один из нескольких вариантов оснований математики и заявить что проводимые им математические доказательства по крайней мере согласуются с догматами избранной им школы. Но тут последовал удар ужасающей силы: вышла в свет работа Курта Гёделя, в которой он среди прочих важных и значительных результатов доказал, что логические принципы, принятые различными школами в основаниях математики, не позволяют доказать ее непротиворечивость. Как показал Гёдель, непротиворечивость математики невозможно доказать, не затрагивая самих логических принципов, замкнутость которых весьма сомнительна. Теорема Гёделя вызвала смятение в рядах математиков. Последующее развитие событий привело к новым осложнениям. Оказалось, например, что даже аксиоматически-дедуктивный метод, столь высоко ценимый в прошлом как надежный путь к точному знанию, небезупречен. В результате этих открытий число различных подходов к математике приумножилось и математики разбились на еще большее число группировок.
В настоящий момент положение дел в математике можно обрисовать примерно так. Существует не одна, а много математик, и каждая из них по ряду причин не удовлетворяет математиков, принадлежащих к другим школам. Стало ясно, что представление о своде общепринятых, незыблемых истин — величественной математике начала XIX в., гордости человека — не более чем заблуждение. На смену уверенности и благодушию, царившим в прошлом, пришли неуверенность и сомнения в будущем математики. Разногласия по поводу оснований самой «незыблемой» из наук вызвали удивление и разочарование (чтобы не сказать больше). Нынешнее состояние математики — не более чем жалкая пародия на математику прошлого с ее глубоко укоренившейся и широко известной репутацией безупречного идеала истинности и логического совершенства.
Как думают некоторые математики, расхождения во мнениях относительно того, что следует считать настоящей математикой, когда-нибудь будут преодолены. Особое место среди тех, кто так считает, занимает группа ведущих французских математиков, пишущих под коллективным псевдонимом Никола Бурбаки:
С древнейших времен критические пересмотры оснований всей математики в целом или любого из ее разделов почти неизменно сменялись периодами неуверенности, когда возникали противоречия, которые приходилось решать… Но вот уже двадцать пять веков математики имеют обыкновение исправлять свои ошибки и видеть в этом обогащение, а не обеднение науки; это дает им право смотреть в будущее спокойно.
([2], с. 30.)Но гораздо больше математиков настроены пессимистично. Один из величайших математиков XX в. Герман Вейль сказал в 1944 г.:
Вопрос об основаниях математики и о том, что представляет собой в конечном счете математика, остается открытым. Мы не знаем какого-то направления, которое позволит в конце концов найти окончательный ответ на этот вопрос, и можно ли вообще ожидать, что подобный «окончательный» ответ будет когда-нибудь получен и признан всеми математиками. «Математизирование» может остаться одним из проявлений творческой деятельности человека, подобно музицированию или литературному творчеству, ярким и самобытным, но прогнозирование его исторических судеб не поддается рационализации и не может быть объективным.
Говоря словами Гете, «история науки — это сама наука».
Разногласия по поводу того, что такое настоящая математика, и существование многочисленных вариантов оснований математики не только серьезно сказались на самой математике, но и оказали самое непосредственное влияние на физику. Как мы увидим, далее, наиболее развитые физические теории ныне полностью «математизированы». (Разумеется, выводы таких теорий интерпретируются посредством так или иначе наблюдаемых «чувственных», подлинно физических объектов: сидя у радиоприемников, мы слышим реальные голоса, чему не мешает отсутствие представления о том, что такое радиоволны.) Поэтому ученых — даже тех, кто не работает непосредственно над решением фундаментальных проблем, — не может не занимать вопрос о судьбах математики, которую они могут применять с уверенностью, не рискуя затратить годы на изыскания, некорректные в силу сомнительности использования математического аппарата.
Утрата критериев абсолютности истины, все возрастающая сложность математики и естественных наук, неуверенность в выборе правильного подхода к математике привели к тому, что большинство математиков оставили вопросы оснований. С проклятием «Чума на оба ваши дома!» они обратились к тем областям математики, где методы доказательства казались им надежными. Они нашли также, что проблемы, придуманные человеком, более привлекательны и легче поддаются решению, чем проблемы, поставленные природой.
Кризис математики и порожденные им конфликты по поводу того, что такое настоящая математика, отрицательно сказались и на применении математической методологии ко многим областям культуры: к философии, социальным и политическим наукам, этике и эстетике. Надежда на то, что удастся найти объективные, непреходящие законы и эталонные образцы знания, развеялась. «Век разума» закончился.
Несмотря на неудовлетворительное состояние математики, многочисленные существенно различные подходы, разногласия по поводу приемлемости аксиом и опасности возникновения новых противоречий, могущих подорвать значительную часть математической науки, многие математики продолжают применять математику для описания физических явлений и даже расширяют сферу ее применимости на экономику, биологию и социологию. Безотказная эффективность математики подсказывает две темы для обсуждения. Во-первых, такая эффективность может рассматриваться как критерий правильности. Разумеется, подобный критерий имеет временный характерно, что сегодня считается правильным, в дальнейшем может оказаться неверным.
Вторая тема ставит нас перед загадкой: почему математика вообще эффективна, если вопрос о том, что такое настоящая математика, вызывает столько споров ([96]*; [4])? Не творим ли мы чудеса, пользуясь при этом несовершенными средствами? Пусть человек заблуждается, но разве может и природа также заблуждаться до такой степени, чтобы поддаться математическому диктату человека? Безусловно, нет. А как быть с успешными полетами на Луну, исследованиями Марса и Юпитера, ставшими возможными благодаря технике, существенно зависящей от математики: разве они не подтверждают математические теории космоса? Как же можно в таком случае говорить об искусственности и неединственности математики? Может ли тело продолжать жить, если разум и дух помутились? Может! И это относится и к человеку, и к математике. Итак, нам надлежит выяснить, почему, несмотря на шаткие основания и взаимоисключающие теории, математика оказалась столь непостижимо эффективной.
I Становление математических истин
Трижды счастливы души, которым дано
Подняться до истин подобных и звездное небо измерить!
Взорам их без помех дальние звезды открылись,
В цепи прочные мысли своей ширь эфира они заковали.
Так люди достигли небес — не как встарь,
В тщетной гордыне взгромоздивши горы на горы.
ОвидийЛюбая цивилизация, достойная так называться, занимается поиском истин. Мыслящие люди не могли не пытаться понять многообразие явлений природы, разгадать тайну появления на Земле человека, постичь смысл жизни и выяснить предназначение человека. Во всех древних цивилизациях, кроме одной, ответы на эти вопросы давались религиозными лидерами и принимались всеми. Единственным исключением была цивилизация, созданная древними греками. Греки совершили открытие, величайшее из когда-либо совершенных человеком: они открыли могущество разума. Именно греки классического периода, достигшего наивысшего расцвета в период VI-III вв. до н.э., поняли, что человек наделен способностью мыслить, наделен разумом, который, опираясь на наблюдение или опыт, способен открывать истины.
Нелегко ответить на вопрос о том, что привело греков к их открытию. Первые попытки осмыслить окружающий человека мир были сделаны в Ионии, греческих поселениях в Малой Азии, и многие историки пытались объяснить это сложившейся в Ионии общественно-политической обстановкой. Так, в Ионии была более свободная, чем в европейской Греции, политическая структура, что повлекло за собой определенное пренебрежение к традиционным религиозным верованиям. Однако наше знание греческой истории до VI в. до н.э. носит настолько фрагментарный характер, что невозможно дать сколько-нибудь исчерпывающее объяснение отмеченному феномену.
Со временем греки принялись размышлять над политическими системами, этикой, юриспруденцией, рациональными путями воспитания молодежи и многими другими видами человеческой деятельности. Их главный вклад, оказавший решающее влияние на всю последующую культуру, состоял в том, что они взялись за изучение законов природы. Прежде и греческая, и другие цивилизации древности рассматривали природу как нечто хаотичное, капризное и даже устрашающее. Все происходящее в природе было необъяснимо или приписывалось воле богов, умилостивить которых можно было молитвами, жертвоприношениями и другими ритуалами. Древние вавилоняне и египтяне, создавшие великие цивилизации за 3000 лет до н.э., заметили периодичность в движениях Солнца и Луны и даже разработали на этой основе календари, но не придавали своим открытиям особого значения. И эти исключительные по глубине и важности наблюдения не оказали решающего влияния на отношение людей к природе.
Греки осмелились взглянуть природе в лицо. Древнегреческие мыслители отвергли традиционные доктрины, веру в сверхъестественные силы, догму, сбросив путы, сдерживающие мысль. Греки первыми начали изучать разнообразные загадочные и сложные явления природы и предприняли попытку понять их. Свой разум они противопоставили хаосу на первый взгляд случайных явлений природы и вознамерились пролить на них свет.
Обладая беспредельной любознательностью и незаурядным мужеством, греки ставили вопросы (и находили ответы на них), которые служили пищей для серьезных размышлений и решались мыслителями высочайшего ранга. Лежит ли в основе всего, что происходит во Вселенной, некий единый план? Обязаны ли растения, животные, люди, планеты, свет, звук и т.д. своим появлением игре случая или же они являются частью какого-либо грандиозного плана? Обладая богатым воображением — что способствовало созданию нового взгляда на мир, — греки выработали концепцию Вселенной, ставшую основной на всех последующих этапах развития европейской мысли.
Греческие мыслители стали по-новому относиться к природе. Их отношение было рациональным, критическим и нерелигиозным. Греки отказались от мифов, равно как и от веры в богов, по своей прихоти правящих человеком и всем миром. Постепенно греческие мыслители создали учение об упорядоченной природе, бесперебойно функционирующей по единому плану. Все явления, доступные нашим органам чувств, — от движения планет до трепетания листьев на дереве — грекам удалось уложить в четкую, согласованную в деталях, понятную картину. Короче говоря, оказалось, что природа устроена рационально, и единый план, лежащий в ее основе, хотя и не поддается воздействию со стороны человека, вполне постижим.
Греки не только первыми принялись за поиск закона и порядка в природе, но и были первыми гениальными открывателями сокровенных схем, которым, как показывали наблюдения, следует природа. Так, греки дерзнули заняться поиском схемы, таящейся за грандиознейшими зрелищами, открытыми взору человека, — движением ослепительно сверкающего Солнца, сменой фаз Луны, чей лик являет богатейшую гамму оттенков, яркостью планет, бескрайней панорамой звездного неба, загадочными солнечными и лунными затмениями.
Первые попытки дать рациональное объяснение природы и устройства Вселенной предприняли ионийские философы в VI в. до н.э. Каждый из знаменитых философов этой эпохи: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит и Анаксагор — пытался объяснить устройство Вселенной, принимая за основу какую-нибудь одну субстанцию. Фалес считал, например, что все состоит из воды, находящейся в газообразном, жидком или твердом состоянии. Объяснение многих явлений Фалес связывал с водой. Выбор его не столь неразумен, если учесть, что облака, туман, роса, дождь и град — различные состояния воды и что без воды нет жизни: она питает посевы и является основой органической жизни. Даже тело человека, как известно, на 90% состоит из воды.
Натурфилософия ионийцев представляла собой скорее набор дерзких умозаключений, хитроумных догадок и блестящих интуитивных прозрений, чем результат обширных и тщательно проведенных научных исследований. Философы ионийской школы так страстно стремились увидеть картину мира в целом, что обратились к широким обобщениям, минуя промежуточные этапы. Но вместе с тем они порвали с прежними представлениями, имевшими в основном мифологический характер, и предложили материалистическое, согласующееся с наблюдениями объяснение мироздания и природных явлений. Фантастические представления о природе ионийцы заменили рациональным подходом. Ионийцы дерзнули объять разумом Вселенную, перестав полагаться на богов, духов, призраков, демонов, ангелов и другие мистические силы, якобы управляющие явлениями природы. Квинтэссенцию воззрений ионийцев как нельзя лучше отражают слова Анаксагора: «Разум правит миром».
Решающим шагом, позволившим рассеять ореол таинственности и мистицизма, окружавший явления природы, и «навести порядок» в их кажущемся хаосе, стало применение математики. Этот шаг потребовал от греков не меньшей прозорливости, интуиции и глубины, чем вера в силу человеческого разума. План, по которому построена Вселенная, имеет математический характер — и только математика позволяет человеку открыть этот план.
Первой научной школой, предложившей свой вариант «математизированного плана» строения Вселенной, были пифагорейцы, возглавляемые Пифагором Самосским (около 585-500 гг. до н.э.). Пифагорийцы жили на юге Италии. Они черпали вдохновение и заимствовали свои взгляды из религиозных представлений греков, в которых центральное место отводилось очищению души и ее освобождению от скверны и узилища тела. Натурфилософия пифагорейцев носила ярко выраженный рациональный характер. Пифагорейцев поразило, что весьма различные в качественном отношении явления обладают одинаковыми математическими свойствами. Значит, решили пифагорейцы, именно математические свойства выражают сущность явлений. Если говорить более точно, то пифагорейцы видели сущность явлений в числе и числовых отношениях. В их объяснении природы числу отводилась роль начала начал. Пифагорейцы считали, что все тела состоят из фундаментальных частиц, «единиц бытия», которые в тех или иных комбинациях соответствуют различным геометрическим фигурам. В сумме эти единицы представляют материальный объект. Число было материей и формой Вселенной. Отсюда и основной тезис учения пифагорейцев: «Все вещи суть числа». А поскольку число выражало «сущность» всего, то объяснять явления следовало только с помощью чисел.
Учение пифагорейцев может показаться нам странным, потому что для нас числа — абстрактные понятия, а вещи — физические, или материальные, объекты. Привычное нам понятие числа возникло в результате абстрагирования — а ранним пифагорейцам эта абстракция была чужда. Для них числа были точками или частицами. Говоря о треугольных, квадратных, пятиугольных и других числах, которые мы сегодня называем фигурными, пифагорейцы имели в виду наборы точек, камешков, или других мелких предметов, расположенных в форме треугольников, квадратов и других геометрических фигур (рис. 1.1-1.4).
Рис. 1.1. Треугольные числа.
Рис. 1.2. Квадратные числа.
Рис. 1.3. Пятиугольные числа.
Рис. 1.4. Шестиугольные числа.
Хотя дошедшие до нас фрагменты исторических документов не позволяют установить точную хронологию событий, не вызывает сомнения, что пифагорейцы, развив и усовершенствовав свои учения, начали рассматривать числа как абстрактные понятия, а объекты — как конкретные реализации чисел. Именно в смысле такого более позднего различия, по-видимому, надлежит понимать высказывание знаменитого пифагорейца V в. до н.э. Филолая: «Если бы ни число и его природа, ничто существующее нельзя было бы постичь ни само по себе, ни в его отношении к другим вещам… Мощь чисел проявляется, как нетрудно заметить… во всех деяниях и помыслах людей, во всех ремеслах и музыке».
Свести музыку к простым отношениям чисел пифагорейцам удалось после того, как они совершили два открытия: во-первых, что высота тона, издаваемого колеблющейся струной, зависит от ее длины и, во-вторых, что гармонические созвучия издают одинаково натянутые струны, длины которых относятся между собой как целые числа ([5], с. 393-434). Например, гармоническое созвучие издают две одинаково натянутые струны, из которых одна вдвое длиннее другой. На современном языке интервал между тонами, издаваемыми такими двумя струнами, называется октавой. Другое гармоническое созвучие издают две струны, длины которых относятся как 3:2. В этом случае более короткая струна издает ноту, которая на квинту выше тона, издаваемого более длинной струной. Пифагорейцы разработали знаменитую музыкальную шкалу. Мы не будем, подробно останавливаться на музыке греческого периода. Заметим лишь, что многие греческие математики, в том числе Евклид и Птолемей, посвятили музыке, в частности гармоническим созвучиям и построению музыкальной шкалы, специальные сочинения.
Движения планет пифагорейцы также свели к числовым отношениям. Они считали, что тела, двигаясь в пространстве, издают звуки. Должно быть, на эту мысль их навело наблюдение: камень, раскручиваемый на веревке, со свистом разрезает воздух. Пифагорейцы полагали, что быстро движущееся тело издает более высокий звук, чем тело, движущееся медленно. Согласно астрономическим воззрениям пифагорейцев, планеты движутся тем быстрее, чем дальше они находятся от Земли. Звуки, издаваемые планетами, изменяются в зависимости от удаления от Земли и образуют гармоническое созвучие. Но эта «музыка сфер», подобно всякой гармонии, сводится к числовым отношениям, поэтому и движения планет также сводятся к числовым отношениям. Мы не слышим музыку небесных сфер потому, что привыкли к ней с самого рождения.
Другие явления природы также были сведены пифагорейцами к числам. Особую роль в учении пифагорейцев играли числа 1, 2, 3 и 4, образовывавшие тетрактис, или четверицу. По преданию, клятва пифагорейцев гласила: «Клянусь именем Тетрактис, ниспосланной нашим душам. В ней источник и корни вечно цветущей природы». Пифагорейцы считали, что все объекты в природе состоят из четверок, таких, как четыре геометрических элемента: точка, линия, поверхность и тело. Впоследствии Платон придавал особое значение четверке материальных элементов: земле, воздуху, огню и воде.
Сумма чисел, входящих в тетрактис, равна десяти, поэтому десять считалось идеальным числом и символизировало Вселенную. А поскольку число десять идеально, то в небесах должно было быть ровно десять тел. Поэтому пифагорейцы ввели центральный огонь, вокруг которого обращаются Земля, Солнце, Луна и пять известных в древности планет, а также Противоземля, расположенная по другую сторону от центрального огня. Центральный огонь и Противоземля невидимы, потому что поверхность Земли, на которой мы живем, скрывает их от нас. Вряд ли уместно входить в детали пифагорейской картины мира. Главное заключается в том, что пифагорейцы пытались построить астрономическую теорию на основе числовых отношений.
После того как пифагорейцы «свели» астрономию и музыку к числу, музыка и астрономия оказались связанными с арифметикой и геометрией и все четыре дисциплины стали считаться математическими. Они вошли в программу общего образования, причем это положение сохранилось вплоть до средневековья. В средние века комплекс общеобразовательных дисциплин, состоящий из арифметики, геометрии, музыки и астрономии, получил название квадривиум.
Общий итог пифагорейского отождествления числа и реального мира подведен в «Метафизике» Аристотеля:
В числах пифагорейцы усматривали (так им казалось) много сходного с тем, что существует и возникает, — больше, чем в огне, земле и воде (например, такое-то свойство чисел есть справедливость, а такое-то — душа и ум, другое — удача, и, можно сказать, в каждом из остальных случаев точно так же); так как далее они видели, что свойства и соотношения, присущие гармонии, выразимы в числах; так как, следовательно, им казалось, что все остальное по природе своей явно уподобляемо числам и что числа — первое во всей природе, то они предположили, что элементы чисел суть элементы всего существующего и что все небо есть гармония и число.
([6], т. 1, с. 75-76.)Натурфилософию пифагорейцев лишь с большой натяжкой можно назвать состоятельной. Эстетические соображения, к которым примешивается навязчивое стремление найти числовые соотношения, не могли не приводить к утверждениям, выходящим за пределы реальных наблюдений. Пифагорейцам не удалось сколько-нибудь существенно продвинуть ни одну из областей физической науки. С полным основанием их теории можно было бы назвать поверхностными. Но то ли по счастливому стечению обстоятельств, то ли благодаря гениальной интуиции пифагорейцам удалось сформулировать два тезиса, общезначимость которых подтвердило все последующее развитие науки: во-первых, что основополагающие принципы, на которых зиждется мироздание, можно выразить на языке математики; во-вторых, что объединяющим началом всех вещей служат числовые отношения, которые выражают гармонию и порядок природы. Современная наука разделяет пифагорейскую приверженность числу, хотя, как мы увидим далее, современные теории представляют собой гораздо более искусную форму пифагореизма.
Более поздних философов, пришедших на смену пифагорейцам, не в меньшей мере интересовали природа реальности и математический план, лежащий в ее основе. Особое место среди преемников пифагорейцев занимают Левкипп (V в. до н.э.) и Демокрит (ок. 460-370 гг. до н.э.), наиболее отчетливо для своего времени сформулировавшие атомистическое учение. Согласно философии, которой они придерживались, мир состоит из бесконечного числа простых и вечных атомов. Атомы отличаются по форме, размерам, твердости, порядку и расположению. Все, что мы видим вокруг, представляет собой ту или иную комбинацию атомов. Хотя геометрические величины, например, отрезок прямой, бесконечно делимы, атомы являются мельчайшими, не поддающимися дальнейшему дроблению частицами. Одни свойства тел, такие, как форма, размеры или твердость, определяются свойствами атомов. Другие, как, например, вкус, тепло или цвет, определяются не самими атомами, а воздействием атомов на того, кто испытывает ощущения. Чувственное восприятие ненадежно, так как оно существенно зависит от индивидуума. Подобно пифагорейцам, атомисты утверждали, что реальность, лежащую в основе постоянно меняющегося многообразия физического мира, можно выразить на языке математики. Кроме того, атомисты считали, что все происходящее в мире строго предопределено математическими законами.
Самой влиятельной после пифагорейцев группой мыслителей, расширившей и распространившей учение о математическом плане, лежащем в основе природы, были платоники, возглавляемые, как о том говорит название этой школы, Платоном Афинским. Хотя Платон (427-347 гг. до н.э.) и заимствовал некоторые фрагменты учения пифагорейцев, в достопамятном IV в. до н.э. он был ведущей фигурой духовной жизни Греции. Платон основал в Афинах Академию — центр, который привлек к себе ведущих мыслителей его времени и существовал в течение девяти столетий.
Вера Платона в рациональность устройства Вселенной, вероятно, лучше всего выражена в его диалоге «Филеб»:
Сократ… Начнем же хотя бы со следующего вопроса…
Протарх. С какого?
Сократ. Скажем ли мы, Протарх, что совокупность вещей и это так называемое целое управляется неразумной и случайной силой как придется, или же, напротив, что целым правит, как говорили наши предшественники, ум и некое изумительное, всюду вносящее лад разумение?
Протарх. Какое же может быть сравнение, любезнейший Сократ, между этими двумя утверждениями! То, что ты сейчас говоришь, кажется мне даже нечестивым. Напротив, сказать, что ум ускоряет все, достойное зрелище мирового порядка — Солнца, Луны, звезд и всего круговращения небесного свода; да и сам я не решился был утверждать и мыслить об этом иначе.
([7], с. 33-34.)Более поздние пифагорейцы и платоники проводили резкое различие между миром вещей и миром идей. Тела и отношения в материальном мире несовершенны, преходящи и тленны, но существует другой, идеальный, мир, в котором истины абсолютны и неизменны. Именно эти истины и надлежит рассматривать философу. О физическом же мире мы можем иметь только мнения. Видимый, чувственный мир не более чем смутная, расплывчатая и несовершенная реализация идеального мира: «вещи суть тени идей, отбрасываемых на экран опыта». Реальность надлежит искать в идеях чувственных, в физических объектах. Платон сказал бы, что в лошади, в доме или в прекрасной женщине нет ничего реального. Реальность заключена в универсальном типе (идее) лошади, дома или прекрасной женщины. Непреходящее знание может быть получено только относительно чистых идеальных форм. Только такие идеи постоянны и неизменны, и знание относительно них прочно и неуничтожимо.
Платон утверждал, что реальность и рациональность физического мира могут быть постигнуты только с помощью математики идеального мира. То, что идеальный мир устроен на математических началах, не вызывало сомнений. Плутарх приводит знаменитое изречение Платона: «Бог всегда является геометром». В диалоге «Государство» Платон говорит о том, что «знание, к которому стремятся геометры, есть знание вечного, а не того, что тленно и преходяще». Математические законы платоники считали не только сущностью реальности, но и вечными и неизменными. Числовые отношения также были частью реальности, а скоплениям вещей отводилась роль подобия чисел. Если у ранних пифагорейцев числа были имманентны (внутренне присущи) вещам, то у Платона числа стали трансцендентны вещам.
Платон пошел дальше пифагорейцев в том, что хотел не только понять природу с помощью математики, но и заменить математикой природу. Он считал, что более проницательный взгляд на физический мир дал бы возможность открыть основные истины, которые позволили бы разуму уже самостоятельно достроить все остальное. С момента обнаружения первичных истин дальнейшее было бы чистой математикой. Математика заменила бы физическое исследование.
В «Жизни Марцелла» Плутарх сообщает, что знаменитые современники Платона Евдокс и Архит использовали физические соображения для «доказательства» математических истин. Но Платон с негодованием отвергал такие доказательства как подрывающие основы геометрии, ибо они построены не на чистых рассуждениях, а на чувственных восприятиях.
Отношение Платона к астрономии дает ясное представление о том, к какого рода знанию надлежало, по его мнению, стремиться. Астрономия, утверждал Платон, не должна заниматься изучением движений наблюдаемых небесных тел. Расположение светил на небе и их видимые движения достойны всяческого восхищения и поистине прекрасны, но одни лишь наблюдения и объяснения движений далеко еще не составляют истинной астрономии. Дабы достичь истинной астрономии, необходимо «предоставить небеса самим себе», ибо истинная астрономия изучает законы движения истинных звезд в математических небесах, несовершенным подобием которых является видимое небо. Платон поощрял приверженность теоретической астрономии, занятие которой услаждает разум, а не тешит глаз, ибо ее объекты воспринимаются разумом, а не зрением. Различные фигуры, которые глаз видит на небе, надлежит использовать только как вспомогательные чертежи в поисках высших истин. К астрономии мы должны подходить, как к геометрии, рассматривая ее как серию задач, лишь подсказываемых наблюдаемыми светилами. Применения астрономии в навигации, при составлении календарей и вычислении времени для Платона интереса не представляли.
Совершенно иную концепцию изучения реального мира и отношения математики к реальности развил Аристотель, хотя он и был учеником Платона и много у Платона почерпнул. Аристотель критиковал Платона за идею о двух различных мирах и за сведение естественных наук к математике. Аристотель был физиком в буквальном смысле этого слова. В материальных телах он видел первичную субстанцию и источник реальности. По Аристотелю, физика и наука в целом должны заниматься изучением физического мира и извлекать истину из этих исследований. Подлинное знание достигается на основе чувственного опыта с помощью интуиции и абстрагирования. Абстракции не существуют независимо от человеческого разума.
Аристотель неоднократно подчеркивал, что универсалии — общие понятия — абстрагированы от реальных вещей. Для получения этих абстракций «мы начинаем с вещей познаваемых и наблюдаемых и переходим к вещам менее наглядным, которые по своей природе более понятны и более познаваемы». Аристотель брал наглядные, чувственные качества вещей, выхолащивал их и возводил до независимых, абстрактных понятий.
Какое место занимала математика в развитой Аристотелем схеме вещей? Основополагающими в схеме Аристотеля были физические науки. Математике отводилась вспомогательная роль в изучении природы при описании таких внешних свойств, как форма и размеры. Кроме того, математика помогала объяснять причины тех явлений, которые можно наблюдать в материальном мире. Так, геометрия может помочь в объяснении наблюдений из области оптики и астрономии, а арифметические пропорции могут служить основой гармонии. Но математические понятия и принципы заведомо являются абстракциями, корни которых уходят в реальный мир. Поскольку же они абстрагированы из реального мира, то они применимы к нему. Человеческий разум обладает особой способностью приходить к таким идеализированным свойствам физических объектов, отправляясь от ощущений, и создаваемые им абстракции с необходимостью должны быть истинными.
Даже нашего беглого обзора взглядов тех философов, которые сформировали духовный мир греков, достаточно, чтобы понять главное: все они подчеркивали необходимость изучения природы для понимания и оценки лежащей в основе всего сущего реальности. Кроме того, со времен пифагорейцев почти все философы утверждали, что природа устроена на математических основах. К концу классического периода окончательно сформировалось учение о природе, основанной на математических принципах, и начался планомерный поиск математических законов. Хотя это учение отнюдь не предопределило все последующее развитие математики, получив достаточно широкое распространение, оно оказало влияние на величайших математиков, в том числе и на тех, кто непосредственно не разделял его. Из всех достижений умозрительных построений древних греков подлинно новаторской была концепция космоса, в котором все подчинено математическим законам, постигаемым человеческим разумом.
Греки преисполнились решимости доискаться до истин и, в частности до истин о математических основах природы. Как следует приступить к поиску истин и как при этом гарантировать, что поиск действительно приводит к истинам? Греки предложили «план» такого поиска. Хотя он создавался постепенно на протяжении нескольких веков (VI-III вв. до н.э.) и историки науки расходятся во мнениях относительно того, когда и кем этот план был впервые задуман, к III в. до н.э. «план поиска истин» был доведен до совершенства.
Математика в широком смысле слова, понимаемая как всевозможное использование чисел и геометрических фигур, родилась за несколько тысячелетий до того, как ей занялись греки классического периода. Она включает в себя достижения многих исчезнувших цивилизаций, среди которых наиболее выдающуюся роль сыграли культуры древнего Египта и Вавилона. Но во всех древних цивилизациях, за исключением греческой, математика еще не сформировалась в отдельную науку, у нее не было своей особой методологии, и она не ставила перед собой иных целей, кроме решения самых непосредственных, практических задач. Математика была своего рода инструментом, набором разрозненных нехитрых правил, позволявших людям удовлетворять повседневные запросы: составлять календари, назначать сроки проведения сельскохозяйственных работ, вести торговлю. Открытые методом проб и ошибок, на основе опыта и наблюдений, многие из этих правил были верны лишь приближенно. О математике догреческих цивилизаций в лучшем случае можно сказать, что она в известной мере продемонстрировала мощь, если не строгость, мышления и проявила больше упорства, чем блеска. Математику такого рода принято называть эмпирической. Эмпирическая математика египтян и вавилонян стала прелюдией к тому, что создали греки.
Хотя греческая культура не была полностью свободной от внешних влияний (греческие мыслители, совершая путешествия в Египет и Вавилон, знакомились там с достижениями местной науки) и хотя математике в современном смысле этого слова (даже в столь благоприятной интеллектуальной атмосфере древней Греции) еще предстояло пройти период созревания, то, что создали греки, значительно отличалось от того, что они по крупицам собрали из опыта своих предшественников.
Провозгласив своей целью поиск математических истин, греки не могли опираться на грубые, эмпирические, ограниченные, несвязные и во многих случаях приблизительные результаты, накопленные до них главным образом египтянами и вавилонянами. Сама математика, основные факты о числах и фигурах, должна была стать сводом абсолютных истин — и математические рассуждения, направленные на постижение истин о физических явлениях, например о движениях небесных тел, должны были приводить к неоспоримым результатам. Высокие цели намечены, но как их достичь?
Первый принцип, которого неуклонно придерживались греки, состоял в том, что математика должна иметь дело с абстракциями. Для философов, творцов греческой математики, носителями истины могли быть лишь перманентные, неизменяемые сущности и отношения. К счастью, человеческий разум, работу которого стимулируют наши органы чувств, может подняться до более высоких концепций — идей, вечных реалий и истинных объектов мышления. Предпочтение, отдаваемое греками абстракции, имело под собой и другую причину. Чтобы обрести мощь, математика должна охватывать в едином абстрактном понятии существенные черты всех физических реализаций этого понятия. Так, математическая прямая должна отражать наиболее существенные особенности натянутых нитей, краев линеек, границ сельскохозяйственных угодий и траекторий лучей света. Математическая прямая не должна, следовательно, иметь толщину, цвет, молекулярную структуру или испытывать натяжение. Греки вполне отчетливо и явно утверждали, что их математика имеет дело с абстракциями. В «Государстве» Платон говорит о геометрах следующее:
Разве ты не знаешь, что, хотя они используют видимые формы и рассуждают о них, мыслят они не о самих формах, а об идеалах, с которыми не имеют сходства; не о фигурах, которые они чертят, а об абсолютном квадрате и абсолютном диаметре… и что в действительности геометры стремятся постичь то, что открыто лишь мысленному взору?
Итак, математика должна заниматься прежде всего изучением таких абстрактных понятий, как точка, прямая и целое число. Другие понятия, например треугольник, квадрат и окружность, можно определить через основные понятия, которые, как отметил Аристотель, должны оставаться неопределимыми, ибо в противном случае у нас не было бы отправной точки. О степени изощренности греческой математики можно судить хотя бы по тому, что определяемые там понятия должны были иметь аналоги в реальности либо по доказанному, либо по построению. Так, нельзя было ввести по определению трисектор угла и доказывать о нем теоремы: трисектор мог бы и не существовать. И так как грекам не удалось решить задачу о трисекции любого угла при тех ограничениях, которые они накладывали на геометрические построения, то они так и не ввели понятия трисектора.{7}
Свои рассуждения о математических понятиях греки начинали с аксиом — истин, столь очевидных, что в справедливости их невозможно усомниться. Такие истины грекам были известны. Платон обосновал принятие аксиом своей теорией воспоминаний — анамнезисом. Как уже упоминалось, Платон считал объективно существующим мир идей. До того как человек появляется на свет, его душа обретается в мире идей и впитывает впечатления. Побуждаемая к воспоминаниям, душа затем восстанавливает накопленные ранее впечатления, чтобы признать истинность аксиом геометрии. Никакой земной опыт ей для этого не требуется. Аристотель подошел к проблеме иначе. Истинность аксиом, утверждает он во «Второй аналитике» ([8] гл. 18), мы познаем посредством безошибочной интуиции. Кроме того, аксиомы необходимы нам как основа для рассуждений. Если бы в своих рассуждениях мы использовали факты, истинность которых неизвестна, то для установления их истинности потребовались бы новые рассуждения, и так до бесконечности. В результате мы бесконечно «спускались» бы в наших доказательствах — но нигде не могли бы остановиться. Среди аксиом Аристотель различал общие понятия и постулаты. Общие понятия истинны во всех областях мысли. К их числу относятся такие утверждения, как «Если от равного отнять равные [части], то остаются равные же [части]» ([8], с. 199). Постулаты применимы к такой специфической области, как геометрия. Таково, например, утверждение «Две [разные] точки определяют прямую и притом только одну». Аристотель считал, что постулаты не обязательно должны быть самоочевидными, но если они не очевидны, то их истинность надлежит подтверждать выводимыми из них следствиями. Математики же требовали самоочевидности постулатов.
Из аксиом с помощью рассуждений выводятся заключения. Существует много типов рассуждений, например рассуждения по индукции, по аналогии и дедукции. Правильность заключения гарантирует лишь один из многих типов рассуждений. Заключение «Все яблоки красные», сделанное на основании того, что тысяча просмотренных яблок оказались красными, индуктивно и поэтому не абсолютно надежно. Заключение «Джон сможет окончить этот колледж», сделанное потому, что брат Джона, унаследовавший от родителей те же способности, окончил колледж, получено с помощью рассуждения по аналогии и заведомо не надежно. С другой стороны, дедуктивное рассуждение, несмотря на множество различных форм, гарантирует истинность заключения. Так, допуская, что все люди смертны и Сократ — человек, следует прийти к заключению, что Сократ смертен. Используемое в этом рассуждении правило логики является одной из форм суждения, которое Аристотель назвал силлогистическим выводом. К правилам дедуктивного рассуждения Аристотель относил также закон противоречия (никакое высказывание не может быть одновременно истинным и ложным) и закон исключенного третьего (любое высказывание должно быть либо истинным, либо ложным).
Аристотель, а вслед за ним и весь мир приняли за неоспоримую истину, что применение правил дедуктивного вывода к любым посылкам гарантирует получение заключений, не уступающих по надежности посылкам. Иначе говоря, если посылки истинны, то истинны и заключения. Следует отметить, в особенности для обсуждения в дальнейшем, что Аристотель абстрагировал правила дедуктивной логики из рассуждений, которыми тогда уже широко пользовались математики.{8} Дедуктивная логика — дитя математики.
Хотя почти все греческие философы считали дедуктивный вывод единственно надежным методом получения истины, Платон придерживался несколько иных взглядов. Не выдвигая возражений против дедуктивного доказательства, Платон тем не менее считал его поверхностным, поскольку математические аксиомы и теоремы существуют в некотором объективном, независимом от человека мире, и в соответствии с учением Платона об анамнезисе человеку необходимо лишь вспомнить эти аксиомы, чтобы сразу же распознать их неоспоримую истинность. Теоремы, если воспользоваться сравнением из диалога Платона «Теэтет», подобны птицам в птичнике. Они существуют сами по себе, и необходимо лишь «схватить» их. В диалоге Платона «Менон» Сократ с помощью искусно поставленных вопросов вытягивает из молодого раба утверждение, что площадь квадрата, построенного на гипотенузе равнобедренного прямоугольного треугольника, вдвое больше площади квадрата, построенного на любом из катетов. Сократ торжествующе заключает, что искусно поставленные вопросы помогли рабу, никогда не изучавшему геометрию, вспомнить теорему.
Важно правильно оценивать, сколь радикальной была приверженность дедуктивному доказательству. Предположим, что некий ученый, измерив сумму углов ста различных треугольников, отличающихся расположением, размерами и формой, обнаружил, что в пределах точности измерений сумма углов всегда оказывается равной 180°. Разумеется, ученый решил бы, что сумма углов любого треугольника равна 180°. Но его доказательство было бы индуктивным, а не дедуктивным — и поэтому неприемлемым с точки зрения математики. Он мог бы точно так же проверить сколько угодно четных чисел и убедиться, что каждое из них представимо в виде суммы двух простых чисел. Но подобная проверка не является дедуктивным доказательством, и ее результат не сочли бы за математическую теорему. Итак, мы видим, что дедуктивность доказательства — требование весьма ограничивающее. Тем не менее греческие математики, бывшие в большинстве своем философами, упорно настаивали на исключительном использовании дедуктивных рассуждений, так как именно дедукция приводит к абсолютным истинам, к вечным ценностям.
Предпочтение, отдаваемое философами дедуктивным рассуждениям, обусловлено еще одной причиной. Философов интересуют лишь самые общие факты, касающиеся человека и физического мира, а чтобы установить такие универсальные истины, как то, что человек по существу добр, что в мире царит порядок или что человеку есть ради чего жить, дедуктивный вывод из подходящих исходных принципов осуществим в гораздо большей мере, чем индукция или рассуждение по аналогии.
Еще одну причину того, что греки классического периода отдавали предпочтение дедукции, можно усмотреть в организации их общества. Философией, математикой и искусством, естественно, увлекались прежде всего состоятельные люди, а не те, кто занимался физическим трудом. Все домашнее и общественное хозяйство держалось на рабах, метеках (свободных людях, не имевших, однако, гражданских прав){9} и на свободных гражданах — ремесленниках; они же представляли все важнейшие профессии. Образованные свободные граждане не занимались физическим трудом и редко участвовали в торговых сделках. Платон провозгласил, что профессия лавочника недостойна свободнорожденного, и предложил подвергать наказанию всякого гражданина, который унизит себя подобным занятием, как совершившего преступление. Аристотель утверждал, что в идеальном государстве ни один гражданин (в отличие от рабов) не должен заниматься никаким ремеслом. Беотийцы (одно из греческих племен) запрещали тем, кто запятнал себя участием в торговых сделках, в течение десяти лет занимать общественные должности. В таком обществе эксперимент и наблюдение были мыслителям чужды. Считалось, что источники такого рода не могут помочь получить результаты научного, в частности математического, характера.
Хотя приверженность греков дедуктивному доказательству имела под собой немало оснований, не вполне ясно, кто из философов или какая группа мыслителей впервые продемонстрировали эту приверженность. Наши знания учений и трудов философов — до Сократа — носят, к сожалению, весьма фрагментарный характер, и, хотя на этот счет неоднократно высказывались различные мнения, ни одно из них не получило общего признания. Мы можем лишь с уверенностью утверждать, что во времена Аристотеля требование дедуктивности соблюдалось неукоснительно, так как Аристотель, формулируя в явном виде стандарты строгости, отмечает необходимость неопределяемых терминов и правил логического вывода.
Насколько удалось грекам осуществить свой план установления математических законов Вселенной? К счастью, лучшие достижения греческой математики, созданной усилиями Евклида, Аполлония, Архимеда и Клавдия Птолемея, дошли до нас. Хронологически все эти авторы относятся ко второму великому периоду греческой культуры, получившему название эллинистического или александрийского (300 г. до н.э. — 600 г. н.э.). В IV в. до н.э. царь Филипп Македонский предпринял попытку покорить персов, господство которых распространялось на весь Ближний Восток. Персы были традиционными врагами европейских греков. Филипп был убит, и на трон вступил его сын Александр. Александр Македонский разгромил персов и перенес культурный центр своей безмерно расширившейся империи в новый город, который он с присущей ему «скромностью» назвал в свою честь Александрией. Александр Македонский умер в 323 г. до н.э., но его план создания нового центра подхватили и продолжили его преемники в Египте, вошедшие в историю под именем династии Птолемеев.
Достоверно установлено, что Евклид жил и преподавал в Александрии около 300 г. до н.э. (сам Евклид скорее всего получил образование в Платоновской Академии в Афинах). Это почти единственная информация, которой мы располагаем о частной жизни Евклида. Свои труды Евклид облекал в форму обширных систематических дедуктивных обзоров отдельных открытий многих греческих авторов классического периода. В главном труде Евклида — «Началах» излагаются основные свойства пространства и пространственных фигур.
«Началами» Евклида отнюдь не исчерпывается его вклад в развитие геометрии пространства. Он посвятил коническим сечениям не дошедшее до нас сочинение, а уроженец города Перга в Малой Азии Аполлоний (262-190 гг. до н.э.), изучавший математику в Александрии, продолжил исследование параболы, эллипса и гиперболы и написал по этому предмету классический труд — «Конические сечения».
Архимед (287-212 гг. до н.э.), возможно получивший образование в Александрии{10}, но живший на Сицилии, добавил к чисто геометрическим достижениям греков трактаты: «О шаре и цилиндре», «О коноидах и сфероидах» и «Квадратура параболы», посвященных вычислению площадей и объемов сложных фигур и тел по методу, предложенному Евдоксом (390-337 гг. до н.э.) и получившему впоследствии название метод исчерпывания. В наши дни подобные задачи решаются методами интегрального исчисления.
Греки внесли еще один крупный вклад в изучение пространства и пространственных фигур: они создали тригонометрию. Ее основы были заложены Гиппархом, который жил на Родосе и в Александрии и умер около 125 г. до н.э. Его труд был продолжен Менелаем (ок. 98 г. н.э.), а полное и вполне авторитетное изложение астрономии дал египтянин Клавдий Птолемей (умер в 168 г. н.э.), работавший в Александрии. Главный труд Птолемея «Большое математическое построение астрономии» более известен под арабским вариантом названия — «Альмагест».{11} Тригонометрия занимается изучением количественных соотношений между сторонами и углами треугольника. Греков интересовали главным образом треугольники на поверхности сферы со сторонами, образованными дугами больших кругов (так называются круги, плоскость которых проходит через центр сферы), поскольку именно такие сферические треугольники находили применение при изучении движений планет и звезд, перемещавшихся, как считали греки, по дугам больших кругов. Но ту же теорию можно «перенести» и на случай треугольников на плоскости. Именно этот вариант — плоская тригонометрия — входит в программу современной средней школы. Введение тригонометрии потребовало весьма основательных познаний в арифметике и даже некоторого знакомства с алгеброй. В дальнейшем (гл. V) мы узнаем о достижениях греков в этих областях математики.
Достигнутые успехи превратили математику из свода неясных, эмпирических, разрозненных фрагментов в блестящую, обширную, систематическую и глубокую науку. Классические труды Евклида, Аполлония и Архимеда («Альмагест» Птолемея является исключением), посвященные изучению свойств пространства и пространственных фигур, могут показаться весьма специальными и не позволяют составить верное представление о более широкой значимости излагаемого в них материала. Может создаться впечатление, что эти чисто геометрические сочинения имеют весьма косвенное отношение к раскрытию истинных тайн природы. Ведь все классические труды посвящены лишь изложению формализованной, изысканной, дедуктивной математики. В этом отношении греческие математические тексты не отличаются от современных учебников и монографий по математике. Авторы таких книг видят свою главную задачу в организации и связном изложении полученных математических результатов и считают излишним как-либо обосновывать важность излагаемых разделов науки и игнорируют возможные эвристические соображения и разбор частных случаев, подкрепляющих правдоподобность доказываемых теорем, а также умалчивают о возможных применениях своих конструкций. Многие историки науки, специализирующиеся на изучении греческой математики классического периода, склонны поэтому считать, что математики той эпохи занимались математикой ради математики, и в подтверждение своих слов ссылаются на два величайших компилятивных сочинения классического периода — «Начала» Евклида и «Конические сечения» Аполлония. Но те, кто так утверждает, чрезмерно сужают поле зрения. Ограничиваться рассмотрением только «Начал» и «Конических сечений» — это то же самое, что, исходя из одной лишь работы Ньютона о разложении бинома, утверждать, что Ньютон был чистым математиком.
Подлинной целью греков было исследование природы. Этой цели служило все — даже геометрические истины высоко ценились лишь постольку, поскольку они были полезны при изучении физического мира. Греки понимали, — что в структуре Вселенной воплощены геометрические принципы, первичным компонентом которых является пространство. Именно поэтому исследование пространства и пространственных фигур явилось существенным вкладом в изучение природы. Геометрия входила составной частью в более широкую программу космологических исследований. Например, изучение сферической геометрии было предпринято, когда астрономия приобрела математический характер, что произошло во времена Платона. Греческое слово «сфера» (шар) у пифагорейцев имело тот же смысл, что и (тогда еще не существовавшее) слово «астрономия». Сочинение Евклида «Феномены», посвященное сферической геометрии, предназначалось для использования в астрономии. Подобные факты и более полное знание того, как происходило развитие математики в последующие времена, позволяют утверждать, что и у греков к постановке математических проблем приводили естественнонаучные исследования и что математика была неотъемлемой частью изучения природы. Чтобы прийти к такому выводу, не нужно строить умозрительные заключения — достаточно выяснить, чего именно удалось достигнуть грекам в исследовании природы и кому принадлежат самые крупные достижения.
Величайший успех в области собственно физической науки выпал на долю астрономии. Платон, хорошо осведомленный о впечатляющем числе астрономических наблюдений, проведенных в Древнем Египте и Вавилоне, неоднократно подчеркивал, что египтяне и вавилоняне не располагали основополагающей, обобщающей теорией, которая позволила бы объяснить наблюдаемые нерегулярные движения планет. Положение дела попытался «исправить» некогда учившийся в Академии Евдокс, чья чисто геометрическая работа включена в V и XIII книги «Начал» Евклида. Полученное Евдоксом решение составило первую в истории науки в разумных пределах завершенную астрономическую теорию.
Мы не станем подробно описывать теорию Евдокса. Скажем лишь, что это была сугубо математическая теория, рассматривавшая движения взаимодействующих сфер. За исключением сферы неподвижных звезд, все сферы в теории Евдокса были не материальными телами, а математическими конструкциями. Евдокс даже не пытался установить, какие силы вынуждают сферы вращаться так, как они, по его утверждению, вращались. Теория Евдокса весьма современна нам по духу, ибо и в настоящее время целью науки зачастую считается математическое описание, а не физическое объяснение. Теория Евдокса была превзойдена теорией, создание которой принято приписывать трем величайшим астрономам-теоретикам: Аполлонию, Гиппарху и Птолемею. Эта теория вошла в «Альмагест» Птолемея.
Никакие труды Аполлония по астрономии до нашего времени не дошли. Однако различные греческие авторы, в том числе Птолемей (в XII книге «Альмагеста»), ссылаются на его результаты. Как астроном, Аполлоний пользовался такой известностью, что получил прозвище ε (эпсилон), поскольку он много занимался движением Луны, а Луну греческие астрономы обозначали буквой ε. До нас дошло лишь одно небольшое астрономическое сочинение Гиппарха, но в «Альмагесте» Птолемея мы находим ссылки на Гиппарха и восхваления в его адрес.
Основная схема того, что теперь принято называть птолемеевой системой мира, вошла в греческую астрономию в период между работами Евдокса и Аполлония. Согласно этой схеме, планета P движется с постоянной скоростью по окружности с центром S, в то время как центр S в свою очередь движется по окружности, центр которой совпадает с Землей E (рис. 1.5). Окружность, по которой движется точка S, называется деферентом, окружность, которую описывает планета P, — эпициклом. Точка S для некоторых планет совпадает с Солнцем, а в остальных случаях это просто математическая точка. Направления, в которых движутся точки P и S, могут как совпадать, так и быть противоположными. Например, в случае Солнца и Луны точки S и P движутся по окружностям в противоположные стороны.
Рис. 1.5. Эпицикл и деферент.
Для описания движений некоторых планет Птолемей несколько видоизменил описанную схему. Подходящим образом выбирая радиусы эпицикла и деферента, скорости движения тела по эпициклу и скорости движения эпицикла по деференту, Гиппарх и Птолемей смогли получить описания движений небесных тел, хорошо согласующиеся с результатами астрономических наблюдений того времени. Со времен Гиппарха лунное затмение можно было бы предсказать с точностью до одного-двух часов, хотя солнечные затмения удавалось предсказывать менее точно. Такие предсказания стали возможными, потому что Птолемей применил тригонометрию, разработанную им, по его собственному признанию, для астрономии.
Как и Евдокс, Птолемей отчетливо сознавал (и это необходимо особо отметить, имея в виду нашу главную тему — поиск истин), что его теория представляет собой не более чем удобное математическое описание, согласующееся с наблюдениями, и не обязательно должна отражать истинный механизм движения планет. При описании движений некоторых планет Птолемею приходилось рассматривать несколько альтернативных схем, и он отдавал предпочтение той, которая была проще с точки зрения математики. В XIII книге «Альмагеста» Птолемей утверждает, что астрономия должна стремиться к возможно более простой математической модели. Но христианский мир принял математическую модель Птолемея за абсолютную истину.
Теория Птолемея дала первое полное, в разумных пределах, подтверждение постоянства и неизменности природы и была воспринята как окончательное решение поставленной Платоном проблемы объяснения видимых движений небесных тел. Никакой другой из полученных в греческую эпоху результатов не может соперничать с «Альмагестом» по глубине влияния на представления о Вселенной, и ни одно сочинение, за исключением «Начал» Евклида, не обрело столь беспрекословного авторитета.
Разумеется, в нашем кратком очерке греческой астрономии не названы многие другие достижения античных астрономов и не дано полного представления о глубине и размахе свершений тех, кого мы здесь упомянули. Греческая астрономия достигла высокого уровня развития и наглядности и весьма широко применяла математику. Кроме того, почти каждый греческий математик, в том числе и такие мастера, как Евклид и Архимед, занимался астрономией.
Постижение физических истин не закончилось на геометрии пространства и астрономии. Греки заложили также основы механики. Механика изучает движение тел, которые можно рассматривать как материальные точки, движение протяженных тел и силы, вызывающие эти движения. В своей «Физике» ([6], т. 3, с. 59-262) Аристотель свел воедино все высшие достижения греческой механики. Как и вся аристотелева физика, его механика опирается на рациональные самоочевидные принципы, согласующиеся с наблюдениями. Хотя эта теория сохранила влияние на протяжении почти двух тысячелетий, мы не останавливаемся на ее изложении, так как она была полностью вытеснена механикой Ньютона. Существенными дополнениями к аристотелевой теории движения стали работы Архимеда по определению центров тяжести тел и его теория рычага. Во всей этой деятельности для нас наиболее существенна ведущая роль математики; тем самым получило подтверждение всеобщее убеждение в том, что в постижении законов природы первостепенное значение имеет математика.
Не меньший интерес, чем астрономия и механика, вызвала оптика. Основы этой науки также были заложены греками. Почти все греческие философы, начиная с пифагорейцев, строили умозрительные заключения о природе света, зрения и цвета, но нас интересуют математические достижения в этой области. Первым было априорное утверждение Эмпедокла (около 490 г. до н.э.) из Агригента — города на острове Сицилия — о том, что свет распространяется с конечной скоростью. Хронологически первыми систематическими исследованиями света, сохранившимися до нашего времени, стали сочинения Евклида «Оптика» и «Катоптрика»{12}. В «Оптике» Евклид рассматривает проблемы зрения и использования зрения для определения размеров различных предметов. В «Катоптрике» (теории зеркал) показано, как ведут себя лучи света при отражении от плоских, выпуклых и вогнутых зеркал и как ход лучей сказывается на том, что мы видим. Как и «Оптика», «Катоптрика» начинается с определений, которые в действительности являются постулатами. Теорема I (аксиома в современных учебниках и монографиях), играющая основополагающую роль в геометрической оптике известна как закон отражения. Она утверждает, что угол α образуемый с поверхностью зеркала лучом света, падающим на зеркало из точки P, равен углу, образуемому с поверхностью зеркала отраженным лучом (рис. 1.6). Евклид также установил закон падения для луча, падающего на выпуклое и вогнутое зеркала: в точке касания Евклид заменил зеркало касательной плоскостью R (рис 1.7) «Оптика» и «Катоптрика» — сочинения математические не только по содержанию, но и по своей структуре. Основное место в них, как и в «Началах» Евклида, отводится определениям, аксиомам и теоремам.
Рис. 1.6. Отражение от плоского зеркала.
Рис. 1.7. Отражение от выпуклого зеркала.
Математик и инженер Герон (I в.) вывел из закона отражения важное следствие. Если P и Q на рис. 1.6 — любые две точки, расположенные по одну сторону от прямой ST, то из всех путей, ведущих из точки P к прямой ST, a затем к точке Q, кратчайший соответствует такому положению точки R, при котором отрезки прямых PR и QR образуют с прямой ST равные углы. Следовательно, луч света, идущий из точки P к зеркалу и затем к точке Q, распространяется по кратчайшему пути. Отсюда ясно, что природа весьма «сведуща» в геометрии и использует ее с наибольшей пользой. Теорема, которую мы только что воспроизвели, заимствована нами из «Катоптрики» Герона, где рассмотрено также отражение луча света от вогнутых и выпуклых зеркал, а также от комбинаций зеркал.
Об отражении света от зеркал различной формы было написано великое множество работ. Среди ныне безвозвратно утерянных сочинений — «Катоптрика» Архимеда, «О зажигательном зеркале» Аполлония (около 190 г. до н.э.) и «О зажигательных зеркалах» Диоклеса (около 190 г. до н.э.). Зажигательные зеркала были вогнутыми и имели форму сферического сегмента параболоида вращения (поверхности, образованной вращением параболы вокруг ее оси) и эллипсоидов вращения. Аполлонию было известно, а в книге Диоклеса содержалось доказательство, что параболическое зеркало, отражая свет от источника света, помещенного в его фокусе, собирает лучи в пучок, параллельный оси зеркала (рис. 1.8). Наоборот, если пучок падающих лучей направить параллельно оси параболического зеркала, то после отражения лучи соберутся в фокусе. Собранные в фокусе солнечные лучи вызывают резкий разогрев и способны зажечь помещенный в фокусе горючий материал, откуда и название — зажигательное зеркало. По преданию, Архимед, воспользовавшись этим свойством зажигательных зеркал, сконцентрировал солнечные лучи на римских судах, блокировавших с моря его родной город Сиракузы, и поджег неприятельский флот. Аполлонию были известны отражательные свойства и других конических сечений. Он знал, например, что все лучи, выходящие из одного фокуса эллиптического зеркала, после отражения собираются в другом фокусе. В книге III «Конических сечений» приведены соответствующие геометрические свойства эллипса и гиперболы.
Рис. 1.8. Отражение от параболического зеркала.
Греки заложили основы многих других наук. Особенно велика их роль как основоположников географии и гидростатики. Эратосфен из Кирены (около 284-192 гг. до н.э.), один из наиболее образованных людей античности, директор Александрийской библиотеки, вычислил расстояния между многими населенными пунктами на той части Земли, которая была известна древним грекам. Ему также принадлежит широко известное ныне вычисление длины окружности Земли. В своей «Географии» Эратосфен помимо описаний используемых им математических методов объяснил причины изменений, происходящих на поверхности Земли.
Самым обширным сочинением по географии была «География» Птолемея в восьми книгах. В ней Птолемей не только дополнил и расширил труд Эратосфена, но и определил положение на поверхности Земли восьми тысяч мест, указав те самые их широты и долготы, которыми мы пользуемся и поныне. Птолемей изложил также методы составления карт, применяемые и в современной картографии, в частности метод стереографической проекции. Во всех трудах по географии основную роль играла сферическая геометрия, которую греки применяли с IV в. до н.э.
Гидростатика занимается изучением давления, оказываемого жидкостью на погруженное в нее тело. Здесь основополагающим трудом по праву считается сочинение Архимеда «О плавающих телах». Как и все остальные сочинения, о которых мы упоминали, оно чисто математическое как по своему подходу, так и по способу получения результатов. В частности, именно в этом сочинении сформулирован знаменитый принцип, известный ныне под названием закона Архимеда, который гласит, что на погруженное в жидкость тело действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной телом жидкости. Таким образом, мы обязаны Архимеду объяснением того, каким образом человек может остаться на плаву в мире сил, стремящихся утопить его.
Хотя в александрийский период дедуктивный подход к математике и математическому изложению законов природы играет главенствующую роль, следует отметить, что в отличие от своих предшественников классического периода александрийцы не отказывались от экспериментов и наблюдений. Так, александрийцы использовали результаты высокоточных астрономических наблюдений, которые в течение двух тысячелетий производили вавилоняне. Гиппарх составил каталог звезд, наблюдавшихся в его время. Среди изобретений александрийцев (сделанных главным образом Архимедом, а также математиком и инженером Героном) мы находим солнечные часы, астролябии и устройства для использования энергии пара и воды.
Особую известность приобрел Александрийский музей, основанный непосредственным преемником Александра Македонского в Египте — Птолемеем Сотером. Музей стал родным домом ученых; его библиотека насчитывала около 400 тыс. томов. Поскольку ее хранилища не могли вместить все рукописи, еще 300 тыс. томов были размещены в храме Сераписа. Ученые не только занимались наукой, но и проводили занятия с учениками.
Своими математическими трудами и многочисленными исследованиями греки существенно подкрепили тезис о том, что Вселенная зиждется на математических принципах. Математика внутренне присуща природе, является истиной о структуре природы, или, если воспользоваться выражением Платона, реальностью о физическом мире. Закон и порядок существует в природе, и математика — ключ к пониманию этого порядка. Более того, человеческий разум способен проникнуть в сокровенный план природы и открыть математическую структуру Вселенной.
Толчком к созданию концепции логического, математического подхода к познанию природы послужили, по-видимому, «Начала» Евклида. Хотя сочинение Евклида предназначалось для изучения физического пространства, структура самого сочинения, его необычайное остроумие и ясность изложения стимулировали аксиоматическо-дедуктивный подход не только к остальным областям математики, например к теории чисел, но и ко всем естественным наукам. Через «Начала» Евклида понятие логической структуры всего физического знания, основанного на математике, стало достоянием интеллектуального мира.
Тем самым греки установили союз математики и изучения явлений природы, который стал фундаментом всей современной науки. Вплоть до конца XIX в. поиск математических принципов, лежащих в основе природы, был поиском истины. Глубокое убеждение в том, что математические законы открывают истины о природе, привлекало к математике самых глубоких и возвышенных мыслителей.
II Расцвет математических истин
Главной целью всех исследований внешнего мира должно быть открытие рационального порядка и гармонии, которые бог ниспослал миру и открыл нам на языке математики.
Иоганн КеплерСозданная греками великая цивилизация распалась по нескольким причинам. Первой причиной ее заката было постепенное завоевание римлянами Греции, Египта и Ближнего Востока. Распространяя свое владычество, римляне не ставили целью распространение своей культуры. Завоеванные территории римляне быстро превращали в колонии, из которых грабежом и поборами выкачивали колоссальные богатства.
Другой удар языческой культуре греков нанесло возникновение христианства. Создатели новой религии включили в нее множество греческих и восточных мифов и обычаев с очевидным намерением сделать христианство более доступным для новообращенных, но в то же время заняли непримиримую позицию по отношению к языческой науке и даже осмеивали математику, астрономию и естественные науки. Несмотря на жестокие преследования со стороны римлян, христианство продолжало распространяться и достигло такого могущества, что римский император Константин Великий Миланским эдиктом 313 г. провозгласил христианство официальной религией Римской империи. Несколько позднее Феодосий (правивший в 379-392 гг.) запретил языческие религии и в 392 г. приказал разрушить языческие храмы.{13}
Тысячи греческих книг были сожжены. В 47 г. до н.э. римляне подожгли египетские суда, стоявшие в Александрийской гавани. В огне пожара, охватившего город, погибла знаменитая Александрийская библиотека — ценнейшее собрание древних рукописей. В тот год, когда Феодосий запретил языческие религии, христиане разрушили храм Сераписа в Александрии — хранилище уникального собрания уцелевших греческих рукописей. Многие сочинения греческих авторов, написанные на пергаменте, были стерты христианами, которые использовали этот пергамент для записи собственных текстов религиозного содержания.
Последующая история Римской империи также имеет непосредственное отношение к интересующей нас теме. Император Феодосий разделил необъятную империю между двумя своими сыновьями — Гонорием, которому отошла Италия и Западная Европа, и Аркадием, получившим в наследство Грецию, Египет и Ближний Восток. Западная часть Римской империи была завоевана в V в. готами, и ее дальнейшая история относится уже к истории средневековой Европы. Восточная часть Римской империи сохранила независимость. В состав Восточной Римской империи, известной также под названием Византийской империи, входили собственно Греция и Египет, что в какой-то мере способствовало сохранению греческой культуры и сочинений греческих ученых.
Завоевание Египта (640 г.) сторонниками набиравшего силу ислама нанесло греческой культуре удар, от которого она уже не смогла оправиться. Все ранее уцелевшие книги были уничтожены; как говорит предание, халиф Омар провозгласил: «Либо в этих книгах написано то, что есть в Коране, и тогда нам незачем их читать, либо они утверждают то, что противоречит Корану, и тогда их не подобает читать». Почти полгода бани Александрии отапливались пергаментными свитками.
После захвата Александрии приверженцами пророка Мухаммеда (Магомета) большинство ученых уехали в Константинополь, ставший столицей Восточной Римской империи. И хотя традиционная греческая культура не могла процветать в неблагоприятной для нее атмосфере Византии, приток ученых и возможность продолжать научную работу в условиях относительной безопасности способствовали приумножению сокровищницы знаний, ставшей через 800 лет достоянием Европы.
Свой вклад в дальнейшее развитие математики как науки внесли индийцы и арабы. Некоторые идеи индийских и арабских математиков сыграли немалую роль в дальнейшем.{14} За тысячелетие (200-1200 гг.) индийцы (не без влияния греческих источников) получили важные результаты в области арифметики и алгебры. Арабы — созданный ими Арабский халифат в период расцвета простирался по всему побережью Средиземного моря, глубоко вторгался на Ближний Восток и объединял разноплеменные народы, исповедовавшие ислам, — усвоили лучшие достижения греческой и индийской математики и получили ряд новых результатов. Действуя в духе греков александрийского периода, арабы в своих трудах опирались и на дедуктивные рассуждения, и на эксперимент. Арабские ученые сказали свое слово в алгебре, географии, астрономии и оптике. Заботясь о передаче знаний грядущим поколениям, арабы создавали школы и даже высшие учебные заведения. К чести арабов следует заметить, что, будучи ревностными приверженцами своей религии, они тем не менее считали недопустимым ограничивать религиозными догмами математические и естественнонаучные исследования.
Хотя индийцы и арабы основывали свои исследования на прочном фундаменте, воздвигнутом греками, и внесли свой вклад в дальнейшее развитие эллинской математики и естествознания, они не смогли в такой мере, как греки, проникнуться пониманием структуры Вселенной. Арабы переводили труды греческих ученых и составляли к ним обширные комментарии, в том числе и критические, но их достижения не пополнили сокровищницу знаний, накопленных их предшественниками, сколько-нибудь существенно (см., впрочем, [9], гл. III). К 1500 г. Арабский халифат распался, теснимый христианами на Западе и раздираемый междоусобицами на Востоке.
В то время как арабы строили и расширяли свою цивилизацию, в Западной Европе зарождалась новая цивилизация. В период средневековья (500-1500 гг.) в этой части мира был достигнут высокий уровень культуры. В европейской культуре того времени безраздельно господствовала христианская религия, а ее доктрины, при их определенных достоинствах, отнюдь не способствовали познанию физического мира. Вселенной, как утверждали отцы церкви, правит бог, и роль человека сводится к безропотному служению богу и снисканию милости божьей в надежде на спасение, дабы душа в загробном мире обрела радость и вечное блаженство. Земному существованию не следует придавать особого значения; трудности и страдания надлежит переносить с кротким терпением, ибо господь ниспосылает их, чтобы испытать, крепка ли вера человека. Нужно ли говорить, что в подобных условиях интерес к математике и естественным наукам, стимулом которого в античности служило изучение физического мира, переживал глубокий кризис. Мыслители средневековой Европы были ревностными искателями истин, но искали их в прилежном изучении Священного писания, а не в познании природы. Тем не менее в позднем средневековье философия поддерживала убеждение в правильности и постоянстве управляющих природой механизмов, хотя и считала, что в природе все происходит по воле божьей.
В конце периода средневековья Европа испытала поистине революционные потрясения, которые привели к значительным изменениям. Среди многих причин, способствовавших превращению средневековой цивилизации в современную, самой важной с точки зрения интересующей нас темы было пробуждение интереса к трудам греческих авторов и вновь начавшееся изучение их. Сочинения античных ученых становились известными в арабских переводах и через оригиналы, сохранившиеся в Византийской империи. После завоевания Византии турками в 1453 г. многие греческие ученые, захватив с собой книги, бежали на Запад. Именно из сочинений греков ведущие европейские мыслители того времени узнали, что природа построена на математических принципах и что план творения гармоничен, эстетически привлекателен и являет собой сокровенную истину о природе. Природа не только рациональна и упорядочение, но и действует в соответствии с неизбежными и неизменными законами. Европейские ученые приступили к исследованию природы как последователи древнегреческих философов.
Не подлежит сомнению, что многих европейских ученых побудило приступить к изучению природы возрождение греческих идеалов. Но темпы и широкий размах возрождения математики и естествознания были обусловлены и многими другими факторами. Силы, приводящие к крушению одной и вызывающие развитие другой культуры, многообразны и сложны. Процесс зарождения науки изучали многие ученые, и немало трудов по истории посвящено выяснению его причин. Мы ограничимся здесь кратким перечислением факторов, обусловивших тот интеллектуальный переворот, который ныне именуют Возрождением.
Возникновение класса свободных ремесленников небывало повысило интерес к материалам, способам их обработки и технологии, породив новые научные проблемы. Географические исследования, вызванные необходимостью поиска новых источников сырья и золота, способствовали распространению знаний о неведомых ранее странах и обычаях, бросавших своего рода вызов средневековой европейской культуре. В эпоху Реформации были отвергнуты многие католические доктрины, что усилило споры и даже скептицизм в отношении не только католицизма, но и протестантизма. Значение, которое пуритане придавали труду и полезности знаний, внедрение пороха, поставившее перед европейцами новые задачи военного характера (например, изучение траекторий пушечных ядер{15}), проблемы, связанные с плаванием в открытом море за тысячи миль от берега, — все это создавало благоприятную атмосферу для исследования природы. Изобретение книгопечатания способствовало распространению знаний, за чем, однако, неусыпно следила церковь. И хотя специалисты расходятся во мнениях относительно того, в какой мере те или другие силы повлияли на изучение природы, для наших целей достаточно отметить одновременное влияние многих факторов и тот общепризнанный факт, что научные знания и стремления к их приобретению стали отличительной чертой современной европейской цивилизации.
В целом европейцы далеко не сразу откликнулись на новые веяния. В эпоху Возрождения для европейцев было более характерно изучение сочинений греческих авторов, чем следование греческим идеалам (см., например, [10]). Но к началу XVI в. провозглашеннные греками цели научного исследования — изучение явлений природы на рациональной основе и поиск лежащего в их основе общего математического плана — проникли в умы европейцев. И тут европейцы столкнулись с серьезной проблемой: поставленные греками цели находились в противоречии с господствовавшей тогда в Европе культурной традицией. В то время как греки верили в математические принципы, лежащие в основе природы, в природу, неизменно и неукоснительно следующую некоторому идеальному плану, мыслители позднего средневековья приписывали и сотворение «плана», и все происходящее в природе христианскому богу. Он был творцом и создателем — и все в природе неукоснительно следовало его плану. Вселенная была творением бога и беспрекословно подчинялась его воле. Математики и представители естественных наук в эпоху Возрождения и на протяжении нескольких последующих столетий были правоверными христианами и полностью принимали эту доктрину. Но греческое учение о математических принципах устройства Вселенной противоречило догматам католической церкви. Каким же образом можно было примирить попытки понять Вселенную, сотворенную богом, с поисками математических законов мироздания? Примирить, казалось бы, непримиримое можно было, только создав новую доктрину, согласно которой христианский бог при сотворении Вселенной руководствовался математическими принципами. Так католическая доктрина, провозглашавшая первостепенной обязанностью постижение божьей воли и его творений, обрела форму поиска математического плана, по которому бог создал Вселенную. И действительно, как мы вскоре убедимся, работы математиков в XVI-XVII вв. и на протяжении большей части XVIII в. носили характер религиозного поиска. Открытие математических законов природы было своего рода откровением, являвшим людям славу и величие божьего творения. Математическое знание (истина о замысле творца) было священным, как любая строка Библии. Разумеется, человек не мог надеяться постичь божественный план с такой же полнотой и ясностью, как сам господь бог, но человек мог по крайней мере со всей кротостью и смирением приблизиться к пониманию замысла творца и, следовательно, к пониманию созданного им мира.
Можно пойти дальше и утверждать, что математики того времени были уверены в существовании математических законов, лежащих в основе явлений природы, и настойчиво искали эти законы, будучи a priori убеждены в осмысленности своих поисков: ведь бог, создавая Вселенную, не мог не запечатлеть в ней математические законы. Каждое открытие закона природы провозглашалось еще одним подтверждением не столько мудрости исследователя, совершившего открытие, сколько божьей милости. Такие взгляды и убеждения математиков и естествоиспытателей являлись отражением всей интеллектуальной атмосферы, типичной для Европы эпохи Возрождения. Незадолго до того вновь открытые сочинения греческих авторов чем-то противоречили христианской культуре, пропитанной глубокой набожностью; однако духовные вожди эпохи Возрождения, взращенные в христианской традиции и одновременно испытавшие на себе притягательную силу греческой культуры, сумели соединить эти два течения, казалось бы противоречащие одно другому.
Наиболее ярким примером происходившего в Европе слияния греческого учения о «математизированной» Вселенной с характерной для эпохи Возрождения верой в божественное ее происхождение являются труды Николая Коперника и Иоганна Кеплера. Вплоть до XVI в. единственной надежной и практически применимой астрономической теорией была геоцентрическая система Гиппарха и Птолемея. Она была принята профессиональными астрономами и использовалась при составлении календарей и в навигационных расчетах. К работе над созданием новой астрономической теории приступил Коперник (1473-1543). Астрономию он изучал в Болонском университете, куда поступил в 1497 г. В 1512 г. Коперник приступил к исполнению обязанностей каноника Фромборкского собора в Вармии. Положение члена капитула оставляло Копернику немалый досуг для астрономических наблюдений и обдумывания будущей теории. После многолетних размышлений и наблюдений Коперник создал новую теорию движения планет, изложив ее в своем классическом труде «Об обращениях небесных сфер» [11]. Первый вариант рукописи Коперник закончил еще в 1507 г., но медлил с публикацией, опасаясь противодействия со стороны церкви. Книга Коперника вышла из печати в 1543 г. — в год его смерти.
В те времена, когда Коперник принялся размышлять на астрономические темы, теория Птолемея претерпела некоторые усовершенствования. К эпициклам, введенным Птолемеем, добавились новые эпициклы, которые понадобились для того, чтобы привести теорию в соответствие с новыми астрономическими данными, собранными главным образом арабами. Во времена Коперника для описания движений Солнца, Луны и пяти известных в тот период планет птолемеевой теории требовалось уже семьдесят семь кругов. Многие астрономы, как о том упоминает Коперник в предисловии к своему сочинению, стали считать теорию Птолемея чрезмерно сложной.
Изучение достижений греческих ученых привело Коперника к убеждению в существовании единого математического плана, по которому построена Вселенная и который обеспечивает ее гармонию. Эстетические соображения требовали наличия более изящной теории, чем то сложное нагромождение эпициклов, которое содержалось в позднем варианте теории Птолемея. Из прочитанных книг Коперник узнал, что некоторые греческие авторы, главным образом Аристарх Самосский (III в. до н.э.){16}, высказывали предположение, что Солнце покоится, а Земля обращается вокруг него и одновременно поворачивается вокруг своей оси, и он решил выяснить, к чему может привести подобная гипотеза.
Поворотный момент в размышлениях Коперника наступил тогда, когда он воспользовался для описания движений небесных тел птолемеевой схемой деферента и эпицикла (гл. I), с тем, однако, существенным различием, что в центре каждого деферента находилось Солнце. Земля также стала одной из планет, которая, вращаясь вокруг своей оси, движется по эпициклу. Такое видоизменение позволило Копернику значительно упростить всю схему. В предложенной им гелиоцентрической системе оказалось возможным уменьшить общее число кругов (деферентов и эпициклов) до тридцати четырех вместо семидесяти семи кругов геоцентрической теории.
Еще более замечательное упрощение ввел Иоганн Кеплер (1571-1630) — одна из самых удивительных фигур в истории науки. Жизнь Кеплера омрачалась множеством личных несчастий и трудностей, вызванных религиозными и политическими событиями. В 1600 г. ему посчастливилось стать ассистентом знаменитого астронома Тихо Браге, производившего многочисленные астрономические наблюдения и систематизировавшего полученные результаты, — это была первая крупная попытка такого рода со времен античности. Наблюдения Тихо Браге и небольшое число наблюдений, произведенных самим Кеплером, оказались для последнего бесценными. После смерти Браге в 1601 г. Кеплер стал его преемником на посту придворного математика австрийского императора Рудольфа II.
Научные рассуждения Кеплера поражают необузданной фантазией. Подобно Копернику, Кеплер был склонен к мистике и разделял убеждение в том, что мир создан богом в соответствии с простым и исполненным красоты математическим планом. В своем сочинении «Космографическая тайна» (1596) Кеплер утверждал ([12], с. 176), что «сущность трех вещей… а именно: число, размеры и движения небесных орбит» — заключена в гармонии замысла, которым всеблагой и всемогущий бог руководствовался при сотворении мира. Мысль о гармонии мира стала у Кеплера доминантой. Но Кеплер был наделен всеми качествами, которыми, по нашим критериям, должен обладать ученый. Он умел, если было нужно, обуздывать свою неуемную фантазию, подчиняя ее холодному рационализму. Хотя его богатое воображение живо откликалось на любые новые теоретические концепции, обладающие эстетической привлекательностью, Кеплер сознавал, что теория должна находиться в согласии с наблюдениями, а к концу жизни с еще большей отчетливостью понял, что эмпирические данные могут подсказать исследователю фундаментальные принципы науки. Кеплер безжалостно отбрасывал самые привлекательные и многообещающие математические гипотезы, если оказывалось, что они не согласуются с наблюдениями, и именно это невероятное упорство в неприятии даже самых незначительных расхождений между теорией и наблюдениями, с которыми легко смирился бы любой другой ученый того времени, позволило Кеплеру стать творцом новых научных идей, решительно порывающих с многовековой традицией. К тому же Кеплер обладал скромностью, терпением и энергией, т.е. всеми теми качествами, которые позволяют великим людям выполнять возложенную на них нелегкую миссию.
Предпринятый Кеплером поиск математических законов природы, в существовании которых он был глубоко убежден, поначалу складывался неудачно: не один год ушел на проверку неверных гипотез. В предисловии к «Космографической тайне» Кеплер так формулирует программу своего сочинения:
Я вознамерился доказать, что всеблагой и всемогущий бог при сотворении нашего движущегося мира и при расположении небесных орбит избрал за основу пять правильных тел, которые со времен Пифагора и Платона и до наших дней снискали столь громкую славу, выбрал число и пропорции небесных орбит, а также отношения между движениями в соответствии с природой правильных тел.{17}
([12], с. 176.)Однако попытка раскрыть «тайну мироздания» на этой основе оказалась безуспешной: выводы теории, построенной на свойствах пяти правильных тел, расходились с результатами наблюдений, и, перепробовав множество вариантов в надежде спасти полюбившуюся ему идею, Кеплер был вынужден отказаться от намеченного подхода.
Зато необычайным успехом увенчались более поздние попытки Кеплера найти в природе гармонические математические отношения. Наиболее известные и значительные из полученных им результатов известны ныне под названием три закона Кеплера (законы движения планет). Первые два закона были опубликованы Кеплером в сочинении, вышедшем в 1609 г. под весьма длинным названием, так что обычно при ссылках на эту работу приводят либо начало названия — «Новая астрономия», либо его заключительную часть — «Комментарии о движении планеты Марс». Особенно замечателен первый закон Кеплера, ибо, сформулировав его, Кеплер порвал с двухтысячелетней традицией, согласно которой небесные тела должны обязательно двигаться по кругам или сферам. Кеплер отказался от деферента и нескольких эпициклов, к которым прибегали при описании движения любой планеты и Птолемей, и Коперник, и показал, что для описания движения планеты достаточно указать один-единственный эллипс. Первый закон Кеплера гласит: каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце (рис. 2.1). Другой фокус любой эллиптической орбиты представляет собой «пустую» математическую точку, в которой ничего не находится. Первый закон Кеплера имеет первостепенное значение, поскольку позволяет легко и просто представить орбиты планет. Разумеется, Кеплер, как и Коперник, добавляет, что, описывая свою эллиптическую траекторию, Земля одновременно вращается и вокруг своей оси.
Рис. 2.1. Первый закон Кеплера. Планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которого находится Солнце.
Но чтобы быть полезной, астрономии следует идти гораздо дальше: она должна уметь предсказывать положения планет. Если мы обнаружим, что какая-то планета в момент наблюдения находится, скажем, в точке P (рис. 2.1), то нам может понадобиться узнать, когда она будет находиться в каком-либо другом положении, например в точке солнцестояния или равноденствия. А чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать, с какой скоростью планета движется по своей траектории.
Пытаясь найти скорость планеты, Кеплер сделал еще один решающий шаг. Коперник и греческие мыслители считали скорости планет постоянными. Планета у них двигалась по эпициклу равномерно, проходя равные дуги окружности за равные промежутки времени, а центр каждого эпицикла перемещался с постоянной скоростью по другому эпициклу или по деференту. Из наблюдений Кеплер знал, что планета движется по эллиптической орбите с изменяющейся скоростью, и в результате долгих и трудных поисков нашел правильный закон изменения скоростей. Кеплер открыл, что если планета, двигаясь по орбите, перемещается из точки P в точку Q (рис. 2.2), например, за один месяц, то на перемещение из точки P' в точку Q' ей также потребуется один месяц при условии, что площадь сектора PSQ равна площади сектора P'SQ'. Так как точка P расположена ближе к Солнцу, чем точка P', то дуга PQ должна быть длиннее дуги P'Q', если площади секторов PSQ и P'SQ' равны. Следовательно, планеты движутся по орбитам с переменной скоростью: чем ближе к Солнцу, тем быстрее.
Рис. 2.2. Второй закон Кеплера: если дуги PQ и P'Q' орбиты планета проходит за одно и то же время, то площади секторов PSQ и P'SQ' равны.
Открыв второй закон (равенства секториальных скоростей), Кеплер был необычайно рад. Хотя пользоваться вторым законом не так просто, как законом постоянства скоростей, совершенное открытие подкрепило глубочайшую убежденность Кеплера в том, что господь бог, создавая Вселенную, руководствовался математическими принципами. Бог действовал чуть более изощренно, чем предполагали предшественники Кеплера, но теперь со всей очевидностью было установлено, что скорости движения планет по орбитам подчиняются математическому закону.
Но еще одна важная проблема по-прежнему оставалась нерешенной: по какому закону изменяются расстояния, отделяющие планеты от Солнца? Проблема осложнялась тем, что расстояние от планеты до Солнца не постоянно. И Кеплер принялся за поиск нового принципа, учитывающего зависимость расстояния от времени. По его глубокому убеждению бог сотворил мир не только на основе математических принципов, но и гармонично, причем слово «гармония» Кеплер понимал в самом прямом смысле. Так, он верил в существование музыки сфер, образующей гармонические созвучия, которые, хотя и невоспринимаемы на слух, но тем не менее их можно обнаружить при надлежащем «переводе» особенностей движения планет на ноты. Следуя этой путеводной идее и основываясь на поистине удивительной комбинации аргументов музыкального и математического характера, Кеплер устанавливает, что если T — период обращения планеты вокруг Солнца, a D — среднее расстояние от планеты до Солнца, то T2 = kD3, где k — постоянная, одинаковая для всех планет. Это утверждение и есть третий закон Кеплера для движения планет, торжественно провозглашенный им в сочинении «Гармония мира» (1619).
Сформулировав третий закон, Кеплер разражается ликующим хвалебным гимном богу-творцу:
«Вы, Солнце, Луна и планеты, восславьте его на своем неизъяснимом языке! Вы, небесные гармонии и все, кто постигает разумом его чудесные творения, воздайте ему хвалу! И ты, душа моя, восхвали создателя! Им все сотворено, и в нем все существует. Все лучшее из того, что мы знаем, заключено в нем и в нашей жалкой науке».
О том, с какой силой Коперник и Кеплер верили, что бог сотворил мир гармоничным и простым, можно судить по тем возражениям, с которыми им приходилось сталкиваться. Даже по теории Птолемея все остальные планеты, кроме Земли, находились в движении, и это объяснялось особо легкой и потому легко приводимой в движение субстанцией, из которой якобы сотворены планеты. Но что могло привести в движение тяжелую Землю? Ни Коперник, ни Кеплер не могли ответить на этот вопрос. Не принимая идею о суточном вращении Земли вокруг собственной оси, противники ее ссылались на такой, казалось бы, очевидный факт: тела не могли бы удержаться на поверхности вращающейся Земли и, сорвавшись с нее, улетели бы в космическое пространство, подобно тому как срываются предметы с вращающейся платформы. Против столь «неопровержимого» аргумента невозможно было возразить! Весьма неубедительным был ответ Коперника и на другой довод против суточного вращения Земли: вращающаяся Земля должна просто-напросто разлететься на части. На это Коперник возражал, что вращение Земли естественно и потому не может разрушить нашу планету. Должно быть, ощущая шаткость этого аргумента, Коперник, переходя в «контрнаступление», спрашивал, почему в таком случае небо не разлетается на части в результате очень быстрого суточного вращения, предусматриваемого геоцентрической теорией. Еще один довод против суточного вращения Земли состоял в следующем: если бы Земля вращалась с запада на восток, то любой предмет, подброшенный в воздух, отклонялся бы к западу, так как Земля под ним успевала бы поворачиваться. А если бы Земля к тому же обращалась вокруг Солнца, то более легкие предметы на Земле отставали бы от более тяжелых, поскольку скорости падающих предметов, как утверждали греки и продолжали считать ученые эпохи Возрождения, пропорциональны их весу. На это Коперник возражал, что воздух обладает земной природой и поэтому движется в полном соответствии с движением Земли. Суть всех этих возражений против суточного вращения Земли и ее обращения вокруг Солнца сводилась к тому, что движение Земли не вписывалось в рамки общепринятой во времена Коперника и Кеплера теории движения, предложенной еще Аристотелем.
Ряд научных возражений против гелиоцентрической теории выдвигала и сама астрономия. Наиболее серьезное возражение вызывало то, что в гелиоцентрической теории звезды считались неподвижными. Но за полгода Земля перемещалась в пространстве на расстояние около 300 млн. км. Следовательно, если наблюдатель заметит направление на какую-нибудь звезду, то спустя полгода он должен обнаружить, что это направление изменилось. Во времена же Коперника и Кеплера такого рода изменения в направлениях на звезды обнаружены не были. На это возражение Коперник отвечал, что звезды расположены слишком далеко от Земли и поэтому направления на звезды изменяются незначительно. Его ответ не удовлетворил критиков, заметивших, что если бы звезды были так далеки, как утверждает Коперник, то их нельзя было бы наблюдать. Тем не менее ответ Коперника был правильным. Направление на ближайшую звезду изменяется за полгода всего лишь на 0,31", и впервые это было обнаружено в 1838 г. немецким астрономом Фридрихом Вильгельмом Бесселем, имевшим в своем распоряжении хороший телескоп.
Сторонники геоцентрической теории спрашивали также, почему мы не ощущаем движения Земли, если та обращается вокруг Солнца со скоростью около 30 км/с, а скорость вращения вокруг собственной оси достигает на экваторе величины около 0,8 км/с? К тому же наши глаза убеждают нас в том, что Солнце обращается вокруг Земли. Для современников Кеплера ссылка на то, что мы не ощущаем движения с огромными скоростями, в котором сами участвуем, если верить новой астрономии, была неоспоримым контрдоводом. Все научные возражения против движения Земли были достаточно весомыми — от них нельзя было отмахнуться, как от брюзжания упрямцев, не желающих признать очевидную истину.
Коперник и Кеплер были людьми глубоко религиозными, и все же они оба дерзнули отказаться от одной из основных догм христианства: человек есть центр Вселенной и средоточие всех помыслов божьих. Гелиоцентрическая теория, поместив в центре Вселенной Солнце, подорвала столь успокоительную догму церкви. Человек стал одним из множества «странников», влекомых Землей в холодных небесных просторах. Утверждение церковников о том, будто человек рожден для того, чтобы прожить славную жизнь и обрести райское блаженство после смерти, стало казаться весьма сомнительным. Утратило правдоподобие и утверждение о том, будто человек является объектом особого внимания со стороны господа бога. Коперник подорвал тезис о том, будто бы Земля является центром Вселенной, указав, что размеры Вселенной огромны и поэтому бессмысленно говорить о каком бы то ни было центре Вселенной. Но в глазах его современников это рассуждение вовсе не выглядело убедительным.
И все же у Коперника и Кеплера был аргумент, перевешивавший все возражения против гелиоцентрической системы мира: им удалось построить более простую в математическом отношении, более гармоничную и эстетически более привлекательную теорию. Но если новая теория превосходит в математическом отношении старую, то для всякого, кто считал, что бог сотворил мир, используя при этом лучшую из теорий, любые сомнения в правильности гелиоцентрической теории должны были отпасть.
И в сочинении Коперника «О обращениях небесных сфер», и в многочисленных трудах Кеплера имеется немало высказываний, убедительно свидетельствующих, что Коперник и Кеплер были уверены в правильности построенной ими теории. Например, у Кеплера мы находим следующий отзыв о построенной им теории движения планет по эллиптическим орбитам: «Я клятвенно подтверждаю ее правильность и созерцаю ее красоту с неизъяснимым, переполняющим душу восторгом». Само название кеплеровского сочинения 1619 г. — «Гармония мира» и бесконечные дифирамбы богу, исполненные восхищения перед величием божественного математического плана, отражают убежденность Кеплера в правильности найденного им закона.
Сначала новая теория получила поддержку лишь у математиков. И это не было неожиданным. Только математики были убеждены в том, что Вселенная построена на простых математических принципах, только у математиков хватило интеллектуальной смелости, чтобы преступить через широко распространенные философские, религиозные и научные контраргументы и по достоинству оценить математические преимущества новой, революционной астрономии. Нужно было обладать неколебимой уверенностью в значимости математических принципов, на которых зиждется Вселенная, чтобы отстаивать новую теорию перед лицом сильнейшей оппозиции.
Однако затем гелиоцентрическая теория получила неожиданное подкрепление. В начале XVII в. был изобретен телескоп, и Галилей, прослышав об этом изобретении, сам построил телескоп и приступил к наблюдениям неба. Результаты наблюдений повергли в изумление современников Галилея. Он обнаружил у Юпитера четыре луны (в современные телескопы мы можем наблюдать 12 спутников Юпитера). Это открытие означало, что у движущейся планеты могут быть естественные спутники. Галилей наблюдал неровности и горы на поверхности Луны, пятна на Солнце, странные выступы по обе стороны экватора на Сатурне (сейчас мы знаем, что за выступы Галилей принял кольца Сатурна). Эти наблюдения явились еще одним свидетельством того, что планеты схожи с Землей и заведомо не являются идеальными телами, состоящими, как полагали греки и средневековые мыслители, из какого-то особого эфирного вещества. Млечный Путь, ранее казавшийся широкой светлой полосой, при наблюдении в телескоп «распался» на мириады звезд. В небесах были рассеяны множества других солнц и, возможно, другие планетные системы. Коперник предсказывал, что если бы человеческое зрение было более острым, то человек мог бы наблюдать фазы Венеры и Меркурия так же, как он может невооруженным глазом наблюдать различные фазы Луны. С помощью телескопа Галилей обнаружил фазы Венеры. Произведенные наблюдения убедили Галилея в правильности теории Коперника, и в своем классическом труде «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой» (1632) он решительно выступает в защиту новой теории. Теория Коперника завоевала признание еще и потому, что позволяла астрономам, географам и мореплавателям упростить вычисления. К середине XVII в. научный мир принял гелиоцентрическую систему. Уверенность в истинности математических законов природы возросла неизмеримо.
Отстаивать тезисы об обращении Земли вокруг Солнца и о суточном вращении Земли вокруг своей оси в интеллектуальной атмосфере начала XVII в. было отнюдь не просто. Всем известно о процессе, который инквизиция устроила над Галилеем. Набожный католик Паскаль обнаружил свои сочинения в Индексе запрещенных книг за то, что в «Письмах к провинциалу» опрометчиво выразил порицание иезуитам:
Напрасно также было с вашей стороны испрашивать в Риме декрет об осуждении мнения Галилея относительно движения Земли. Не этим будет доказано, что она стоит неподвижно; если бы имелись несомненные наблюдения, которые доказали бы, что именно она-то и вращается, то все люди в мире не помешали бы ей — вращаться, и себе — вращаться вместе с нею.
([13], с. 336.)Коперник и Кеплер, не усомнившись, приняли синтез греческого учения о природе, основанной на математических принципах, и католического догмата о боге — творце и создателе Вселенной. Рене Декарт (1596-1650) вознамерился развить новую философию науки систематически, ясно и обоснованно. Декарт прежде всего был философом, во-вторых, он занимался проблемами космологии, в-третьих, был физиком, в-четвертых, — биологом и, только в-пятых, — математиком, хотя он и считается одним из основных творцов новой математики. Философия Декарта имеет весьма важное значение, поскольку именно она оказала решающее влияние на формирование самого стиля мышления, характерного для XVII в., и на таких гигантов, как Ньютон и Лейбниц.{18} Свою главную цель Декарт видел в нахождении способа, позволяющего устанавливать истину в любой области, и посвятил ей основной труд — «Рассуждение о методе, чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках» (1637) ([14], с. 5-66).
Создавая свою философию, Декарт начинает с того, что принимает лишь те факты, которые представляются ему несомненными. Каким же образом удается ему провести различие между приемлемыми и неприемлемыми фактами? В своих «Правилах для руководства ума» (написанных в 1628 г., но опубликованных лишь посмертно) Декарт утверждает: «В предметах нашего исследования надлежит отыскивать не то, что о них думают другие или что мы предполагаем о них сами, но то, что мы ясно и очевидно можем усмотреть или надежно дедуцировать, ибо знание не может быть достигнуто иначе» ([15], с. 55). Человеческий разум непосредственно, силой интуиции, воспринимает основные, ясные и очевидные истины, а вывод следствий составляет сущность философии знания. Таким образом, по Декарту, существуют лишь два акта мышления, позволяющих нам получать новое знание без опасения впасть в ошибку: интуиция и дедукция. Однако в своих «Правилах для руководства ума» Декарт отдает предпочтение интуиции:
Под интуицией я разумею не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же, прочное понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама дедукция, хотя последняя и не может быть плохо построена человеком.
([15], с. 57)В «Рассуждениях о методе» Декарт отстаивал существование разума и достоверного, надежного знания, которым разум обладает. Опираясь на первичную интуицию, Декарт пытается в «Размышлениях о методе» доказать существование бога. Затем с помощью рассуждений, явно образующих порочный круг, Декарт убеждает себя в том, что наша интуиция и метод дедукции должны приводить к верным заключениям, поскольку бог не стал бы вводить нас в заблуждение.{19} «Под словом «бог», — утверждает Декарт в «Метафизических размышлениях» (1641), — я подразумеваю субстанцию бесконечную, вечную, неизменную, независимую, всемогущую, создавшую и породившую меня и все остальные существующие вещи» ([16], с. 363).
Что же касается собственно математических истин, то в «Метафизических размышлениях» Декарт говорит следующее: «Я считал наиболее достоверными те истины, которые ясно воспринимал как относящиеся к фигурам, числам и другим материям, принадлежащим арифметике, геометрии и вообще чистой и абстрактной математике… Только математикам дано достичь несомненности и ясности, ибо они исходят из того, что наиболее легко и просто». Источником математических понятий и истин являются не ощущения. Они носят врожденный характер и присущи нашему разуму от рождения; наделяет же ими наш разум сам бог. Чувственное восприятие материального треугольника не может помочь разуму составить представление об идеальном треугольнике. Для разума вполне очевидно, что сумма углов треугольника должна быть равна 180°.
Затем Декарт обращается к физическому миру. Можно не сомневаться, утверждает он, в том, что интуитивные представления, ясно сознаваемые разумом, и получаемые из них дедуктивные заключения применимы к физическому миру. Декарту было ясно, что бог при сотворении мира руководствовался математическими принципами. В «Рассуждениях о методе» он говорит о существовании «законов, установленных богом в природе, и понятий, запечатленных им в наших душах. Коль скоро мы достаточно поразмыслим над ними, то не станем более сомневаться в их проявлениях во всем, что существует и происходит в мире».
Далее Декарт утверждает, что законы природы неизменны, так как составляют неотъемлемую часть предустановленного богом математического плана. Еще до выхода в свет «Рассуждения о методе» Декарт в письме от 15 апреля 1630 г., адресованном отцу Марену Мерсенну, теологу и близкому другу математиков{20}, утверждал:
Не бойтесь всюду провозглашать, что бог установил эти законы в природе так же, как суверен устанавливает законы в своем королевстве… И подобно тому как король обретает тем большее величие, чем меньше знают его подданные, мы считаем величие бога непостижимым и не мыслим себя без небесного царя. Кто-нибудь возразит Вам, заметив, что если бог установил эти истины, то он же может изменить их, как изменяет король свои законы. На подобное возражение следует ответить, что такое действительно возможно, если может изменяться божья воля. Я не считаю эти истины вечными и неизменными по тем же причинам, по которым сужу о боге.
В приведенном отрывке из письма Декарт отрицает распространенное в его времена мнение о том, что бог непрестанно вмешивается во все, что происходит в природе.{21}
Для изучения физического мира Декарт хотел бы использовать только математику, ибо, по его собственному признанию в «Рассуждении о методе», «из всех, кто когда-либо занимался поиском истины в науках, только математикам удалось получить некие доказательства, т.е. указать причины, очевидные и достоверные». По мнению Декарта, одной лишь математики было бы вполне достаточно для изучения физического мира. В «Принципах философии» (1644) он пишет:
Я прямо заявляю, что мне неизвестна иная материя телесных вещей, как только всячески делимая, могущая иметь фигуру и движимая, иначе говоря, только та, которую геометры обозначают названием величины и принимают за объект своих доказательств; я ничего в этой материи не рассматриваю, кроме ее делений, фигур и движения{22}, и, наконец, ничего не сочту достоверным относительно нее, что не будет выведено с очевидностью, равняющейся математическому доказательству. И так как этим путем, как обнаружится из последующего, могут быть объяснены все явления природы, то, мне думается, не следует в физике принимать других начал, кроме вышеизложенных, да и нет оснований желать их.
([16], с. 504-505.)В «Принципах философии» Декарт прямо называет математику сущностью всех наук. По словам Декарта, он «не приемлет и не надеется найти в физике каких-либо принципов, отличных от тех, которые существуют в Геометрии или в Абстрактной Математике, потому, что они позволяют объяснить все явления природы и привести доказательства, не оставляющие сомнений». Объективный мир, по Декарту, есть не что иное, как материализованное пространство или воплощенная геометрия. Его свойства поэтому должны выводиться из первых принципов геометрии (термин «геометрия» Декарт и его современники употребляли практически как синоним математики, так как геометрия тогда составляла значительную часть всей математики).{23}
Размышлял Декарт и над вопросом, почему мир должен быть доступен анализу математическими средствами. По мнению Декарта, наиболее фундаментальными и надежными свойствами материи являются форма, протяженность и движение в пространстве и во времени. Все эти свойства поддаются математическому описанию. Так как форма сводится к протяженности, Декарт утверждал: «Дайте мне протяженность и движение, и я построю Вселенную». Все физические явления, добавляет Декарт, — результат механического действия молекул, приводимых в движение силами. Силы также подчиняются неизменным математическим законам.
Каким образом объяснял Декарт вкусы, запахи, краски, тембр, высоту и громкость звуков, если внешний мир, по его воззрениям, состоял лишь из движущейся материи? В этих вопросах Декарт принял точку зрения греков, а именно учение Демокрита о первичных и вторичных качествах. Первичные качества — материя и движение — существуют в физическом мире; вторичные качества — вкус, запах, цвет, тепло, приятность или резкость звука — не более чем результат воздействия первичных качеств на органы чувств человека, осуществляемого бомбардировкой этих органов внешними атомами. Реальный мир — совокупность допускающих математическое описание движений предметов в пространстве и во времени, а вся Вселенная в целом представляет собой огромную гармоничную машину, построенную на математической основе. Естественные науки (а в действительности любая дисциплина, пытающаяся установить порядок и меру) подчинены математике. Правило IV декартовских «Правил для руководства ума» гласит:
К области математики относятся только те науки, в которых рассматривается либо порядок, либо мера, и совершенно несущественно, будут ли это числа, фигуры, звезды, звуки или что-нибудь другое, в чем отыскивается эта мера, таким образом, должна существовать некая общая наука, объясняющая все относящееся к порядку и мере, не входя в исследование никаких частных предметов, и эта наука должна называться не иностранным, но старым, уже вошедшим в употребление именем всеобщей математики, ибо она содержит в себе все то, благодаря чему другие науки называются частями математики. Насколько она превосходит своей легкостью и доступностью все эти подчиненные ей науки, видно из того, что она простирается на предметы всех этих наук, так же как и многих других, и если она заключает в себе некоторые трудности, то такие же трудности содержатся и в последних, имеющих сверх того и другие…
([15], с. 68.)Вклад Декарта собственно в математику сводится не к открытию новых истин, а к введению мощного метода, который мы ныне называем аналитической геометрией (гл. V).{24} Появление аналитической геометрии технически революционизировало методологию математики.
Декарт внес заметный вклад и в естествознание, хотя по величине и значимости он несравним с достижениями Коперника, Кеплера или Ньютона. Теория вихрей Декарта (гл. III) была ведущей космологической теорией XVII в. Декарт стал основоположником философии механицизма, согласно которой все явления природы, в том числе все отправления человеческого тела (но не душа), сводятся к движениям частиц, подчиняющимся законам механики. В самой механике Декарт сформулировал закон инерции, ныне известный как первый закон Ньютона: если на тело не действуют никакие силы и оно находится в состоянии покоя, то оно будет и дальше пребывать в состоянии покоя, а если тело движется, то оно будет продолжать прямолинейно двигаться с постоянной скоростью.
Еще одним увлечением Декарта была оптика (расчет линз). Часть «Геометрии» Декарта и вся «Диоптрика», задуманная им как приложение к «Рассуждению о методе», посвящены оптике. Вместе с Виллебродом Снеллиусом Декарт разделяет честь открытия закона преломления света, описывающего, что происходит со светом при резком изменении свойств среды, в которой он распространяется, например при переходе из воздуха в стекло или воду. Начало математизации оптики положили еще греки, но первым, кто систематически изложил оптику как математический предмет, был Декарт. Он внес также важный вклад в географию, метеорологию, ботанику, анатомию (он собственноручно производил вскрытия трупов животных), зоологию, психологию и даже медицину.
Хотя картезианская философия, т.е. философские и естественнонаучные взгляды Декарта и его последователей, в чем-то и противоречила учению Аристотеля и средневековой схоластике, в одном важном отношении Декарт все же был схоластом: все утверждения о природе сущего и реальности он строил на основе чистого разума. Декарт верил в априорные истины и в то, что разум своей силой может выработать полное знание обо всем. Так, Декарт на основе априорных рассуждений сформулировал законы движения. (Работая над биологическими и некоторыми другими проблемами, Декарт в действительности производил эксперименты и делал важные выводы из своих наблюдений. Но даже сводя явления природы к их чисто механическим проявлениям, Декарт многое сделал, чтобы избавить науку от мистицизма и оккультизма.)
Свою лепту в общее убеждение в истинности математики и математического фундамента естествознания внес и великий математик XVII в. (хотя и не столь влиятельный философ, как Декарт) Блез Паскаль (1623-1662). В отличие от Декарта, говорившего о самоочевидных для разума интуитивных понятиях, Паскаль говорил об истинах, воспринимаемых душой. Истина должна быть либо «самоочевидной» для души, либо логическим следствием подобных истин. В своих «Мыслях» Паскаль сообщает нам следующее:
Наше знание первых принципов, таких, как пространство, время, движение, число, достоверно, как всякое знание, получаемое нами путем умозаключений. В действительности же это знание дает нам душа, и инстинкт есть необходимый фундамент, на котором наш разум строит свои заключения. Требовать от души доказательства первых принципов, прежде чем согласиться принять их, для разума столь же бессмысленно и абсурдно как для души требовать интуитивного представления о всех утверждениях, доказываемых разумом, прежде чем принять их.
Для Паскаля наука — это исследование сотворенного богом мира. Заниматься наукой ради удовольствия дурно. Видеть конечную цель науки в удовольствии означает совращать исследование с истинного пути, ибо при таком подходе тот, кто занимается наукой, обретает «голод или тягу к учению, ненасытную жажду знаний».{25} «Такое занятие наукой проистекает из априорного взгляда на себя как на центр всего, а не из стремления искать во всех окружающих явлениях природы присутствие бога и его славу».
Среди выдающихся мыслителей, стоявших у колыбели современной математики и естествознания, Галилео Галилей (1564-1642) занимает столь же почетное место, как и Декарт. Разумеется, Галилей также разделял убеждение, что природа сотворена по математическому плану и что творцом плана был сам господь бог. Широкую известность получил следующий отрывок из небольшого сочинения Галилея «Пробирных дел мастер» (1623):
Философия природы написана в величайшей книге, которая всегда открыта перед нашими глазами, — я разумею Вселенную, но понять ее сможет лишь тот, кто сначала выучит язык и постигнет письмена, которыми она начертана. А написана эта книга на языке математики, и письмена ее — треугольники, окружности и другие геометрические фигуры, без коих нельзя понять по-человечески ее слова: без них — тщетное кружение в темном лабиринте.{26}
Итак, природа проста и упорядоченна, и все происходящее в ней закономерно и необходимо. Природа действует в соответствии с совершенными и неизменными математическими законами. Источником всего рационального в природе является божественный разум. Бог вложил в мир строгую математическую необходимость, которую люди постигают лишь с большим трудом, хотя их разум устроен по образу и подобию божественного разума. Следовательно, математическое знание не только представляет собой абсолютную истину, но и священно, как любая строка Священного писания. Исследование природы — занятие столь же благочестивое, как и изучение Библии. «В действиях Природы господь бог является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания».
В «Диалоге о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой» (1632) Галилей утверждал, что в математике человек достигает вершины всякого знания, ничуть не уступающего тому знанию, которое является уделом божественного разума. Конечно, божественный разум знает и воспринимает бесконечно больше математических истин, чем человек, но если говорить о достоверности, то те немногие истины, которые доступны человеческому разуму, известны человеку с такой же полнотой, как и богу.
Хотя Галилей был профессором математики и придворным математиком, его главным вкладом в европейскую культуру стали не математические теоремы, а те многочисленные усовершенствования, которые он внес в научный метод. Наиболее значительным из них явился его отказ от поисков физического объяснения, которое Аристотель считал истинной целью естествознания, и переход к поиску математического описания. Различие между этими двумя принципиальными методологическими установками отчетливо видно на следующем примере. Брошенное тело падает на землю, причем падение происходит со все возрастающей скоростью. Аристотель и следовавшие его методологии средневековые ученые пытались найти причину падения тела, предположительно механическую. Вместо поиска причины Галилей описал свободное падение математическим законом, имеющим в современных обозначениях вид s = 4,9t2, где s — расстояние (в метрах), которое тело в свободном падении пролетает за t секунд. Эта формула ничего не говорит о том, почему тело падает, и, казалось бы, дает гораздо меньше того, что хотелось бы знать о явлении. Но Галилей был уверен, что знание природы, которого мы стремимся достичь, должно быть описательным. В своей книге «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки» Галилей устами своего героя Сальвиати утверждал:
Сейчас неподходящее время для занятий вопросом о причинах ускорения в естественном движении, по поводу которого различными философами было высказано столько различных мнений: одни приписывали его приближению к центру, другие — постепенному частичному уменьшению сопротивления среды, третьи — некоторому воздействию окружающей среды, которая смыкается позади падающего тела и оказывает на него давление, как бы постоянно его подталкивая; все эти предположения и еще многие другие следовало бы рассмотреть, что, однако, принесло бы мало пользы. Сейчас для нашего автора будет достаточно, если мы рассмотрим, как он исследует и излагает свойства ускоренного движения (какова бы ни была причина ускорения), приняв, что моменты скорости, начиная с перехода от состояния покоя, идут возрастая в том же простейшем отношении, как и время.
([17], с. 243-244.)Итак, по Галилею, содержательные научные вопросы следовало отделить от поиска «причины причин» и отказаться от чисто умозрительных рассуждений о физических предпосылках явлений. Галилей мог бы сформулировать свою идею в виде следующей максимы для ученых: ваше дело не рассуждать — почему, а устанавливать — сколько (т.е. находить количественные соотношения).
Весьма вероятно, что первая реакция на этот пункт намеченной Галилеем программы даже в наши дни была бы отрицательной. Описание явлений на языке формул не более чем первый шаг исследования, возразили критики. Истинная функция науки в действительности была осознана последователями Аристотеля и состоит в объяснении причин, по которым происходит явление. Даже Декарт возражал против установки Галилея на поиск описательных формул. «Все, что Галилей говорит о телах, свободно падающих в пространстве, — утверждал Декарт, — лишено всякого основания, так как сначала ему надлежало бы установить природу тяжести». Кроме того, продолжал Декарт, Галилею следовало бы поразмыслить о первопричинах наблюдаемого явления. Но, как мы теперь знаем, принятое Галилеем решение ограничиться описанием явления было наиболее глубоким и наиболее плодотворным новшеством, когда-либо внесенным в методологию естествознания. Как станет ясно из дальнейшего, значение этого нововведения состояло в том, что оно более четко и определенно, чем ранее, поставило естествознание под эгиду математики.
Еще один методологический принцип, выдвинутый Галилеем, состоял в том, что любая область естествознания должна быть построена по образу и подобию математики. Здесь необходимо выделить два существенных момента. Математика начинает с аксиом, т.е. самоочевидных, ясных истин. Из них с помощью дедуктивного вывода она устанавливает новые истины. Следовательно, любая область естественных наук также должна начинать с аксиом, или принципов, и строиться дедуктивно. Кроме того, из исходных аксиом надлежит извлекать как можно больше следствий. Такой же план, по существу, был предложен еще Аристотелем, видевшим конечную цель в дедуктивной структуре естественных наук, образцом для которых должна служить математика.
Но в том, что касается способа получения первых принципов, Галилей решительно отошел от греков, мыслителей средневековья и Декарта. Предшественники Галилея и Декарт усматривали источник первых принципов в человеческом разуме. Стоит лишь разуму поразмыслить над любым кругом явлений, как он тотчас же постигнет фундаментальные истины. При этом в качестве примера, подтверждающего всесилие человеческого разума, обычно ссылались на математику. Такие аксиомы, как «Если к равным [частям] прибавить равные, то получатся равные же [части]» или «Через любые две точки можно провести прямую, и притом только одну», якобы самопроизвольно возникают, когда мы начинаем размышлять о числах или о фигурах, — и они считались неоспоримыми истинами. Греки установили несколько физических принципов, которые в их глазах были столь же привлекательными, как математические аксиомы. Так, они считали вполне очевидным, что все тела во Вселенной должны занимать определенное (естественное) место. Не менее очевидным казалось и то, что состояние покоя более согласуется с сутью вещей, чем состояние движения. Не подлежало сомнению и утверждение о том, что, для того чтобы привести тело в состояние движения и далее поддерживать это состояние, к нему необходимо приложить определенную силу. Вера в то, что человеческий разум способен сам по себе выработать фундаментальные принципы, не отрицает пользу наблюдений для установления первых принципов. Но наблюдения как бы помогают разуму припомнить первые принципы, подобно тому как при взгляде на знакомое лицо в памяти всплывают различные сведения о нем.
Все эти ученые, по мнению Галилея, сначала решали, как должен был бы функционировать мир в соответствии с предустановленными первыми принципами. Галилей же считал, что в физике в отличие от математики источником первых принципов должны быть эксперимент и анализ его результатов. Чтобы получать правильные и фундаментальные первые принципы, физику надлежит с большим вниманием прислушиваться к голосу природы, а не к тому, чему отдает предпочтение разум. Галилей открыто критиковал естествоиспытателей и философов, принимавших те или иные «законы» только потому, что те согласовывались с их априорными представлениями относительно того, как должна была бы вести себя природа. Природа, утверждал Галилей, не сотворила сначала мозг человека, а затем мир так, чтобы он был воспринимаем человеческим разумом. В адрес средневековых схоластов, вторивших Аристотелю и занимавшихся толкованием различных суждений в его сочинениях, Галилей язвительно заметил, что знание берется из наблюдений, а не из книг. Бесполезно спорить об Аристотеле. Те, кого он называл бумажными учеными, хотели бы уподобить естественнонаучные исследования изучению «Энеиды» или «Одиссеи» и превратить науку о природе в свод текстов. «Перед законом природы бессильны любые авторитеты».
Некоторые ученые эпохи Возрождения и современник Галилея Фрэнсис Бэкон (1561-1626) также пришли к выводу о необходимости экспериментального подхода к изучению природы. В этом пункте своей программы Галилей не намного опередил других.{27} Тем не менее Декарт не смог по достоинству оценить мудрость галилеевского подхода с его упором на эксперимент. Наши органы чувств, утверждал Декарт, способны лишь вводить в заблуждение. Только разум может развеять туман подобных заблуждений и постичь истину. Из врожденных первых принципов, постигаемых разумом, мы можем выводить явления природы и понимать их. В действительности, как мы уже упоминали, Декарт в своей научной работе широко использовал эксперимент и требовал, чтобы теория находилась в согласии с экспериментом, однако в своей философии он продолжал связывать истины исключительно разумом.
Мнение Галилея о том, что один лишь разум не может служить источником правильных физических представлений, разделяли лишь немногие физики. Так, взгляды Декарта критиковал Христиан Гюйгенс. С критикой чистого рационализма выступали и английские физики. Обращаясь к членам Королевского общества, Роберт Гук (1635-1705) заявил: «Имея перед глазами так много фатальных примеров ошибок и заблуждений, совершенных большей частью человечества, когда она опиралась только на силу человеческого разума, мы начали теперь проверять все гипотезы свидетельством органов чувств».
Разумеется, Галилей понимал, что эксперимент может привести к неправильному принципу и что дедуктивный вывод из неверного принципа порождал бы ошибочные заключения. Он предлагал и, по-видимому, использовал эксперименты для проверки своих умозаключений и для отбора первых принципов. Но вопрос о том, сколь широко экспериментировал сам Галилей, остается открытым. Некоторые из предложенных им экспериментов иногда называют «мысленными»: Галилей лишь мысленно представлял, что должно получиться в результате такого эксперимента. Тем не менее выдвинутый им принцип, согласно которому физические принципы должны опираться на эксперимент и наблюдение, был революционным и имел решающее значение. Сам Галилей не сомневался в том, что некоторые из принципов, использованных богом при сотворении мира, могут быть постигнуты чистым разумом, но, проложив путь эксперименту, Галилей одновременно заронил и сомнения. Если источником основных принципов естествознания должен быть эксперимент, то не должен ли эксперимент служить источником и математических аксиом? Этот вопрос не беспокоил ни самого Галилея, ни его преемников вплоть до начала XIX в. Математика продолжала наслаждаться своим привилегированным положением.
Свою естественнонаучную деятельность Галилей сосредоточил на проблемах материи и движения. Он независимо от Декарта установил принцип инерции, ныне известный как первый закон движения Ньютона. Галилею удалось также получить законы движения поднимающихся вертикально вверх и падающих тел, движения тел по наклонной плоскости, а также тел, брошенных под некоторым углом к горизонту. Галилей показал, что тело, брошенное под углом к горизонту, движется по параболе. Резюмируя, можно сказать, что Галилей исследовал законы движения земных тел. И хотя, как во всяком большом открытии, у Галилея заведомо были предшественники, никто из них не сознавал с такой ясностью идеи и принципы, которым должно руководствоваться научное исследование, и не проводил эти принципы в жизнь столь просто и эффективно.
Будучи глубоко новаторской по духу, философия и методология науки Галилея подготовила почву для свершений Исаака Ньютона, который родился в тот самый год, когда ушел из жизни Галилей.
III Математизация науки
Так как во всяком учении о природе имеется науки в собственном смысле лишь столько, сколько имеется в ней априорного познания, то учение о природе будет содержать науку в собственном смысле лишь в той мере, в какой может быть применена в нем математика.{28}
Иммануил КантЕсли убеждение в том, что математические законы естествознания представляют собой истины, органически включенные господом богом в созданный им план Вселенной, и подвергалось каким-то сомнениям, то они были окончательно развеяны Исааком Ньютоном (1643-1727). Хотя Ньютон был профессором математики Кембриджского университета и по праву считается одним из величайших математиков всех времен, его значение как физика превосходит его математическую репутацию. Работы Ньютона положили начало новой эре и послужили основой новой методологии естествознания, отводившей математике более значительную и фундаментальную роль, чем это было прежде.
В трудах Коперника, Кеплера, Декарта, Галилея и Паскаля было доказано, что некоторые явления природы протекают в соответствии с математическими законами. Все эти ученые не только были глубоко убеждены в том, что бог сотворил Вселенную по математическому плану, но и утверждали, что математическое мышление человека согласуется с божественными предначертаниями и потому пригодно для расшифровки этого плана. Философия (или методология) науки, господствовавшая в XVIII в., была сформулирована и подробно разработана Декартом. Именно Декарту принадлежит известное высказывание о том, что вся физика сводится к геометрии, которую и сам Декарт, и другие авторы той поры рассматривали как синоним математики. В то же время картезианство — научная методология Декарта, разделяемая большинством предшественников Ньютона, в том числе Гюйгенсом, отводила естествознанию автономную от математики роль, вменяя в обязанность человеку поиск физических объяснений явлений природы.
Греки, главным образом Аристотель, также пытались объяснять явления природы с помощью физических понятий. Главенствующая в классическую эпоху теория утверждала, что вся материя построена из четырех элементов (земли, воздуха, огня и воды), наделенных одним или несколькими свойствами (тяжестью, легкостью, сухостью и влажностью). Наблюдаемое поведение материи объясняется различными сочетаниями этих свойств. Так, огонь стремится вверх, потому что он легкий, а земная материя падает, так как она наделена таким свойством, как тяжесть. К свойствам, которые греки приписывали четырем основным элементам, средневековые ученые добавили множество новых, например симпатию, вызывающую взаимное притяжение тел (железа и магнита), и антипатию, которой объяснялось взаимное отталкивание тел.
Декарт отверг все эти свойства и стал утверждать, что все физические явления могут быть объяснены материей и движением. Существенным признаком материи Декарт считал протяженность, а так как протяженность измерима, то она может быть сведена к математике. Более того, протяженность не существует вне материи. Следовательно, пустота невозможна. Материя же взаимодействует с материей лишь при непосредственном соприкосновении и состоит из мельчайших невидимых частиц, различных по своим размерам, форме и другим свойствам. Так как частицы материи слишком малы и поэтому их невозможно наблюдать, для объяснения более крупных по своим масштабам явлений необходимо принять определенные гипотезы о поведении частиц. Все пространство заполнено частицами, образующими иногда скопления значительных размеров, например планеты Солнечной системы. Такова сущность теории вихрей Декарта.
Декарт стал основоположником механистической теории. Его последователями были французский философ и священник Пьер Гассенди (1592-1655), английский философ Томас Гоббс (1588-1679) и голландский математик и физик Христиан Гюйгенс (1629-1695). Так, в «Трактате о свете» (1690) Гюйгенс попытался объяснить оптические явления, исходя из гипотезы, что все пространство заполнено частицами эфира, по которым — от одной к другой — передается движение света. Полное название сочинения Гюйгенса — «Трактат о свете, в котором объяснены причины того, что с ним происходит при отражении и преломлении, в частности при странном преломлении исландского шпата» [19]. В первой главе «Трактата о свете» Гюйгенс утверждает, что в истинной философии «причину всех естественных явлений постигают при помощи соображений механического характера», и добавляет, что, по его мнению, «так и следует поступать, в противном случае приходится отказаться от всякой надежды когда-либо и что-нибудь понять в физике» ([19], с. 12). Гассенди расходится во мнении с Гюйгенсом лишь в одном: он считает, что атомы движутся в пустоте.
Физические гипотезы, касающиеся поведения мельчайших частиц, позволяли, по крайней мере в общих чертах, объяснить крупномасштабные явления в природе; однако они имели чисто умозрительный характер. Кроме того, физические гипотезы Декарта и его последователей были не количественными, а лишь качественными. Они позволяли объяснять явления, но не давали возможности предсказывать: результаты наблюдения или экспериментов для картезианцев всегда оказывались неожиданными. Лейбниц назвал весь свод подобных физических гипотез не более чем прекрасной выдумкой.
Начало иной философии науки было положено Галилеем, который провозгласил, что наука должна стремиться к математическому описанию явления, а не к физическому объяснению его. Кроме того, физические принципы надлежит выводить из экспериментов и индуктивных умозаключений, сделанных на основании результатов опытов. Следуя этой философии, Ньютон под влиянием своего учителя Исаака Барроу изменил весь ход научного развития, приняв вместо физических гипотез математические посылки, что позволило делать достоверные предсказания, к которым призывал Фрэнсис Бэкон. Следует особо подчеркнуть, что свои математические посылки Ньютон выводил из экспериментов и наблюдений.
Предтечей Ньютона был Галилей, изучавший свободное падение тела и движение тел, брошенных под углом к горизонту. Исаак Ньютон рассмотрел гораздо более широкую проблему, занимавшую умы ученых в середине XVII в.: можно ли установить связь между законами движения земных тел, открытыми Галилеем, и законами движения небесных тел, открытыми Кеплером? Идея о том, что законы любого движения должны следовать из небольшого числа универсальных законов, может показаться грандиозной и необычной, хотя религиозным математикам XVII в. она представлялась весьма естественной. Бог сотворил Вселенную, и все явления природы не могут не подчиняться единому плану творца. А коль скоро Вселенную создавал единый разум, то весьма вероятно, что все явления в природе протекают в соответствии с одним и тем же сводом законов. Математикам и естествоиспытателям XVII в., занятым разгадыванием плана творца, поиск некоего общего, скрытого за внешним различием движений земных и небесных тел, казался вполне разумным.
Осуществляя свою программу поиска универсальных законов, Ньютон получил немало важных результатов в алгебре и геометрии. Особенно велик его вклад в создание дифференциального и интегрального исчисления (гл. VI). Но сколь ни значительны математические достижения Ньютона, все они были лишь средствами решения естественнонаучных проблем. Собственно математику Ньютон считал слишком сухой и скучной материей и видел в ней не более чем удобный способ выражения законов природы. Все свои помыслы Ньютон сосредоточил на поиске естественнонаучных принципов, которые можно было бы положить в основу единой теории движения земных и небесных тел. К счастью, как выразился Дени Дидро, природа удостоила Ньютона своим доверием.
Разумеется, Ньютон был хорошо осведомлен о законах движения, установленных Галилеем. Но открытые Галилеем законы не могли служить сколько-нибудь надежным путеводителем. Из первого закона движения было ясно, что на планеты со стороны Солнца должна действовать какая-то сила притяжения, в противном случае каждая планета двигалась бы по прямой. Идея о силе притяжения, постоянно действующей на планеты со стороны Солнца, приходила в голову многим еще до того, как Ньютон приступил к своим исследованиям: Копернику, Кеплеру, знаменитому физику-экспериментатору Роберту Гуку, физику и известному архитектору Кристоферу Рену, астроному Эдмонду Галлею и другим. Предполагалось, что на дальние планеты эта сила действует слабее, чем на ближние, и что величина силы изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния от Солнца до планеты. Но до Ньютона все размышления о силе тяготения не выходили за рамки чистого философствования.{29}
Ньютон принял гипотезу, высказанную его предшественниками, а именно: он предположил, что сила F взаимного притяжения любых двух тел с массами m и M, удаленных друг от друга на расстояние r, выражается формулой (1):
В этой формуле G — постоянная, т.е. имеет одно и то же значение при любых m, M и r. Значение этой постоянной зависит от того, в каких единицах измеряются масса, сила и расстояние. Ньютон обобщил также установленные Галилеем законы движения земных тел. Эти обобщения известны под названием трех законов Ньютона. Первый закон Ньютона, сформулированный еще Декартом и Галилеем, гласит: «Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не принуждается приложенными силами изменить это состояние». Второй закон утверждает, что «изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по той прямой, по которой эта сила действует». Согласно третьему закону, «действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны» ([20], с. 39-41). Опираясь на три закона движения и закон всемирного тяготения (1), Ньютон получил возможность описывать движения земных тел.
В теории движения небесных тел Ньютон одержал блестящую победу, доказав, что три закона Кеплера, полученные им методом проб и ошибок на основании результатов многолетних наблюдений Тихо Браге, представляют собой не что иное, как математические следствия из закона всемирного тяготения и трех законов движения. Тем самым Ньютон показал, что движение планет, которое, как полагали до него, не имеет ничего общего с движением земных тел, в действительности подчиняется тем же законам, что и движение земных тел. В этом смысле Ньютон «объяснил» законы движения планет. Кроме того, поскольку законы Кеплера согласуются с результатами наблюдений, их вывод из закона всемирного тяготения стал превосходным подтверждением правильности самого этого закона.
Те немногие следствия из законов движения и закона всемирного тяготения, о которых мы упомянули, — всего лишь небольшой пример того, что было дано свершить Ньютону. Закон всемирного тяготения он применил к объяснению непонятного ранее явления — океанских приливов. Их вызывают силы притяжения, действующие со стороны Луны и в меньшей степени со стороны Солнца на большие массы воды. По данным о высоте лунных приливов (приливов, вызываемых притяжением Луны) Ньютон вычислил массу Луны. Ньютон и Гюйгенс оценили величину экваториального утолщения Земли. Ньютон и другие показали, что движение комет также согласуется с законом всемирного тяготения. Тем самым кометы были признаны законными членами Солнечной системы; их перестали считать случайными пришельцами из космических глубин или знамениями, сулящими грозную кару и гибель. Ньютон показал, что вследствие экваториального утолщения Земли земная ось под действием притяжения Луны и Солнца не указывает неизменно на одну и ту же звезду, а описывает конус с периодом 26 000 лет. Это долгопериодическое изменение направления земной оси приводит ежегодно к небольшим сдвигам в наступлении весеннего и осеннего равноденствий, отмеченным Гиппархом за 1800 лет до Ньютона. Так Ньютон объяснил смещение равноденствий.
Наконец, используя приближенные методы, Ньютон решил некоторые задачи, относящиеся к движению Луны. Например, известно, что плоскость, в которой происходит движение Луны, несколько наклонена к плоскости движения Земли. Как показал Ньютон, это обусловлено взаимным притяжением Солнца, Земли и Луны, описываемым законом всемирного тяготения. Ньютон и его непосредственные преемники в науке вывели из закона всемирного тяготения так много важных следствий о движениях планет, комет и Луны, а также о колебаниях уровня моря, что на протяжении последующих двух столетий считалось, что они дали полное объяснение системы мира.
В своей грандиозной деятельности Ньютон придерживался принципа, выдвинутого Галилеем, — искать не физическое объяснение, а математическое описание. Ньютон не только свел воедино огромное число экспериментальных данных и теоретических результатов Кеплера, Галилея и Гюйгенса, но и поставил математическое описание в основу всех своих естественнонаучных трудов и предсказаний. В предисловии к первому изданию своего основного труда, носившего весьма примечательное название «Математические начала натуральной философии»{30}, Ньютон говорит:
Так как древние, по словам Паппуса, придавали большое значение механике при изучении природы, то новейшие авторы, отбросив субстанции и скрытые свойства, стараются подчинить явления природы законам математики.
В этом сочинении имеется в виду тщательное развитие приложений математики к физике, поэтому и сочинение это нами предлагается как математические основания физики. Вся трудность физики, как будет видно, состоит в том, чтобы по явлениям движения распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные явления. Для этой цели предназначены общие предложения, изложенные в книгах первой и второй. Затем по этим силам, также при помощи математических предложений, выводятся движения планет, комет, Луны и моря.
([20], с. 1-3.)Мы видим, что математике в «Началах» Ньютона отводится главная роль.
У Ньютона имелись все основания отдавать количественным математическим законам предпочтение перед физическим объяснением: центральным физическим понятием ньютоновской небесной механики была сила тяготения, а действие этой силы он не мог объяснить с помощью физических понятий. Представление о силе тяготения, действующей между любыми двумя массами, даже если их разделяют сотни миллионов километров пустого пространства, казалось столь же невероятным, как и многие свойства, придуманные для объяснения физических явлений последователями Аристотеля и средневековыми схоластами. Представление о дальнодействующих силах было особенно неприемлемым для современников Ньютона, упорно настаивавших на механистических объяснениях и привыкших воспринимать силу как результат непосредственного соприкосновения тел, при котором одно тело «толкает» другое.{31} Отказ от физического объяснения и прямая замена его математическим описанием явления потрясли даже великих ученых. Гюйгенс считал идею гравитации «абсурдом», поскольку действие через пустое пространство исключало всякий механизм передачи силы; он поражался тем, что Ньютон взял на себя тяжкий труд и выполнил громоздкие вычисления, которые не обосновывались — ничем, кроме математического принципа тяготения. Против чисто математического описания гравитации возражали и многие другие современники Ньютона, в том числе Лейбниц, который сразу, как только прочитал в 1690 г. ньютоновские «Начала», занял в отношении их резко критическую позицию и продолжал критиковать идею дальнодействия до самой своей смерти. Вольтер, возвратившись в 1727 г. с похорон Ньютона, с иронией заметил, что в Лондоне царит вакуум, тогда как в Париже ощущается пленум (пространство, заполненное тончайшей материей) — ведь во Франции все еще царствовала картезианская философия. Попытки объяснения феномена дальнодействия не прекращались до начала XX в.
И все же поразительные научные достижения Ньютона стали возможны только благодаря тому, что он всецело полагался на математическое описание даже в тех случаях, когда физическое понимание явления полностью отсутствовало. Вместо физического объяснения Ньютон дал количественную формулировку действия силы тяготения, полезную уже тем, что она имела поддававшийся проверке смысл. Именно поэтому Ньютон в первой книге «Начал» замечает: «Эти понятия должно рассматривать как математические, ибо я еще не обсуждаю физических причин и места нахождения сил». Ту же мысль он повторяет и в конце своего сочинения:
В наши намерения входило только установить величину и свойства этой силы по явлениям и применить то, что нам удалось открыть в некоторых простейших случаях, как законы, позволяющие математически оценивать действия силы в более сложных случаях… Мы говорим математически (курсив Ньютона) во избежание всяких вопросов о природе этой силы, которую мы не понимаем достаточно для того, чтобы строить какие-либо гипотезы…
([20], с. 29.)В письме Ньютона преподобному Ричарду Бентли от 25 февраля 1692 г. есть такие строки:
То, что гравитация должна быть внутренним, неотъемлемым и существенным атрибутом материи, позволяя тем самым любому телу действовать на другое на расстоянии через вакуум, без какого-либо посредника, с помощью которого и через который действие и сила могли бы передаваться от одного тела к другому, представляется мне настолько вопиющей нелепостью, что, по моему глубокому убеждению, ни один человек, сколько-нибудь искушенный в философских материях и наделенный способностью мыслить, не согласится с ней. Вызывать тяготение должен некий агент, постоянно действующий по определенным законам, но материален он или нематериален, я предоставляю судить моим читателям.
Несмотря на успехи, достигнутые Ньютоном в математическом описании явлений гравитации, отсутствие понимания физического механизма этого явления продолжало волновать ученых, но все их усилия найти приемлемое объяснение не увенчались успехом. На это обстоятельство обращает внимание епископ Джордж Беркли в своем диалоге «Алсифрон, или Мелкий философ» (1732) ([21], с. 443-464):
Евфранор… Прошу тебя, Алсифрон, не играй терминами: оставь слово сила, изринь все прочее из своих мыслей, и ты увидишь, какова точная идея силы.
Алсифрон. Под силой я понимаю в телах то, что вызывает движение и другие ощутимые действия.
Евфранор. А не существует ли что-нибудь отличное от этих действий?
Алсифрон. Существует.
Евфранор. Тогда, будь добр, исключи все, что отличается, и те действия, к которым оно приводит, и поразмысли над тем, что такое сила в собственной, точной идее.
Алсифрон. Должен признаться, нелегкое это дело.
Евфранор. Поскольку ни ты, ни я не можем определить идею силы и поскольку, как ты сам заметил, разум и способности людей во многом схожи, мы можем предположить, что и у других людей нет ясного представления об идее силы.
Ньютон надеялся, что природу силы тяготения все же удастся исследовать и изучить. Вопреки надеждам Ньютона и общепринятой точке зрения, что это действительно возможно, никому так и не удалось объяснить, как действует сила тяготения — физический смысл этой силы не был установлен. Сила тяготения оставалась научной фантастикой, навеянной способностью человека воздействовать на тела. Тем не менее математические выводы из количественного закона оказались столь эффективными, что развитый Ньютоном подход стал неотъемлемой частью физической науки. Естествознание пожертвовало физическим объяснением ради математического описания и математического предсказания.
Развитие естествознания в XVII в. нередко резюмируют одной фразой, утверждая, что совместными усилиями физики и математики XVII в. построили механистическую картину мира, действующего как хорошо отлаженная машина. Разумеется, физика Аристотеля и средневековых ученых также была механистической, если под этим понимать описание движения под действием таких сил, как тяжесть, легкость, симпатия и т.п., действующих на частицы и протяженные тела. Но ученые XVII в., особенно картезианцы, отказались от множества свойств, придуманных их предшественниками для описания движения, и ограничили силу вполне материальным и очевидным: весом или силой, которую необходимо приложить к телу, чтобы бросить его. Такую доньютоновскую физику с полным основанием можно было бы назвать «материальной». Математика могла описывать явления, но решающей роли она не играла.
Существенное различие между механикой Ньютона и физикой его предшественников заключалось не в введении математики для описания движения тел. В ньютоновской механике математика была не только вспомогательным средством для физики, более удобным, кратким, ясным и общим языком, — она стала источником фундаментальных понятий. Гравитационная сила — не более чем название математического символа. Точно так же во втором законе Ньютона (F = ma: сила равна произведению массы на ускорение) под силой понимается все, что сообщает массе ускорение. При этом устанавливать физическими методами природу силы больше не было нужды. Так Ньютон говорил о центростремительной и центробежной силах и использовал их, не задумываясь над механизмом их действия.
Даже понятие массы в ньютоновской механике не более чем фикция. Разумеется, масса — это материя, а материя, как «доказал», пнув камень, великий лексикограф Сэмюэл Джонсон{32}, реальна. Но для Ньютона первичным свойством массы является ее инерция, смысл которой выражен первым законом Ньютона, а именно; если на тело не действуют никакие силы, то оно сохраняет состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения. Почему свободное тело движется по прямой, а не по окружности? Даже Галилей первоначально считал, что движение по инерции должно быть круговым. А почему свободное тело должно двигаться с постоянной скоростью? Почему в отсутствие сил масса не остается всегда в состоянии покоя или не движется с постоянным ускорением? Свойство инерции — чисто умозрительная (или, как сказал бы физик, фиктивная) концепция, а отнюдь не экспериментальный факт. Масса никогда не бывает свободной от действия сил. Единственный элемент физической реальности в ньютоновских законах движения — это ускорение. Ускорения тел можно наблюдать и измерять.
Хотя Ньютон неохотно отказался от физических объяснений, введением «математизированных» понятий, их количественных формулировок и чисто математическими выводами из выписываемых формул Ньютон преобразовал всю физику XVII в.{33} «Математические начала натуральной философии» открыли перед человечеством новый мир — Вселенную, управляемую единым сводом физических законов, допускающих точное математическое выражение. «Начала» содержали грандиозную схему, охватывающую падение камня, океанские приливы, движения планет и их естественных спутников, блуждания комет и величественное движение звездного свода. Ньютоновская схема стала решающим доводом, убедившим весь мир в том, что природа основана на математических принципах и что истинные законы природы — математические. «Начала» Ньютона означали в некотором роде конец физического объяснения. Лагранж однажды заметил, что Ньютон был счастливейшим из смертных, ибо существует только одна Вселенная, и именно Ньютону удалось открыть управляющие ею законы.
На протяжении всего XVIII в. математики, составлявшие тогда большинство ученых, неукоснительно следовали ньютоновской схеме. Первым научным трудом, строго выдержанным в духе математического подхода Ньютона, можно считать «Аналитическую механику» Лагранжа (1788). В этой книге механика рассматривалась с чисто математических позиций и упоминания о физических явлениях встречались крайне редко. Более того, Лагранж даже бравировал тем, что ему не были нужны ни ссылки на физические явления, ни геометрические чертежи. Когда начали формироваться новые разделы физики — гидродинамика, теория упругости, электромагнетизм, их создатели избрали тот же подход, какой использовал Ньютон применительно к механике и астрономии. Количественный, математический подход стал сущностью точного естествознания, и наиболее надежное убежище истина обрела в математике.
Бунтари XVII в. обнаружили качественный, физический мир, познанию которого служило математическое описание. В наследство своим потомкам они оставили математический, количественный мир, в котором конкретность физического мира была заменена математическими формулами. Именно их трудами было положено начало той математизации природы, которая процветает и поныне. Джеймс Джинс, заметивший в своей «Загадочной Вселенной» (1930), что «Великий архитектор Вселенной все более представляется нам чистым математиком», опоздал со своей сентенцией по меньшей мере на два столетия.
Хотя, как уже говорилось, самому Ньютону было отнюдь не легко полагаться исключительно на математические формулы, не подкрепляемые никакими физическими объяснениями, он не только отстаивал свои математические начала натуральной философии (естествознания), но и был твердо убежден, что они правильно передают описываемые явления. На чем было основано такое убеждение? Как и все математики и естествоиспытатели того времени, Ньютон верил в то, что бог сотворил мир в соответствии с математическими принципами. В этом отношении весьма красноречивы доводы в подкрепление тезиса о боге как творце и создателе Вселенной, приводимые Ньютоном в «Оптике» (1704):
Главная обязанность натуральной философии — делать заключения из явлений, не измышляя гипотез, и выводить причины из действий до тех пор, пока мы не придем к самой первой причине, конечно, не механической… Что находится в местах, почти лишенных материи, и почему Солнце и планеты тяготеют друг к другу, хотя между ними нет плотной материи? Почему природа не делает ничего понапрасну и откуда проистекает весь порядок и красота, которые мы видим в мире? Для какой цели существуют кометы и почему все планеты движутся в одном и том же направлении по концентрическим орбитам, в то время как кометы движутся по всевозможным направлениям по очень эксцентрическим орбитам, и что мешает падению неподвижных звезд одной на другую? Каким образом тела животных устроены с таким искусством и для какой цели служат их различные части? Был ли построен глаз без понимания оптики, а ухо без знания акустики? Каким образом движения тел следуют воле и откуда инстинкт у животных?… И если эти вещи столь правильно устроены, не становится ли ясным из явлений, что есть бестелесное существо, живое, разумное, всемогущее, которое в бесконечном пространстве, как бы в своем чувствилище, видит все вещи вблизи, прозревает их насквозь и понимает их вполне благодаря их непосредственной близости к нему?
([22], с. 280-281.)На свои вопросы Ньютон отвечает в третьем издании «Математических начал натуральной философии»:
Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и власти могущественнейшего и премудрого существа… Сей управляет всем не как душа мира, а как властитель Вселенной и по господству своему должен именоваться господь бог вседержитель.
([20], с. 659.)Ньютон уверял также, что господь бог — искусный математик и физик. Эту мысль он высказывает в письме преподобному Ричарду Бентли от 10 декабря 1692 г.:
Таким образом, чтобы сотворить эту [Солнечную] систему со всеми ее движениями, потребовалась причина, понимавшая и сравнивавшая количества материи в нескольких телах Солнца и планет и проистекавшие от этого силы тяготения; расстояния первичных планет от Солнца и вторичных планет [т.е. спутников] от Сатурна, Юпитера и Земли; скорости, с которыми эти планеты могли обращаться вокруг количеств материи в центральных телах. И то, что сравнить и согласовать все это удалось в столь многих телах, свидетельствует, что причина эта была не слепой или случайной, а весьма искусной в механике и геометрии.
Задача науки состоит в том, чтобы раскрывать блистательные замыслы творца, отмечает в начале того же письма Ньютон, и далее: «Когда я писал свой трактат о нашей системе [«Математические начала натуральной философии»], мне хотелось найти такие начала, которые были бы совместимы с верой людей в бога; ничто не может доставить мне большее удовлетворение, чем сознание того, что мой труд оказался не напрасным». В эпистолярном наследии Ньютона имеется немало писем аналогичного содержания.
Истинными мотивами математической и естественнонаучной деятельности Ньютона были его религиозные воззрения. Все догмы христианского вероучения Ньютон считал божественными откровениями. В боге видел он причину всех естественных сил, всего существующего и происходящего. Божественное промышление, воля и контроль, по его мнению, присутствовали во всех явлениях. С юных лет и на протяжении всей жизни Ньютон критически изучал и интерпретировал религиозные произведения, а в конце жизни целиком посвятил себя теологии. Сохранились его книги «Замечания на книгу пророка Даниила и апокалипсис св. Иоанна» ([77]; опубл. 1733 г.) и «Хронология древних царств с исправлениями» (не опубликована), а также сотни рукописных страниц, в которых Ньютон пытался установить хронологию библейских событий. Занятие наукой было для него своего рода богослужением, хотя, по его убеждению, в собственно естествознании не должно быть места ни мистическим, ни сверхъестественным силам. Ньютон испытывал глубокое удовлетворение при мысли, что его «Начала» открыли, как далеко простирается десница всемогущего господа бога. Укрепление основ религии Ньютон считал гораздо более важным, чем развитие математики и естествознания, поскольку науки призваны лишь открывать тот план, руководствуясь которым бог создал Вселенную. Упорную и подчас утомительно однообразную научную работу Ньютон оправдывал тем, что она, по его мнению, укрепляет религию, открывая все новые и новые доказательства божественного порядка во Вселенной. Занятие наукой Ньютон считал столь же богоугодным, как и изучение Священного писания. Мудрость творца можно постигать, открывая шаг за шагом структуру Вселенной. В боге Ньютон видел первопричину всего, что бы ни происходило. Так, чудеса объяснялись вмешательством бога в нормальный ход событий. Бог своим вмешательством мог также исправлять сбои и нарушения в природе, подобно тому как часовой мастер чинит неисправный механизм.
Если вера в то, что бог сотворил Вселенную и что роль математики и естествознания сводится к восстановлению плана творения, нуждалась в подтверждении, то такое подтверждение дал Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716). Как и Декарт, Лейбниц был прежде всего философом, но отличался еще большей разносторонностью, чем Декарт. Ему принадлежат первоклассные работы в математике, физике, истории, логике. Отличался Лейбниц и на поприще юриспруденции, дипломатии и политики. Подобно Ньютону, Лейбниц рассматривал научную деятельность как религиозную миссию, возложенную на ученых. В одном недатированном письме (1699 или 1700 г.) Лейбниц писал: «Главную цель всего человечества я вижу в познании и развитии божьих чудес. Думаю, что именно для этого бог отдал под власть человека весь земной шар».
В «Теодицее» (1710) Лейбниц утверждал широко распространенную тогда идею о том, что бог есть тот разум, который сотворил наш тщательно спланированный мир. Гармония между реальным миром и миром математики, по Лейбницу, объясняется единством реального мира и бога. На этом же основании Лейбниц решительно отстаивал применимость математики к реальному миру. Cum deus calculat, fit mundus (как господь вычисляет, так мир и устроен). Между математикой и природой существует предустановленная гармония. Вселенная устроена наиболее разумным образом, наш мир — наилучший из всех возможных миров, и рациональное мышление открывает его законы.
Истинное знание внутренне присуще нашему разуму, хотя в отличие от Платона Лейбниц не склонен был ссылаться здесь на предшествующее существование человека. Наши органы чувств не могут научить нас таким необходимым истинам, как то, что бог существует или что все прямые углы равны. Математические аксиомы принадлежат к числу врожденных истин, поскольку являются принципами дедуктивных наук, таких, как механика и оптика, в которых «ощущения, разумеется, необходимы, дабы мы могли составить какое-то представление о чувственных вещах, равно как эксперименты необходимы для установления кое-каких фактов… Но сила доказательства зависит от разумности понятий и истин, которые только и способны научить нас распознавать то, что необходимо…»
Математическая и естественнонаучная деятельность Лейбница была весьма обширной и чрезвычайно ценной. В дальнейшем нам еще представится случай поговорить о ней. Но достижения Лейбница, как и Декарта, были направлены в основном на усовершенствование математического аппарата. Он внес значительный вклад в разработку основ математического анализа, теории дифференциальных уравнений, проницательно указал на важность некоторых зарождавшихся тогда научных понятий, например величины, называемой теперь кинетической энергией (которую он сам именовал живой силой). В то же время нельзя не отметить, что Лейбниц не открыл ни одного фундаментального закона природы. Его философия науки, отводившая первостепенную роль математике, скорее была направлена на то, чтобы побуждать человека к открытию истин.
Хотя ученые XVIII в. значительно расширили границы и математики, и естествознания, найденные ими аргументы в пользу истинности математики и математических законов естествознания в основном повторяли аргументы их предшественников. Несколько членов семейства Бернулли, особенно братья Якоб (1654-1705) и Иоганн (1667-1748), а также сын Иоганна Даниил (1700-1782), Леонард Эйлер (1707-1783), Жан Лерон Д'Аламбер (1717-1783), Жозеф Луи Лагранж (1736-1813), Пьер Симон Лаплас (1749-1827) и многие другие продолжили математическое исследование природы. Все они развивали методы математического анализа и разработали совершенно новые области, в частности теорию дифференциальных уравнений, обыкновенных и в частных производных, дифференциальную геометрию, вариационное исчисление, теорию бесконечных рядов и функций комплексного переменного. Все эти первоклассные математические результаты воспринимались как истины и служили более мощными инструментами исследования природы. Как сказал в 1741 г. Эйлер, «полезность математики, обычно известной своими элементарными разделами, не только не иссякает при переходе к высшим ее разделам, но и возрастает по мере развития этой науки».
Цель математических исследований блестящей плеяды ученых XVIII в. состояла в открытии новых законов природы, в более глубоком проникновении в ее основы. Достигнутые успехи были многочисленны и значительны. В астрономии особые усилия прилагались к тому, чтобы продолжить начатую Ньютоном работу по описанию и предсказанию движения небесных тел. Главный теоретический результат Ньютона (вывод эллиптичности орбиты планеты из закона всемирного тяготения), как хорошо сознавал он сам, был бы верен лишь в том случае, если бы вокруг Солнца обращалась только одна планета. Но во времена Ньютона и на протяжении большей части XVIII в. были известны шесть планет. Каждая из них притягивала остальные, а все планеты испытывали притяжение Солнца. Кроме того, у некоторых планет (Земли, Юпитера и Сатурна) были спутники. В результате под действием возмущений эллиптическая орбита искажалась. Какую форму имели истинные траектории планет? Над решением этой проблемы бились все выдающиеся математики XVIII в.
Суть проблемы сводилась к вопросу о взаимном притяжение трех тел. Если бы кому-нибудь удалось изобрести метод, позволяющий определять возмущающее действие третьего тела, то этим методом можно было бы воспользоваться и для определения возмущающего действия четвертого тела и так далее. Тем не менее точное решение общей задачи движения даже трех тел не удалось получить и поныне. Вместо того чтобы искать точное решение, математики стали создавать все более совершенные приближенные методы.
Успехи, достигнутые в XVIII в. даже с помощью приближенных методов, были поистине замечательными. Одним из наиболее драматических событий, подтвердивших точность математических расчетов в астрономии, явилось предсказанное Алекси Клодом Клеро (1713-1765) возвращение кометы, ныне известной под названием кометы Галлея. Эту комету наблюдали несколько астрономов, и в 1682 г. Галлей предпринял попытку определить ее орбиту. Он предсказал, что комета вернется в 1758 г. На заседании Парижской академии наук 14 ноября 1768 г. Клеро объявил, что комета Галлея пройдет ближайшую к Солнцу точку своей орбиты в середине апреля 1759 г. с возможной ошибкой в тридцать дней. Комета появилась на месяц раньше предсказанного срока. Ошибка в один месяц может показаться чудовищной. Не следует забывать, однако, что кометы обычно доступны наблюдениям лишь в течение нескольких дней, а комета Галлея не наблюдалась семьдесят семь лет.
Другими выдающимися успехами астрономия обязана трудам Лагранжа и Лапласа. В движениях Луны и планет наблюдались, некоторые нерегулярности. Они могли означать, что планета удаляется от Солнца на все большее расстояние. Лагранж и Лаплас доказали, что нерегулярности, наблюдаемые в скоростях Юпитера и Сатурна, имеют периодический характер, поэтому движения этих двух планет являются устойчивыми. Научные достижения XVIII в. воплощены в одном из шедевров науки — пятитомной «Небесной механике» Лапласа, печатавшейся в 1799-1825 гг.
Всю свою жизнь Лаплас посвятил астрономии, и, какой бы областью математики он ни занимался, его прежде всего интересовало применение полученных результатов к астрономии. Рассказывают, будто в своих рукописях Лаплас нередко опускал трудные этапы доказательств, заменяя их кратким замечанием: «Нетрудно видеть, что…» Одно не вызывает сомнения в этих рассказах: Лапласу действительно было не до детальной отделки доказательств, он торопился поскорее перейти к астрономическим приложениям. Многочисленные фундаментальные результаты, полученные Лапласом в математике, были не более чем побочными продуктами его титанической деятельности в области естествознания. Дальнейшим развитием их занимались другие.
Не менее драматична и широкоизвестная история открытия Нептуна. Хотя Нептун был открыт в 1846 г., в основе его открытия лежали достижения математики XVIII в. В 1781 г. Уильям Гершель с помощью нового мощного телескопа открыл планету Уран. Но движение Урана оказалось плохо предсказуемым. Алекси Бувар высказал предположение, что движение Урана возмущает какая-то неизвестная планета. Было предпринято много попыток обнаружить положение новой планеты и путем наблюдений, и путем теоретических расчетов ее размеров и орбиты. В 1841 г. двадцатидвухлетнему студенту Кембриджского университета Джону Каучу Адамсу (1819-1892) удалось довольно точно рассчитать массу, размеры и орбиту предполагаемой планеты. О результатах своих вычислений Адамс сообщил знаменитому Джорджу Эйри, занимавшему тогда пост директора Королевской астрономической обсерватории в Гринвиче, но тот не придал расчетам студента особого значения. Одновременно с Адамсом примерно такие же расчеты независимо выполнил еще один молодой астроном — француз Урбен Жан Жозеф Леверье (1811-1877). О том, где следует искать новую планету, он сообщил немецкому астроному Иоганну Галле. Письмо от Леверье Галле получил 23 сентября 1846 г. и в тот же вечер обнаружил Нептун всего в 52 дуговых секундах от места, указанного Леверье. Как можно было сомневаться в правильности астрономической теории, позволяющей делать столь поразительные предсказания? (Точность предсказаний составляла одну десятитысячную процента!)
Помимо астрономии математизации еще во времена греков подверглась оптика. Изобретение в начале XVII в. микроскопа и телескопа очень стимулировало интерес к оптике, и, подобно ученым древней Греции, ни один математик XVII-XVIII в. не обошел оптику своим вниманием. Как мы уже упоминали, Снеллиусу и Декарту удалось открыть в XVIII в. то, что тщетно пытался сделать Птолемей, — закон преломления света; они ответили на вопрос, как ведет себя свет, распространяясь в среде с резко изменяющимися свойствами, например при переходе из воздуха в воду. Оле Рёмер (1644-1710) обнаружил, что свет распространяется с конечной скоростью. Интерес к оптике значительно возрос после того, как Ньютон установил, что белый свет представляет собой смесь всех цветов — от красного до фиолетового. Выход в свет ньютоновской «Оптики» (1704) во многом способствовал прогрессу этой науки и усовершенствованию микроскопов и телескопов. Важнейшим инструментом исследования и на этот раз явилась математика. Оптические исследования продолжали интенсивно развиваться и в XVIII в. Новой значительной вехой в становлении оптики как науки стало трехтомное сочинение Эйлера.
Физическая природа света оставалась по-прежнему неясной. В то время как Ньютон считал, что свет представляет собой движение частиц (корпускул), а Гюйгенс говорил о волновом движении (хотя у него этот термин вряд ли означал волны), Эйлер первым подошел к анализу световых колебаний с позиций математики и вывел уравнения движения. Отстаивая волновую природу света, Эйлер был единственным ученым XVIII в., осмелившимся выступить против ньютоновской корпускулярной теорий света. Правильность взглядов Эйлера получила в начале XIX в. подтверждение в трудах Огюстена Жана Френеля и Томаса Юнга. Но природа света по-прежнему оставалась невыясненной, и основную надежду оптики продолжали возлагать на математические законы. До возникновения принятой ныне электромагнитной теории света должно было пройти еще полвека.
В XVIII в. перед естествоиспытателями открылись новые области исследований, и в некоторых из них им удалось достичь по крайней мере частичных успехов. Одной из новых областей физики стало математическое описание и анализ музыкальных звуков — акустика. Этот раздел физики имеет довольно длинную историю. Акустика началась с исследования звуков, издаваемых колеблющейся (скрипичной) струной. Свое веское слово о законах колебания струны сказали Даниил Бернулли, Д'Аламбер, Эйлер и Лагранж, существенно расходившиеся во мнениях по некоторым вопросам математического анализа.{34} И хотя спор удалось разрешить лишь в начале XIX в., после появления трудов Жана Батиста Жозефа Фурье (1768-1830), тем не менее и в XVIII в. был достигнут колоссальный прогресс. Наши современные представления о том, что каждый музыкальный звук состоит из основного тона (первой гармоники) и обертонов (высших гармоник) с частотами, равными целым кратным частоты первой гармоники, созданы трудами великих ученых XVIII в. Такое представление о звуке лежит в основе разработки всей современной звукозаписывающей и передающей аппаратуры: телефона, фонографа, радио и телевидения.
С XVIII в. берет начало еще одна область математической физики — гидродинамика, занимающаяся изучением течений жидкостей и газов, а также изучением движения тел в жидкости. Еще Ньютон рассмотрел и решил задачу о форме, которую должно иметь тело, чтобы при движении в жидкости оно испытывало наименьшее сопротивление. Классическим трудом в этой области математической физики по праву считается «Гидродинамика» Даниила Бернулли (1738). В этой работе Бернулли, в частности, отметил, что гидродинамику можно было бы использовать для описания тока крови по артериям и венам человеческого тела. Вслед за сочинением Бернулли вышел в свет основополагающий труд Эйлера (1755), в котором он вывел уравнения движения несжимаемой жидкости. В этой работе Эйлер писал:
Если нам не дано достичь полного знания о движении жидкости, то причину неудачи надлежит приписывать не механике и не недостаточности известных законов движения. Нам недостает [математического] анализа, поскольку вся теория движения жидкости теперь свелась к исследованию аналитических формул.
В действительности гидродинамика в том виде, в каком ее рассматривал Эйлер, была существенно неполной, и за последующие семьдесят лет в нее было внесено немало поправок и дополнений. Так, например, Эйлер полностью пренебрегал вязкостью. (Вода течет быстро и может считаться невязкой жидкостью, тогда как, скажем, масло течет медленно и обладает заметной вязкостью.{35}) Тем не менее мы можем с полным правом утверждать, что именно Эйлер стал основателем гидродинамики, применимой к движению судов и самолетов.
Если ученые XVIII в. нуждались в дополнительном подтверждении того, что мир основан на математических принципах и устроен наилучшим образом и что все творения природы созданы по замыслу единого архитектора — господа бога, то они обрели это подтверждение в одном математическом открытии. Герон (гл. I) доказал, что свет, двигаясь из точки P в точку Q и отражаясь в зеркале, распространяется по кратчайшему пути. Так как скорость света при этом постоянна, то кратчайший путь означает и кратчайшее время распространения света.
Один из величайших математиков XVIII в. Пьер Ферма (1601-1665), опираясь на весьма скудные экспериментальные данные, сформулировал принцип наименьшего времени: свет, идущий из одной точки в другую, распространяется по такому пути, на преодоление которого уходит наименьшее время. Очевидно, что таким сотворил свет господь бог, наделив его способностью не только неукоснительно следовать математическим законам, но и распространяться по пути, требующему минимальных затрат времени. Ферма окончательно уверовал в правильность своего принципа, когда ему удалось вывести из него закон преломления света, открытый ранее Снеллиусом и Декартом.
К началу XVIII в. математики располагали уже несколькими впечатляющими примерами того, как природа пытается «максимизировать» или «минимизировать» те или иные важные характеристики физических процессов. Христиан Гюйгенс, первоначально возражавший против принципа Ферма, доказал, что тот же самый принцип верен и для света, распространяющегося в среде с непрерывно изменяющимися свойствами. Даже первый закон Ньютона, утверждающий, что всякое находящееся в состоянии движения тело, если на него не действуют никакие силы, движется по прямой, стали рассматривать как еще одно свидетельство «принципа экономии», выполняющегося в природе.
Ученые XVIII в. были убеждены в том, что совершенная Вселенная не терпит напрасных затрат, — и потому каждое действие природы для достижения конечного результата должно быть наименьшим из возможных; на этой основе они принялись за поиск общего принципа. Первую формулировку такого принципа предложил Пьер Луи Моро де Мопертюи (1698-1759), математик, возглавлявший экспедицию в Лапландию, цель которой заключалась в измерении по меридиану длины дуги в один градус. Произведенные экспедицией измерения показали, что Земля сплюснута у полюсов, как предсказывали на основе теоретических соображений Ньютон и Гюйгенс. Открытие Мопертюи устранило возражения против теории Ньютона, выдвинутые Жаном Домиником Кассини и его сыном Жаком. Мопертюи был удостоен почетного титула «сплюснувший Землю». По меткому выражению Вольтера, Мопертюи сплющил Землю и обоих Кассини.
В 1740 г., занимаясь теорией света, Мопертюи провозгласил свой знаменитый принцип наименьшего действия, опубликовав статью под названием «О различных законах природы, казавшихся несовместимыми». Мопертюи исходил из принципа Ферма, но, поскольку не существовало единого мнения относительно того, в какой среде скорость света больше — в воде (как считали Декарт и Ньютон) или в воздухе (как полагал Ферма), Мопертюи отказался от наименьшего времени и заменил его новым понятием — действием. Под действием Мопертюи понимал интеграл (определяемый в математическом анализе) от произведения массы, скорости и пройденного расстояния. Согласно принципу наименьшего действия, все явления природы происходят так, что действие оказывается минимальным. Предложенное Мопертюи определение действия нуждается в некоторых уточнениях: Мопертюи не указал, по какому интервалу времени надлежит вычислять интеграл, и в каждом из найденных им приложений принципа в оптике и в некоторых задачах механики придавал действию разный смысл.
Хотя в обоснование своего принципа Мопертюи привел несколько физических примеров, он отстаивал принцип наименьшего действия и по теологическим мотивам. Законы движения материи должны обладать совершенством, достойным божьего замысла, и принцип наименьшего действия удовлетворял этому критерию, так как показывал, что природа действует наиболее экономным образом. Свой принцип Мопертюи провозгласил универсальным законом природы и первым научным доказательством существования и мудрости бога.
Величайший из математиков XVIII в. Леонард Эйлер, состоявший с Мопертюи в переписке (1740-1744) по поводу принципа наименьшего действия, согласился с ним в том, что бог, должно быть, построил Вселенную в соответствии с каким-то фундаментальным принципом и что существование такого принципа свидетельствует о направляющем персте божьем. Свое мнение Эйлер выразил так: «Поскольку наш мир устроен наисовершеннейшим образом и является творением всеведущего творца, во всем мире не происходит ничего такого, в чем не было бы воплощено какое-либо правило максимума или минимума».
В своем убеждении, что все явления природы происходят таким образом, что максимизируют или минимизируют некоторую функцию, вследствие чего и основные физические принципы должны содержать какую-то максимизируемую или минимизируемую функцию, Эйлер пошел еще дальше Мопертюи. Бог, несомненно, более искусный математик, чем могли себе представить ученые XVI-XVII вв., считал он. Религиозные убеждения также укрепляли Эйлера во мнении, что бог возложил на человека миссию познавать божественные законы, используя ниспосланный ему дар мышления. Книга природы открыта перед нами, но написана она на языке, который мы понимаем не сразу, а лишь после того, как ценой немалых усилий и страданий с любовью выучим его. Язык этот — математика. А поскольку наш мир — наилучший из всех возможных миров, его законы также должны блистать красотой.
Более точную и общую форму принципу наименьшего действия придал Лагранж. Действие фактически свелось к энергии. Из обобщенного принципа наименьшего действия удалось получить решения многих новых задач механики. (Принцип наименьшего действия по существу стал центральным принципом вариационного исчисления — новой области математического анализа, основателем которой стал Лагранж, опиравшийся на труды Эйлера.) Дальнейшее обобщение принципа наименьшего действия было предложено «вторым Ньютоном» Британии — Уильямом Роуаном Гамильтоном (1805-1865). Этот принцип и поныне является одним из наиболее универсальных принципов, лежащих в основе механики. По образу и подобию принципа наименьшего действия аналогичные принципы, получившие название вариационных, были сформулированы и в приложении к другим областям физики. Однако, как мы увидим, во времена Гамильтона ученые уже отказались от заключений Мопертюи и Эйлера, считавших, что принцип наименьшего действия включен божественным провидением в схему природы. Некоторое представление об изменениях, происшедших в толковании принципа наименьшего действия, можно составить по «Истории доктора Акакия», в которой высмеивается этот принцип, рассматриваемый как доказательство существования бога. Но ученые XVIII в. все еще были глубоко убеждены в том, что наличие столь всеобъемлющего принципа может означать одно: мир сотворен (разумеется, господом богом) в соответствии с этим принципом.
Величайшие мыслители XVIII в. отнюдь не двусмысленно утверждали господство математики. Вот, например, как сформулировал тезис о примате математики выдающийся математик Жан Лерон Д'Аламбер, главный сотрудник Дени Дидро (1718-1784), в своей статье, написанной для знаменитой французской «Энциклопедии»: «Истинная система мира познана, развита и усовершенствована». Нужно ли говорить, что естественный закон был законом математическим?
Более известно высказывание Лапласа:
Состояние Вселенной в данный момент можно рассматривать как результат ее прошлого и как причину ее будущего. Разумное существо, которое в любой момент знало бы все движущие силы природы и взаимное расположение образующих ее существ, могло бы — если бы его разум был достаточно обширен для того, чтобы проанализировать все эти данные, — выразить одним уравнением движение и самых больших тел во Вселенной, и мельчайших атомов. Ничто не осталось бы сокрытым от него — оно могло бы охватить единым взглядом как будущее, так и прошлое.
Уильям Джеймс в своем «Прагматизме» следующим образом описывает умонастроение математиков того времени:
Когда были открыты первые математические, логические и физические закономерности, первые законы, проистекавшие из этих открытий, ясность, красота и упрощение настолько захватили людей, что они уверовали в то, будто им удалось доподлинно расшифровать непреходящие мысли Всемогущего. Его разум громыхал громовыми раскатами и эхом отдавался в силлогизмах. Бог мыслил коническими сечениями, квадратами, корнями и отношениями и геометризовал, как Евклид. Бог предначертал законы Кеплера движению планет, заставил скорость падающих тел возрастать пропорционально времени, создал закон синусов, которому свет должен следовать при преломлении… Бог измыслил архетипы всех вещей и придумал их вариации, и когда мы открываем любое из его чудесных творений, то постигаем его замысел в самом точном предназначении.
Убеждение в том, что природа сотворена по математическому плану и творец ее — господь бог, выражали не только ученые, но и поэты, например английский поэт, эссеист и государственный деятель Джозеф Эддисон (1672-1712) в своем «Гимне»:
Бескрайней чаши глубина, Небес эфирных синева, Звезд бесконечный хоровод Хвалу Создателю поет. Своей могучею десницей Бог правит солнца колесницей, И свет летит во все края, Хвалу Всевышнему творя. … Планет кружащихся венец — Твое созданье, о Творец. Той вестью полны, Катят по океанам волны.К концу XVIII в. математика была подобна гигантскому дереву, прочно стоявшему на почве реальности, с корнями двухтысячелетней давности, с раскидистыми ветвями. Высоко вздымалось древо математики над всеми областями человеческого знания. Никто не сомневался, что в таком виде это дерево будет жить вечно — разве что крона его будет становиться все пышнее.
IV Первое ниспровержение: увядание истины
У каждого века есть свои мифы.
Их принято называть высшими истинами.
Неизвестный авторДевятнадцатый век начался для математики хорошо. Активно работал Лагранж. В зените славы и расцвете сил находился Лаплас. Фурье (1768-1830) упорно работал над статьей 1807 г., впоследствии включенной в его ставшую классической «Теорию теплоты» (1822). Карл Фридрих Гаусс опубликовал (1801) свои «Арифметические исследования» (Disquisitiones arithmeticae), ставшие знаменательной вехой в развитии теории чисел, и был на пороге множества новых достижений, снискавших ему титул «король математиков». А французский «конкурент» Гаусса Огюстен Луи Коши (1789-1857) продемонстрировал свои незаурядные способности в обширной статье, опубликованной в 1814 г.
Несколько слов о деятельности этих замечательных ученых позволят читателю составить более полное представление о колоссальном шаге, который сделала наука в первой половине XIX в. в направлении более полного раскрытия единой схемы природы. Хотя Гаусс обогатил открытиями эпохального значения (об одном из них мы в дальнейшем расскажем) чистую математику, значительную часть своей жизни он посвятил естественнонаучным исследованиям. Гаусс даже не числился профессором математики — более пятидесяти лет он состоял профессором астрономии и директором Гёттингенской обсерватории. Интерес к астрономии пробудился у Гаусса еще в студенческие годы (1795-1798), проведенные в Гёттингене, и она, пожалуй, более всего занимала его мысли. Первый значительный успех пришел к нему в 1801 г. Первого января того года Джузеппе Пиацци (1746-1826) открыл малую планету Цереру. Хотя планету удалось наблюдать лишь в течение нескольких недель, двадцатичетырехлетний Гаусс, применив для анализа результатов наблюдений новую математическую теорию, вычислил орбиту планеты. В конце того же года Церера действительно была обнаружена примерно там, где и предсказывал Гаусс. Когда Вильгельм Ольберс в 1802 г. открыл другую малую планету — Палладу, Гаусс снова весьма точно определил ее орбиту. Весь этот первоначальный этап астрономических исследований Гаусс изложил в одном из своих главных трудов — «Теории движения небесных тел» (1809).
Позднее, производя по просьбе курфюрста Ганноверского топографическую съемку Ганновера, Гаусс заложил основы геодезии; из этих занятий он извлек ряд весьма плодотворных идей, касающихся дифференциальной геометрии.{36} Особо были отмечены проведенные Гауссом в 1830-1840 гг. теоретические и экспериментальные исследования магнетизма. Он разработал метод измерения магнитного поля Земли. Создатель теории электромагнитного поля Джеймс Клерк Максвелл в своем «Трактате по электричеству и магнетизму» признает, что исследования Гаусса по магнетизму преобразили всю науку: приборы и инструменты, методы наблюдений и обработки результатов. Работы Гаусса по земному магнетизму являются образцом естественнонаучного исследования. В знак признания заслуг Гаусса единица магнитной индукции (в системе единиц СГС) получила впоследствии название «гаусс».
Хотя идея создания телеграфа принадлежит не Гауссу и не его другу и коллеге Вильгельму Веберу (1804-1891) (многочисленные попытки предпринимались и раньше), именно они предложили в 1833 г. практическое устройство для приема сигналов. Были у Гаусса и другие изобретения. Он успешно работал в области оптики, которая после Эйлера переживала глубокий упадок. Исследования, проведенные Гауссом в 1838-1841 гг., заложили принципиально новую основу для решения оптических проблем.
Другой величайшей фигурой в математике начала XIX в., сравнимой по своей значимости с Гауссом, был Коши.{37} Его интересы отличались необычайной разносторонностью. Он написал более семисот математических работ, уступив по числу их лишь Эйлеру. Современное издание трудов Коши вышло в двадцати шести томах и охватывает все разделы математики. Коши был основоположником теории функций комплексного переменного (гл. VII и VIII). Но не меньше внимания Коши уделял физическим проблемам. В 1815 г. он получил премию Французской академии наук за работу по теории волн на воде. Ему принадлежат фундаментальные исследования по равновесию стержней и упругих (в частности, металлических) пластин, а также по теории волн в упругой среде. Своими трудами Коши заложил основы математической теории упругости. Коши развил теорию световых волн, начало которой было положено Огюстеном Жаном Френелем (1788-1827), и распространил ее на явления дисперсии и поляризации света. Коши был превосходнейшим специалистом по математической физике.
Хотя в качестве математика Фурье и уступал таким корифеям, как Гаусс и Коши, полученные им результаты заслуживают особого упоминания, поскольку именно ему удалось распространить могущество математики на еще одно явление природы — теплопроводность. Изучение теплопроводности Земли Фурье считал одной из важнейших проблем космогонии, так как надеялся таким образом показать, что первоначально земной шар находился в расплавленном состоянии. Занимаясь решением этой задачи, Фурье довел до высокой степени совершенства теорию бесконечных тригонометрических рядов (называемых ныне рядами Фурье). Ряды Фурье стали широко применяться в различных областях прикладной математики — значение созданной Фурье теории таких рядов трудно переоценить.
Выдающиеся результаты Гаусса, Коши, Фурье и сотен других математиков, казалось бы, неоспоримо подтверждали, что наука все точнее описывает истинные законы природы. На протяжении столетия самые выдающиеся математики продолжали идти путем, проложенным их предшественниками, разрабатывая все более мощные математические методы и с успехом применяя их к новым разделам естествознания. В неудержимом порыве устремились математики на поиск математических законов природы, словно загипнотизированные убеждением, что именно они призваны раскрыть схему, избранную богом при сотворении мира.
Если бы математики XIX в. прислушались к словам своих собратьев по духу, то разразившаяся вскоре катастрофа не застала бы их врасплох. Еще на заре нового времени Фрэнсис Бэкон отмечал в своем «Новом органоне» («Новый инструмент познания», 1630 г.){38}:
Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде людей, ибо можно утверждать, что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия, как чувства, так и ума, покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде.
([23], т. 2, с. 18.)В том же «Новом органоне» Бэкон утверждает, что наблюдение и экспериментирование являются основой всякого знания:
Никоим образом не может быть, чтобы аксиомы, установленные рассуждением, имели силу для открытия новых дел, ибо тонкость природы во много раз превосходит тонкость рассуждений.
([23], т. 2, с. 15.)Даже самые верующие ученые начали постепенно приходить к отрицанию роли бога как творца «единого плана» природы.
Труды Коперника и Кеплера по созданию гелиоцентрической системы мира, которую они оба рассматривали как свидетельство «математической мудрости» бога, противоречили Священному писанию, ибо они лишали человека избранного положения во Вселенной. Галилей, Роберт Бойль и Ньютон видели цель своей научной работы в доказательстве существования божественного плана и божественного вмешательства во все происходящее в мире, но в их научных исследованиях бог явно не участвовал. Более того, в одном из своих писем Галилей даже утверждал, что «от любого толкования Священного писания проку немного, ибо ни один астроном или естествоиспытатель, действуя в надлежащих рамках, не входит в подобные вопросы». Разумеется, сам Галилей, как мы уже видели, был глубоко убежден в существовании математического плана Вселенной, творцом которого был бог, но приведенный отрывок из его письма показывает, что для объяснения природных явлений Галилей считал недопустимым прибегать к мистике или привлекать сверхъестественные силы. Во времена Галилея все еще бытовало мнение, что всемогущий бог способен произвольно изменять план творения. Декарт же, при всей своей набожности, провозгласил тезис о неизменности законов природы и тем самым неявно ограничил могущество господа бога. Ньютон также считал порядок в мире неизменным, однако поддержание порядка он возлагал на бога, которого сравнивал с часовым мастером, готовым устранить любую неисправность в часовом механизме. У Ньютона были веские основания уповать на божественное провидение. Хотя он знал, что из-за возмущений, вносимых другими планетами, орбита любой планеты отличается от идеального эллипса, ему никак не удавалось доказать математически, что наблюдаемые отклонения вызваны притяжением других планет, и Ньютон считал, что без вмешательства бога, неусыпно следящего за работой мирового механизма, устойчивость Солнечной системы могла бы нарушиться.{39}
Против подобных взглядов Ньютона выступил Лейбниц в своей (предсмертной) переписке с английским священником и философом Сэмюэлем Кларком, которая велась через посредство принцессы Уэльской. В своем первом письме (ноябрь 1715 г.) по поводу ньютоновских представлений о боге, вынужденном время от времени заводить мировые «часы» и устранять неисправности в их механизме, Лейбниц писал:
Г-н Ньютон и его сторонники придерживаются довольно странного мнения о действиях бога… У него не было достаточно предусмотрительности, чтобы придать им [«часам»] беспрерывное движение… По моему представлению, в мире постоянно существует одна и та же сила, энергия, и она переходит лишь от одной части материи к другой, следуя законам природы и прекрасному предусмотренному порядку.
([24], с. 430.)Лейбниц открыто упрекает Ньютона в том, что тот отрицает всемогущество бога. Лейбниц действительно считал Ньютона повинным в упадке религии в Англии.
И здесь Лейбниц не был так уже далек от истины. В идеологии мистика Ньютона бог и религия занимали гораздо больше места, чем у рационалиста Лейбница, но объективно труды Ньютона способствовали освобождению натурфилософии от влияния теологии. Галилей, как мы уже отмечали, также считал, что физика должна развиваться независимо от религии. С этих же позиций написаны и «Математические начала натуральной философии» Ньютона, ставшие значительным шагом на пути к чисто математическому описанию явлений природы. В математических схемах физических теорий богу отводилось все меньше места. Возмущения в траекториях планет, которые составляли загадку для Ньютона, получили почти полное теоретическое обоснование в трудах ученых последующих поколений.
На передний план выступили универсальные законы, чье действие распространялось на движение как небесных, так и земных тел; при этом обнаружилось полное соответствие между предсказаниями и результатами наблюдений, что свидетельствовало о высоком совершенстве таких законов. И после Ньютона было немало ученых, которые усматривали в совершенстве законов природы неоспоримое доказательство мудрости творца, но мало-помалу бог отошел на задний план, а в центр внимания попали математические законы Вселенной. Лейбниц предвидел некоторые следствия из ньютоновских «Начал» — картины мира, функционирующего, с помощью бога или вовсе без него, по единому плану, — и критиковал сочинение Ньютона как антихристианское. На смену стремлению раскрыть замыслы творца пришло стремление получить чисто математические результаты. Хотя многие математики после Эйлера продолжали верить во всемогущего бога, в божественный план мира и главное предназначение математики видели в расшифровке замыслов творца, по мере того как в XVIII в. развивалась математика и множились ее успехи, религиозные мотивы в научном творчестве все более отступали на задний план и присутствие бога становилось все менее ощутимым.
Воспитанные в духе католицизма, Лагранж и Лаплас были агностиками. Лаплас решительно отвергал идею о боге — создателе математического плана Вселенной. О Лапласе рассказывали такую историю. Когда он преподнес в подарок Наполеону экземпляр своей «Небесной механики», тот заметил: «Месье Лаплас, говорят, вы написали эту толстую книгу о системе мира, не упомянув создателя ни единым словом». На что Лаплас якобы ответил: «Мне не понадобилась эта гипотеза».{40} Природа заняла место бога; как сказал Гаусс: «Ты, природа, моя богиня, твоим законам я слуга покорный». Гаусс верил в вечного, всеведущего и всемогущего бога, но мысли о боге он никак не связывал с математикой и исследованием математических законов природы.
Изменения, происшедшие во взглядах на мир, отчетливо ощущаются в следующем замечании Гамильтона по поводу принципа наименьшего действия [гл. III], которое он высказал в статье 1833 г.:
Хотя принцип наименьшего действия считается одной из величайших теорем физики, претензии на его космологическую неизбежность, обоснованные ссылками на экономию в природе, ныне в общем отвергаются. Нежелание признать эти претензии объясняется среди прочего тем, что величина, которая якобы экономится, в действительности нередко расходуется расточительно…{41} Мы не можем поэтому предположить, что экономия предусмотрена в божественной идее нашего мира, хотя можно допустить, что эта идея должна исходить из простоты какого-то высшего рода.
Оглядываясь на прошлое, нетрудно заметить, как постепенно творческая работа самих математиков оттеснила на задний план идею о мире, сотворенном богом на математической основе. Мыслители все более убеждались в том, что человеческий разум способен на многое, — и лучшим тому подтверждением были успехи математики. Почему бы в таком случае не попытаться использовать могущество человеческого разума для обоснования господствующих религиозных и этических учений? И это желательно сделать из самых что ни на есть благих намерений — дабы упрочить эти учения. К счастью или к несчастью, но рационализация основ религиозных вероучений подорвала ортодоксальность многих из них. Религиозные верования, утратив присущую им некогда ортодоксальность, приняли новые формы: рационалистический супернатурализм, деизм, агностицизм — вплоть до воинствующего атеизма. Эти течения оказали влияние на математиков XVIII в., бывших людьми широкой культуры. Происшедшие перемены выразил властитель дум того времени, рационалист и антиклерикал, Дени Дидро: «Если вы хотите, чтобы я поверил в бога, сделайте так, чтобы я мог дотронуться до него рукой». Не все математики XIX в. отрицали роль бога. Правоверный католик Коши утверждал, например, что человек «без колебаний отвергнет любую гипотезу, противоречащую открывшейся ему истине». Тем не менее вера в бога как создателя математического плана Вселенной явно шла на убыль.
Перед мыслителями встал вопрос: почему математические законы природы непременно должны выражать абсолютные истины? Дидро в своих «Мыслях об объяснении природы» (1753) одним из первых отрицал абсолютность математических законов. Математик, утверждал он, подобен игроку: и тот, и другой играет в игры, руководствуясь ими же самими созданными абстрактными правилами. Предмет математического исследования — условность, не имеющая опоры в реальности. Столь же критическую позицию занял в своей работе «Беседы о множественности миров» писатель Бернар Ле Бовье де Фонтэнель (1657-1757). Он подверг критике веру в неизменность законов движения небесных тел, заметив: «Розы тоже не припомнят, чтобы умер хоть один садовник».
Математики предпочитают верить, что именно они создают пищу, которой кормятся философы. Но в XVIII в. в авангарде тех, кто отрицал истины о физическом мире, шли философы. Мы обходим молчанием учения Томаса Гоббса (1588-1679), Джона Локка (1632-1704) и епископа Джорджа Беркли (1685-1753) не потому, что их трудно было бы опровергнуть, а лишь по той причине, что они оказали меньшее влияние на развитие мысли, чем теории более радикально мыслящего Дэвида Юма (1711-1776), который не только воспринял идеи Беркли, но и развил их дальше. В своем «Трактате о человеческой природе» (1739-1740) Юм утверждал, что мы не знаем ни разума, ни материи, и то, и другое — фикции. Мы воспринимаем только ощущения. Простые идеи, такие, как образы, воспоминания и мысли, представляют собой слабый отзвук ощущений. Любая сложная идея есть не что иное, как набор простых идей. Наш разум тождествен имеющемуся у нас набору ощущений и идей. Не следует предполагать существование каких-либо субстанций, кроме тех, которые мы воспринимаем непосредственно на опыте. Всякий опыт порождает только ощущения.
Юм равным образом сомневался и в существовании материи. Кто гарантирует, что перманентно существующий мир материальных предметов не фикция? Все, что мы о нем знаем, — это наши ощущения (впечатления). Из того, что ощущения стула неоднократно воспроизводимы, еще не следует, что стул реально существует. Пространство и время, по Юму, — это способ и порядок постижения идей, а причинность — привычная взаимосвязь идей. Ни пространство, ни время, ни причинность не есть объективная реальность. Сила и яркость наших ощущений вводят нас в заблуждение, заставляя верить в реальность окружающего мира. В действительности же существование окружающего мира с заданными свойствами не более чем умозаключение, в истинности которого мы не можем быть уверенными. Происхождение наших ощущений необъяснимо; мы не можем сказать, что является их источником: реально существующие внешние объекты, разум или бог.
Сам человек, по Юму, — это обособленный набор восприятий, т.е. впечатлений и идей. Он существует только в себе. Субъект суть набор различных восприятий. Любая попытка познать самого себя приводит только к некоторому восприятию. Все остальные люди и предполагаемый внешний мир также являются лишь восприятиями данного субъекта — и нет уверенности, что они действительно существуют.
Следовательно, нет и не может быть научных законов, относящихся к перманентному, объективно существующему физическому миру. Кроме того, поскольку в основе идеи причинности лежит не научное доказательство, а лишь привычка ума, рожденная многократным повторением обычного порядка «событий», мы не можем знать, всегда ли последовательности событий, наблюдавшиеся в прошлом, будут повторяться в будущем. Тем самым Юм отрицал неизбежность, вечность и неизменность законов природы.
Разрушив догмат о существовании внешнего мира, следующего неизменным математическим законам, Юм тем самым разрушил ценность логической дедуктивной схемы, которая представляла реальность для мыслителей последующих поколений. Но математика содержит также и теоремы о числах и геометрию, неоспоримо вытекающие из тех истин о числах и геометрических фигурах, которые положены в основу их изучения. Юм не отвергал аксиом, но их выбор, а значит и результаты, получаемые из них методом дедукции, он ставил под сомнение. Что касается аксиом, то они возникают из тех ощущений, которые мы получаем от предполагаемого физического мира. Теоремы действительно с необходимостью следуют из аксиом, но они представляют собой не более чем усложненные перепевы аксиом. Теоремы являются дедукциями, но дедукциями утверждений, неявно содержащихся в аксиомах. Теоремы не что иное, как тавтологии. Следовательно, ни аксиомы, ни теоремы не могут рассматриваться как абсолютные истины.
Итак, на фундаментальный вопрос о том, каким образом человек постигает истины, Юм отвечает, отрицая само существование истин: к истинам человек прийти не может. Теория Юма не только объявляла несостоятельным все, что было достигнуто в математике и естествознании ранее, но и поставила под сомнение ценность самого разума. Столь откровенное отрицание высшей способности человека было отвергнуто большинством мыслителей XVIII в. Как в математике, так и в других областях человеческой деятельности было слишком много накоплено, чтобы этим безболезненно поступиться, объявив бесполезным грузом весь приобретенный человечеством интеллектуальный багаж. Философия Юма встретила такое резкое неприятие у большинства мыслителей XVIII в., показалась им столь неприемлемой и противоречащей выдающимся успехам математики и естествознания, что возникла острая необходимость в ее опровержении.
Выполнить эту задачу взялся один из наиболее чтимых и глубоких философов всех времен — Иммануил Кант. Но при внимательном рассмотрении выяснилось, что итог его размышлений лишь немного более утешителен, чем философия Юма. В «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука» (1783), Кант, казалось, встал на сторону математиков и естествоиспытателей:
Мы можем с достоверностью сказать, что некоторые чистые априорные синтетические познания имеются и нам даны, а именно чистая математика и чистое естествознание, потому что оба содержат положения, частью аподиктически достоверные на основе одного только разума, частью же на основе общего согласия из опыта и тем не менее повсеместно признанные независимыми от опыта.
([18], т. 4, ч. 1, с. 89.)«Критика чистого разума» (1781) Канта начинается еще более обнадеживающими словами. Кант утверждает, что все аксиомы и теоремы математики истинны. Но почему, спрашивает Кант, мы так охотно принимаем эти истины? Ясно, что опыт сам по себе не делает математические утверждения истинными. На интересующий нас вопрос можно было бы ответить, если бы мы знали ответ на более общий вопрос: возможна ли сама наука математика? На этот вопрос Кант ответил так: наш разум сам по себе владеет формами пространства и времени. Пространство и время представляют собой разновидности восприятия (Кант называл их интуитивными представлениями), посредством которых разум созерцает опыт. Мы воспринимаем, организуем и осознаем опыт в соответствии с этими формами созерцания. Опыт входит в них, как тесто в формочки для печенья. Разум накладывает формы созерцания на полученные им чувственные восприятия, вынуждая те подстраиваться под заложенные в нем схемы. Так как интуитивное представление о пространстве берет свое начало в разуме, некоторые свойства пространства разум воспринимает автоматически. Такие утверждения, как «прямая — кратчайший путь между двумя точками», «через три точки, не лежащие на одной прямой, можно провести плоскость, и притом только одну», или как аксиома Евклида о параллельных, Кант называет априорными искусственными истинами. Они составляют неотъемлемую часть нашего умственного багажа. Геометрия занимается изучением лишь логических следствий из таких утверждений. Уже одно то, что наш разум созерцает опыт через изначально присущие ему «пространственные структуры», означает, что опыт согласуется с априорными синтетическими истинами и теоремами. Порядок и рациональность, которые мы, как нам кажется, воспринимаем во внешнем мире, в действительности проецируются на внешний мир нашим разумом и формами нашего мышления.
Конструируя пространство на основе работы клеток головного мозга человека, Кант не видел причин для отказа от евклидова пространства. Собственную неспособность представить другие геометрии Кант счел достаточным основанием, чтобы утверждать, что другие геометрии не могут существовать. Таким образом, нельзя утверждать, что законы евклидовой геометрии изначально присущи миру или что мир создан богом на основе евклидовой геометрии: законы евклидовой геометрии представляют собой лишь механизм, с помощью которого человек организует и рационализирует свои ощущения. Что же касается бога, то, по мнению Канта, природа божественного лежит за пределами рационального знания, хоть он и считал веру в бога обязательной. Глубина философских воззрений Канта, пожалуй, была превзойдена лишь ограниченностью его геометрических представлений. Прожив всю жизнь в Кенигсберге, в Восточной Пруссии, и не выезжая из него далее чем на шестьдесят километров, Кант тем не менее считал себя способным мысленно представить геометрию Вселенной.{42}
А как обстояло дело с математическими законами естествознания? Так как весь наш опыт вкладывается в формы чистого созерцания — пространство и время, математика должна быть применима ко всякому опыту. В «Метафизических начальных основаниях естествознания» (1786) Кант признал законы Ньютона и следствия из них самоочевидными. По утверждению Канта, ему удалось доказать, что законы Ньютона выводятся на основании чистого разума и что они не более чем допущения, позволяющие понять природу. Ньютон, по словам Канта, «позволил нам составить ясное представление о структуре Вселенной, которая во все времена будет одной и той же».
В более общем плане рассуждения Канта сводились к следующему. Мир науки — это мир чувственных ощущений, упорядоченных и управляемых разумом в соответствии с такими врожденными категориями, как пространство, время, причина и следствие, субстанция. Разум содержит своего рода «ложа», на которые должны укладываться «гости» извне. Чувственные ощущения рождаются в реальном мире, но, к сожалению, этот мир непознаваем. Реальность может быть познана только в субъективных категориях, создаваемых воспринимающим ее разумом. Следовательно, к организации опыта нет иного пути, кроме евклидовой геометрии и ньютоновской механики. По мере возникновения новых наук опыт расширяется, но разум формулирует новые принципы, не обобщая новые опытные данные, а используя для их интерпретации ранее бездействующие «ложа». Способность разума созерцать раскрывается только в том случае, если ее питает опыт. Этим объясняется относительно позднее познание некоторых истин, например законов механики, по сравнению с другими истинами, известными на протяжении многих столетий.
Философия Канта, которую мы здесь едва затронули, воздавала хвалу человеческому разуму, но отводила ему роль инструмента познания не природы, а тайников человеческого ума. Опыт получил должное признание как необходимый элемент познания, так как ощущения, поступающие из внешнего мира, Кант считал сырым материалом, который упорядочивается и организуется разумом. Математика обрела свое место, став открывателем необходимых законов разума.
Представление о математике как о своде априорных истин было созвучно умонастроениям математиков. Но большинство из них не обратило внимания на то, каким образом Кант пришел к своим заключениям. По теории Канта, все утверждения математики не являются неотъемлемыми признаками физического мира, а создаются человеческим разумом. Такой вывод должен был бы насторожить математиков. Откуда известно, что разум всех людей устроен так, что организует ощущения совершенно одинаково и что организация пространственных ощущений непременно должна быть евклидовой? Какие мы имеем основания это утверждать? В отличие от Канта математики и физики продолжали верить во внешний мир, подчиняющийся законам, не зависящим от человеческого разума. Мир устроен рационально, считали они, и человек лишь раскрывает план, лежащий в основе мироздания, а далее, пользуясь этим планом, пытается предсказывать то, что происходит во внешнем мире.
Философия Канта и его авторитет раскрепостили и одновременно ограничили научно-философскую мысль. Подчеркивая силу разума как организующего начала в упорядочении чувственного опыта о мире, который нам не дано узнать доподлинно, Кант проложил путь к новым представлениям, в корне противоположным тем, которые в его время считались твердо установленными. Но упорно подчеркивая, что наш разум с необходимостью организует пространственные ощущения в соответствии с законами евклидовой геометрии, Кант тем самым тормозил формирование иных взглядов.{43} Если бы Кант с большим вниманием следил за тем, как развивались события в современной ему математике, то, возможно, он не стал бы настаивать на том, что упорядочивание пространственных ощущений по образу и подобию евклидовой геометрии является единственным, которое может допустить наш разум.
Безразличие к богу и даже лишение его роли творца законов мироздания, а также кантианские взгляды на эти законы как якобы присущие самой природе человеческого разума «вызвали реакцию» со стороны творца всего сущего. Бог решил наказать кантианцев, и особенно этих самодовольных, погрязших в гордыне и чрезмерно самоуверенных математиков, и «подбросил» им неевклидову геометрию, возникновение которой нанесло сокрушительный удар по достижениям человеческого разума, всемогущего и, казалось бы, не нуждающегося ни в чьей помощи.
Хотя к началу XIX в. роль бога становилась все менее ощутимой и некоторые радикально настроенные философы, например Юм, отрицали все истины, математики того времени по-прежнему продолжали верить в истинность собственно математики и математических законов природы. Евклидова геометрия была наиболее почитаемым разделом математики не только потому, что именно с нее началось дедуктивное построение математических дисциплин, но и по той причине, что ее теоремы, как было установлено на протяжении более двух тысячелетий, полностью соответствовали результатам физических исследований. И именно евклидову геометрию «бог» избрал объектом нападения.
Одна из аксиом евклидовой геометрии издавна беспокоила математиков, однако совсем не потому, что они сомневались в ее истинности. Сомнения вызывала у них лишь формулировка аксиомы. Мы имеем в виду аксиому о параллельных, или, как ее часто называют, пятый постулат Евклида. Сам Евклид сформулировал пятый постулат следующим образом:
Если прямая, падающая на две прямые [рис. 4.1], образует внутренние и по одну сторону углы, меньшие двух прямых, то продолженные эти две прямые неограниченно встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых.
([25], книги I-VI, с. 15.)Рис. 4.1. Пятый постулат Евклида.
Иначе говоря, если углы 1 и 2 в сумме меньше 180°, то прямые а и b, продолженные достаточно далеко, пересекутся.
У Евклида были веские основания сформулировать аксиому о параллельных именно так, а не иначе. Он мог бы утверждать, например, что если сумма углов 1 и 2 равна 180°, то прямые а и b параллельны. Но Евклид явно боялся предположить, что могут существовать бесконечные прямые, которые никогда не пересекаются: любое утверждение о бесконечных прямых не подкреплялось опытом, в то время как аксиомы по определению должны были быть самоочевидными истинами о физическом мире. Но опираясь на свою аксиому о параллельных и другие аксиомы, Евклид доказал существование параллельных.
Математики считали, что аксиома о параллельных в том виде, как ее сформулировал Евклид, слишком сложна. Ей недоставало простоты других аксиом. Должно быть, и сам Евклид был недоволен своим вариантом аксиомы о параллельных, ибо обратился к ней, лишь доказав все теоремы, какие только смог вывести без ее использования.
Со временем стала жизненно важной сходная проблема, над которой поначалу задумывались лишь немногие. Она сводилась к вопросу о том, существуют ли в физическом пространстве бесконечные прямые. Евклид достаточно осторожно постулировал лишь, что конечный отрезок прямой можно продолжить сколь угодно далеко, — но ведь даже и продолженный отрезок все равно оставался конечным. Тем не менее из рассуждений Евклида следовало, что бесконечные прямые существуют: если бы прямые были конечными, то их нельзя было бы продолжать сколь угодно далеко.
Первые попытки решить проблему, связанную с аксиомой Евклида о параллельных, были предприняты еще математиками Древней Греции. Эти попытки имели двоякую природу. Одни из них сводились к замене аксиомы о параллельных какой-нибудь более очевидной аксиомой. Другие были направлены на то, чтобы вывести аксиому о параллельных из девяти остальных аксиом Евклида: если бы удалось доказать, что пятый постулат Евклида в действительности представляет собой теорему, то все трудности отпали бы сами собой. На протяжении более двух тысячелетий многие десятки крупнейших математиков, не говоря уже о математиках меньшего ранга, безуспешно пытались решить проблему параллельных, предпринимая бессчетные попытки как первого, так и второго рода. История этой проблемы уходит корнями в глубокую древность и изобилует деталями, понятными лишь профессионалу. Мы опустим здесь ее потому, что ей посвящена обширная литература{44}, и, кроме того, этот вопрос не имеет прямого отношения к интересующей нас теме.
Из многих аксиом, предлагавшихся в качестве замены пятого постулата, упомянем лишь об одной. Ее и поныне приводят в некоторых учебниках геометрии. Этот вариант аксиомы о параллельных принадлежит Джону Плейферу (1748-1819), предложившему ее в 1795 г. (в английском «школьном» варианте «Начал» Евклида). Аксиома Плейфера гласит: существует одна и только одна прямая, проходящая через данную точку P, лежащую вне прямой l (рис. 4.2), в плоскости, задаваемой точкой P и прямой l, которая не пересекается с прямой l.
Рис. 4.2. Вариант аксиомы о параллельных, предложенный Джоном Плейфером.
Все аксиомы, предлагавшиеся вместо пятого постулата, на первый взгляд казались проще аксиомы Евклида, но при более внимательном рассмотрении оказывались не более удовлетворительными. Многие из них, в том числе и аксиома Плейфера, содержали утверждения, касающиеся не ограниченной части плоскости или пространства, а всего (бесконечного!) пространства. С другой стороны, аксиомы, предлагавшиеся взамен пятого постулата, которые не содержали прямого упоминания о «бесконечности» — например, аксиома о том, что существует два подобных, но не равных треугольника, — были слишком сложными и, во всяком случае, не были более предпочтительными, чем аксиома о параллельных, приведенная в «Началах» Евклида.
Вместе с тем были предприняты попытки решить проблему параллельных, доказав пятый постулат Евклида, исходя из остальных девяти аксиом. Наиболее значительные результаты здесь получил Джироламо Саккери (1667-1733), священник, член ордена иезуитов и профессор университета в Павии. Идея Саккери состояла в том, чтобы, заменив аксиому Евклида о параллельных ее отрицанием, попытаться вывести теорему, которая бы противоречила одной из доказанных Евклидом теорем. Полученное противоречие означало бы, что аксиома, отрицающая аксиому Евклида о параллельных — единственную аксиому, вызывавшую сомнения, — ложна, а следовательно, аксиома о параллельных Евклида истинна и является следствием девяти остальных аксиом.
Приняв за исходную аксиому Плейфера, эквивалентную аксиоме Евклида о параллельных, Саккери сначала предположил{45}, что через точку P, лежащую вне прямой l (рис. 4.3), не проходит ни одна прямая, параллельная прямой l. Из этой аксиомы и девяти остальных аксиом, принятых Евклидом, Саккери вывел противоречие. Затем Саккери испробовал вторую и единственно возможную альтернативу, предположив, что через точку P проходят по крайней мере две прямые p и q, не пересекающиеся с прямой l, сколько бы их ни продолжали.
Рис. 4.3. Аксиома, принятая основоположниками неевклидовой геометрии (Саккери и др.).
Исходя из этой аксиомы, Саккери удалось доказать много интересных утверждений, пока он не дошел до теоремы, показавшейся ему настолько странной, что он счел ее противоречащей ранее полученным результатам. Решив, что ему удалось тем самым доказать выводимость пятого постулата Евклида из девяти остальных аксиом, Саккери выпустил книгу под многозначительным названием «Евклид, избавленный от всяких пятен» (Euclides ab omni naevo vindicatus, 1733). Однако впоследствии математики выяснили, что во втором случае Саккери в действительности не пришел к противоречию и что, следовательно, проблема параллельных по-прежнему остается открытой. Попытки найти подходящую замену евклидовой аксиоме о параллельных или доказать, что она следует из девяти остальных аксиом, были столь многочисленны и тщетны, что в 1759 г. Д'Аламбер назвал проблему параллельных «скандалом в области оснований геометрии».
Постепенно математики начали приходить к правильному пониманию статуса аксиомы Евклида о параллельных. В своей докторской диссертации 1763 г. Георг С. Клюгель (1739-1812), впоследствии профессор университета в Хельмштадте, отлично осведомленный и о книге Саккери, и о многих других попытках «исправить» аксиому о параллельных, высказал весьма ценное соображение о том, что принятие большинством людей аксиомы Евклида о параллельных как истины, не подлежащей сомнению, основано на опыте. Так впервые была явно сформулирована идея о том, что весомость аксиом определяется их соответствием опыту, а не самоочевидностью.{46} Клюгель выразил сомнение в том, что пятый постулат Евклида можно вывести из остальных аксиом. Более того, Клюгель понял, что Саккери пришел не к противоречию, а лишь к результатам, поразившим его своей необычностью.
Диссертация Клюгеля привлекла внимание одного из крупнейших математиков XVIII в. — Иоганна Генриха Ламберта (1728-1777), и тот также принялся размышлять над проблемой параллельных. В своей книге «Теория параллельных прямых» (написанной в 1766 г. и опубликованной в 1786 г.) Ламберт, подобно Саккери, рассмотрел две альтернативные возможности. И он также обнаружил, что гипотеза, согласно которой через точку P вне прямой l (см. рис. 4.3) не проходит ни одна прямая, параллельная прямой l, приводит к противоречию. Но в отличие от Саккери Ламберт не считал, что альтернативная гипотеза (согласно которой через точку P проходят по крайней мере две прямые, параллельные прямой l) приводит к противоречию. Более того, Ламберт понял, что любой набор гипотез, который не приводит к противоречию, порождает некую геометрию. Такая геометрия логически непротиворечива, хотя и не имеет прямого отношения к реальным, физическим фигурам.{47}
Работа Ламберта и некоторых других авторов, в частности учителя Гаусса, профессора Гёттингенского университета Абрахама Г. Кестнера (1719-1800), заслуживают особого упоминания. Эти ученые были убеждены, что пятый постулат Евклида невозможно доказать, исходя из девяти остальных его аксиом, т.е. утверждали, что аксиома о параллельных независима от остальных аксиом. Кроме того, Ламберт был убежден, что, приняв альтернативную аксиому, противоречащую аксиоме Евклида, можно построить логически непротиворечивую геометрию, хотя и не высказал каких-либо утверждений о применимости такой геометрии. Все трое — Клюгель, Ламберт и Кестнер — близко подошли к признанию возможности неевклидовой геометрии.
Самым выдающимся математиком среди тех, кто работал над решением проблемы, возникшей в связи с аксиомой Евклида о параллельных, был Гаусс. Он прекрасно знал о безуспешных попытках доказать или опровергнуть аксиому о параллельных, ибо такого рода сведения не составляли секрета для гёттингенских математиков. Историю проблемы параллельных досконально знал учитель Гаусса Кестнер. Много лет спустя (1831) Гаусс сообщил своему другу Шумахеру, что еще в 1792 г. (когда Гауссу было всего лишь 15 лет) он понял возможность существования логически непротиворечивой геометрии, в которой постулат Евклида о параллельных не выполняется. Но вплоть до 1799 г. Гаусс не прекращал попыток вывести постулат Евклида о параллельных из других, более правдоподобных допущений и считал евклидову геометрию истинной геометрией физического пространства, хотя и сознавал возможность существования других логически непротиворечивых — неевклидовых — геометрий. Однако в письме Гаусса к другу и собрату по профессии Фаркашу Бойаи от 16 декабря 1799 г. мы читаем:
Я лично далеко продвинулся в моих работах (хотя другие занятия, совершенно не связанные с этой темой, оставляют мне для этого мало времени). Однако дорога, которую я выбрал, ведет скорее не к желательной цели, а к тому, чтобы сделать сомнительной истинность геометрии. Правда, я достиг многого, что для большинства могло бы сойти за доказательство, но это не доказывает в моих глазах ровно ничего; например, если бы кто-либо мог доказать, что возможен такой прямоугольный треугольник, площадь которого больше любой заданной, то я был бы в состоянии строго доказать всю геометрию.
Большинство сочтет это за аксиому, я же нет. Так, могло бы быть, что площадь всегда будет ниже некоторого данного предела, сколь бы удаленными друг от друга в пространстве ни были предположены три вершины треугольника.
([24], с. 101-102.)Примерно с 1813 г. Гаусс начал работать над своей неевклидовой геометрией, которую он называл сначала антиевклидовой, затем астральной (т.е. звездной — возможно, выполняющейся на далеких звездах; это название принадлежало Фердинанду Карлу Швейкарту (1780-1859), независимо от Гаусса пришедшему к тем же идеям) и, наконец, неевклидовой геометрией. Гаусс пришел к убеждению, что построенная им геометрия логически непротиворечива и применима к физическому миру.
В письме от 8 ноября 1824 г. к своему другу Францу Адольфу Тауринусу (1794-1874) Гаусс сообщал:
Допущение, что сумма углов треугольника меньше 180°, приводит к своеобразной, отличной от нашей [евклидовой] геометрии; эта геометрия совершенно последовательна; я развил ее для себя совершенно удовлетворительно… Предложения этой геометрии отчасти кажутся парадоксальными и непривычными человеку, даже несуразными; но при строгом и спокойном размышлении оказывается, что они не содержат ничего невозможного.
([24], с. 105.)В письме к математику и астроному Фридриху Вильгельму Бесселю, отправленному 27 января 1829 г., Гаусс еще раз высказал убеждение, что постулат о параллельных не может быть выведен из других аксиом Евклида.
Мы не будем подробно рассматривать специфические особенности того варианта неевклидовой геометрии, который был создан Гауссом (см., например, [28], с. 193-294). Он не оставил полного дедуктивного изложения своей теории, а доказанные им теоремы во многом напоминали те, с которыми мы вскоре встретимся, когда перейдем к работам Лобачевского и Бойаи. В письме к Бесселю Гаусс признается, что вряд ли когда-нибудь опубликует свои открытия в этой области, опасаясь, как он выразился, вызвать крики беотийцев (беотийцы — древнегреческое племя, чья тупость вошла в поговорку). Не следует забывать, что в начале XIX в. лишь немногие математики постепенно подошли к заключительному этапу создания неевклидовой геометрии, а мыслящий мир в основном пребывал в уверенности, что евклидова геометрия — единственно возможная. То немногое, что нам известно о работах Гаусса по неевклидовой геометрии, собрано по крохам из его писем к друзьям, двух коротких заметок в Göttingische gelehrte Anzeigen за 1816 г. и 1822 г. и из нескольких записей, датированных 1831 г., найденных среди бумаг Гаусса после его смерти.
Но более значительный вклад, чем Гаусс, в создание неевклидовой геометрии внесли два других математика: Н.И. Лобачевский и Я. Бойаи (Я. Больяй). В действительности их работы явились как бы эпилогом длительного развития новаторских идей, высказанных их предшественниками, однако, поскольку Лобачевский и Бойаи первыми опубликовали дедуктивные изложения новой системы, их принято считать создателями неевклидовой геометрии. Русский математик Николай Иванович Лобачевский (1792-1856) учился в Казанском университете, где впоследствии (1827-1846) он состоял профессором и ректором. Его взгляды на основании геометрии сложились к 1826 г., и он изложил их в цикле статей и двух книгах. Янош Бойаи (1802-1860), сын Фаркаша Бойаи, был офицером австро-венгерской армии. Свою работу (объемом в 26 страниц) по неевклидовой геометрии [29] под названием «Приложение, содержащее науку о пространстве, абсолютно истинную, не зависящую от истинности или ложности XI аксиомы Евклида, что a priori никогда решено быть не может, с прибавлением, к случаю ложности, геометрической квадратуры круга» Бойаи опубликовал в качестве приложения к первому тому латинского сочинения своего отца «Опыт введения учащегося юношества в начала чистой математики» (Tentamen juventutem studiosam in elementa Matheoseos). Хотя эта книга вышла в 1831-1832 гг.{48}, т.е. после первых публикаций Лобачевского, вышедших в свет в 1829-1830 гг., Я. Бойаи, по-видимому, разработал свои идеи о неевклидовой геометрии уже в 1825 г. и убедился, что новая геометрия непротиворечива. В письме к отцу от 23 ноября 1823 г. Янош сообщает: «Я совершил столь чудесные открытия, что не могу прийти в себя от восторга».
Гаусс, Лобачевский и Бойаи поняли, что аксиома Евклида о параллельных не может быть доказана на основе девяти остальных аксиом и что для обоснования евклидовой геометрии необходимо принять какую-то дополнительную аксиому о параллельных. А поскольку дополнительная аксиома не зависит от остальных, то, во всяком случае, логически вполне допустимо принять противоположное ей утверждение — и далее выводить следствия из новой системы аксиом.
С чисто математической точки зрения содержание работ Гаусса, Лобачевского и Бойаи очень просто. Мы ограничимся здесь рассмотрением варианта неевклидовой геометрии, предложенного Лобачевским, так как все трое сделали по существу одно и то же. Лобачевский смело отверг аксиому Евклида о параллельных и принял допущение, высказанное еще Саккери. Пусть задана прямая AB и точка P вне ее (рис. 4.4). Тогда все прямые, проходящие через точку P, распадаются по отношению к прямой AB на два класса: класс прямых, пересекающих AB, и класс прямых, которые AB не пересекают. К числу последних принадлежат две прямые p и q, разделяющие наши два класса прямых. Сказанному можно придать более точный смысл. Если P — точка, находящаяся от прямой AB на расстоянии а (а — длина перпендикуляра PD, опущенного из точки P на прямую AB), то существует острый угол α, такой, что все прямые, составляющие с перпендикуляром PD угол, меньший α, пересекаются с прямой AB, а все прямые, составляющие с PD угол, больший или равный α, не пересекаются с AB. Две прямые p и q, образующие с PD угол α, называются параллельными по Лобачевскому прямой AB, а угол α = (α(a)) называется углом параллельности (отвечающим отрезку PD = a). Прямые, проходящие через точку P (отличные от параллельных прямых p и q) и не пересекающиеся с прямой AB, называются расходящимися с AB прямыми (или сверхпараллельными ей; в евклидовой геометрии они были бы параллельны прямой AB). Если понимать параллелизм по Евклиду, т.е. называть параллельными любые две прямые, которые лежат в одной плоскости и не пересекаются между собой, то в геометрии Лобачевского через точку P проходит бесконечно много прямых, параллельных AB.
Рис. 4.4. Угол параллельности.
Затем Лобачевский доказывает несколько ключевых теорем. Если угол α равен π/2, то мы приходим к евклидовой аксиоме о параллельных. Если угол α острый, то при неограниченном росте a он монотонно убывает и стремится к нулю. Сумма углов треугольника всегда меньше 180° и стремится к 180°, когда площадь треугольника неограниченно убывает. Два подобных треугольника, имеющих одинаковые углы, всегда конгруэнтны.
Ни один обширный раздел математики и даже ни один крупный математический результат никогда не были детищем лишь одного какого-либо человека. В лучшем случае кто-то один делал решающий шаг или высказывал ту или иную важную идею. Также и неевклидова геометрия развивалась совместными усилиями многих известных и неизвестных математиков. Если под неевклидовой геометрией понимать вывод следствий из системы аксиом, содержащей опровержение евклидовой аксиомы о параллельных, то честь ее создания следует приписать Саккери, причем даже он использовал результаты многих своих предшественников, пытавшихся найти подходящую замену аксиоме Евклида. Если под неевклидовой геометрией понимать осознание возможности других геометрий, отличных от евклидовой, то пальму первенства в ее создании следует отдать Клюгелю и Ламберту.{49} Но самое важное утверждение о неевклидовой геометрии состоит в том, что она точно так же, как и евклидова геометрия, позволяет описывать свойства физического пространства. Геометрия физического пространства вовсе не обязательно должна быть евклидовой; более того, тот факт, что в физическом пространстве реализуется именно евклидова геометрия, нельзя гарантировать никакими априорными соображениями.{50} Осознание этого важного факта не требует никаких математических ухищрений, потому что все необходимое уже было сделано раньше, и первым, кто постиг эту истину, был Гаусс.{51}
Один из биографов Гаусса утверждает, что тот пытался проверить свой вывод о пригодности неевклидовой геометрии к описанию реального мира. Гаусс обратил внимание на то, что в евклидовой геометрии сумма углов треугольника равна 180°, а в неевклидовой — меньше 180°. В течение нескольких лет Гаусс занимался топографической съемкой Ганновера и имел доступ ко всем данным, полученным при съемке. Вполне возможно, что он воспользовался этими данными для проверки суммы углов треугольника. В знаменитой работе от 1827 г. Гаусс отметил, что сумма углов треугольника, образованного тремя горными вершинами, Брокеном, Хоэхагеном и Инзельбергом, превышает 180° примерно на 15". Этот результат сам по себе ничего не доказывал, так как ошибки измерения были гораздо больше 15"; поэтому правильное значение суммы углов вполне могло быть равно 180° или быть меньше 180°. Гаусс, по-видимому, понимал, что выбранный им треугольник слишком мал для решающей проверки, так как в его (Гаусса) неевклидовой геометрии отклонение суммы углов треугольника от 180° пропорционально площади треугольника. Существенное отклонение от 180° можно было бы обнаружить в треугольнике гигантских размеров, какие возможны разве что в астрономии. И все же Гаусс был убежден, что новая геометрия применима к описанию физического мира ничуть не хуже, чем евклидова геометрия.
Лобачевского также интересовала проблема применимости его геометрии к физическому пространству — и он аргументировал ее применимость к геометрическим фигурам очень больших размеров. Таким образом, к 30-м годам XIX в. неевклидову геометрию не только признали в узком кругу математиков, но и сочли применимой к физическому пространству.
Вопрос о том, какая геометрия лучше всего соответствует физическому пространству (этот вопрос больше всего волновал Гаусса), способствовал появлению еще одного творения человеческого разума — новой геометрии, еще более склонившей математический мир к убеждению, что геометрия физического пространства может быть неевклидовой. Создателем новой геометрии стал Георг Барнхард Риман (1826-1866), ученик Гаусса, занявший впоследствии пост профессора математики в Гёттингене. Хотя работы Лобачевского и Бойаи не были в деталях известны Риману, о них был осведомлен Гаусс, и Риман, возможно, знал о сомнениях своего учителя относительно того, что геометрия реального мира непременно должна быть евклидовой.
Гаусс предложил Риману выбрать для пробной лекции, которую тот должен был прочитать для получения звания приват-доцента, тему об основаниях геометрии. Риман прочитал свою лекцию в 1854 г. на философском факультете Гёттингенского университета. На лекции присутствовал и Гаусс. В 1868 г. — уже после смерти Римана — его лекция была опубликована под названием «О гипотезах, лежащих в основаниях геометрии» ([24], с. 309-325). В ней Риман подробно анализировал проблему структуры пространства. Сначала он рассмотрел вопрос о том, что достоверно известно о физическом пространстве. Риман поставил вопрос так: какие данные и условия заранее заложены в самом понятии пространства до того, как мы опытным путем устанавливаем, какими свойствами может обладать физическое пространство? Из этих данных и условий, приняв их за аксиомы, Риман намеревался вывести остальные свойства пространства. Аксиомы и логические следствия из них можно было бы считать априорными и необходимыми истинами. Все остальные свойства пространства подлежали эмпирическому исследованию. Риман попытался показать (и в этом состояла одна из главных целей его программы), что аксиомы Евклида в действительности имеют эмпирическое происхождение, а не являются самоочевидными истинами. Риман избрал аналитический подход (опирающийся на математический анализ и некоторые его высшие разделы) из опасения, что при геометрических доказательствах нас могут вводить в заблуждение чувственные восприятия и мы можем предположить такие свойства и факты, которые явно не участвуют в доказательстве.
Предложенный Риманом подход к анализу структуры пространства отличался большой общностью, и для наших целей нет необходимости входить здесь в его детали. Исследуя априорные свойства пространства, Риман ввел некое представление, которое впоследствии стало еще более важным, а именно различие между отсутствием границ («безграничностью») и бесконечностью пространства. (Например, поверхность сферы не имеет границ, но она не бесконечна.) Безграничность, подчеркнул Риман, на эмпирическом уровне воспринимается легче, чем бесконечная протяженность.
Идея Римана о пространстве, не имеющем границ, но не бесконечно протяженном, послужила стимулом к созданию еще одной элементарной неевклидовой геометрии, известной ныне под названием удвоенной эллиптической геометрии.{52} Сначала и сам Риман и Эудженио Бельтрами (1835-1900) рассматривали новую геометрию как применимую к некоторым поверхностям, например таким, как сфера, на которой роль «прямых» играют дуги больших кругов. Но под влиянием работ Кэли и других авторов математикам пришлось примириться с мыслью, что удвоенная эллиптическая геометрия, как и геометрия Гаусса, Лобачевского и Бойаи, может описывать наше трехмерное физическое пространство, в котором роль прямой играет след, оставленный краем линейки.
В удвоенной эллиптической геометрии прямая не ограничена, хотя длина ее не бесконечна. Более того, в удвоенной эллиптической геометрии вообще нет параллельных. Так как в новой геометрии остается в силе часть аксиом евклидовой геометрии, некоторые ее теоремы сохраняют тот же вид, что и теоремы, известные нам из «Начал» Евклида. Например, теорема о том, что два треугольника конгруэнтны, если две стороны и угол, заключенный между ними, одного треугольника равны двум сторонам и углу, заключенному между ними, другого треугольника, дословно переносится в удвоенную эллиптическую геометрию, как и другие признаки конгруэнтности треугольников. Но основная часть теорем удвоенной эллиптической геометрии отличается как от теорем евклидовой геометрии, так и от теорем геометрии Гаусса — Лобачевского — Бойаи. Так, одна из теорем этой необычной геометрии утверждает, что все прямые имеют одинаковую длину и каждые две из них пересекаются в двух точках. Другая теорема гласит, что все перпендикуляры к данной прямой пересекаются в двух точках. Сумма углов треугольника в удвоенной эллиптической геометрии всегда больше 180°, но она, убывая, стремится к 180°, когда площадь треугольника приближается к нулю. Два подобных треугольника обязательно конгруэнтны. Что же касается применимости удвоенной эллиптической геометрии к физическому миру, то все аргументы относительно применимости ранее созданной неевклидовой геометрии, впоследствии получившей название гиперболической геометрии, равным образом относятся и к ней.{53}
На первый взгляд мысль о том, что любая из этих странных геометрий могла бы соперничать с евклидовой геометрией и даже быть более ценной в приложениях к реальной Вселенной, кажется нелепой. Но Гаусс имел смелость рассмотреть и такую возможность. Независимо от того, использовал ли он результаты измерений, приведенные в его работе 1827 г., для проверки применимости неевклидовой геометрии к реальному миру, Гаусс был первым, кто не только с уверенностью заявил, что неевклидова геометрия применима к физическому пространству, но и осознал, что мы более не можем быть уверены в истинности евклидовой геометрии. Трудно утверждать, находился ли Гаусс под непосредственным влиянием идей Юма. Во всяком случае, предпринятую Кантом попытку опровергнуть Юма Гаусс не считал достаточно серьезной. Не следует забывать, однако, что Гаусс жил во времена, когда истинность математических законов была поставлена под сомнение, и он не мог не ощущать влияния той духовной атмосферы, в которой он жил, как все мы не можем не дышать воздухом, который нас окружает. Новые взгляды, пусть незаметно для него самого, проникали в сознание Гаусса. Если бы Саккери родился на сто лет позже, возможно, и он пришел бы к тем же выводам, что и Гаусс.
Насколько можно судить, сначала Гаусс сделал заключение, что во всей математике нет ничего истинного. В письме к Бесселю от 21 ноября 1811 г. он утверждал:
Не следует забывать о том, что эти функции [комплексного переменного], подобно всем математическим конструкциям, являются всего лишь нашими творениями и что в тот момент, когда утрачивает смысл определение, с которого мы начали разработку их теории, следует спрашивать себя, не «что такое эти функции», а какое допущение удобнее принять, чтобы введенное нами понятие функции сохранило смысл.
Но отказаться от сокровищ было не так-то легко. Гаусс, по-видимому, подверг пересмотру проблему истины в математике и счел, что он нашел твердую почву, на которой можно возводить фундамент. В письме Гаусса к Генриху Вильгельму Ольберсу (1758-1840), написанному в 1817 г., говорится:
Я все более убеждаюсь в том, что [физическая] необходимость нашей [евклидовой] геометрии не может быть доказана, по крайней мере человеческим разумом и для человеческого разума. Может быть, на том свете мы сможем постичь структуру пространства, пока непостижимую. А до тех пор геометрию надлежит помещать в один класс не с арифметикой, носящей чисто априорный характер, а с механикой, истины которой требуют экспериментальной проверки.
Гаусс в отличие от Канта не считал законы механики истинами. Как и большинство ученых, Гаусс разделял взгляды Галилея, утверждавшего, что эти законы основаны на опыте. В письме Гаусса Бесселю от 9 апреля 1830 г. содержится следующее признание:
По моему глубокому убеждению теория пространства занимает в нашем знании совершенно иное место, нежели чистая математика [оперирующая с числами]. Во всем нашем знании нет ничего такого, что сколько-нибудь убедительно доказывало бы абсолютную необходимость (и следовательно, абсолютную истинность), столь характерную для чистой математики. Нам остается лишь смиренно добавить, что если число — это продукт нашего разума, то пространство — это реальность, лежащая вне нашего разума, которой мы не можем предписывать свои законы.
Гаусс считал носителем истины арифметику и, следовательно, основанные на арифметике алгебру и математический анализ (дифференциальное и интегральное исчисление и высшие разделы анализа), так как арифметические истины легко постигаются нашим разумом.
Мысль о том, что евклидова геометрия — это геометрия реального пространства, т.е. абсолютная истина о пространстве, настолько глубоко вошла в сознание людей, что любые идеи противоположного толка, в частности идеи Гаусса, на протяжении многих лет отвергались. Математик Георг Кантор говорил о законе сохранения невежества. Не так-то легко опровергнуть любое неверное заключение, коль скоро к нему пришли и оно получило достаточно широкое распространение, причем чем менее оно понятно, тем более упорно его придерживаются. На протяжении почти тридцати лет после выхода в свет работ Н.И. Лобачевского и Я. Бойаи математики, за редкими исключениями, игнорировали неевклидовы геометрии: их считали своего рода курьезом. Некоторые математики не отрицали, что неевклидовы геометрии логически непротиворечивы; другие же были убеждены, что новые геометрии не могут не содержать противоречий и потому бесполезны.{54} Почти все математики считали, что единственно верной геометрией физического пространства должна быть евклидова геометрия.
Однако математики забыли о боге — и всемогущий геометр не стал открывать им, какой из нескольких конкурирующих геометрий он руководствовался при сотворении мира. Математикам не оставалось ничего другого, как попытаться установить истинную геометрию мира своими силами. Но вот после смерти Гаусса в 1858 г., когда его репутация была необычайно высокой, становятся известными материалы, обнаруженные среди бумаг «короля математиков», а опубликованная в 1868 г. лекция Римана (1854) убеждает многих математиков в том, что и неевклидова геометрия может быть геометрией физического пространства и что любые априорные утверждения о том, какая из геометрий является истинной, лишены всяких оснований. Уже одно то, что появились несколько противоречащих друг другу геометрий, само по себе было ударом. Еще более сильный шок вызвала полная невозможность указать, какая из геометрий истинна, и даже установить, истинна ли хоть какая-нибудь одна из них. Стало ясно, что математики сформулировали казавшиеся им правильными аксиомы геометрии, руководствуясь своим весьма ограниченным опытом, и ошибочно сочли эти аксиомы самоочевидными истинами. Математики оказались в положении, о котором можно сказать словами Марка Твена: «Человек — животное религиозное. Только обретя сразу несколько религий, он приобщился к истинной религии».
Постепенно математики приняли неевклидову геометрию и вытекавшие из ее существования выводы о границах истинности геометрии; однако это произошло отнюдь не потому, что кому-то удалось каким-то образом подкрепить аргументы в пользу применимости неевклидовой геометрии к физическому пространству. Скорее всего неевклидова геометрия была принята по той простой причине, о которой на заре XX в. говорил создатель квантовой механики Макс Планк: «Новая научная истина побеждает не потому, что ее противники убеждаются в ее правильности и прозревают, а лишь по той причине, что противники постепенно вымирают, а новое поколение усваивает эту истину буквально с молоком матери».
В вопросе об истинности всей математики в целом некоторые математики встали на сторону Гаусса. Они считали, что истина кроется в числах, составляющих основу арифметики, алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, а также высших разделов математического анализа. Карлу Густаву Якоби (1804-1850) принадлежит высказывание: «Бог всегда арифметизует».{55} В отличие от Платона Якоби не считал, что бог вечно геометризует.
То, что математикам удалось отвести смертельную опасность, приняв за абсолютную истину разделы математики, основанные на понятии числа, по-видимому, имело в середине XIX в. несравненно более далеко идущие последствия и было более жизненно важным для науки, чем существование нескольких геометрий. К сожалению, математике предстояло пережить новые потрясения. И чтобы разобраться в их истоках, нам придется вернуться немного назад.
Понятие вектора математики широко использовали начиная с XVI в.{56} Вектор, обычно изображаемый в виде направленного отрезка, обладает направлением и величиной (рис. 4.5). Он используется для описания таких физических величин, как сила, скорость и другие, которые характеризуются величиной и направлением. Векторы, лежащие в одной плоскости, можно комбинировать геометрически, производя над ними обычные операции сложения и вычитания и получая некий результирующий вектор.
Рис. 4.5. Вектор.
В том же XVI в. в математике появились комплексные числа, т.е. числа вида а + bi, где i = √−1, а а и b — вещественные числа. Даже математики считали комплексные числа весьма загадочными. Поэтому, когда около 1800 г. несколько математиков [Каспар Вессель (1745-1818), Жан Робер Арган (1786-1822) и Гаусс] поняли, что комплексным числам можно сопоставить направленные отрезки на плоскости (рис. 4.6), их открытие стало подлинной сенсацией. Эти математики сразу же осознали, что комплексные числа можно использовать не только для представления векторов на плоскости, но и для выполнения операций сложения, вычитания, умножения и деления векторов.
Рис. 4.6. Геометрическое представление комплексных чисел.
Иначе говоря, комплексные числа позволяют представить векторную алгебру, подобно тому как целые и дробные числа позволяют представить, например, коммерческую сделку. Следовательно, вместо того чтобы производить операции над векторами геометрически, их можно осуществлять алгебраически. Так, сложение двух векторов OA и OB (рис. 4.7) по правилу параллелограмма приводит к сумме, или результирующему вектору ОС. Ту же операцию можно выполнить алгебраически, представив вектор OA комплексным числом 3 + 2i, а вектор OB — комплексным числом 2 + 4i. Сумма этих комплексных чисел (комплексное число 5 + 6i) соответствует результирующему вектору ОС.
Рис. 4.7. Сложение комплексных чисел по правилу параллелограмма.
К 30-м годам XIX в. идея использования комплексных чисел для представления векторов на плоскости и выполнения операций над ними получила достаточно широкое распространение. Но если на тело действуют несколько сил, то эти силы и представляющие их векторы не обязательно должны лежать в одной и той же плоскости — и даже обычно не лежат в ней. Условимся для удобства называть обычные вещественные числа одномерными, а комплексные — двумерными. Тогда для представления пространственных векторов и выполнения операций над ними было бы естественно ввести «трехмерные» числа. Как и в случае комплексных чисел, допустимые операции над трехмерными числами должны были бы включать сложение, вычитание, умножение и деление. Для того, чтобы над этими числами можно было беспрепятственно и эффективно производить алгебраические операции, они должны обладать обычными свойствами вещественных и комплексных чисел. Так, математики принялись за поиски «трехмерных комплексных чисел».
Над решением этой проблемы бились многие. Полезный пространственный аналог комплексных чисел предложил в 1843 г. Уильям Роуан Гамильтон. Пятнадцать лет он непрестанно размышлял над этой проблемой. Умножение всех известных к тому времени чисел обладало свойством коммутативности, т.е. всегда было ab = ba, — и Гамильтон вполне естественно полагал, что трехмерные, или трехкомпонентные, числа также должны обладать этим свойством, равно как и другими свойствами вещественных и комплексных чисел. Гамильтону удалось добиться успеха лишь ценой двух компромиссов: во-первых, его новые числа обладали четырьмя компонентами, а не тремя, как ему первоначально хотелось, и, во-вторых, ему пришлось пожертвовать свойством коммутативности умножения (сохранив, однако, ассоциативность: для любых трех кватернионов p, q и r всегда (pq)r = p(qr)). Оба необычных свойства введенных Гамильтоном чисел произвели подлинный переворот в алгебре. Гамильтон назвал найденные им новые числа кватернионами.
Если комплексное число представимо в виде а + bi, где i = √−1, то кватернион — это число, представимое в виде
a + bi + cj + dk,
где i, j и k обладают таким же свойством, как и √−1, т.е.
i2 = j2 = k2 = −1.
Два кватерниона равны в том и только том случае, если попарно равны коэффициенты a, b, c и d в представлениях этих чисел. При сложении двух кватернионов суммы соответствующих коэффициентов образуют новые коэффициенты. Таким образом, сумма двух кватернионов сама также является кватернионом. Чтобы определить умножение кватернионов, Гамильтону пришлось задать произведения i и j, i и k, j и k. Гамильтон исходил из того, что произведение кватернионов должно быть кватернионом и что кватернионы должны сохранять как можно больше свойств вещественных и комплексных чисел. Достичь желаемого ему удалось, приняв правила умножения:
jk = i, kj = −i,
ki = j, ik = −j,
ij = k, ji = −k.
Эти правила означают, что умножение кватернионов не коммутативно, т.е. если p и q — кватернионы, то pq не равно qp. Выполнимо и деление одного кватерниона на другой. Но поскольку умножение кватернионов не коммутативно, то разделить кватернион p на кватернион q означает найти либо такой кватернион r, что р = qr, либо такой кватернион r, что p = rq. Частное r в этих двух случаях не обязательно должно быть одним и тем же; поэтому их и записывают по-разному: в первом случае пишут r = q−1p, a во втором — pq−1. Хотя кватернионы не получили столь широкого применения, как рассчитывал Гамильтон, ему удалось с их помощью решить немало физических и геометрических задач.
Введение кватернионов явилось еще одним потрясением для математики. Налицо был пример физически полезной алгебры, не обладающей фундаментальным свойством всех известных ранее чисел — здесь не выполнялось правило ab = ba.
Вскоре после того, как Гамильтон создал свои кватернионы, математики, работавшие в других областях, ввели еще более необычные алгебры. Знаменитый алгебраист и геометр Артур Кэли (1821-1895) ввел матрицы — квадратные или прямоугольные таблицы чисел. Над матрицами также можно было производить обычные алгебраические операции, но умножение матриц, как и кватернионов, не было коммутативным. Кроме того, произведение двух матриц могло равняться нулю, даже если оба сомножителя были отличны от нуля. Кватернионы и матрицы ознаменовали начало появления нескончаемой вереницы новых алгебр со все более необычными свойствами. Несколько таких алгебр создал Герман Гюнтер Грассман (1809-1877). По своей общности они превосходили кватернионы Гамильтона. К сожалению, Грассман всю жизнь оставался преподавателем средней школы, и прошло немало лет, прежде чем его работа привлекла заслуженное внимание. Как бы то ни было, Грассман пополнил множество так называемых гиперчисел (или, как сегодня чаще говорят, гиперкомплексных чисел{57}) новыми полезными разновидностями.
Создание новых алгебр для тех или иных специальных целей само по себе не ставило под сомнение истинность обычной арифметики и ее приложений в алгебре и математическом анализе. Кроме того, обычные вещественные и комплексные числа использовались для совершенно разных целей, и их применимость нигде не вызывала сомнений. Тем не менее сам факт появления на сцене новых алгебр заставил усомниться в истинности привычной арифметики и алгебры, подобно тому как люди, узнав об обычаях неизвестной ранее цивилизации, начинают по-новому смотреть на свои собственные обычаи.
Наиболее сильной критике истинность арифметики подверглась со стороны Германа Гельмгольца (1821-1894), выдающегося физиолога, физика и математика. В своей книге «Счет и измерение» (1887) Гельмгольц провозгласил основной проблемой арифметики, обоснование ее автоматической применимости к физическим явлениям. По мнению Гельмгольца, единственным критерием применимости законов арифметики мог быть опыт. Утверждать априори, что законы арифметики применимы в любой данной ситуации, невозможно.
По поводу применимости законов арифметики Гельмгольц высказал немало ценных замечаний. Само понятие числа заимствовано из опыта. Некоторые конкретные опыты приводят к обычным типам чисел: целым, дробным, иррациональным — и к свойствам этих чисел. Однако обычные числа применимы лишь именно к этим опытам. Мы сознаем, что существуют виртуально эквивалентные объекты, и тем самым сознаем, что можем говорить, например, о двух коровах. Но чтобы выражения подобного рода сохраняли силу, рассматриваемые объекты не должны исчезать, сливаться или претерпевать деление. Одна дождевая капля, если ее слить с другой дождевой каплей, вовсе не образует двух дождевых капель. Даже понятие равенства неприменимо автоматически к каждому опыту. Кажется несомненным, что если объект a равен объекту c, а объект b равен объекту c, то объект a должен быть равен объекту b. Но два звука могут казаться по высоте такими же, как третий звук, и все же мы в состоянии отличать на слух первые два звука. Следовательно, два объекта, порознь равные третьему, не обязательно должны быть равны между собой. Аналогично цвет a может казаться таким же, как цвет b, а цвет b — таким же, как цвет c, и все же цвет a иногда удается отличить от цвета c.
Много других примеров можно привести в подтверждение того, что наивное применение арифметики иногда давало нелепые результаты. Так, смешав два равных объема воды — один при температуре 40°C, другой при температуре 50°C, — мы не получим удвоенного объема при температуре 90°. Путем наложения двух гармонических тонов — одного с частотой 100 Гц, другого с частотой 200 Гц — мы не получим гармонический тон с частотой 300 Гц. В действительности составной тон будет иметь частоту 100 Гц. Соединив в электрической цепи параллельно два резистора с сопротивлениями R1 и R2, мы получим сопротивление величиной R1R2 / (R1 + R2), a не сопротивление R1 + R2. Как в шутку заметил некогда Анри Лебег (1875-1941), поместив в клетку льва и кролика, мы не обнаружим в ней позднее двух животных.
Из химии известно, что, смешивая водород и кислород, можно получить воду. Но если взять два объема водорода и один объем кислорода, то мы получим не три, а два объема водяного пара. Аналогично из одного объема азота и трех объемов водорода мы получим два объема аммиака. Физическое объяснение этой удивительной арифметики ныне известно. По закону Авогадро, в равных объемах любого газа при одинаковой температуре и одинаковом давлении содержится равное число частиц. Например, если в данном объеме кислорода содержится 10 молекул, то при той же температуре и том же давлении в равном объеме водорода содержится также 10 молекул. Следовательно, удвоенный объем водорода содержит 20 молекул. Известно, что молекулы кислорода и водорода двухатомны. Каждая из 20 двухатомных молекул водорода, соединяясь с одним атомом кислорода, образует молекулу воды. Так как всего имеется 10 молекул кислорода, то образуется 20 молекул воды, т.е. два, а не три объема. Таким образом, обычная арифметика не дает правильного описания того, что происходит при смешении газов, если подсчет производить по объемам.
Обычная арифметика не позволяет правильно описать и то, что происходит при смешении некоторых жидкостей. Если кварту джина смешать с квартой вермута, то получится чуть меньше двух кварт смеси. Смешав 1 л спирта с 1 л воды, мы получим 1,8 л спиртового раствора. То же справедливо и для большинства жидкостей, в состав которых входит спирт. Взяв столовую ложку, воды и столовую ложку соли, мы не получим две столовые ложки крепкого раствора соли. При смешивании некоторых химических веществ происходит взрыв — объем смеси заведомо не равен сумме объемов исходных веществ.
Для описания многих физических ситуаций неприменимы не только свойства целых чисел — на практике нередко приходится прибегать к совсем иной арифметике дробных чисел. Рассмотрим, например, футбол, столь любимый миллионами болельщиков во всем мире.
Предположим, что в одной игре нападающий трижды пробил по воротам противника, а в другой игре — четыре раза. Сколько раз всего он бил по воротам противника? Подсчитать нетрудно: всего он бил по воротам противника 7 раз. Предположим, что в первой игре наш нападающий забил 2 гола, а во второй — 3 гола. Сколько голов он забил за две игры? И на этот раз ответ получить легко: за две игры он забил 2 + 3 = 5 голов. Но и болельщиков, и самого игрока обычно интересует средняя результативность, т.е. отношение числа забитых голов к числу ударов по воротам противника. В первой игре это отношение было равно 2/3, во второй — 3/4. Предположим, что нападающий или болельщик хочет по этим данным вычислить среднюю результативность за две игры. Некоторые полагают, что для этого необходимо лишь сложить оба отношения по обычным правилам сложения дробей, т.е. составить сумму:
2/3 + 3/4 = 17/12.
Но полученный таким образом результат явно лишен всякого смысла: ни один нападающий за 12 ударов по воротам противника не может забить 17 голов! Ясно, что обычные правила сложения дробей непригодны для подсчета средней результативности: средняя результативность за две игры не совпадает с суммой средних результативностей, вычисленных для каждой из игр в отдельности. Каким же образом, зная результативность нападающего в каждой из двух игр в отдельности, правильно вычислить среднюю результативность за две игры? Для этого необходимо воспользоваться новым правилом сложения дробей. Мы знаем, что результативность нападающего по двум играм составляет 5/7, а в первой и во второй играх равна соответственно 2/3 и 3/4. Нетрудно видеть, что, сложив отдельно числители и знаменатели слагаемых, мы получим новую дробь, дающую правильный ответ:
2/3 3/4 = 5/7.
(знак плюс, который мы не случайно обвели кружком, означает здесь, что числители и знаменатели суммируются отдельно).
Предложенное нами правило «сложения» дробей оказывается полезным и в других ситуациях. Продавец, ведущий учет эффективности своей торговли, может заметить, например, что в первый день покупки сделали 3 из 5 посетителей, а во второй день — 4 из 7. Чтобы вычислить эффективность торговли за два дня, т.е. найти отношение числа покупок к общему числу посетителей, продавец должен сложить 3/5 и 4/7 по тому же правилу, по которому нападающий вычислял свою результативность за две игры. За два дня покупки сделали 7 посетителей из 12, а 7/12 = 3/5 + 4/7, где знак плюс означает сложение отдельно числителей и отдельно знаменателей.
Еще чаще встречается другое применение нового правила сложения дробей. Предположим, что автомобиль проезжает 50 км за 2 ч и 100 км за 3 ч. С какой средней скоростью автомобиль покрывает оба отрезка пути? Можно было бы рассуждать так: расстояние 150 км автомобиль проезжает за 5 ч, поэтому его средняя скорость составляет 30 км/ч. Но часто бывает удобнее вычислять средние скорости всего пробега по средним скоростям на отдельных участках маршрута. Средняя скорость на первом участке равна (50/2) км/ч, а на втором — (100/3) км/ч. Сложив отдельно числители и знаменатели этих дробей, мы получим правильную среднюю скорость всего пробега.
В обычной арифметике 4/6 = 2/3. Но при сложении двух дробей по новому правилу, например при вычислении 2/3 + 3/5, дробь 2/3 не следует заменять дробью 4/6, так как ответ в одном случае равен 5/8, а в другом — 7/11, и эти два ответа оказываются различными. Кроме того, в обычной арифметике такие дроби, как 5/1 и 7/1, ведут себя также, как целые числа 5 и 7. Но если мы вздумаем сложить 5/1 и 7/1 как дроби, по правилам новой арифметики, то вместо 12/1 получим 12/2.
Приведенные примеры такой «футбольной арифметики» свидетельствуют об одном: вводя операции, отличные от привычных, мы тем не менее можем прийти к арифметике, применимой к реальному миру. Математике известны и многие другие арифметики. Однако ни один здравомыслящий математик не станет изобретать арифметику «просто так», для собственного удовольствия. Каждая арифметика предназначена для описания некоторого класса явлений физического мира. Производимые над числами операции выбираются с таким расчетом, чтобы они соответствовали выбранному классу явлений, подобно тому как в приведенных примерах необычное сложение дробей позволяло вычислять среднюю результативность, эффективность и скорость. Новая арифметика должна облегчать исследование реально происходящего. Только опыт может сказать нам, в каких случаях обычная арифметика применима к тому или иному физическому явлению. Следовательно, мы не можем рассматривать арифметику как свод истин, с необходимостью применимых для описания любых физических явлений. Разумеется, это же относится и к «продолжениям» арифметики — алгебре и математическому анализу. Их также нельзя считать сводом непреложных истин (см., например, [30]).
Итак, математикам не оставалось ничего иного, как прийти к печальному заключению о том, что в математике нет абсолютной истины, т.е. что математика не содержит внутри себя все законы реального мира. Аксиомы основных структур арифметики и геометрии порождены опытом, и поэтому применимость структур арифметики ограничена. Вопрос о том, где именно они применимы, может быть решен только на опыте. Попытка древнегреческих мыслителей обеспечить истинность математики, принимая за исходные самоочевидные истины и используя только дедуктивные доказательства, провалилась.
Для многих мыслящих математиков сознание того, что математика не является более сводом незыблемых истин, было невыносимым, и они не могли смириться с этим. Казалось, сам бог ниспослал им в наказание несколько геометрий и несколько алгебр, подобно тому как он, смешав языки, покарал строителей Вавилонской башни. Такие математики наотрез отказывались принимать новые творения своих собратьев по профессии.
Уильям Р. Гамильтон, несомненно, один из самих выдающихся математиков XIX в., выразил (1837) свое неприятие неевклидовой геометрии следующим образом:
Ни один честный и здравомыслящий человек не может усомниться в истинности главных свойств параллельных в том виде, как они били изложены в «Началах» Евклида две тысячи лет назад, хотя вполне мог бы желать увидеть их изложенными более просто и ясно. Геометрия Евклида не содержит неясностей, не приводит мысли в замешательство и не оставляет разуму сколько-нибудь веских оснований для сомнения, хотя острый ум извлечет для себя пользу, пытаясь улучшить общий план доказательства.
Артур Кэли, выступая в 1883 г. с речью перед Британской ассоциацией содействия развитию наук, сказал:
По моему мнению, двенадцатая аксиома Евклида [называемая также пятым постулатом, или аксиомой о параллельных] в форме Плейфера не требует доказательства, но является составной частью нашего представления о пространстве, физическом пространстве нашего опыта, с которым каждый знакомится на своем опыте, — представления, лежащего в основе всего нашего опыта… Утверждения геометрии не являются лишь приближенно истинными. Они остаются абсолютно истинными в отношении той евклидовой геометрии, которая так долго считалась физическим пространством нашего опыта.
Ту же точку зрения высказывал и Феликс Клейн (1849-1925), один из крупнейших математиков нашего времени. Хотя Кэли и Клейн сами работали в области неевклидовых геометрий, они рассматривали их как новообразования, возникающие при искусственном введении в добрую старую евклидову геометрию новых метрик — функций, определяющих расстояние между точками. Оба отказывались признать, что неевклидова геометрия столь же фундаментальна и применима к внешнему миру, как и евклидова. Разумеется, во времена, когда теория относительности еще не была создана, позиция Кэли и Клейна была вполне обоснованной.
Верил в истинность математики и Бертран Рассел, хотя он и понимал эту истинность в несколько ограниченном смысле. В 1890 г. он предпринял попытку проанализировать вопрос о том, какие свойства пространства необходимы и могут быть приняты до опыта, т.е., если бы любое из этих априорных свойств мы стали бы отрицать, то опыт утратил бы смысл. В своей работе «Очерк оснований геометрии» (Essay of the Foundations of Geometry, 1897) Рассел признал, что геометрия Евклида не является априорным знанием. В этой же книге он пришел к заключению, что из всех геометрий априорность присуща лишь проективной геометрии{58} — заключение вполне понятное, если принять во внимание то значение, которое придавали проективной геометрии на рубеже XIX-XX вв. К проективной геометрии в качестве априорных истин Рассел добавил аксиомы, общие для евклидовой и всех неевклидовых геометрий. Эти аксиомы относились к однородности пространства, конечномерности и к понятию расстояния, позволяющему производить измерения. Рассел также указал на то, что количественным соображениям должны предшествовать чисто качественные, и использовал этот тезис для подкрепления приоритета проективной геометрии.
Что касается метрических геометрий, к числу которых относятся евклидова и несколько неевклидовых геометрий, то они могут быть получены из проективной геометрии, если подходящим образом определить расстояние между точками. Поэтому Рассел считал их создание чисто техническим достижением, не имеющим философского значения. Во всяком случае, специфические теоремы метрических геометрий, с точки зрения Рассела, не являются априорными истинами. Что же касается нескольких основных метрических геометрий, то Рассел, расходясь во мнениях с Кэли и Клейном, считал, что все они логически одинаково обоснованы. Поскольку априорными свойствами из всех метрических геометрий обладают только евклидова, гиперболическая, эллиптическая и удвоенная эллиптическая геометрии, то Рассел заключил, что ими исчерпываются все возможные метрические геометрии и что евклидова геометрия — единственная из всех геометрий, применимая к физическому миру. Все остальные геометрии имеют философское значение, так как доказывают возможность существования других геометрических систем, отличных от разработанной древними греками. Оглядываясь назад, мы ясно видим, что широко распространенное пристрастие к евклидовой геометрии уступает у Рассела место пристрастию к проективной геометрии. Много лет спустя, Рассел признал «Очерк» юношески незрелым произведением, более не выдерживающим критики. Как мы увидим в дальнейшем (гл. X), Рассел вместе с другими философами выдвинул новую основу для установления истины в математике.
Настойчивость, проявленная математиками в поиске каких-либо абсолютных истин, вполне понятна. После многих столетий блистательных успехов математики в описании и предсказании физических явлений природы мысль о необходимости признать ее не коллекцией алмазов, а собранием искусственных камней была тяжела для каждого, а особенно для тех, кто был ослеплен гордостью за свои собственные достижения. Однако постепенно математики свыклись с тем, что аксиомы и теоремы их науки утратили статус истин о физическом мире. Некоторые области опыта подсказывали выбор специальных систем аксиом — для таких областей эти аксиомы и логические следствия из них были применимы достаточно точно, что позволило считать их полезным описанием действительного. Но расширение такой области может пагубно сказаться на применимости аксиом и теорем. Что касается изучения физического мира, то математика не предлагает ничего, кроме теорий, или моделей. Всякий раз когда накопленный нами опыт или специальный эксперимент показывает, что новая теория дает более точное описание реальности, чем старая, старую теорию вполне допустимо заменить новой. Отношение математики к физическому миру прекрасно выразил в 1921 г. Эйнштейн:
Если теоремы математики прилагаются к отражению реального мира, они не точны; они точны до тех пор, пока не ссылаются на действительность… Однако, с другой стороны, верно и то, что математика вообще и геометрия в частности обязаны своим происхождением необходимости узнать что-либо о поведении реально существующих объектов.
([31], с. 83-84.)Бог отвернулся от математиков, и им не оставалось ничего другого, как принять человека. Именно это они и сделали. Они продолжали развивать математику и заниматься поиском законов природы, теперь уже зная, что их открытия не составляют часть божественного плана, а являются творениями людей. Одержанные в прошлом победы помогли им вновь обрести уверенность в своих силах, а нескончаемая череда новых успехов вознаграждала их усилия. Жизнь математики спасли чудодейственное «снадобье», ею же самой составленное: колоссальные достижения в небесной механике, акустике, гидродинамике, оптике, теории электромагнитного поля{59} и инженерном деле — и невероятная точность предсказаний. Наука, которая хотя и сражалась под победоносным знаменем истины, но одерживала свои победы с помощью загадочной «внутренней силы» (гл. XV), должна быть наделена скрытой мощью, чтобы не сказать магией. Развитие математики и применение ее результатов к естествознанию происходило теперь более быстрыми темпами, чем прежде.
Осознание того, что математика не является сводом абсолютных истин, эхом отозвалось на многих областях человеческой деятельности. Начнем с естествознания. Со времен Галилея физики понимали, что в основе фундаментальных законов естествознания в отличие от математики должен лежать эксперимент, хотя ранее они на протяжении двух столетий считали, что открываемые ими законы заложены в плане мироздания. Но к началу XIX в. физики пришли к заключению, что никакие естественнонаучные теории также не являются абсолютными истинами. Если даже математика имеет свои начала в человеческом опыте и не может более отстаивать свою истину, рассуждали естествоиспытатели, то, поскольку мы используем аксиомы и теоремы математики, наши собственные теории уязвимы в еще большей степени. Законы природы открывает человек. Мы, а не господь бог, устанавливаем законы природы. Закон природы описывает человек, а не предписывает бог.
Отзвуки постигшего математику бедствия докатились до всех областей культуры. Вера в достижимость мнимых истин в математике и математической физике порождала надежду на то, что истина достижима и во всех остальных областях знания. Эти надежды выразил в 1637 г. Декарт в своем «Рассуждении о методе»:
Те длинные цепи выводов, сплошь простых и легких, которыми обычно пользуются геометры, чтобы дойти до своих наиболее трудных доказательств, дали мне повод представить себе, что и все вещи, которые могут стать предметом знания людей, находятся между собой в такой же последовательности. Таким образом, если остерегаться принимать за истинное что-либо, что таковым не является, и всегда соблюдать порядок, в каком следует выводить одно из другого, то не может существовать истин ни столь отдаленных, чтобы они были недостижимы, ни столь сокровенных, чтобы нельзя было их раскрыть.
([14], с. 23.)Декарт написал эти строки в те времена, когда успехи математического метода были еще сравнительно невелики. К середине XVIII в. эти успехи стали столь многочисленны и весомы, что ведущие мыслители обрели уверенность в необходимости применения рационального и математического подхода всюду, где необходимо достичь истины. Имея в виду свой век, Д'Аламбер писал:
… Некая экзальтация идей, вызываемая в нас зрелищем Вселенной… плодотворно сказалась на умах. Разливаясь повсюду, подобно реке, смывшей плотины, это плодотворное влияние насильственно увлекало на своем пути все, что сколько-нибудь мешало ему… От принципов теологии до оснований религиозных откровений, от метафизики до вопросов вкуса, от музыки до морали, от схоластических диспутов теологов до торговли, от законов князей до законов простого народа, от законов природы до законов наций… — все подверглось обсуждению, было проанализировано или по крайней мере отмечено.
Уверенность в том, что истины удастся обнаружить во всех областях человеческого знания, была до основания подорвана, когда выяснилось, что абсолютной истины нет даже в математике. Возможно, что надежда и даже вера в возможность достижения абсолютного знания в вопросах политики, этики, религии, экономики и многих других областях еще теплилась в умах людей, однако самая прочная опора подобных надежд была утрачена. Математика явила миру доказательство того, что человек может постигать истины — но она же и опровергла данное ею доказательство. Неевклидова геометрия и кватернионы, ознаменовавшие триумф человеческого разума, привели к бедствию, постигшему духовный мир человека.
По выражению знаменитого психолога Уильяма Джеймса (1842-1910), «духовная жизнь человека почти целиком заключается в замене концептуальным порядком той упорядоченности ощущений, в которых первоначально запечатляется его опыт». Но концептуальный порядок далеко не отражает упорядоченность восприятий.
С утратой истины разум человека утратил точку опоры, свою систему отсчета. «Гордость человеческого разума», падая, увлекла за собой здание истины. Урок этого состоял в следующем: никогда нельзя утверждать догматически даже то, в чем мы неколебимо уверены. Именно то, в чем мы наиболее уверены, должно вызывать наибольшие сомнения, ибо здесь проявляются не только наши достижения, но и наша ограниченность, пределы наших возможностей. Историю всеобщей убежденности в истинности математики можно закончить, процитировав «Размышления о бессмертии» Уордсворта. В середине XVIII в. математики могли сказать о своих творениях:
Наш бог — наш дом, И от него мы низойдем В сиянье славы.В середине XIX в. математикам не оставалось ничего другого, как с горечью признать:
Куда б я ни пришел, Одну картину зрю: Прочь навсегда исчезнувшую славу.Но история не дает повода к унынию. Как сказал о математике гениальный Эварист Галуа (1811-1832) «[эта] наука — творение человеческого разума, предназначенное не столько для знания, сколько для познания, для поиска, а не для отыскания истины». Возможно, в самой природе истины заложена способность ускользать от преследования или, говоря словами римского философа Луция Сенеки, «природа не сразу открывает свои тайны».
V Нелогичное развитие логичнейшей из наук
Нет, не оплакивать былое —
В нем силу надобно искать.
УордсвортНа протяжении двух тысячелетий математики были уверены в том, что весьма успешно открывают математические принципы, заложенные в фундаменте мироздания. Но в середине XIX в. они вынуждены были признать, что глубоко заблуждались, принимая математические законы за абсолютные истины. В течение двух тысячелетий математики не сомневались, что неукоснительно следуют предложенной древнегреческими мыслителями схеме постижения истины, выводя с помощью дедуктивных рассуждений из математических аксиом следствия, не уступающие по надежности самим исходным аксиомам. Поскольку математические законы естествознания отличались необычайной точностью, редкие расхождения по поводу корректности некоторых математических рассуждений от «метались как не заслуживающие внимания. Даже самые проницательные и дальновидные математики были убеждены, что любой пробел в математическом доказательстве, если таковой обнаружится, может быть легко восполнен. Но в XIX в. единодушие математиков по поводу безупречной доказательности математических рассуждений явно поколебалось.
Что же открыло математикам глаза? Как они смогли понять, что заблуждались, полагаясь на безупречность математических рассуждений? Некоторые математики еще в начале XIX в. выражали озабоченность в связи с критикой, которой подвергались основные положения математического анализа, но большинство считало эти нападки недостаточно обоснованными и просто игнорировало их. Лишь появление неевклидовой геометрии и кватернионов, которые заставили математику отказаться от многовековых претензий на владение абсолютной истиной, побудило большинство математиков обратить внимание на пробелы в логике математических исследований.
Работы в области неевклидовой геометрии, которые сопровождались постоянными и столь естественными ссылками на аналогичные теоремы и доказательства евклидовой геометрии, привели к поразительному открытию: выяснилось, что евклидова геометрия, которую на протяжении двух тысячелетий специалисты провозглашали неподражаемым образцом строгих доказательств, обладает серьезными логическими изъянами! Создание новых алгебр, начало которому было положено введением кватернионов (гл. IV), настолько обеспокоило математиков, что им захотелось подвергнуть критическому пересмотру логические основы арифметики и алгебры обычных вещественных и комплексных чисел. Такой пересмотр действительно был необходим — хотя бы для того, чтобы убедиться в надежности представлений о свойствах этих чисел. Открытие, которое ожидало математиков в, казалось бы, хорошо известной им области, было поистине удивительным: эти разделы математики, традиционно считавшиеся в высшей степени логичными, развивались алогично!
Если хочешь разобраться в настоящем, следует прежде всего заглянуть в прошлое! Обратившись к прошлому, математики, чье восприятие обострилось в результате последних открытий, наконец увидели то, что ускользало от их предшественников или мимо чего те равнодушно проходили в своем безудержном стремлении постичь истину. Разумеется, математики отнюдь не собирались безропотно отказываться от своей науки. Помимо того что математические методы продолжали оставаться весьма эффективным инструментом естественнонаучного исследования, математика сама по себе превратилась в область знания, которую многие математики вслед за Платоном считали особой «внечувственной реальностью».{60} Естественно, математики сочли, что им под силу по крайней мере пересмотреть логическую структуру математики и восполнить пробелы в ней или изменить те ее области, где обнаружатся изъяны.
Как нам уже известно, родоначальниками дедуктивной математики были древние греки и первым, казалось бы, совершенным математическим построением стали «Начала» Евклида. Начав с определений и аксиом, Евклид далее переходил к доказательству теорем. Повторим, однако, некоторые из определений Евклида:
1. Точка есть то, что не имеет частей.
2. Линия же — длина без ширины.
3. Прямая линия есть та, которая равно расположена по отношению к точкам на ней. ([25], кн. I-VI, с. 11.)
Аристотель учил, что определение должно описывать определяемое понятие через другие, уже известные понятия. А так как с чего-то необходимо начать, утверждал Аристотель, то в качестве исходных необходимо принять какие-то неопределяемые понятия. Хотя, судя по многим данным, Евклид, живший и работавший в Александрии примерно в III в. до н.э., хорошо знал о работах греческих авторов классической эпохи, в частности Аристотеля, он тем не менее дал определение всем геометрическим понятиям.
Этот просчет Евклида принято объяснять двумя причинами. Либо Евклид был не согласен с Аристотелем в том, что исходные понятия должны быть неопределяемыми, либо, как утверждают некоторые защитники Евклида, он сознавал необходимость неопределяемых понятий, но своими первыми определениями намеревался дать лишь интуитивное представление о смысле определяемых понятий, позволяющее понять последующие аксиомы. Но если справедливо последнее, то в таком случае Евклид вряд ли стал бы включать определения в основной текст «Начал». Каковы бы ни были намерения самого Евклида, никто из математиков, следовавших дедуктивному методу Евклида на протяжении двух тысячелетий, не отметил необходимость неопределяемых понятий. На необходимость таких понятий обратил внимание в своем «Трактате о геометрическом духе» (1658) Паскаль, но это его напоминание просто не было никем замечено.
А как обстояло дело с аксиомами Евклида? Следуя, по-видимому, Аристотелю, Евклид сформулировал ряд общих понятий, применимых к любому рассуждению, и пять постулатов, применимых только к геометрии. Одно из общих понятий гласило: «И если к равным [вещам] прибавляются равные, то и целые будут равны» ([25], кн. I-VI, с. 15). Под словом «вещи» Евклид понимал длины, площади, объемы и целые числа. Разумеется, это слово допускает весьма широкое толкование. Но еще в большей степени может вводить в заблуждение общее утверждение, что фигуры, совпадающие при наложении, равны. С помощью этой аксиомы Евклид доказывал конгруэнтность двух треугольников, налагая один треугольник на другой и выводя из известных геометрических фактов заключение о равенстве углов. Но чтобы наложить один треугольник на другой, его необходимо передвинуть. Евклид предполагал, что перемещение не сказывается на свойствах треугольника. Таким образом, общее понятие, задающее «принцип наложения», по существу, выражает однородность пространства, т.е. независимость свойств геометрических фигур от их расположения в пространстве. Такого рода допущение вполне разумно, но все же является дополнительным допущением: определения в евклидовых «Началах» не затрагивают понятия движения.{61}
В своих доказательствах Евклид нередко прибегал к аксиомам, явно им не сформулированным. Еще Гаусс обратил внимание на то, что Евклид говорит о точках, лежащих между другими точками, и о прямых, лежащих между другими прямыми, ни словом не обмолвившись о понятии «лежать между» и его свойствах. По-видимому, Евклид мысленно представлял геометрические фигуры и использовал в доказательствах теорем свойства реальных фигур, не отраженные в аксиомах. Наглядные геометрические представления могут оказаться весьма полезными и при доказательстве, и при запоминании теоремы, но роль их должна быть лишь вспомогательной. Лейбниц обратил внимание еще на одну аксиому, неявно использованную Евклидом, — аксиому о так называемой непрерывности. Действительно, Евклид широко пользовался тем, что прямая, соединяющая точку A, расположенную по одну сторону от l (рис. 5.1), с точкой B, расположенной по другую сторону от прямой l, имеет с l общую точку. Существование общей точки очевидно из чертежа — однако ни одна аксиома о прямых не гарантирует, что такая общая точка действительно имеется. Впрочем, можно ли говорить, что точки «находятся по разные стороны от прямой»? Подобное словоупотребление также основывается на неявно подразумеваемой, но неформулируемой аксиоме.
Рис. 5.1. Аксиома, которую не сформулировал Евклид.
Помимо различного рода изъянов и недостатков в определениях и аксиомах «Начала» Евклида содержали также много неадекватных доказательств. Доказательства одних теорем были ошибочными; доказательства других охватывали лишь частный случай утверждения теоремы или конфигурации, о которой в ней говорилось. Такого рода недостатки не столь серьезны, так как их легче исправить. Евклид умышленно проводил правильные доказательства для фигур, весьма отдаленно напоминающих изображаемые. Но если судить о «Началах» в целом, то с полным основанием можно сказать, что в ряде случаев доказательства Евклида, касающиеся легко воспроизводимых на чертежах фигур, имели дефекты. Короче говоря, логика в «Началах» Евклида оставляла желать лучшего.
Несмотря на все недостатки евклидовых «Начал», лучшие математики, естествоиспытатели и философы примерно до конца XVIII в. видели в них идеал математической строгости. Паскаль в своих «Мыслях» выразил это всеобщее восхищение так: «Геометрический дух во всем превосходит те предметы, которые поддаются законченному анализу. Он начинает с аксиом и выводит заключения, истинность которых может быть доказана с помощью универсальных логических правил». Учитель и предшественник Ньютона по кафедре в Кембриджском университете Исаак Барроу перечислил восемь причин непогрешимости геометрии: ясность геометрических понятий; однозначность определений; наша интуитивная уверенность в универсальной истинности общих геометрических понятий; правдоподобность и наглядность геометрических постулатов; малочисленность геометрических аксиом; ясное понимание способа получения всех величин; четкая последовательность доказательств; отказ от использования всего неизвестного. Такого рода признания достоинств геометрии можно было бы продолжить. В 1873 г. известный специалист по теории чисел Генри Джон Стивен Смит сказал: «Геометрия обратилась бы в ничто, если бы не ее строгость… Почти всеми признано, что методы Евклида безупречны с точки зрения строгости».
Тем не менее, работая над созданием неевклидовой геометрии, математики обнаружили в евклидовой схеме построения геометрии столь большое число дефектов, что восхищаться ее совершенством было уже невозможно. Неевклидова геометрия стала тем рифом, о который разбилась геометрия Евклида. То, что ранее казалось надежной твердью, в действительности оказалось предательской топью.
Разумеется, евклидова геометрия составляет лишь часть математики. С начала XVIII в. гораздо более обширной стала часть математики, посвященная свойствам чисел. Но как же развивалось логическое понятие числа?
В Древнем Египте и Вавилоне уже были хорошо знакомы с целыми числами, дробями и даже с такими иррациональными числами, как √2 или √3. Для практических приложений иррациональные числа аппроксимировали рациональными. Но поскольку математика в Древнем Египте, Вавилоне и даже вплоть до IV в. до н.э. в Древней Греции строилась на интуитивной или эмпирической основе, как восхищение ее логической структурой, так и ее критика были в равной степени беспредметны.
Первое известное нам логически последовательное изложение теории целых чисел содержится в VII, VIII и IX книгах «Начал» Евклида. В них Евклид предлагает, например, такие определения: «Единица есть [то], через что каждое из существующих считается единым; число же — множество, составленное из единиц» ([25], кн. VII-X, с. 9). Ясно, что подобные определения мало что говорят — в их формулировках отражается тот факт, что как в арифметике Евклида, так и в его геометрии проявляется непонимание необходимости неопределяемых понятий. При выводе свойств целых чисел Евклид использует уже упоминавшиеся общие понятия. К сожалению, некоторые из приведенных им доказательств ошибочны. Тем не менее древние греки и их преемники считали, что теория целых чисел обоснована вполне удовлетворительно. Более того, они, не церемонясь, позволяли себе говорить об отношениях целых чисел (у последующих поколений математиков такие отношения получили название дробей), хотя отношения целых чисел не были ими никак определены.
В логическом развитии теории чисел древние греки столкнулись с трудностью, оказавшейся для них непреодолимой. Как известно, пифагорейцы в V в. до н.э. первыми подчеркнули важность целых чисел и отношений целых чисел для изучения природы. Более того, именно в целых числах и их отношениях пифагорейцы видели «меру» всего. Когда же обнаружилось, что некоторые отношения, например отношение гипотенузы равнобедренного прямоугольного треугольника к катету, непредставимы в виде отношения целых чисел, это и удивило, и обеспокоило пифагорейцов. Отношения, представимые в виде отношений целых чисел, пифагорейцы назвали соизмеримыми, а отношения, непредставимые в виде отношений целых чисел, получили название несоизмеримых. Так, иррациональное число √2 может служить примером несоизмеримого отношения. Открытие несоизмеримых соотношений легенда приписывает Гиппазию из Метапонта (V в. до н.э.). По преданию, в тот момент, когда Гиппазий пришел к этому открытию, пифагорейцы находились в открытом море — и они выбросили Гиппазия за борт, обвинив его в том, что он привнес в мироздание элемент, противоречивший пифагорейскому учению о сводимости всех явлений природы к целым числам или к их отношениям.
Доказательство того, что число √2 несоизмеримо с 1, т.е. иррационально, было предложено пифагорейцами. По Аристотелю, они доказали иррациональность √2 методом от противного (reductio ad absurdum), иначе говоря, избрали косвенный метод доказательства. Пифагорейцы показали, что если гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника была бы соизмерима с катетом, то одно и то же число должно было бы быть и четным, и нечетным, что невозможно. Доказательство проводилось следующим образом. Предположим, говорили пифагорейцы, что отношение гипотенузы к катету представимо в виде a/b, где a и b — взаимно-простые целые числа (т.е. предполагается, что общие множители, которые первоначально могли входить в числа a и b, уже сокращены). Если a/b = √2, то a2 = 2b2. Так как a2 — четное число, a также четно, поскольку квадрат любого нечетного числа нечетен.{62} Так как числитель и знаменатель отношения a/b не имеют общих делителей и a четно, число b должно быть нечетно. Число a как четное представимо в виде a = 2c, поэтому a2 = 4c2, а так как а2 = 2b2, то 4c2 = 2b2, или 2c2 = b2. Следовательно, b2 — четное число. Но тогда b также четное число, поскольку если бы оно было нечетным, то и квадрат его был бы нечетным. Но по доказанному ранее b — нечетное число; таким образом, мы приходим к противоречию.
Пифагорейцы и древнегреческие мыслители классического периода, как правило, не принимали иррациональных чисел, ибо в их понимании иррациональные числа не были числами. Действительно, предложенное пифагорейцами доказательство говорит, что число √2 непредставимо в виде отношения целых чисел, но умалчивает о том, что такое иррациональное число. Жители Древнего Вавилона, как уже отмечалось, умели работать с иррациональными числами, но они, безусловно, не знали, что используемые ими десятичные (точнее, шестидесятеричные) приближения таких чисел не могут быть абсолютно точными. Мы можем восхищаться жизнелюбием древних вавилонян, но математиками они были неважными. Совсем иной склад ума был у древних греков: они не могли довольствоваться приближениями.
Открытие иррациональных чисел поставило проблему, ставшую центральной для древнегреческой математики. Платон в своих «Законах» призывал к познанию несоизмеримых величин. Решение проблемы предложил Евдокс, некогда бывший учеником Платона: понятие величины надлежит трактовать геометрически. Длины, углы, площади и объемы, величины которых — если их выразить численно — могли оказаться иррациональными, следовало представлять геометрически. Именно так формулирует Евклид теорему Пифагора: квадрат, построенный на гипотенузе прямоугольного треугольника, равен сумме квадратов, построенных на обоих катетах. Под суммой квадратов Евклид понимает, что суммарная площадь фигуры, составленной из двух квадратов, построенных на катетах, равна площади квадрата, построенного на гипотенузе. Обращение за помощью к геометрии здесь вполне понятно. Если числа 1 и √2 рассматривать как длины, т.е. как отрезки прямых, то принципиальное различие между 1 и √2 сглаживается и почти перестает быть заметным.
Проблема, возникшая в связи с появлением иррациональных чисел, была шире, чем проблема численного представления длин, площадей и объемов, так как корни квадратных уравнений, например уравнения x2 − 2 = 0, вполне могли быть иррациональными числами. Греки классического периода решали такие уравнения геометрически, т.е. представляли их корни в виде отрезков, тем самым избегая необходимости обращаться к иррациональным числам. Так, если у вавилонян существовала формула для решения квадратного уравнения, то у греков сходную роль играло построение отрезка x, удовлетворяющего, скажем, уравнению х2 + ax = b2. Это направление в развитии математики получило название геометрической алгебры. Таким образом, «Начала» Евклида — трактат не только по геометрии, но и по алгебре.
Превращение всей математики, за исключением разве лишь теории целых чисел, в геометрию привело к нескольким важным последствиям. Прежде всего оно усилило разрыв между теорией чисел и геометрией, ибо несоизмеримые величины целиком подлежали юрисдикции геометрии — арифметике (теории чисел) они были, так сказать, «неподсудны». Со времен Евклида между теорией чисел и геометрией приходилось проводить резкую границу.{63} А поскольку геометрия охватывала значительную часть математики, именно она и стала (по крайней мере до XVII в.) основой почти всей «строгой» математики. Мы до сих пор называем x2 «икс квадратом», x3 — «икс кубом», а не x соответственно во второй и в третьей степени, потому что некогда под x2 и x3 понимался лишь геометрический смысл этих величин.
Разумеется, геометрическое представление чисел и операций над ними не очень подходило для практических целей. Логически вполне удовлетворительно представлять произведение √2∙√3 как площадь прямоугольника. Но если требуется вычислить это произведение, то такого представления явно недостаточно. В естествознании и технике геометрические фигуры значительно менее полезны, чем численный ответ, полученный с требуемой точностью. В приложениях математики и в технике интерес представляют главным образом количественные результаты. Судоводителю в открытом море необходимо знать местоположение судна — численные значения его координат в градусах широты и долготы. Чтобы строить прочные и надежные здания, мосты, суда и плотины, также необходимо знать количественные меры длин, площадей и объемов деталей каждого сооружения. Более того, количественные характеристики, размеры, деталей сооружения необходимо знать заранее, до того как начнется постройка. Но греки классического периода, превыше всего ценившие строгие рассуждения и с пренебрежением относившиеся к приложениям математики в торговых расчетах, навигации, строительстве и составлении календарей, были удовлетворены полученным геометрическим решением проблемы иррациональных чисел.
На смену греческой цивилизации эпохи высокой классики (афинский период) около III в. до н.э. пришла эпоха эллинизма (александрийский период), сложившаяся в результате слияния классической греческой культуры с культурами Египта и Вавилона (гл. I). С точки зрения логики математика александрийского периода представляла собой любопытное смешение дедуктивных и эмпирических подходов. Наиболее выдающиеся математики александрийской эпохи Архимед и Аполлоний следовали образцу аксиоматической, дедуктивной геометрии «Начал» Евклида. Даже в своих трудах по механике Архимед начинал с аксиом и доказывал теоремы, став предтечей Ньютона и его последователей, создавших «математическую физику». Но под влиянием более прагматичных египтян и вавилонян александрийцы начали использовать математику и для удовлетворения запросов практики. В Александрии были выведены формулы, позволяющие вычислять количественные меры длин, площадей и объемов. Так, Герон (I в.) в своем сочинении «Метрика» привел формулу для вычисления площади S треугольника.{64}
где a, b, c — длины сторон треугольника, p — его полупериметр. Вычисление площади треугольника по формуле Герона нередко приводит к иррациональным числам. Формула Герона замечательна еще в одном отношении: в отличие от греков эпохи высокой классики, которые считали бессмысленным произведение более чем трех чисел, поскольку ему нельзя было придать геометрический смысл, Герон был чужд подобных предрассудков. Во многих чистых и прикладных науках, развитых греческими учеными александрийского периода — составление календаря, измерение времени, навигационные расчеты, оптика, география, пневматика и гидростатика (гл. I), — иррациональные числа находили самое широкое применение.
Высшим достижением александрийцев стало создание Гиппархом и Птолемеем количественной астрономии — геоцентрической системы мира, позволившей человеку предсказывать движение планет, Солнца и Луны (гл. I). Для построения своей количественной теории Гиппарх и Птолемей разработали тригонометрию — область математики, занимающуюся вычислением одних элементов треугольника по данным о других его элементах. Так как подход Птолемея к построению тригонометрии отличался от принятого в то время, ему пришлось вычислять длины хорд окружности. Хотя для получения основных результатов об отношениях длин одних хорд к длинам других Птолемей использовал дедуктивно-геометрический метод, в процессе вычислений длин хорд (а именно они и были конечной целью расчетов) он широко применял арифметику и зачатки алгебры. Длины большинства хорд выражались иррациональными числами. Птолемей довольствовался получением рациональных приближений нужных ему величин, но в ходе вычислений, не колеблясь, употреблял и иррациональные числа.
Арифметика и алгебра, столь свободно используемые александрийцами, которым они достались по наследству от египтян и вавилонян, были лишены логической основы. Птолемей и другие ученые александрийского периода, как правило, перенимали у древних египтян и вавилонян эмпирический подход к математике. Такие иррациональные числа, как π, √2, √3 и другие, вводились некритически и в случае необходимости заменялись рациональными приближениями. Наиболее известный пример использования иррациональных чисел — приближенное вычисление Архимедом числа π. По оценкам Архимеда, значение π заключено между 31/7 и 310/71. Независимо от того, знал или нет Архимед, что число π иррационально, найденные им приближенные значения π содержали нескончаемые нагромождения квадратных корней ([33], с. 266-270, 528-553), а извлечение квадратного корня чревато появлением иррациональных чисел, о чем не мог не знать Архимед.
Для нашего повествования возрождение александрийскими математиками египетской и вавилонской алгебры, не зависящей от геометрии, имеет ничуть не меньшее значение, чем свободное использование иррациональных чисел. Выдающуюся роль в «оживлении» старой традиции сыграли Герон и еще один представитель александрийской школы — Диофант (примерно III в.). И Герон, и Диофант считали, что алгебраические и арифметические задачи представляют самостоятельный интерес и что обращение к геометрии излишне, поскольку не придает ни большей значимости задачам, ни большей логичности решениям. Герон формулировал и решал алгебраические задачи чисто арифметическими средствами. Например, дан квадрат, такой, что сумма его площади и периметра равна 896{65}; требуется найти сторону квадрата. Чтобы решить квадратное уравнение, к которому сводится задача, Герон добавляет к обеим частям полученного равенства по 4 и извлекает из них квадратный корень. Герон не доказывает правильности своих действий, а лишь указывает, в какой последовательности их надлежит выполнить. В работах Герона имеется немало задач такого рода.
В своей «Геометрике» Герон говорит о сложении площади круга, длины окружности и диаметра. Разумеется, под этим он понимает сложение численных значений этих величин. Говоря об умножении квадрата на квадрат, Герон также имеет в виду вычисление произведения тех чисел, которыми выражаются площади квадратов. Тем самым Герон как бы осуществил перевод многого из того, что достигла геометрическая алгебра древних греков, на язык арифметических и алгебраических операций. Некоторые из задач, рассмотренных Героном и его ближайшими последователями, в точности совпадают с задачами, встречающимися в вавилонских и египетских текстах за 2000 лет до н.э. Следует подчеркнуть, что свои алгебраические работы греки излагали в описательной манере. Ни к какой символике они не прибегали. Не приводили они и доказательств правильности используемых приемов. Со времен Герона задачи, приводящие к уравнениям, стали довольно распространенным типом головоломок.
В александрийский период алгебра достигла своего наивысшего расцвета в трудах Диофанта. О происхождении и жизни этого ученого почти ничего не известно. К сожалению, труды Диофанта, намного превосходившие по глубине и значимости сочинения его современников, появились слишком поздно, чтобы оказать сколько-нибудь заметное влияние на развитие математики того времени; разрушительная волна (гл. II) уже надвигалась, погребая под собой греческую цивилизацию. Несколько книг, написанных Диофантом, безвозвратно утеряно, однако шесть частей величайшего сочинения Диофанта «Арифметика», содержавшего, по утверждению самого автора, всего тринадцать частей, дошли до нашего времени [34]. Подобно египетскому папирусу Ринда, «Арифметика» Диофанта представляет собой сборник разрозненных задач. В посвящении говорится, что «Арифметика» задумана как серия задач, призванных помочь одному из учеников Диофанта овладеть различными видами чисел (Диофант [34], с. 41).
Одной из значительных заслуг Диофанта является введение в алгебру некоторой символики. Поскольку мы располагаем не подлинными рукописями самого Диофанта, а лишь поздними (датируемыми не ранее чем XIII в.) копиями, трудно говорить с уверенностью, какими именно символами пользовался сам Диофант. Известно лишь, что он ввел символы, соответствующие нашим обозначениям x, степеням неизвестного x вплоть до x6 и 1/x. Появление такой символики замечательно само по себе, но еще больший интерес представляет введение степеней выше третьей, поскольку, как мы уже отмечали, греки классического периода игнорировали произведения более чем трех сомножителей, так как считали их не имеющими геометрического смысла. Но если подходить к умножению с чисто арифметических позиций, то произведения более трех сомножителей, разумеется, становятся вполне законными. Именно такой подход к произведениям трех и более чисел был избран Диофантом.
Свои решения Диофант излагал словесно — так, как мы пишем прозу. Все необходимые действия он производил исключительно арифметически, не прибегая к геометрии для иллюстрации или в подтверждение своих рассуждений. Произведение (x − 1)(x − 2) Диофант вычислял чисто алгебраически, как это делаем мы. Использовал он и алгебраические тождества, например равенство a2 − b2 = (а − b)(a + b) и более сложные. Строго говоря, в своих вычислениях Диофант выполнял действия, основанные на использовании алгебраических тождеств, хотя сами тождества в явном виде у него не встречались.
Алгебра Диофанта обладала еще одной особенностью: Диофант охотно решал неопределенные уравнения, например одно уравнение с двумя неизвестными. Такие уравнения математики рассматривали и до Диофанта. Так, пифагорейцы нашли целочисленные решения уравнения{66} x2 + y2 = z2. Аналогичные уравнения рассматривались и в других сочинениях. Но Диофант был первым, кто предпринял систематические и обширные исследования неопределенных уравнений, став тем самым основателем нового раздела алгебры, называемого ныне диофантовым анализом.{67}
Хотя применение алгебры снискало Диофанту широкую известность, нельзя не отметить, что он признавал только положительные рациональные корни и отбрасывал все остальные. Даже при решении квадратного уравнения с одним неизвестным, имеющего два положительных рациональных корня, Диофант приводил только один (больший) корень. Если же уравнение имело два отрицательных корня, иррациональные или комплексные, то Диофант отвергал такое уравнение, считая его неразрешимым. Если уравнение, имело иррациональные корни, то Диофант шаг за шагом, от конца к началу, прослеживал полученное решение и показывал, как изменить исходное уравнение, чтобы новое уравнение имело рациональные корни. В этом Диофант отличался от Герона и Архимеда. Герон был инженером, и возникавшие в его расчетах иррациональные числа не пугали его. Для Герона иррациональные величины были вполне приемлемыми, хотя он, разумеется, и заменял их рациональными приближениями. Архимед также стремился получить точные решения и, если ответы выражались иррациональными числами, указывал границы, в которых те были заключены.
Нам не известно доподлинно, как Диофант пришел к своим уравнениям (см. [34]). Поскольку Диофант не пользовался геометрией, маловероятно, что он лишь переложил методы Евклида, приспособив их к решению квадратных уравнений. К тому же у Евклида не встречаются неопределенные уравнения: Диофант был первым из математиков, занявшихся систематическим исследованием таких уравнений. Мы не знаем, существовала ли преемственность в науке в конце александрийского периода, и поэтому нам трудно установить, в какой мере сказались на работах Диофанта идеи его древнегреческих предшественников. Использованные Диофантом методы решения уравнений имеют гораздо больше общего с традициями вавилонской математики. Ее влияние на Диофанта косвенно подтверждается и другими фактами. Однако алгебра Диофанта существенно отличается от вавилонской: Диофант ввел символику и стал систематически решать неопределенные уравнения. В целом деятельность Диофанта стала заметной вехой в истории алгебры.
Работы Герона и Диофанта, Архимеда и Птолемея по различным вопросам арифметики и алгебры не отличались по своему стилю от «рецептурных» текстов египтян и вавилонян, содержавших четкие указания относительно того, что и в какой последовательности следует делать. Дедуктивные, проводимые «по всей форме» доказательства геометрии Евклида, Аполлония и Архимеда были здесь преданы забвению. Все проблемы рассматривались индуктивно: автор указывал способ решения конкретной задачи, предположительно пригодный для решения более широкого круга задач, границы которого были нечетки. Нужно ли говорить, что при этом различные типы чисел (целые числа, дроби, иррациональные числа) вообще не определялись, если не считать маловразумительных определений целых чисел, предложенных Евклидом. Не существовало и аксиоматической основы, на которой можно было бы построить дедуктивную систему, пригодную для решения арифметических и алгебраических проблем.
Таким образом, греки завещали потомкам две совершенно различные математические науки: с одной стороны — дедуктивную, систематически развитую и излагаемую, хотя и не свободную от ошибок, геометрию, с другой — эмпирическую арифметику и алгебру как ее обобщение. Поскольку, согласно представлениям греческих мыслителей классического периода, математические результаты должны были выводиться дедуктивно и базироваться на явно заданной аксиоматической основе, возникновение независимых арифметики и алгебры, не обладающих собственной логической структурой, привело к одной из величайших аномалий в истории математики.
Индийцы и арабы, подхватившие эстафету развития математики после окончательного уничтожения арабами эллинистической (александрийской) греческой цивилизации, в еще большей мере нарушили концепцию математики, сложившуюся у греков классического периода. Подобно своим предшественникам — грекам, индийские и арабские математики использовали целые числа и дроби, но они, не колеблясь, оперировали и иррациональными числами. Именно они ввели новые, верные, правила сложения, вычитания, умножения и деления иррациональных чисел. Как же индийцам и арабам удалось придумать правила, лишенные логического обоснования и тем не менее оказавшиеся верными? Загадка решается довольно просто: индийцы и арабы рассуждали по аналогии. Так, правило √ab = √a∙√b они считали верным для любых чисел a и b, поскольку оно выполнялось, например, в случае √36 = √4∙√9. Фактически индийцы считали, не оговаривая этого специально, что с квадратными корнями из целых чисел можно обращаться так же, как с целыми числами.
Индийцы были менее изощренными математиками, чем греки, и не видели, какие логические трудности таятся в понятии иррационального числа. Интересуясь «рецептурной», или алгоритмической, стороной вычислений, индийцы не заметили те различия, которым греки придавали столь большое значение. Но производя сложение и вычитание, умножение и деление иррациональных чисел по таким же правилам, по каким производятся арифметические операции над рациональными числами, индийцы внесли посильный вклад в развитие математики. Кроме того, вся их арифметика была полностью независимой от геометрии.
Введя в обращение отрицательные числа для обозначения денежных долгов, или пассива, индийцы преумножили и без того многочисленные логические трудности математиков (положительные числа при таком подходе должны означать наличность, или актив). Первым ввел отрицательные числа Брахмагупта (около 628 г.), но он лишь сформулировал правила четырех арифметических действий над отрицательными числами, не приведя никаких определений, аксиом или теорем. Выдающийся индийский математик XII в. Бхаскара обратил внимание на то, что квадратный корень из положительного числа имеет два значения — положительное и отрицательное. Бхаскара рассмотрел также вопрос о квадратном корне из отрицательных чисел и пришел к выводу, что такой корень не существует, так как иначе его квадрат должен был бы быть отрицательным числом, а отрицательное число не может быть квадратом.
Далеко не все индийцы восприняли нововведение Бхаскары. Даже сам Бхаскара, приводя в качестве решений одной задачи два числа (50 и −50), утверждал: «Второе значение следует отбросить как неприемлемое, ибо люди не одобряют отрицательных решений». Тем не менее отрицательные числа вскоре после того, как они были введены, начали распространяться все шире.
Индийцам удалось достичь некоторых успехов и в алгебре. Для описания операций и неизвестных они ввели сокращенные слова и специальные символы, И хотя символика индийцев не была всеобъемлющей, их алгебра обладала определенными преимуществами по сравнению с алгеброй Диофанта. Решая задачу, индийцы указывали только основные этапы решения, не приводя никаких обоснований или доказательств. Отрицательные и иррациональные корни квадратных уравнений индийцы рассматривали наряду с положительными и рациональными корнями.
В действительности индийцы обращались с алгеброй еще более свободно, чем мы здесь говорили. Например, из тригонометрии известно, что sin2α + cos2α = 1 при любом угле α. Для Птолемея, одного из создателей тригонометрии и автора ее первого систематического изложения, это соотношение было геометрическим утверждением о соотношении между длинами хорд в окружности. Хотя, как мы отмечали, Птолемей свободно пользовался арифметикой, выражая неизвестные длины через известные, он в основном опирался на геометрию и приводимые им аргументы были геометрическими. Индийцы же оперировали с тригонометрическими отношениями, по существу, так, как мы сейчас, — для них это были просто числа. Вычисляя cos α по известному sin α, они свободно использовали соотношение sin2α + cos2α = 1, применяя затем простейшие преобразования своих формул. Таким образом, при выводе и записи соотношений между синусами и косинусами углов индийская тригонометрия полагалась не столько на геометрию, сколько на алгебру.
Мы видим, что арифметика и вычислительные возможности математики интересовали индийцев несравненно больше, чем дедуктивные схемы рассуждений, и что основной вклад они внесли именно в развитие арифметики и разработку практических приемов вычислений. Математику индийцы называли ганита, что означает «наука о вычислениях». Они предложили немало удобных методов вычислений и усовершенствовали известные ранее приемы счета, но, судя по всему, совсем не рассматривали доказательств. Индийцы пользовались определенными математическими правилами, не задумываясь над логической обоснованностью своих действий. Ни одну область математики индийцы не обогатили ни общими методами, ни радикально новыми идеями.
Можно с уверенностью сказать, что индийцы не сознавали значимости собственного вклада в развитие математики. Те немногие удачные идеи, которые они внесли в математику (введение особых символов для обозначения чисел от 1 до 9; переход от позиционной системы записи чисел с основанием 60 к десятеричной системе; введение отрицательных чисел и признание нуля полноправным числом), возникали случайно, и, судя по всему, индийские математики не понимали истинной значимости таких нововведений. Индийцы с полным безразличием относились к математической строгости. Выдвигаемые ими тонкие идеи они с поразительным равнодушием смешивали с грубыми соображениями египтян и вавилонян. Среднеазиатский ученый-энциклопедист аль-Бируни (973 — около 1050) писал об индийцах:
Я могу сравнить то, что содержится в их книгах по арифметике и другим математическим наукам, только с перламутром, смешанным с незрелыми финиками, или с жемчужинами вперемешку с навозом, или с кристаллами, перемешанными с камешками. Обе части имеют для них равную ценность, поскольку у них нет примера восхождения к вершинам логического познания.
([35], с. 69.)Так как индийцы питали особую склонность к арифметике и внесли основной вклад в развитие арифметики и алгебры, их деятельность привела к расширению той части математики, которая опиралась на эмпирическую и интуитивную основу.
В то время как индийцы практически игнорировали дедуктивную геометрию, арабы предприняли критическое изучение геометрических работ древних греков и по достоинству оценили роль дедуктивного доказательства в становлении геометрии. Однако в отношении к арифметике и алгебре, которым в арабской математической литературе отводилась более значительная роль, чем геометрии, арабы фактически мало чем отличались от индийцев. Арабов, как и их индийских предшественников, устраивало рассмотрение арифметики и алгебры на эмпирической, конкретной и интуитивной основе. Правда, некоторые арабские математики приводили геометрические соображения в обоснование решения квадратных уравнений, но в целом подход к решению и методология у арабов в отличие от греков классического периода по существу были алгебраическими. Кубические уравнения, например уравнение x3 + 3x2 + 7x − 5 = 0, арабы решали, используя только геометрические построения, так как алгебраический метод решения таких уравнений еще не был открыт. Но их геометрические построения было бы невозможно выполнить с помощью циркуля и линейки, а доводы, приводимые в обоснование построений, не имели строго дедуктивного характера. На протяжении всех столетий, пока арабы активно занимались математикой, в своих оригинальных работах они мужественно сопротивлялись соблазнам точного рассуждения.
Наиболее интересной особенностью математики индийцев и арабов является их внутренне противоречивое представление о предмете математического исследования. То, что египтяне и вавилоняне были склонны воспринимать немногие известные им арифметические и геометрические правила на эмпирической основе, само по себе не удивительно. Эмпирическая основа естественна почти для всех видов человеческого знания. Но индийцам и арабам было известно совершенно новое понятие математического доказательства, доставшееся им в наследство от греков. Однако они не позаботились о том, чтобы применить понятие дедуктивного доказательства в арифметике и алгебре. Отношение индийцев к математике можно в какой-то степени объяснить. Индийцы не придавали особого значения тем немногим достижениям греческой математики классического периода, которые были им известны, и следовали в основном александрийскому подходу к арифметике и алгебре. Но арабы были хорошо осведомлены о греческой геометрии и даже, как упоминалось, предприняли попытку критического пересмотра результатов своих предшественников. Кроме того, на протяжении нескольких веков и арабы, и индийцы находились в благоприятных для занятий чистой наукой условиях — и ничто не вынуждало математиков жертвовать доказательством ради немедленной практической отдачи. Как могло случиться, что два эти народа подошли к развитию двух областей математики совершенно иначе, чем греки классического периода и многие из александрийцев?
На этот вопрос существует несколько возможных ответов. Прежде всего, индийские и арабские математики, несмотря на арабские комментарии к дедуктивной геометрии, по существу некритически отнеслись к греческому наследию. Возможно, именно поэтому они восприняли математику такой, какой она пришла к ним: геометрия, по их мнению, должна была оставаться дедуктивной, арифметика и алгебра — эмпирическими и эвристическими. Возможно и другое объяснение: и индийцы, и арабы, в особенности последние, по достоинству оценили высокие стандарты строгости в геометрии, столь разительно отличающиеся от требований, предъявляемых к арифметике и алгебре, но не сумели подвести под арифметику надлежащий логический фундамент. В пользу такого предположения говорит хотя бы то, что арабы приводили в подтверждение решений квадратных и кубических уравнений некоторые геометрические соображения.
Не исключены и другие объяснения. Так, индийцы и арабы отдавали предпочтение арифметике, алгебре и алгебраической формулировке тригонометрических соотношений. Подобное предрасположение может свидетельствовать об ином складе ума, оно может быть обусловлено и какими-то особенностями индийской и арабской культур. Обе эти цивилизации превыше всего ставили запросы практики, а для удовлетворения практических потребностей — как мы уже отмечали, говоря о развитии математики в александрийский период, — были необходимы количественные результаты, которые давали именно арифметика и алгебра. В пользу предположения о различных складах ума косвенно свидетельствует и реакция европейцев на математическое наследие, доставшееся им от индийцев и арабов. Как мы увидим в дальнейшем, европейцы были гораздо сильнее, чем арабы и индийцы, обеспокоены логическими проблемами в построении арифметики и геометрии. Безрассудная смелость индийцев и арабов вывела на передний план арифметику и алгебру (если говорить о практической полезности), поставив их почти наравне с геометрией (см., например, [9], [36], [37]).
Когда в конце средневековья и в период Возрождения европейцы — отчасти через арабов, отчасти непосредственно из сохранившихся греческих рукописей — ознакомились с существующим уровнем достижений математики, они своеобразно разрешили дилемму, возникшую в связи с разделением математики на два типа «знания». Настоящей математикой, по мнению европейцев, заведомо была только дедуктивная геометрия греков. Но в то же время они не могли и не хотели отрицать полезность и эффективность арифметики и алгебры, которые хотя и были лишены твердого логического фундамента, но уже значительно усовершенствовались по сравнению с классической древностью.
Первая проблема, с которой столкнулись европейцы, сводилась к старому вопросу о том, как следует относиться к иррациональным числам. Итальянский математик Лука Пачоли (ок. 1445-1514), немецкий монах и профессор математики в Йене Михаэль Штифель (1486(?)-1567), итальянский врач и ученый Джироламо Кардано (1501-1570) и фламандский военный инженер Симон Стевин (1548-1620) свободно использовали иррациональные числа, следуя здесь традиции индийцев и арабов, и ввели много новых типов иррациональностей. Так, Штифель оперировал с иррациональными выражениями вида а Джироламо Кардано — с иррациональностями, содержащими кубические корни. Примером того, насколько свободно и широко европейцы использовали иррациональности, может служить выражение для числа π, полученное Франсуа Виетом (1540-1603). Рассматривая правильные многоугольники с 4, 8, 16 и более сторонами, вписанные в окружность единичного радиуса, Виет обнаружил, что
Иррациональные числа нашли широкое применение и в связи с одним из новых достижений математики эпохи Возрождения — логарифмами. Логарифмы положительных чисел были изобретены в конце XVI в. Джоном Непером{68} (1550-1617) для той самой цели, для которой они с тех пор и употребляются, — для ускорения арифметических вычислений. И хотя логарифмы большинства положительных чисел иррациональны (а предложенный Непером метод вычисления логарифмов основан на свободном обращении с иррациональными числами), все математики приветствовали полезное изобретение, избавившее их от излишнего труда.
Вычисления с иррациональностями производились без каких-либо затруднений, но кое-кого все же беспокоила проблема, можно ли считать иррациональные числа «настоящими». Так, Штифель в своем главном труде «Полная арифметика» (Arithmetica integra, 1544), посвященном арифметике и алгебре, вторя Евклиду, высказывал предположение, что величины (геометрическая теория Евклида) отличны от чисел; однако, следуя духу достижений своего времени, он выражал иррациональные числа в десятичной системе. Штифеля беспокоило, что для записи иррационального вдела в десятичной системе требуется бесконечно много знаков. С одной стороны, рассуждал он,
так как при доказательстве [свойств] геометрических фигур иррациональные числа заменяют рациональные всякий раз, когда те отказываются служить нам, и доказывают все то, что не могли бы доказать те… приходится признать, что они [иррациональные числа] являются истинными числами. К тому же нас вынуждают и результаты, проистекающие из их применения, которые нельзя не признать подлинными, достоверными и незыблемыми. С другой стороны, иные соображения заставляют нас отрицать, что иррациональные числа вообще являются числами. Такое сомнение подкрепляется тем, что если мы попытаемся записать иррациональные числа в десятичной форме… то обнаружим, что они непрестанно ускользают от нас и ни одно из них не удается постичь точно… Число же, которому в силу его природы недостает точности, не может быть названо истинным числом… Следовательно, подобно тому как не является числом бесконечность, иррациональное число также не является истинным числом, а как бы скрыто от нас в облаке бесконечности.
Далее Штифель добавляет, что настоящие числа — это либо целые числа, либо дроби, а поскольку иррациональные числа не принадлежат ни к тем, ни к другим, их нельзя считать настоящими числами. Столетие спустя Паскаль и Барроу утверждали, что иррациональные числа не более чем символы, не существующие независимо от геометрических величин, и что логика арифметических операций, производимых над иррациональными числами, должна быть обоснована с помощью теории величин Евклида, хоть эта теория и не в полной мере отвечала поставленной так задаче.{69}
Высказывались и иные утверждения: по мнению некоторых европейских математиков, иррациональные числа с полным основанием можно было считать настоящими числами. Стевин провозгласил иррациональности числами и построил ряд все более точных приближений их с помощью рациональных чисел. Джон Валлис (1616-1703) в своей «Алгебре» (1685) также признал, что иррациональные числа являются числами в полном смысле этого слова. Однако ни Стевин, ни Валлис не привели никаких логических аргументов в подтверждение своего мнения.
Более того, когда Декарт в своей «Геометрии» (1637) и Ферма в рукописи 1629 г. разработали аналитическую геометрию, ни тот, ни другой не имели ясного представления об иррациональных числах. Тем не менее оба исходили из предположения, что между всеми положительными действительными числами и точками на прямой существует взаимно-однозначное соответствие, т.е. что расстояние от любой точки на прямой до какой-то точки, принятой за начало отсчета, может быть выражено числом. Так как многие из чисел при этом оказывались бы иррациональными, Декарт и Ферма тем самым неявно допускали существование иррациональных чисел, несмотря на то что тогда оно еще никак не было логически обосновано.
Европейцам пришлось столкнуться и с проблемой отрицательных чисел. Эти числа стали известны в Европе из арабских текстов, но большинство математиков XVI-XVII вв. не считали отрицательные числа «настоящими» или утверждали, что отрицательные числа не могут быть корнями уравнений. Никола Шюке [1445(?)-1500(?)] в XV в. и Штифель в XVI в. заявляли, что отрицательные числа лишены всякого смысла. Кардано включал отрицательные величины в число корней рассматриваемых им уравнений, но полагал, что отрицательные корни — это просто символы, не имеющие реального смысла. Отрицательные корни уравнений Кардано называл фиктивными и противопоставлял их действительным, т.е. положительным, корням. Виет полностью отвергал отрицательные числа. Декарт принимал их лишь с определенными оговорками. Отрицательные корни уравнений Декарт называл ложными на том основании, что они якобы представляют числа, которые меньше, чем ничто. Однако Декарту удалось показать, как, исходя из любого уравнения, можно построить другое уравнение, корни которого больше корней исходного на любую заданную величину. Тем самым Декарт указал способ, позволяющий преобразовать уравнение с отрицательными корнями в уравнение с положительными корнями. «Фиктивные» корни при таком преобразовании переходили в действительные, и поэтому Декарт неохотно смирился с отрицательными числами, но сомнения и тревоги так и не оставили его.{70} Паскаль считал, например, вычитание числа 4 из 0 операцией, лишенной всякого смысла. В «Мыслях» Паскаля есть выразительное признание: «Я знаю людей, которые никак не могут понять, что если из нуля вычесть четыре, то получится нуль».
Интересный довод против отрицательных чисел выдвинул близкий друг Паскаля теолог и математик Антуан Арно (1612-1697). Арно усомнился в том, что −1:1 = 1:−1. Как может выполняться такое равенство, спрашивал он, если −1 меньше, чем 1? Ведь меньшее число не может относиться к большему так же, как большее к меньшему. Лейбниц, признав правильность возражения Арно, указал, что такого рода пропорции вполне допустимо использовать в вычислениях, ибо по форме они правильны, и сравнил действия, производимые над отрицательными числами, с действиями, производимыми над мнимыми величинами, введенными незадолго до этого. Тем не менее Лейбниц затемнил существо дела, предложив называть мнимыми (несуществующими) все величины, не имеющие логарифма. По мнению Лейбница, число −1 не существует, так как положительные логарифмы соответствуют числам, большим 1, а отрицательные логарифмы (!) соответствуют числам, заключенным между 0 и 1. Следовательно, для отрицательных чисел логарифмов просто «не хватает». Действительно, если бы нашлось какое-нибудь число, соответствующее log(−1), то половина его, как следует из теории логарифмов, соответствовала бы log√−1, a √−1 заведомо не имеет логарифма.
Одним из первых алгебраистов, умышленно не переносившим отрицательный коэффициент в другую часть уравнения, был Томас Гарриот (1560-1621). Однако он отвергал отрицательные корни и даже «доказал» в своем сочинении «Практические аналитические искусства» (Artis analyticae praxis, 1631), опубликованном уже после его смерти, что отрицательные корни не существуют. Ясные и четкие определения отрицательных чисел дал Рафаэль Бомбелли (XVI в.), хотя ему и не удалось обосновать правила действий над отрицательными числами, поскольку в то время отсутствовала логическая основа, необходимая для обоснования положительных чисел.{71} Стевин рассматривал уравнения с положительными и отрицательными коэффициентами и считал отрицательные корни вполне допустимыми. В своем сочинении «Новое изобретение в алгебре» (Invention nouvelle en algèbre, 1629) Альбер Жирар (1595-1632) не проводил никакого различия между отрицательными и положительными числами и указывал оба корня квадратного уравнения, даже если они были отрицательными. И Жирар, и Гарриот употребляли один и тот же знак «минус» для обозначения как операции вычитания, так и отрицательных чисел, хотя следовало бы ввести два отдельных символа, поскольку отрицательное число — независимое понятие, в то время как вычитание — одна из четырех арифметических операций.
В целом можно сказать, что немногие математики XVI-XVII вв. свободно обращались с отрицательными числами или легко восприняли их введение, большинство заведомо не признавали отрицательные числа «настоящими» корнями алгебраических уравнений. По поводу отрицательных чисел среди математиков бытовали самые нелепые предрассудки. Так, Валлис, придерживавшийся прогрессивных для своего времени взглядов и не отвергавший отрицательных чисел, был убежден в том, что отрицательные числа больше, чем бесконечность, и в то же время меньше нуля. В своей «Арифметике бесконечно малых» (Arithmetica infinitorum, 1655) Валлис доказывал, что поскольку отношение a/0 при положительном a обращается в бесконечность, то, когда знаменатель становится отрицательным (отношение a/b с отрицательным b), отношение должно стать больше, чем a/0, так как отрицательный знаменатель меньше нуля. Следовательно, заключал Валлис, отрицательные числа должны быть больше, чем бесконечность.
Некоторые из наиболее передовых мыслителей того времени — Бомбелли и Стевин — предложили представление чисел, которое, несомненно, способствовало принятию всей системы вещественных чисел. Бомбелли предположил, что существует взаимно-однозначное соответствие между вещественными числами и длинами отрезков, отложенными на прямой (с заданной единицей длины), и ввел для длин четыре основных действия. По мнению Бомбелли, вещественные числа и производимые над ними арифметические действия определяются длинами отрезков и соответствующими геометрическими операциями. Тем самым Бомбелли рационализировал систему вещественных чисел на геометрической основе. Стевин также рассматривал вещественные числа как длины и считал, что при подобной интерпретации исчезают все трудности, связанные с введением иррациональных чисел. Разумеется, при таком подходе вещественные числа оказались тесно связанными с геометрией.
Так и не преодолев трудностей, связанных с иррациональными и отрицательными числами, европейцы еще более увеличили свое, и без того тяжкое, бремя, когда набрели на новое открытие, значение которого они осознали далеко не сразу, — комплексные числа. Новые числа возникли, когда математики распространили операцию извлечения квадратного корня на любые числа, которые только могут встретиться, например при решении квадратных уравнений. Так, Кардано в гл. 37 своего трактата «Великое искусство» (Ars magna, 1545) поставил и решил следующую задачу: разделить число 10 на две части, произведение которых равно 40. Эта на первый взгляд нелепая задача допускает решение, поскольку, как заметил Д'Аламбер, «алгебра щедра: она нередко дает больше, чем от нее можно было бы требовать». Если x — одна из частей, то по условиям задачи x(10 − x) = 40 и мы получаем для x квадратное уравнение.
Решив его, Кардано нашел корни 5 + √−15 и 5 − √−15, относительно которых заметил, что эти «сложнейшие величины бесполезны, хотя и весьма хитроумны». «Умолчим о нравственных муках» и умножим 5 + √−15 на 5 − √−15. Произведение этих двух чисел равно 25 − (−15) = 40. По этому поводу Кардано философски заметил: «Арифметические соображения становятся все более неуловимыми, достигая предела столь же утонченного, сколь и бесполезного».
Еще раз Кардано столкнулся с комплексными числами в связи с алгебраическим методом решения кубических уравнений, который он изложил в своей книге. Хотя Кардано искал и отбирал только вещественные корни, выведенная им формула давала и комплексные корни (если уравнение допускало комплексные корни). Небезынтересно отметить, что в том случае, когда все три корня уравнения были вещественными, формула Кардано приводила к комплексным числам, по которым можно было найти вещественные корни.{72} Таким образом, Кардано мог не придавать большого значения комплексным числам, но, поскольку он не знал, как извлекать из комплексных чисел кубический корень и, следовательно, как получать вещественные корни, ему так и не удалось преодолеть эту трудность. Вещественные корни Кардано находил другим способом.
Бомбелли также рассматривал комплексные числа как решения кубического уравнения и сформулировал (практически в современном виде) правила выполнения четырех арифметических операций над комплексными числами, однако считал их бесполезной и хитроумной «выдумкой». Альбер Жирар признавал комплексные числа, по крайней мере как формальные решения уравнений. В частности, в работе «Новое изобретение в алгебре» Жирара говорится следующее: «Можно было бы спросить, для чего нужны эти невозможные решения [комплексные корни]. Я отвечу — по трем причинам: для незыблемости общих правил; чтобы не было других решений и по причине их полезности». Однако передовые взгляды Жирара не оказали сколько-нибудь заметного влияния на его коллег.
Декарт также был среди тех, кто отвергал комплексные корни. Именно он ввел в употребление термин «мнимое число». В своей «Геометрии» Декарт утверждал: «Ни истинные, ни ложные [отрицательные] корни не бывают всегда вещественными, иногда они становятся мнимыми». Декарт считал, что отрицательные корни можно сделать «действительными», преобразуя исходное уравнение в уравнение с положительными корнями, тогда как комплексные корни превратить в вещественные невозможно. Следовательно, комплексные корни с полным основанием можно считать не настоящими, а мнимыми.
Даже Ньютон не придавал особого значения комплексным корням, вероятнее всего потому, что в его время комплексные корни еще не имели физического смысла. Так, во «Всеобщей арифметике» ([139], изд. 2-е, 1728) Ньютон говорит: «Корни уравнений часто должны быть невозможными [комплексными] именно потому, что они призваны выражать невозможные случаи задачи так, как если бы те были возможны». Иначе говоря, задачи, которые не допускают решений, имеющих физический или геометрический смысл, должны иметь комплексные корни.
Отсутствие ясности в вопросах, связанных с комплексными числами, часто демонстрируют на примере широкоизвестного высказывания Лейбница: «Дух божий нашел тончайшую отдушину в этом чуде анализа, уроде из мира идей, двойственной сущности, находящейся между бытием и небытием, которую мы называем мнимым корнем из отрицательной единицы». Хотя Лейбниц формально производил операции над комплексными числами, он не понимал их истинной природы. Желая хоть как-то обосновать те применения, которые он сам и Иоганн Бернулли нашли комплексным числам в математическом анализе, Лейбниц высказал надежду, что вреда от этого не будет.
Несмотря на отсутствие ясного понимания природы комплексных чисел в XVI-XVII вв., алгоритмическая сторона вычислений, производимых с вещественными и комплексными числами, усовершенствовалась и расширялась. В своей «Алгебре» (1685) Валлис показал, как геометрически представить комплексные корни квадратного уравнения с вещественными коэффициентами. По существу, Валлис утверждал, что комплексные числа ничуть не более бессмысленны, чем отрицательные числа, а так как последние можно изобразить точками направленной прямой, то комплексные числа можно представить точками плоскости. Валлис предложил несовершенное представление комплексных чисел и способ, позволяющий геометрически построить корни уравнения ax2 + bx + c = 0 для случая вещественных и комплексных корней. Хотя работа Валлиса оказалась правильной, ее предали забвению, поскольку в то время, математики еще не могли по достоинству оценить применение комплексных чисел.
Хотя в XVII в. в логике математики возникли и другие проблемы, мы рассмотрим их в следующей главе, а пока нас будут интересовать те трудности, с которыми столкнулись в XVIII в. математики, пытаясь осмыслить и обосновать все то, что они делали с иррациональными, отрицательными и комплексными числами, а также разобраться в алгебре. Что касается (положительных) иррациональных чисел, то, хотя они по-прежнему не были строго определены и их свойства по существу оставались неустановленными, все же чисто интуитивно такие числа были более приемлемы, поскольку по своим свойствам они в общем были близки к целым и дробным числам. Именно поэтому математики безбоязненно использовали их, не задумываясь ни о том, что собственно они означают, ни об их свойствах. Некоторые математики, в том числе и Эйлер, полагали, что логической основой теории иррациональных чисел служит теория величин Евдокса, изложенная в книге V «Начал» Евклида. Евдокс действительно создал теорию пропорций для величин, связанную с геометрией, но отнюдь не теорию иррациональных чисел.{69} Однако, что касалось иррациональных чисел, то здесь если не логика, то по крайней мере совесть ученых мужей XVII в. была чиста.
Отрицательные числа беспокоили математиков гораздо сильнее, чем иррациональные; возможно, это объяснялось тем, что отрицательные числа не имели столь очевидного геометрического смысла и правила операций над ними выглядели менее привычно. Хотя примерно с середины XVII в. отрицательные числа использовались весьма широко, они были лишены строгого определения и логического обоснования, и многие математики либо пытались каким-то образом восполнить этот пробел, либо оспаривали само применение отрицательных чисел. В статье «Отрицательное», написанной для знаменитой французской «Энциклопедии», один из величайших мыслителей Века разума Жан Лерон Д'Аламбер утверждал: «Если задача приводит к отрицательному решению, то это означает, что какая-то часть исходных предположений ложна, хотя мы и считали ее истинной», — и далее: «Если получено отрицательное решение, то это означает, что искомым решением служит дополнение к [соответствующему положительному] числу».{73}
Работа величайшего из математиков XVIII в. Леонарда Эйлера «Полное введение в алгебру» (1770) по праву принадлежит к числу самых значительных трудов по алгебре. В этой работе Эйлер обосновал эквивалентность операций вычитания величины −b и прибавления величины b, сославшись на то, что «погасить долг означает поднести дар». Равенство (−1)∙(−1) = +1 Эйлер доказал следующим образом. Произведение (−1)∙(−1), рассуждал он, может быть равно либо −1, либо +1, а поскольку ему удалось доказать, что 1∙(−1) = −1, то для произведения (−1)∙(−1) остается единственное возможное значение, а именно +1. В XVIII в. авторы даже наиболее выдающихся работ по алгебре не различали знак «минус» как символ операции вычитания и знак «минус» как символ отрицательного числа (например, −2).
На протяжении XVIII в. против отрицательных чисел выдвигалось немало возражений. Английский математик, член совета Кларе-колледжа в Кембридже и член Королевского общества, Фрэнсис Мазер (1731-1824) был автором солидных работ по математике и фундаментального трактата по страхованию жизни. В 1759 г. он опубликовал «Рассуждение о применении в алгебре знака минус». Мазер показал, как избежать отрицательных чисел (исключение составляли лишь числа, получаемые в том случае, когда из меньшего числа необходимо вычесть большее), и в частности отрицательных корней уравнения. Он произвел тщательную классификацию квадратных уравнений: уравнения с отрицательными корнями Мазер рассматривал отдельно, а сами отрицательные корни рекомендовал отбрасывать. Аналогичным образом он поступал и с кубическими уравнениями. Об отрицательных корнях Мазер говорил:
… Насколько я могу судить, они служат лишь для того, чтобы внести замешательство во всю теорию уравнений и сделать смутным и загадочным то, что по самой своей природе особенно ясно и просто… Чрезвычайно желательно поэтому не допускать отрицательные корни в алгебру, а если таковые все же возникнут, неукоснительно изгонять их. Имеются веские основания полагать, что если бы нам удалось избавиться от отрицательных корней, то тем самым были бы сняты возражения, выдвигаемые многими учеными и остроумными мужами против алгебраических вычислений как слишком сложных и наделенных почти непостижимыми для разума понятиями. Алгебра, или всеобщая арифметика, по самой своей природе, несомненно, является наукой не менее простой, ясной и пригодной для доказательства, чем геометрия.
Еще более ожесточенными были споры о смысле комплексных чисел и применении этих чисел. И без того трудное положение осложнилось здесь тем, что некоторые математики стали рассматривать логарифмы отрицательных чисел (а также комплексных чисел), которые также должны были являться комплексными числами.
С 1712 г. развернулась острая дискуссия о смысле комплексных чисел, и в частности о логарифмах отрицательных и комплексных чисел, в которой участвовали своими статьями и письмами Лейбниц, Эйлер и Иоганн Бернулли. Лейбниц и Бернулли воспользовались для обозначения комплексных чисел термином «мнимые», предложенным Декартом, понимая под мнимыми величинами (к ним они относили и отрицательные числа) числа, которые не существуют. Тем не менее и Лейбниц, и Бернулли, словно по волшебству, с немалой пользой применяли «несуществующие» числа в анализе, получая с их помощью, например, совершенно правильные формулы интегрирования: промежуточные выкладки, казалось бы, не имели смысла, но окончательный результат был верен.
Лейбниц заявлял, что логарифмы отрицательных чисел не существуют, и в доказательство приводил различные аргументы. Иоганн Бернулли считал, что log a = log(−a), и в подтверждение также ссылался на различные доводы. Одно из «доказательств» опиралось на хорошо известные свойства логарифмов положительных чисел:
log(−a) = 1/2∙log(−a)2 = 1/2∙log a2 = log a.
Другой аргумент, взятый Бернулли из математического анализа, приводил к тому же выводу. Переписка между Лейбницем и Иоганном Бернулли о логарифмах отрицательных чисел была весьма обширной, но — увы! — большинство утверждений, на которых настаивали обе стороны, были неверными.
К правильному решению проблемы пришел Эйлер. Свой результат он изложил в работе «Исследования о мнимых корнях уравнений» (1751). Окончательный ответ, правильный по существу, но полученный с помощью неправильных рассуждений, применим ко всем комплексным числам, в том числе и к вещественным числам (если y = 0, то комплексное число x + iy обращается в вещественное число x); он имеет следующий вид:
log(x + iy) = log(ρeiφ) = log ρ + i(φ + 2nπ){74},
где n — произвольное целое число. Однако современники Эйлера не поняли и не оценили эту его замечательную работу.
О своих результатах Эйлер сообщил в письме Д'Аламберу от 15 апреля 1747 г., где обратил внимание на то, что даже у любого положительного вещественного числа существует бесконечно много логарифмов. Лишь один из них является вещественным числом, и именно его мы обычно используем в своих вычислениях с вещественными числами. Ни обширная переписка, ни работа Эйлера не убедили Д'Аламбера, и в своей заметке «О логарифмах отрицательных величин» он выдвинул всевозможные метафизические, аналитические и геометрические аргументы против существования таких логарифмов. Д'Аламбер преуспел в своем намерении: ему удалось основательно запутать и без того сложную проблему. Свои расхождения с Эйлером Д'Аламбер пытался скрыть, утверждая, будто речь идет лишь о различиях в формулировках, а не о принципиальных разногласиях по существу вопроса.
Все участники острой полемики, развернувшейся вокруг проблемы расширения понятия числа, мыслили непоследовательно. В первой половине XVIII в. было принято считать, что некоторые операции над комплексными числами, например операция возведения комплексного числа в комплексную степень, могут привести к числам совершенно новой природы. Подобным представлениям положил конец Д'Аламбер, доказавший в своей работе «Размышления об общей причине ветров» (1747), что все операции, производимые над комплексными числами, порождают только комплексные числа. Доказательство Д'Аламбера было усовершенствовано Эйлером и Лагранжем, но решающий шаг здесь сделал именно Д'Аламбер. По-видимому, Д'Аламбер сознавал непоследовательность и даже противоречивость собственных представлений о комплексных числах. Во всяком случае, в «Энциклопедии», для которой он написал много математических статей, о комплексных числах ни разу не упоминается.{73}
Не было полной ясности в вопросах, связанных с комплексными числами, и у Эйлера. В своей «Алгебре» (1770), лучшем учебном курсе XVIII в. по этой дисциплине, Эйлер утверждал:
Квадратные корни из отрицательных чисел не равны нулю, не меньше нуля и не больше нуля. Отсюда ясно, что квадратные корни из отрицательных чисел не могут находиться среди возможных [действительных, вещественных] чисел. Следовательно, нам не остается ничего другого, как признать их невозможными числами. Это приводит нас к понятию чисел, по своей природе невозможных и обычно называемых мнимыми или воображаемыми, потому что они существуют только в воображении.
Производя операции над комплексными числами, Эйлер порой и ошибался. Так, в его «Алгебре» фигурирует равенство √−1∙√−4 = √4 = 2, выписанное по аналогии с тождеством √a∙√b=√ab, справедливым для положительных a и b, т.е. для вещественных корней.
Называя комплексные числа невозможными, Эйлер в то же время отмечал их полезность. В частности, он считал комплексные числа полезными по той причине, что они якобы позволяют отличать задачи, имеющие решения, от задач, не имеющих решения. Так, если бы нам понадобилось разложить число 12 на две части, произведение которых должно было бы равняться 40 (намек на задачу Кардано), то мы обнаружили бы, что эти части равны соответственно 6 + √−4 и 6 − √−4, т.е., согласно Эйлеру, узнали бы, что задача неразрешима.
Несмотря на множество принципиальных возражений против комплексных чисел, на протяжении XVIII в. их широко использовали, свободно применяя к ним правила арифметических действий над вещественными числами. Так математики получали практические навыки в обращении с комплексными числами. В тех случаях, когда комплексные числа применялись лишь на промежуточных стадиях математических доказательств, полученные с их помощью окончательные результаты всегда оказывались верными, что не могло не произвести благоприятного впечатления. Тем не менее математиков не оставляли сомнения в правильности такого рода доказательств, а иногда даже и получаемых с их помощью результатов.
Общее отношение математиков к узакониванию научного статуса тех разновидностей чисел (иррациональных, отрицательных и комплексных), которые доставляли им столько хлопот, отчетливо выразил Д'Аламбер в своей статье об отрицательных числах, написанной для «Энциклопедии». В целом эта статья была написана недостаточно ясно и завершалась следующим признанием: «Алгебраические правила действий над отрицательными числами ныне общеприняты, и все признают их точными независимо от того, что бы мы ни думали о природе этих чисел».
За многие века, на протяжении которых европейские математики упорно пытались понять природу различных типов чисел, на передний план выступила еще одна фундаментальная логическая задача — задача обоснования алгебры. Первой работой, существенно упорядочившей новые результаты, было «Великое искусство» Дж. Кардано. В этой книге Кардано показал, как решать кубические уравнения (например, x3 + 3x2 + 6x = 10) и уравнения четвертой степени (типа х4 + 3x3 + 6x2 + 7x + 5 = 0). Примерно за сто лет арсенал алгебры пополнился многими важными результатами, часть которых была известна еще арабским математикам: методом математической индукции, биномиальной теоремой и приближенными методами вычисления корней уравнений разных степеней. Основной вклад в сокровищницу алгебры внесли Виет, Гарриот, Жирар, Ферма, Декарт и Ньютон. Но все эти новые результаты фактически не были доказаны. Правда, Кардано, а позднее Бомбелли и Виет привели в обоснование своих методов решения кубических уравнений и уравнений четвертой степени кое-какие геометрические соображения, но, поскольку эти математики игнорировали отрицательные и комплексные корни, приведенные ими соображения заведомо не могли рассматриваться как доказательства. Кроме того, появление уравнений высших степеней, например четвертой и пятой, означало, что геометрия, ограниченная в те времена трехмерным пространством, не могла служить основой доказательств. Результаты, полученные другими авторами, чаще всего оказывались всего лишь более или менее удачными догадками, подсказанными конкретными примерами.
Шаг в правильном направлении сделал Виет. Со времен Древнего Египта и Вавилона и вплоть до появления работы Виета математики решали уравнения первой степени, квадратные, кубические и уравнения четвертой степени, ограничиваясь всякий раз лишь какими-либо конкретными числовыми значениями коэффициентов. При подобном подходе уравнения 3x2 + 5x + 6 = 0 и 4x2 + 7x + 8 = 0 считались различными, хотя было ясно, что оба уравнения решаются одним и тем же методом. Кроме того, ученые стремились избежать отрицательных чисел; поэтому такое, например, уравнение, как x2 − 7x + 8 = 0, принято было записывать в виде x2 + 8 = 7x. Возникало множество типов уравнений одной и той же степени, каждый из которых приходилось рассматривать в отдельности. Главный вклад Виета в развитие алгебры состоял в введении буквенных коэффициентов.
По образованию и роду занятий Виет был юристом; математика же была для него «хобби», которому он посвящал свободное от работы время, печатая и рассылая свои работы за собственный счет. Отдельные математики использовали буквенные обозначения и до Виета, но делали это лишь от случая к случаю. Виет был первым, кто продуманно ввел буквенные обозначения и систематически их использовал. Основное новшество состояло в том, что буквами обозначались не только неизвестные или степени неизвестных, но, как правило, и коэффициенты уравнений. Такой подход позволял единообразно рассматривать все квадратные уравнения, записав их (в современных обозначениях) в виде ax2 + bx + c = 0, где буквенные коэффициенты a, b и c могут означать любые числа, а x —неизвестную величину (или неизвестные величины), значения которой требуется найти.
Виет назвал свою новую алгебру logistica speciosa (исчисление типов), противопоставляя ее тому, что он назвал logistica numerosa (исчисление чисел). Он хорошо понимал, что изучение квадратного уравнения общего вида ax2 + bx + c = 0 эквивалентно изучению всего класса квадратных уравнений. Проводя в своем сочинении «Введение в аналитическое искусство» (In artem analyticam isagoge, 1591) различие между logistica numerosa и logistica speciosa, Виет обозначил границу между арифметикой и алгеброй. По его словам, алгебра — это метод, позволяющий производить действия над типами или видами, т.е. logistica speciosa; арифметика же и теория решений уравнений с конкретными числовыми коэффициентами образуют logistica numerosa. Тем самым Виет возвел алгебру на более высокий уровень, превратив ее в науку об общих типах форм и уравнений: ведь результат, полученный в общем случае, охватывает бесконечно много частных случаев.
Основное достоинство предложенных Виетом буквенных обозначений для классов чисел состояло в том, что, доказав правильность метода решения уравнения ax2 + bx + c = 0, математики могли с полным основанием применять тот же метод к решению бесконечно большого числа конкретных уравнений, например уравнения 3x2 + 7x + 5 = 0. Можно сказать, что основной вклад Виета в развитие алгебры состоит в придании общности алгебраическим доказательствам. Но чтобы производить какие-то операции над a, b и c, где a, b и c — любые вещественные или комплексные числа, необходимо быть уверенным в применимости этих операций ко всем вещественным и комплексным числам. А поскольку не только операции не были логически обоснованы, но даже определения различных типов чисел были достаточно расплывчаты, обоснование операций, производимых над буквами a, b и c в общем виде, заведомо были недостижимой целью. Сам Виет отвергал отрицательные и комплексные числа; поэтому общность, которой он достиг в logistica speciosa, была довольно ограниченной.
Ход мысли Виета непостижим, если даже не иррационален. С одной стороны, Виет внес весьма существенный вклад, введя буквенные коэффициенты, и полностью сознавал важность этого шага, открывшего возможность получать общие доказательства. Вместе с тем Виет не признавал отрицательных чисел и отказывался придавать отрицательные значения буквенным коэффициентам — поистине и лучшие умы человечества могут страдать ограниченностью! Между тем правила действий над отрицательными числами существовали уже порядка 800 лет и всегда приводили к правильным результатам. Виет не мог игнорировать эти правила, которыми исчерпывалось почти все, чем располагала в его время алгебра. Но отрицательным числам недоставало наглядности и физического смысла, которыми обладали положительные числа. Лишь в 1657 г. Иоганн Худде (1633-1704) расширил область допустимых значений буквенных коэффициентов так, что она стала охватывать как отрицательные, так и положительные числа. Впоследствии его примеру последовало большинство математиков.
Во времена Виета (в конце XVI в.) алгебра была лишь скромным придатком геометрии. Алгебраисты занимались решением либо одного уравнения с одним неизвестным, либо решением двух уравнений с двумя неизвестными — задачи такого рода возникали в связи с практическими проблемами геометрии или торговли. Могущество алгебры оставалось скрытым вплоть до XVII в. Решающий шаг был сделан Рене Декартом и Пьером де Ферма, создавшими аналитическую геометрию (которую следовало бы называть алгебраической геометрией, если бы ныне этот термин не приобрел совсем другого смысла{75}). Основная идея новой науки состояла в том, что если на плоскости задать систему координат, то каждой кривой можно сопоставить ее уравнение. Например, уравнение х2 + y2 = 25 соответствует окружности радиуса 5 с центром в начале координат. Использование уравнений позволяет доказывать всевозможные свойства кривой гораздо проще, чем чисто геометрические (или синтетические) методы античных математиков.
Но в 1637 г., когда Декарт опубликовал свою «Геометрию», ни он сам, ни Ферма в работе 1629 г. (опубликованной посмертно) не были подготовлены к тому, чтобы принять отрицательные числа. Им обоим была ясна идея алгебраического подхода к геометрии, но ни тот, ни другой еще не представляли, сколь широки возможности такого подхода. Отрицательные числа были введены в аналитическую геометрию потомками Декарта и Ферма, и она стала играть весьма важную роль в главных событиях, происходивших в математическом анализе и в геометрии.
Представление функций алгебраическими формулами было вторым новшеством, выдвинувшим алгебру на первый план. Как известно (гл. II), идею описания движений с помощью формул выдвинул Галилей. Так, тело, брошенное вверх со скоростью 30 м/с, через t с будет находиться над поверхностью Земли на высоте h, определяемой формулой h = 30t − 4,9t2 м. Из этой формулы с помощью чисто алгебраических средств можно извлечь неисчерпаемое количество сведений о движении: например, установить максимальную высоту подъема; время, необходимое для подъема на максимальную высоту; время, необходимое для падения с максимальной высоты на землю. Вскоре математики сознали могущество алгебры, которая заняла господствующее положение в математике, оттеснив геометрию на второй план.
Безграничное применение алгебры вызвало множество протестов. Философ Томас Гоббс был в математике величиной далеко не первого порядка, тем не менее именно он выразил мнение многих математиков, выступив с протестом против «несметного полчища тех, кто применяет алгебру к геометрии». Гоббс утверждал, что алгебраисты ошибочно подменяют геометрию символами, и отозвался о книге Джона Валлиса по аналитической геометрии конических сечений как о «гнусной книге», покрытой «паршой символов». Против применения алгебры выступали многие видные математики, в том числе Блез Паскаль и Исаак Барроу; при этом они ссылались на то, что алгебра логически не обоснована, и по той же причине настаивали на чисто геометрических методах и доказательствах. Кое-кто из математиков полагал, будто отступление на позиции геометрии позволит логически обосновать алгебру (как мы уже отмечали, подобная позиция была ошибочной).
Но большинство математиков свободно применяли алгебру в чисто утилитарных целях. Ценность алгебры состояла в том, что она равно хорошо (как и геометрия) позволяла решать все те задачи, с которыми сталкивались математики, а превосходство алгебры даже при рассмотрении чисто геометрических проблем было столь очевидно, что математики бесстрашно погрузились в ее воды.
В отличие от Декарта, считавшего алгебру служанкой геометрии, Джон Валлис и Ньютон полностью сознавали силу алгебраических методов. И все же математики весьма неохотно отказались от геометрических подходов. По свидетельству Генри Пембертона, выпустившего третье издание ньютоновских «Начал», Ньютон не только постоянно выражал свое восхищение древнегреческой геометрией, но и сетовал на себя за то, что не следовал примеру античных математиков в большей мере. В письме к Дэвиду Грегори (1661-1708), племяннику Джеймса Грегори (1638-1675), Ньютон заметил: «Алгебра — это анализ для неумех в математике». Но в своей «Всеобщей арифметике» (1707) он приложил максимум усилий, чтобы убедительно показать превосходство алгебры. Арифметику и алгебру Ньютон излагал как основу математики, обращаясь к геометрии лишь в тех случаях, когда ему требовалось доказать то или иное утверждение. Тем не менее в целом «Всеобщая арифметика» была не более чем набором правил. Утверждения о числах или алгебраических методах лишь изредка подкреплялись доказательствами или интуитивными соображениями. По мнению Ньютона, буквы в алгебраических выражениях означают числа, а в достоверности арифметики никто не может усомниться.
Лейбниц также отметил все возрастающую главенствующую роль алгебры и по достоинству оценил эффективность алгебраических методов. По поводу замечаний некоторых математиков о том, что алгебраические утверждения не подкреплены доказательствами, Лейбниц счел нужным заявить: «Геометрам нередко удается несколькими словами выразить то, что требует громоздких рассуждений в анализе… применимость алгебры не вызывает сомнений, но с доказательностью у нее не все благополучно». Работу в современной ему алгебре Лейбниц назвал «смесью удачи и счастливого случая». Однако Леонард Эйлер в своем «Введении в анализ бесконечно малых» (1748) открыто и безоговорочно провозгласил превосходство алгебры над геометрическими методами греков. К середине XVIII в. сдержанное отношение к применению алгебры было окончательно преодолено. К тому времени алгебра напоминала раскидистое дерево с множеством ветвей, но почти полностью лишенное корней.
Развитие числовых систем и алгебры разительно отличается от развития геометрии. К III в. до н.э. геометрия имела уже дедуктивный характер. Немногие обнаружившиеся в ней пробелы и изъяны, как мы увидим в дальнейшем, оказались легко поправимыми. Что же касается арифметики и алгебры, то они никогда не были логически обоснованы. Казалось бы, отсутствие логического обоснования должно вызывать тревогу у всех математиков. Как могли европейцы, до тонкости изучившие дедуктивную геометрию греков, принять и применять различные типы чисел и алгебру, никогда не имевшие логического обоснования?
Можно назвать несколько причин. Основой принятия целых чисел и дробей, несомненно, был накопленный опыт. Когда же числовая система пополнилась новыми типами чисел, правила арифметических действий, принятые на эмпирической основе для положительных целых чисел и дробей, были распространены на новые элементы, а в случае затруднений на выручку безотказно приходило геометрическое мышление. Буквенные символы лишь заменяли числа — и поэтому с ними можно было обращаться так же, как с числами. Более сложные алгебраические методы казались обоснованными либо с помощью геометрических соображений типа тех, которые в свое время использовал Кардано, либо — в отдельных частных случаях — с помощью одной лишь индукции. Разумеется, ни тот, ни другой подход не был логически удовлетворительным. Геометрия даже в тех случаях, когда к ней обращались, не позволяла логически обосновать введение отрицательных, иррациональных и комплексных чисел. По очевидным причинам решение уравнения четвертой степени невозможно обосновать геометрически.
Кроме того, сначала, особенно в XVI-XVII вв., алгебру не считали независимой областью математики, которая нуждалась в особом логическом обосновании. Алгебру принято было рассматривать как метод анализа геометрических задач. Многие из тех, кто широко использовал алгебру, прежде всего Декарт, считали ее не более чем методом анализа. Название сочинений Кардано «Великое искусство» и Виета «Введение в аналитическое искусство» свидетельствуют о том, что их авторы использовали слово «искусство» в смысле, встречавшемся иногда и в наши дни, — как некую противоположность науке. Название «аналитическая геометрия», закрепившееся за координатной геометрией Декарта, подтверждает отношение к алгебре как к методу анализа. Еще в 1704 г. Эдмонд Галлей в статье, опубликованной в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society, говорил об алгебре как об аналитическом искусстве. Но аналитическая геометрия Декарта стала, по-видимому, тем решающим доводом, который убедил математиков в могуществе алгебры.
Наконец, нельзя не упомянуть и о том, что использование для обработки результатов научных исследований отрицательных и иррациональных чисел, а также алгебры приводило к превосходному согласию с результатами наблюдений и экспериментов. Какие бы сомнения ни испытывали математики, применяя отрицательные числа в естественнонаучных исследованиях, все сомнения следовало отбросить, как только окончательный результат оказывался физически правильным: ведь математики заботились главным образом о естественнонаучных приложениях — и все, что доказывало свою полезность на деле, принималось без особого разбора. Запросы естествознания ставились превыше логической обоснованности. Сомнения в правильности алгебры были просто-напросто отметены, подобно тому как ненасытные промышленники зачастую отметали этические принципы; математики стали применять новую алгебру с радостью и уверенностью в своей правоте. Впоследствии математики шаг за шагом превратили алгебру в независимую науку, охватывающую и числа, и геометрию и позволяющую «доказывать» новые результаты. Так, Валлис утверждал, что алгебраические методы ничуть не менее законны, чем геометрические.
К концу XVII в. математики осознали, что арифметика и алгебра независимы от геометрии. Почему же математики не предприняли попыток логически обосновать и то, и другое? Почему, имея перед собой высокий образец дедуктивного изложения геометрии, воплощенный в «Началах» Евклида, математики не попытались изложить аналогичным образом арифметику и алгебру? Ответ состоит в том, что геометрические понятия, аксиомы и теоремы интуитивно воспринимаются намного легче, чем понятия арифметики и алгебры. Наглядные образы, «картинки» (в случае геометрии — чертежи), облегчают математику понимание той или иной структуры. Понятия же иррационального, отрицательного или комплексного числа отличаются большей тонкостью, и даже «картинки», которые появились здесь позднее, не позволяют прочувствовать логическую организацию самих чисел или буквенных выражений, оперирующих с числами. Проблема поиска логического обоснования числовой системы и алгебры была трудной, гораздо более трудной, чем могли себе представить математики XVII в. В дальнейшем (гл. VIII) нам еще представится случай вернуться к этой проблеме. К счастью, в вопросах логического обоснования арифметики и алгебры математики оказались скорее легковерными и даже наивными, чем излишне педантичными, — к счастью, ибо формализации и логическому обоснованию должен предшествовать период созидания, не стесняемого никакими ограничениями, а величайший период созидания в математике уже приближался.
VI Нелогичное развитие: в трясине математического анализа
Начинать исследование можно по-разному. Все равно начало почти всегда оказывается весьма несовершенной, нередко безуспешной попыткой. Есть истины, как страны, наиболее удобный путь к которым становится известным лишь после того, как мы испробуем все пути.
Кому-то приходится, рискуя собой, сходить с проторенной дороги, чтобы указать другим правильный путь… На пути к истине мы почти всегда обречены совершать ошибки,
Дени ДидроМатематический анализ, ядро которого составляет дифференциальное и интегральное исчисление — самая тонкая область всей математики, — был построен на совсем не существующих логических основаниях арифметики и алгебры и на не вполне ясных основах евклидовой геометрии. Если вспомнить о замеченных нами недостатках в сравнительно простых разделах математики, то нетрудно представить себе, какого напряжения сил и способностей потребовало от математиков создание основной системы понятий и логической структуры дифференциального и интегрального исчисления. Именно так и обстояло дело в действительности.
В основе математического анализа лежит понятие функции. Не стремясь к особой строгости, функцию можно описать как зависимость между переменными. Поясним это на простом примере. Если, скажем, с крыши дома бросить мяч, то и расстояние, проходимое им в процессе падения, и время падения будут возрастать. Расстояние и время — переменные, а функция, связывающая расстояние и время (если пренебречь сопротивлением воздуха), определяется формулой d = 4,9t2, где t — время падения (в секундах), а d — расстояние (в метрах), пройденное мячом за время t с момента падения.
Происхождение любой важной идеи всегда можно проследить, углубляясь в историю на десятилетия, если не на века. В полной мере это относится и к понятию функции. Тем не менее явный смысл понятие функций обрело лишь в XVII в. Мы не будем здесь вникать в подробности этого процесса. Для нас гораздо важнее другое: хотя понятие функции весьма «прямолинейно» и, казалось бы, не таит в себе никаких «подводных камней», но даже и простейшие функции охватывают все типы вещественных чисел. Так, в приведенном нами примере мы могли бы поинтересоваться значением d при t = √2. Точно так же можно было бы спросить, чему равно t, когда d равно, скажем, 50: при d = 50, как нетрудно видеть, t = √(50/4,9), т.е. принимает иррациональное значение. Но, как мы уже отмечали, в XVII в. понятие иррационального числа еще не получило должного истолкования. Следовательно, едва зародившейся теории функций явно недоставало логических обоснований, как не было их и у арифметики. Однако, поскольку к середине XVII в. математики привыкли свободно обращаться с иррациональными числами, на отсутствие таких обоснований никто не обращал внимания.
Две проблемы привлекали к себе внимание величайших математиков XVII в., наиболее известными среди которых были Кеплер (1571-1630), Декарт (1596-1650), Бонавентура Кавальери (1598-1647), Ферма (1601-1665), Блез Паскаль (1623-1662), Джеймс Грегори (1638-1675), Жиль Персон, называвший себя де Робервалем{76} (1602-1675), Христиан Гюйгенс (1629-1695), Исаак Барроу (1630-1677), Джон Валлис (1616-1703) и, конечно же, Исаак Ньютон (1643-1727) и Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716). Каждый из этих ученых по-своему подошел к проблемам определения и вычисления производной и определенного интеграла. Одни из творцов дифференциального и интегрального исчисления рассуждали чисто геометрически, другие — чисто алгебраически, третьи использовали смешанный алгебро-геометрический подход. Нас будет интересовать, насколько создателям новых методов исчисления удалось приблизиться к образцам математической строгости. Для этого достаточно обратиться к нескольким наиболее типичным примерам, поскольку многие из предложенных методов были очень ограниченными и особого упоминания не заслуживают.
Природу производной легче всего понять, если представить ее как скорость (именно так поступил Ньютон). Если тело преодолевает расстояние 20 м за 4 с, то его средняя скорость равна 5 м/с, а если тело движется равномерно, то его средняя скорость на протяжении 4 с совпадает с мгновенной, т.е. со скоростью в любой данный момент. Однако движения чаще всего неравномерны. Тело, падающее на Землю, снаряд, вылетевший из пушки, планета, обращающаяся вокруг Солнца, — все движутся неравномерно: их скорость непрерывно меняется. Во многих случаях необходимо знать значения скорости движения в разные моменты времени. Например, жизненно важно знать, с какой скоростью пуля долетает до человека; если эта скорость близка к 0 м/с, то на землю упадет пуля, тогда как при скорости порядка 300 м/с на землю падает человек. По самому своему смыслу момент времени есть не что иное, как «нулевой промежуток» времени, а за нулевое время тело, разумеется, проходит равное нулю расстояние. Следовательно, если бы мы решили вычислять мгновенную скорость так, как вычисляют среднюю скорость, т.е. деля пройденное расстояние на требующееся для его прохождения время, то получили бы выражение 0/0, а такое отношение смысла не имеет.
Выход из создавшегося затруднения, который промелькнул в сознании математиков XVII в., но не был уяснен ими до конца, состоит в следующем. Предположим, что требуется вычислить скорость, которую приобретает свободно падающее тело ровно через 4 с после начала падения. Выбрав любой конечный промежуток времени (в отличие от нулевого промежутка — момента времени), в течение которого тело падает, и разделив на него расстояние, пройденное телом за это время, мы получим среднюю скорость за выбранный промежуток времени. Вычислим теперь среднюю скорость за промежутки времени, следующие за 4-й секундой и имеющие продолжительность 1/2, 1/4, 1/8, … с. Ясно, что, чем меньше промежуток времени, тем ближе средняя скорость к мгновенной скорости тела через 4 с после начала падения. По-видимому, нам остается лишь вычислить средние скорости и посмотреть, к какой величине они стремятся. Эта величина и определяет мгновенную скорость, которой тело достигает к концу 4-й секунды свободного падения. Предложенная схема кажется достаточно разумной, хотя и таит в себе, как мы увидим в дальнейшем, некоторые сложности. Как бы то ни было, скорость к концу 4-й секунды свободного падения, если она вычислима, называется производной функции d = 4,9t2 при t = 4.
Трудности, связанные с определением производной, станут более понятными, если от словесного описания производной перейти на язык символов. Математическое определение производной, которое, по существу, и было в конце концов принято, принадлежит Ферма. Вычислим скорость, приобретаемую через 4 с после начала свободного падения мячом, движение которого описывается функцией
d = 4,9t2. (1)
При t = 4 получаем: d = 4,9∙42 = 78,4 м. Пусть h — приращение времени. За время (t + h) с мяч пролетит в свободном падении расстояние 78,4 м плюс некоторое дополнительное расстояние k. Следовательно,
78,4 + k = 4,9 (4 + h)2 = 4,9(16 + 8h + h2),
или
78,4 + k = 78,4 + 39,2h + 4,9h2.
Вычтем из правой и левой частей последнего равенства по 78,4:
k = 39,2h + 4,9h2.
Итак, средняя скорость за время h с свободного падения равна
k/h = (39,2h + 4,9h2)/h. (2)
При рассмотрении этой простой функции и других функций Ферма повезло: числитель и знаменатель правой части ему удалось разделить на h, получив
k/h = 39,2 + h. (3)
Затем Ферма положил приращение h равным нулю и получил, что скорость тела через 4 с после начала свободного падения такова:
d∙ = 39,2 м/с. (4)
(d∙ — обозначение производной, предложенное Ньютоном). Итак, d∙ — производная от d = 4,9t2 при t = 4.
Против предложенного Ферма метода вычисления производной можно возразить, указав, что приращение h должно быть отлично от нуля, ибо выполнение таких операций, как деление числителя и знаменателя на h, возможно только при h, отличном от нуля. Но тогда и равенство (3) справедливо только при h, отличном от нуля. Следовательно, мы не можем полагать в (3) значение h равным нулю и делать из этого предположения какие бы то ни было выводы. Кроме того, в случае такой простой функции, как d = 4,9t2, соотношение (2) после сокращения правой части на h переходит в соотношение (3). В случае же более сложных функций нам пришлось бы иметь дело с выражением типа (2). При h = 0 правая часть (2), выражающая предельное значение средней скорости k/h, обращается в неопределенность 0/0.
Ферма никогда не занимался обоснованием своего метода, и, хотя он по праву может быть назван одним из создателей математического анализа, ему не удалось продвинуться здесь особенно далеко. Он был достаточно осторожен, чтобы пытаться формулировать общие теоремы, если сознавал, что какая-либо идея не обоснована им полностью.{77} Ферма довольствовался тем, что предложил правильный алгоритм, которому смог дать геометрическую интерпретацию, и надеялся, что когда-нибудь удастся найти полное геометрическое обоснование предложенного им метода.
Второе понятие математического анализа, доставившее немало хлопот его создателям, — (определенный) интеграл — встречается, например, при вычислении площадей фигур, ограниченных целиком или частично кривыми линиями, объемом тел, ограниченных изогнутыми поверхностями (не плоскостями!), а также центров тяжести тел различной формы. Чтобы понять, какого рода трудности встречаются при использовании понятия определенного интеграла, рассмотрим вычисление площади криволинейной трапеции.
Предположим, требуется найти площадь криволинейной трапеции DEFG (рис. 6.1), ограниченной дугой FG кривой, задаваемой уравнением y = x2, отрезком DE оси x и вертикальными отрезками DG и EF. В этом случае, как и при вычислении производной, мы хотим найти интересующую нас величину методом все более точных последовательных приближений. Нечто подобное предприняли математики XVII в.
Рис. 6.1. Криволинейная трапеция DEFG.
Разобьем отрезок DE на три равные части (каждая длиной h) и обозначим точки разбиения через D1, D2, и D3 (точка D3 совпадает с точкой E, рис. 6.2). Пусть y1, y2, и y3 — ординаты в точках разбиения. Тогда y1h, y2h, и y3h — площади трех прямоугольников, изображенных на рис. 6.2, а
y1h + y2h + y3h (5)
— сумма площадей этих трех прямоугольников, являющаяся некоторым приближением к площади DEFG.
Рис. 6.2. Вычисление площади криволинейной трапеции (основание DE разбито на 3 части).
Лучшее приближение к площади криволинейной трапеции DEFG мы можем получить, уменьшая размеры прямоугольников и увеличивая их число. Предположим, что отрезок DE мы разбили не на три, а на шесть частей. На рис. 6.3, в частности, показано, что произойдет при таком разбиении со средним прямоугольником, изображенным на рис. 6.2: после разбиения его заменяют два прямоугольника. Поскольку за высоту каждого прямоугольника мы выбираем ординату y в соответствующей точке разбиения отрезка DE, заштрихованный прямоугольник на рис. 6.3 уже не входит в сумму площадей тех шести прямоугольников, которыми аппроксимируется теперь площадь криволинейной трапеции DEFG. Следовательно, сумма
y1h + y2h + y3h + y4h + y5h + y6h (6)
(где новое h в два раза меньше прежнего) дает более точное приближение к площади трапеции DEFG, чем сумма (5).
Рис. 6.3. Вычисление площади криволинейной трапеции DEFG (основание DE разбито на 6 частей)
Относительно применяемого нами метода последовательных приближений можно в общем сказать следующее. Разделив отрезок DE на n частей, мы получили бы n прямоугольников, каждый шириной h. Пусть y1, y2, …, yn — ординаты в точках разбиения (многоточие означает, что включены все ординаты y в точках разбиения). Сумма площадей n прямоугольников равна
y1h + y2h + y3h + … + ynh (7)
(и на этот раз многоточие означает, что в сумму входят все промежуточные прямоугольники). Мы уже говорили о том, как влияет на точность приближения разбиение отрезка DE на все более мелкие части. Следовательно, приближенное значение площади криволинейной трапеции DEFG, задаваемое суммой (7), с увеличением n становится все более точным. Но по мере возрастания n убывает h, поскольку h = DE/n. Итак, мы установили, что фигуры, ограниченные отрезками прямых (в нашем случае — прямоугольниками), позволяют добиться все более точного приближенного вычисления площади фигуры, ограниченной кривой.
Интуитивно ясно, что, чем больше число прямоугольников, тем точнее сумма их площадей аппроксимирует площадь криволинейной фигуры. Но если остановиться на 50 или на 100 прямоугольниках, то сумма их площадей еще не будет в точности равна площади аппроксимируемой фигуры, и математикам XVII в., придумавшим этот подход к вычислению площадей, пришло в голову устремить n к бесконечности. Правда, в то время еще не было вполне ясно, что такое бесконечность. Можно ли считать бесконечность числом, и если да, то как производить арифметические действия над этим числом? Получив выражения (7) для суммы площадей n прямоугольников и обнаружив в них члены вида 1/n и 1/n2, Ферма отбросил их на том основании, что, когда n обращается в бесконечность, эти члены пренебрежимо малы. Как и при выводе производной, Ферма полагал, что строго его идею удастся доказать скорее всего с помощью метода исчерпывания, введенного Евдоксом (довольно ограниченный и весьма непростой геометрический метод, которым искусно пользовался Архимед).
Из ранних попыток вычисления площадей и объемов с помощью определенного интеграла работа Бонавентуры Кавальери заслуживает внимания по двум причинам: во-первых, она оказала большое влияние на современников Кавальери и на математиков последующих поколений и, во-вторых, довольно точно отражала типичные особенности характерного для того времени математического мышления, которое сегодня можно было бы назвать довольно смутным. Кавальери считал, что площадь фигуры, которая выглядит примерно так, как показано на рис. 6.1, состоит из бесконечно большого числа элементов; эти элементы он называл неделимыми. Вполне возможно, что неделимыми могли быть отрезки прямых. У самого Кавальери не было ясности относительно того, что именно представляют собой его неделимые. Он лишь утверждал, что если площадь фигуры разбивать на все меньшие и меньшие прямоугольники, как показано на рис. 6.3, то в конечном итоге получатся неделимые. В одной из своих книг, «Шесть геометрических упражнений» (Ехеrcitationes geometricae sex, 1647), Кавальери «объяснил», что рассматриваемая фигура состоит из неделимых, как, например, ожерелье — из бусин, ткань — из нитей и книга — из страниц. Руководствуясь столь неясным понятием, Кавальери тем не менее научился сравнивать две площади или два объема и получать правильные соотношения между двумя сравниваемыми величинами [38].
Критиков Кавальери его объяснения не удовлетворяли. Один из современников Кавальери, Пауль Гульдин (1557-1643), обвинил его в том, что он преднамеренно суживает рамки греческой геометрии, вместо того чтобы понять ее. А один из современных нам историков науки заявил, что если бы существовал особый приз за неясность, то названная работа Кавальери была бы тут вне всякой конкуренции и, безусловно, заслужила бы такую награду. Не имея возможности объяснить, как из бесконечного числа элементов (неделимых) можно составить фигуру конечной протяженности, Кавальери пытался уйти от ответа на вопрос, отказываясь дать сколько-нибудь точную интерпретацию неделимых. Иногда он в довольно туманных выражениях говорил о бесконечной сумме линий, не объясняя явно природу бесконечности. В других случаях Кавальери называл свой метод не более чем прагматическим приемом, позволяющим заменить сложный метод исчерпывания, применявшийся древними греками. По свидетельству Кеплера, приведенному в его сочинении «Новая стереометрия винных бочек» (Stereometria doliorum vinariorum, 1616) [39], Кавальери ссылался на современных ему геометров, обращавшихся с понятиями еще более свободно, чем он сам. Эти геометры, говорил он, вычисляя площади, подражают методу Архимеда, но им не удается найти тех полных доказательств, которые позволяли великому греку придать своим работам необходимую строгость. Тем не менее геометры, о которых шла речь, были довольны своими вычислениями, поскольку те приводили к полезным результатам. Встав, по существу, на ту же точку зрения, Кавальери счел, что и предложенный им метод неделимых может приводить к новым открытиям; однако, пользуясь этим методом, отнюдь не обязательно полагать, будто геометрическая фигура в самом деле состоит из бесконечно большого числа «неделимых» элементов. Метод предназначен лишь для того, чтобы установить правильные соотношения между площадями или между объемами, а эти соотношения сохраняют свою ценность и значение независимо от того, какого мнения придерживается тот или иной геометр относительно элементов, составляющих фигуру. В качестве последнего контрдовода против возражений своих критиков Кавальери указал, что концептуальные проблемы относятся к ведению философии и потому несущественны в практической работе с фигурами и телами. О строгости, заметил он, пристало заботиться философии — но не геометрии.
В защиту Кавальери выступил и Паскаль. В своих «Письмах из Деттонвиля» (1658) он утверждал, что геометрия неделимых превосходно согласуется с евклидовой геометрией: «То, что может быть доказано с помощью истинных правил неделимых, может быть также доказано со всей строгостью на манер древних». По мнению Паскаля, геометрия неделимых Кавальери и геометрия древних греков отличаются только терминологией. Метод неделимых, считал Паскаль, должен быть принят каждым математиком, претендующим на то, чтобы считаться геометром. Но и у Паскаля не было определенного мнения относительно математической строгости. Иногда он утверждал, что, подобно тому как религия ставит милосердие превыше разума, так и для получения правильных результатов необходима истинная «утонченность», а не логика, присущая геометрии. Парадоксы геометрии, проявившиеся в математическом анализе, Паскаль сравнивал с кажущимися нелепостями христианства и считал, что неделимые значат в геометрии не более чем суд мирской в сравнении с судом божьим.
Согласно Паскалю, необходимые поправки в идеи нередко вносит не разум, а душа (гл. II). В своих «Мыслях» он говорит: «Мы постигаем истину не только разумом, но и душой. Из последнего источника мы познаем первые принципы, и разум, не принимающий в этом участия, тщетно пытается сражаться с душой… На нашем знании души и инстинкта с необходимостью зиждется разум, и этим знанием он питается». Разумеется, такими рассуждениями Паскаль никак не мог помочь уяснению метода Кавальери.
Наибольший вклад в создание математического анализа внесли Ньютон и Лейбниц. Ньютон почти не занимался понятием интеграла, но интенсивно разрабатывал понятие производной. По существу, предложенный им метод вычисления производной мало чем отличался от метода Ферма. Не было у Ньютона и большей ясности относительно логического обоснования понятия производной. Математическому анализу Ньютон посвятил три работы. Кроме того, он коснулся этого вопроса в наиболее значительном из своих сочинений — «Математических началах натуральной философии», вышедших тремя изданиями. Излагая в первой работе (1669 — см. [140]) свой метод вычисления производной, Ньютон заметил, что он его скорее «кратко объяснил, чем строго доказал». При вычислении производной Ньютон воспользовался тем, что h и k — неделимые. Во второй работе (1671) Ньютон замахнулся на большее: он заявил, что изменил свою точку зрения на переменные и считает теперь необходимым рассматривать их не как дискретные, а как непрерывно изменяющиеся величины (в случае дискретных переменных величины h в конечном счете вырождаются в неделимые). Ньютон утверждал, что ему удалось избавиться от чрезмерной жесткости теории неделимых, которую он применил в первой работе. Однако внесенные Ньютоном изменения, по существу, никак не сказались на ходе вычисления производной, или, как предпочитал ее называть сам Ньютон, флюксии. И с логикой во второй работе дело обстояло ничуть не лучше, чем в первой.
В своей третьей работе по математическому анализу — «Рассуждения о квадратуре кривых» (1676) — Ньютон еще раз заявил, что отказывается от бесконечно малых величин (в конечном счете неделимых), и критически отозвался об отбрасывании членов в соотношении (3), содержащих множитель h, поскольку «в математике не следует пренебрегать даже самыми малыми ошибками». После этих предварительных замечаний Ньютон дал новое объяснение понятия «флюксия»: «Флюксии, когда приращения флюэнт [переменных] возникают во все большем числе, отличаются сколь угодно мало и сами сколь угодно малы, и если говорить точно, то они пропорциональны возникающим приращениям…». Разумеется, пользы от столь смутных объяснений было немного. Что же касается метода вычисления флюксией, то с логической точки зрения третья работа Ньютона была столь же малообоснованной, как и первая. Производную Ньютон вычислял, отбросив все члены в (2), содержавшие h в степени выше первой, например члены с h2.
Несколько утверждений относительно флюксий Ньютон высказал в своем главном труде «Математические начала натуральной философии» (1-е изд., 1687). От неделимых в пределе величин он отказался в пользу «исчезающе делимых величин», т.е. величин бесконечно делимых. В первом и в третьем изданиях «Начал» Ньютон утверждал:
Предельные отношения исчезающих количеств не суть отношения пределов этих количеств, а суть те пределы, к которым при бесконечном убывании количеств приближаются отношения их и к которым эти отношения могут подойти ближе, нежели на любую наперед заданную разность, но которых превзойти или достигнуть на самом деле не могут, ранее чем эти количества уменьшатся бесконечно.
([20], с. 70.)Хотя приведенный нами отрывок не отличается особой ясностью, это наиболее ясное из всех утверждений Ньютона о флюксиях. Именно здесь Ньютон употребил ключевое слово «пределы» (его терминология была иной), хотя и не стал углубляться в анализ этого понятия.
Ньютон, несомненно, сознавал неудовлетворительность предложенного им объяснения флюксии и, должно быть, с отчаяния обратился к ее физическому смыслу. Вот что говорится об этом в «Началах».
Делают возражение, что для исчезающих количеств не существует «предельного отношения», ибо то отношение, которое они имеют ранее исчезания, не есть предельное, после же исчезания нет никакого отношения. Но при таком и столь же натянутом рассуждении окажется, что у тела, достигающего какого-либо места, где движение прекращается, не может быть «предельной» скорости, ибо та скорость, которую тело имеет ранее, нежели оно достигло этого места, не есть «предельная», когда же достигло, то нет скорости. Ответ простой: под «предельною» скоростью надо разуметь ту, с которою тело движется не перед тем, как достигнуть крайнего места, где движение прекращается, и не после того, а когда достигает, т.е. именно ту скорость, обладая которой тело достигает крайнего места и при которой движение прекращается. Подобно этому, под предельным отношением исчезающих количеств должно быть разумеемо отношение количеств не перед тем, как они исчезают, и не после того, но при котором исчезают.
([20], с. 69.)Поскольку результаты его математических исследований были физически вполне осмысленными, Ньютон не уделял особого внимания логическому обоснованию математического анализа. В «Началах» он пользовался геометрическими методами и приводил теоремы о пределах в их геометрической формулировке. Позднее Ньютон признал, что при выводе теорем в «Началах» он прибегал к математическому анализу, он формулировал их геометрически, чтобы придать своим рассуждениям ту степень достоверности, которой отличались доказательства древних. Разумеется, его геометрические доказательства отнюдь не были строгими. Ньютон слепо верил в непогрешимость евклидовой геометрии, но ничто не свидетельствовало о том, что евклидова геометрия могла хоть в какой-то мере помочь в обосновании математического анализа.
Несколько иной подход к математическому анализу предложил Лейбниц (см. [141]). По его мнению, величины, обозначенные нами h и k (Лейбниц обозначал их символами dx и dy), убывая, достигают «исчезающе малых», или «бесконечно малых», значений. На этой стадии h и k отличны от нуля, но меньше любого заданного числа. Следовательно, любыми степенями h, например h2 или h3, заведомо можно пренебречь. Получающееся при этом отношение h/k и есть та самая величина, которую требовалось найти, т.е. производная, которую Лейбниц обозначил dy/dx.
Геометрический смысл величин h и k по Лейбницу заключался в следующем. Пусть P и Q — «бесконечно близкие» точки на кривой. Тогда dx — разность их абсцисс, a dy — разность их ординат (рис. 6.4). Кроме того, касательная к кривой в точке T совпадает с дугой PQ. Следовательно, отношение dy/dx задает угол наклона касательной. Треугольник PQR, называемый характеристическим, не являлся изобретением Лейбница: им пользовались Паскаль и Барроу, труды которых были известны Лейбницу. Лейбниц считал, что треугольник PQR подобен треугольнику STU, — и пользовался этим подобием для доказательства некоторых утверждений относительно dy/dx.
Рис. 6.4. Характеристический треугольник PQR.
Лейбниц широко использовал понятие интеграла и независимо пришел к идее суммирования элементарных прямоугольников, на которые разбивается криволинейная трапеция [ср. (7)]. Но переход от суммы конечного числа прямоугольников к сумме бесконечно большого числа прямоугольников был не вполне понятен. По утверждению Лейбница, сумма элементарных прямоугольников превращалась из конечной в бесконечную, когда ширина h прямоугольников становилась «бесконечно малой». Для бесконечной суммы бесконечно малых величин — интеграла — Лейбниц ввел специальное обозначение ∫ydx. Он научился вычислять такие интегралы и независимо открыл основную теорему интегрального исчисления, утверждающую, что вычисление интеграла представляет собой операцию, обратную нахождению производной (антидифференцирование). После примерно двенадцати лет упорной работы над своим вариантом математического анализа Лейбниц опубликовал первую работу о новом исчислении в журнале Acta eruditorum («Журнал ученых») за 1684 г. Наиболее выразительный отзыв на эту работу Лейбница дали его друзья, братья Якоб и Иоганн Бернулли, заявив, что это «не столько загадка, сколько объяснение».
Идеям Ньютона и Лейбница недоставало ясности, и критики не замедлили воспользоваться этим. Ньютон не снисходил до ответа на критические замечания, тогда как Лейбниц считал своим долгом ответить на возражения критиков. Его попытки объяснить в частной переписке свое понимание бесконечно малых величин столь многочисленны, что для подробного разбора их понадобилось бы немало страниц. В статье, опубликованной в томе Acta eruditorum за 1689 г., Лейбниц утверждал, что бесконечно малые — не действительные, а некие фиктивные числа. Но эти фиктивные, или мнимые, числа подчиняются тем же правилам арифметики, что и обычные числа.
В той же статье Лейбниц, исходя из геометрических соображений, доказывал, что высший дифференциал (бесконечно малая более высокого порядка, чем первый), например (dx)2, относится к низшему дифференциалу dx, как точка к прямой, и что dx относится к x, как точка к земному шару или радиус Земли к радиусу небесной сферы. Отношение двух бесконечно малых Лейбниц мыслил как отношение двух неопределенностей или бесконечно малых величин, которое, однако, можно выразить через конечные величины. Например, геометрически отношение dy к dx есть не что иное, как отношение ординаты к подкасательной (TU к SU на рис. 6.4).
Одним из критиков, выступивших против Лейбница, был Бернгардт Нювентидт (1654-1718). Ответ Лейбница ему был опубликован в Acta eruditorum за 1695 г. Лейбниц обрушился на ревнителя математической строгости, справедливо заметив, что чрезмерная скрупулезность не должна отвращать нас от плодов нового открытия. Лейбниц утверждал, что его метод отличается от метода Архимеда только терминологией, и считал, что избранная им терминология в большей мере отвечает искусству совершать открытия. Термины «бесконечная» и «бесконечно малая» относятся к величинам, которые можно считать сколь угодно большими или сколь угодно малыми, когда требуется показать, что совершаемая ошибка меньше «наперед заданного числа» (т.е. что ошибки нет). Предельные величины, т.е. все эти «действительные бесконечности» и «бесконечно малые», можно использовать как удобный рабочий инструмент в вычислениях, подобно тому как алгебраисты с превеликой пользой используют мнимые корни. (Напомним, что во времена Лейбница мнимые корни имели весьма шаткий статус.)
В письме к Валлису, написанном в 1699 г., Лейбниц дал несколько иное объяснение бесконечно малых:
Бесконечно малые величины полезно рассматривать так, чтобы, когда требуется найти их отношение, их нельзя было считать нулем, но чтобы в то же время ими можно было пренебречь по сравнению с неизмеримо большими величинами. Так, в x + dx величина dx пренебрежимо мала. Иное дело, если нам требуется найти разность между x + dx и x. Точно так же не следует допускать, чтобы xdx и dxdx стояли рядом. Если необходимо продифференцировать [найти производную] ху, то мы пишем: (x + dx)(y + dy) − xy = xdy + ydx + dxdy. Но член dxdy неизмеримо мал по сравнению с xdy + ydx, и его надлежит отбросить. Итак, в рассмотренном нами частном случае ошибка меньше любой конечной величины.
Так Лейбниц отстаивал законность математических понятий, используемых в созданном им варианте анализа. Поскольку приводимые Лейбницем доводы не удовлетворяли его критиков, он сформулировал философский принцип, известный под названием принципа непрерывности и практически не отличающийся от того, которым пользовался Кеплер. Этот принцип Лейбниц сформулировал с самого начала своей работы по созданию анализа, изложив его в письме Герману Конрингу от 19 марта 1678 г.: «Если переменная на всех промежуточных этапах обладает некоторым свойством, то и ее предел будет обладать тем же свойством».
В письме к Пьеру Бейлю, написанном в 1687 г., Лейбниц сформулировал свой принцип более полно: «В любом переходе, завершающемся неким пределом, допустимо использовать общее рассуждение, которое может включить этот предел». Свой принцип Лейбниц применил к вычислению производной dy/dx для параболы y = x2. Получив dy/dx = 2x + dx, Лейбниц заметил: «Согласно нашему постулату, допустимо включать в общее рассуждение и тот случай (рис. 6.5), когда ордината x2y2 все более приближается к фиксированной ординате x1y1, пока наконец не совпадет с ней. Ясно, что тогда dx становится равным нулю и должен быть отброшен…» Лейбниц умолчал о том, какие значения следует придавать dx и dy, входящим в левую часть равенства dy/dx = 2x + dx, когда dx обращается в нуль.
Рис. 6.5. Переход к пределу х2→x1 Лейбницу.
Абсолютно равные величины, говорил Лейбниц, имеют, разумеется, разность абсолютно ничтожную.
Тем не менее можно вообразить переход или одно из обращений в нуль, при котором точное равенство или состояние покоя еще не наступило, но достигнуто такое состояние, в котором разность меньше любой заданной величины. В таком состоянии некоторая разность — какая-то скорость, какой-то угол — еще остается, но в каждом случае она бесконечно мала…
Можно ли строго или метафизически обосновать такое состояние мгновенного перехода от неравенства или равенства и сколь законны соображения, использующие бесконечно большие протяженности, продолжающие неограниченно возрастать, или бесконечно малые протяженности, — вопросы, которые мне, по-видимому, придется оставить открытыми…
Вполне достаточно, если каждый раз, когда речь заходит о бесконечно больших (или, точнее, о неограниченных) или о бесконечно малых (т.е. о самых малых из известных нам) величинах, мы условимся понимать, что имеем в виду величины бесконечно большие или бесконечно малые, т.е. сколь угодно большие или сколь угодно малые, вследствие чего допускаемая ошибка может быть меньше заранее заданной величины.
При таких допущениях все правила нашего алгоритма, изложенные в Acta eruditorum за октябрь 1684 г., могут быть доказаны без особого труда.
Далее следовало изложение правил, ничего, впрочем, не добавляющее к их обоснованию.
Сформулированный Лейбницем принцип непрерывности заведомо не был (и ныне не является) математической аксиомой. Тем не менее Лейбниц всячески подчеркивал важность этого принципа и неоднократно использовал его в своих рассуждениях. Так, в письме к Валлису (1698) Лейбниц, отстаивая использование характеристического треугольника (рис. 6.4) как формы, не имеющей размеров и потому остающейся неизменной, когда длины всех сторон треугольника обращаются в нуль, с вызовом спрашивал: «Кто не приемлет форму, лишенную размеров?» В письме к Гвидо Гранди (1713) Лейбниц утверждал, что бесконечно малая — это не простой и абсолютный нуль, а нуль относительный, т.е. исчезающая величина, которая, однако, сохраняет свойство той величины, которая, собственно, исчезает. Но в других случаях Лейбниц признавал, что не верит в истинно бесконечно большие или истинно бесконечно малые величины.
До конца жизни (он умер в 1716 г.) Лейбниц продолжал объяснять, что такое его бесконечно малые и бесконечно большие величины. Однако все эти объяснения были не более убедительны, чем приведенные выше. Созданное Лейбницем дифференциальное и интегральное исчисление не имело ни четко сформулированных понятий, ни обоснований.
У нас может вызвать удивление, что Ньютон и Лейбниц могли довольствоваться столь грубыми рассуждениями. Еще до того, как они приступили к созданию дифференциального и интегрального исчисления, другие великие математики достигли выдающихся успехов, о которых и Ньютон, и Лейбниц, изучавшие труды своих предшественников, безусловно, хорошо знали. Знаменитое высказывание Ньютона «Если я видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов» не просто проявление скромности, а констатация факта. Что же касается Лейбница, то он был одним из величайших мыслителей. Мы уже упоминали (гл. III) о том, сколь значительный вклад он внес в развитие различных областей человеческого знания. По широте и силе интеллекта Лейбница можно сравнить разве что с Аристотелем. Разумеется, создание дифференциального и интегрального исчисления потребовало разработки принципиально новых, очень тонких идей, а даже лучшие из умов, способные к величайшим творческим свершениям, не всегда до конца постигают то, что ими же создано.
Ни Ньютон, ни Лейбниц не могли полностью объяснить вводимые ими понятия или обосновать новые операции. Они полагались на плодотворность своих методов, совпадение получаемых ими независимо друг от друга результатов, и продолжали упорно и энергично двигаться вперед, не особенно задумываясь о строгости. Лейбниц, заботившийся о строгости меньше, чем Ньютон, хотя и чаще отвечавший на возражения критиков, считал, что лучшим обоснованием используемых им методов служит их эффективность. Он неоднократно подчеркивал «рецептурную», или алгоритмическую, ценность своих методов. Лейбниц почему-то был убежден, что, сколь бы неясным ни выглядел смысл понятий, результаты рассуждений будут разумны и правильны, если верно сформулировать и надлежащим образом применять правила действий. Подобно Декарту, Лейбниц был человеком проницательным, мыслившим широко. Он предвидел отдаленные последствия новых идей и, не колеблясь, провозгласил рождение новой науки.
Обоснование математического анализа по-прежнему оставалось неясным. Сторонники Ньютона толковали о простых и предельных отношениях; последователи Лейбница предпочитали пользоваться инфинитезимальными, или бесконечно малыми, величинами. Существование столь несхожих между собой подходов осложняло и без того нелегкую работу по обоснованию математического анализа. Кроме того, некоторые английские математики — возможно, в силу традиционной привязанности к греческой геометрии — предъявляли более жесткие требования к строгости доказательств и поэтому с недоверием относились к подходам как Ньютона, так и Лейбница. Другие английские математики, вместо того чтобы заниматься математикой, предпочитали изучать труды Ньютона и поэтому не продвинулись ни на шаг на пути к обоснованию дифференциального и интегрального исчисления. Таким образом, к концу XVII в. математический анализ, так же как арифметика и алгебра, пребывал в состоянии полной неразберихи.
Распространение методов математического анализа на новые области привело к появлению новых понятий и методов, что еще больше осложнило проблему обоснования дифференциального и интегрального исчисления. Примером такого рода дополнительных трудностей могут служить бесконечные ряды. Напомним, с какого рода проблемами столкнулись математики при рассмотрении бесконечных рядов.
Представив функцию 1/(1 + x) в виде (1 + x)−1 и применив к последней теорему о разложении бинома, получим
1/(1 + x) = (1 + x)−1 = 1 − x + x2 − х3 + x4 − …, (8)
где многоточие означает, что число членов, выписываемых по такому же закону, как и несколько первых, можно увеличивать неограниченно. Вводя в математический анализ бесконечные ряды, математики намеревались заменить ими функции в таких операциях, как дифференцирование (нахождение производных) и интегрирование (антидифференцирование), поскольку производить операции с более простыми членами ряда гораздо легче, чем с исходными функциями. Кроме того, ряды позволяли по заданному значению независимой переменной вычислять значения таких функций, как, скажем, sin x. Во всех этих случаях важно знать, что ряд равносилен исходной функции. Но функции при заданном x принимают вполне определенные значения; поэтому прежде всего возникает вопрос: какое значение принимает при заданном x выбранный нами ряд? Иначе говоря, что мы понимаем под суммой ряда и как ее вычислить? Второй, не менее важный вопрос можно было бы сформулировать так: представляет ли ряд функцию при всех значениях x или по крайней мере при всех тех значениях x, при которых функция имеет смысл.
В первой работе по математическому анализу (1669) Ньютон не без гордости ввел бесконечные ряды для упрощения основных операций — дифференцирования и интегрирования. Так, воспользовавшись для интегрирования (антидифференцирования) функции y = 1/(1 + x2) теоремой о разложении бинома, Ньютон получил ряд
y = 1 − x2 + х4 − x6 + х8 − …,
который и проинтегрировал почленно. Ньютон обратил внимание на то, что если ту же функцию представить в виде y = 1/(x2 + 1), то та же теорема о разложении бинома даст ряд
y = 1/x2 − 1/х4 + 1/x6 − 1/х8 + ….
Ньютон заметил далее, что при достаточно малом x следует пользоваться первым разложением, а при достаточно большом x — вторым. Из этого видно, что Ньютон интуитивно сознавал важность такого свойства ряда, как сходимость, хотя и не имел о нем ясного представления.
Обоснование, данное Ньютоном производимым им операциям над бесконечными рядами, может служить великолепным образцом логики того времени. В статье 1669 г. Ньютон утверждал:
То, что обычный анализ [алгебра] выполняет с помощью уравнений с конечным числом членов (если это выполнимо), [новый анализ] всегда может выполнить с помощью уравнений с бесконечным числом членов [рядов]; поэтому я, не задумываясь, назвал новое исчисление анализом. Рассуждения в нем не менее надежны, чем в обычном анализе, не менее точны и уравнения, хотя мы, смертные, чей разум ограничен узкими пределами, не можем ни выразить, ни постичь все члены этих уравнений дабы найти из них точные значения тех величин, которые нам нужны.
Для Ньютона бесконечные ряды были частью алгебры — высшей алгебры, изучающей выражения не с конечным, а с бесконечным числом членов.
Подобно Ньютону и Лейбницу, над решением странной проблемы бесконечных рядов бились несколько представителей славного математического рода Бернулли, а также Эйлер, Д'Аламбер и другие математики XVIII в. Применяя бесконечные ряды в анализе, они совершали всевозможные ошибки, предлагали неверные доказательства, приходили к неверным заключениям. Более того, иногда они в обоснование своих результатов приводили рассуждения, которые мы, ретроспективно, можем назвать лишь смехотворными и нелепыми. Даже беглого перечисления таких рассуждений достаточно, чтобы понять, какая сумятица и неразбериха царили тогда в представлениях о свойствах бесконечных рядов.
При x = 1 ряд (8), представляющий функцию 1/(1 + x),
1/(1 + x) = 1 − x + x2 − х3 + x4 − …, (8)
переходит в ряд
1 − 1 + 1 − 1 + 1 − ….
Вопрос о том, чему равна сумма последнего ряда, порождал бесконечные споры. Если этот ряд записать в виде
(1 − 1) + (1 − 1) + (1 − 1) + …,
то становится ясно, что его сумма должна быть равна нулю. Но если тот же ряд записать как
1 − (1 − 1) − (1 − 1) − …,
то столь же ясно, что сумма ряда должна равняться единице. Однако ясно также и то, что если сумму ряда обозначить через S, то
S = 1 − (1 − 1 + 1 − 1 + …),
или
S = 1 − S,
откуда S = 1/2. Последний результат подкрепляется еще одним доводом. Интересующий нас ряд можно рассматривать как геометрическую прогрессию со знаменателем −1, а сумма бесконечной геометрической прогрессии с первым членом a и знаменателем r равна a/(1 − r). В нашем случае сумма равна 1/[1 − (−1)], или 1/2.
Гвидо Гранди (1671-1742) в своем небольшом сочинении «Квадратура окружностей и гипербол» (Quadratura circuit et hyperbolae, 1703) другим методом получил сумму, равную 1/2. Полагая в (8) x = 1, он нашел:
1/2 = 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − ….
Тем самым Гранди утверждал, что сумма ряда равна 1/2. Но одновременно он заявлял, что сумма того же ряда равна 0. По мнению Гранди, полученное им «равенство» 0 = 1/2 доказывало, что мир мог быть создан из ничего.
В письме к Христиану Вольфу, опубликованному в Acta eruditorum за 1713 г., Лейбниц рассмотрел тот же ряд. Он согласился с выводом Гранди, но считал, что к подобному заключению можно было бы прийти, не обращаясь к исходной функции. Взяв первый член, сумму первых двух, трех, четырех и т.д. членов, Лейбниц получил 1, 0, 1, 0, …. Следовательно, счел он, 0 и 1 равновероятны и их среднее арифметическое, равное 1/2, — наиболее вероятное значение суммы ряда. Якоб, Иоганн и Даниил Бернулли, а также Лагранж согласились с доводами Лейбница. Признав, что его доводы носят не столько математический, сколько метафизический характер, Лейбниц сослался на распространенность такого рода аргументации: в математике, по его словам, метафизических истин гораздо больше, чем обычно думают.
В одном из писем, датированных 1745 г., и в работе 1754-1755 гг. Эйлер предпринял попытку решить проблему суммирования рядов. Ряд, сумма которого по мере увеличения числа членов все меньше отличается от некоторого фиксированного числа, называется сходящимся, а само это число — суммой ряда. По Эйлеру, ряд сходится, если члены его монотонно убывают. Ряд, члены которого не убывают и могут даже возрастать, расходится, а так как ряды такого типа порождаются хорошо известными явными функциями, то Эйлер предложил считать суммой ряда значение функции (при соответствующем значении x).
Теория Эйлера породила дополнительные проблемы. Взяв разложение
1/(1 + x)2 = (1 + x)−2 = 1 − 2x + 3x2 − 4x3 + …,
Эйлер получил при x = −1
∞ = 1 + 2 + 3 + 4 + ….
Результат, казалось бы, вполне осмысленный. Но затем Эйлер рассмотрел ряд для функции 1/(1 − x):
1/(1 − x) = 1 + x + x2 + x3 + …
и получил при x = 2
−1 = 1 + 2 + 4 + 8 + ….
Так как сумма ряда, стоящего в правой части этого ряда, должна превышать сумму предыдущего ряда, Эйлер заключил, что −1 больше, чем бесконечность. Некоторые из современников Эйлера утверждали даже, что отрицательные числа, которые больше бесконечности, отличаются от отрицательных чисел, меньших нуля. С этим Эйлер не согласился: по его мнению, бесконечность разделяет положительные и отрицательные числа так же, как нуль.
Взгляды Эйлера на сходимость и расходимость рядов были ошибочными. В его время уже были известны ряды с монотонно убывающими членами, тем не менее не имеющие суммы по Эйлеру, — да и ему самому приходилось работать с рядами, которые не были порождены явными функциями. «Теория» бесконечных рядов Эйлера была явно неполной. Кроме того, Николай Бернулли (1687-1759) в ныне утерянном письме (1743), по-видимому, обратил внимание Эйлера на то, что различные аналитические выражения могут порождать один и тот же ряд, и если следовать предложенному Эйлером определению суммы ряда, то этому ряду надлежит приписать различные суммы. В письме Гольдбаху (1745) Эйлер ответил, что Бернулли не привел никаких примеров в подтверждение своих слов и что он, видимо, сам не верит в то, что два истинно различных алгебраических выражения могут порождать один и тот же ряд. Однако Жан Шарль Калле (1744-1799) предложил пример ряда, порождаемого двумя различными функциями. Лагранж пытался опровергнуть пример Калле, но, как выяснилось впоследствии, аргументы Лагранжа были ошибочными.
Подход Эйлера к бесконечным рядам был неадекватен и по другим причинам. Ряды можно дифференцировать и интегрировать, и то, что дифференцирование и интегрирование ряда приводит соответственно к производной и антипроизводной функции, породившей ряд, требует особого обоснования. Несмотря на это, Эйлер провозгласил: «Всякий раз, когда бесконечный ряд получается при разложении некоторого замкнутого выражения [формулы для функции], его допустимо использовать в математических операциях как эквивалент этого выражения даже при тех значениях переменной, при которых ряд расходится». Мы можем обратить себе на пользу расходящиеся ряды, утверждал Эйлер, и защитить их применение от всяких возражений.
Другие математики XVIII в. также сознавали необходимость отличать ряды, называемые ныне сходящимися, от рядов, которые мы называем расходящимися, хотя и не знали, где именно проходит различие между теми и другими. Трудность была вызвана новизной понятия: подобно первопроходцам, математикам XVIII в. приходилось прорубать себе дорогу через девственный лес. Первоначальная идея Ньютона, принятая Лейбницем, Эйлером и Лагранжем (ряд не более чем «длинный» многочлен и, следовательно, относится к области алгебры), не могла служить основой для обоснования операций, производимых с рядами.
В XVIII в. господствовал формальный подход к бесконечным рядам. Математики того времени отменили все ограничения на операции над рядами, например перестали заботиться о сходимости ряда. Использование рядов давало полезные результаты — и математики довольствовались практическим подтверждением правильности применяемых ими методов. Они далеко вышли за пределы того, что могли бы обосновать, но в целом обращались с расходящимися рядами довольно осторожно.
Хотя арифметика и алгебра были обоснованы ничуть не лучше математического анализа, математики сосредоточили свои усилия на последнем, надеясь изгнать из дифференциального и интегрального исчисления любую неоднозначность. Столь явное предпочтение математическому анализу объяснялось, несомненно, тем, что к началу XVIII в. различные типы чисел стали привычными и казались вполне естественными, в то время как понятия математического анализа по-прежнему оставались странными и даже загадочными, а потому менее приемлемыми. Кроме того, применение чисел не приводило к противоречиям, тогда как применение дифференциального и интегрального исчисления, бесконечных рядов и других разделов математического анализа рождало противоречия.
Ньютоновский подход к анализу потенциально легче поддавался обоснованию, чем подход Лейбница, хотя методология Лейбница отличалась большей гибкостью и была более удобной для приложений. Английские математики все еще надеялись обосновать оба подхода, связав их с евклидовой геометрией. К тому же они путали ньютоновские моменты (приращения неделимых, нынешние дифференциалы) и его непрерывные переменные. Математики, жившие в континентальной Европе, придерживались подхода Лейбница и пытались обосновать введенное им понятие дифференциала (бесконечно малой). Книги, посвященные объяснению и обоснованию подходов Ньютона и Лейбница, слишком многочисленны и противоречивы, чтобы подробно говорить о них.{78}
Пока одни математики предпринимали усилия, чтобы обосновать математический анализ, другие подвергали сомнению его правильность. Самым сильным нападкам математический анализ подвергся со стороны философа епископа Джорджа Беркли (1685-1753), опасавшегося, что вдохновляемая математикой философия механицизма и детерминизма создает растущую угрозу религии. В 1734 г. Беркли опубликовал сочинение под названием «Аналитик, или Рассуждение, адресованное одному неверующему математику [таковым он называл Эдмонда Галлея], в котором исследуется, являются ли предмет, принципы и заключения современного анализа более отчетливо познаваемыми и с большей очевидностью выводимыми, чем религиозные таинства и положения веры» [21]. «Вынь бревно из глаза своего, и ты узришь соринку в глазу брата своего». Беркли с полным основанием сетовал на загадочность и непонятность того, чем занимаются математики, поскольку те никак не обосновывали и не объясняли своих действий. Беркли подверг критике многие из рассуждений Ньютона, и в частности указал на то, что в «Рассуждении о квадратуре кривых» Ньютон (обозначавший приращение через x, а не h, как это сделали мы) выполнил несколько алгебраических операций, после чего отбросил члены, содержавшие h, мотивируя это тем, будто приращение h теперь обратилось в нуль. [Ср. равенства (3) и (4).] Поступая так, продолжал Беркли, Ньютон допустил вопиющее нарушение закона противоречия. Такого рода рассуждения в теологии были бы признаны неприемлемыми. Беркли утверждал, что первые флюксии (первые производные), по-видимому, выходят за рамки человеческого разумения, поскольку находятся за пределами конечного.
А если непостижимы первые [флюксии], то что можно сказать о вторых, третьих [производных от производных] и т.д.? Тот, кто сумеет постичь начало начал или конец концов… возможно, окажется достаточно проницательным, чтобы понять подобные вещи. Но, по моему глубокому убеждению, большинство людей не в состоянии понять их в каком бы то ни было смысле… Тому, кто сумеет превратить вторую и третью производную, думается, вряд ли стоит особо привередничать по поводу того или иного пункта в Священном писании.
Говоря об исчезновении (обращении в нуль) h и k, Беркли заметил: «Предполагая, что приращения исчезают, мы, несомненно, должны предположить, что их пропорции, выражения и все, вытекающее из их существования, исчезает вместе с ними». По поводу предложенного Ньютоном представления о производной как об отношении двух исчезающе малых величин h и k, Беркли высказался так: «Они не конечные величины, не величины бесконечно малые, не ничто. Как же не назвать их призраками покинувших нас величин?».
Столь же критически Беркли отнесся и к подходу Лейбница. На введенные Лейбницем понятия он обрушился еще в своей ранней работе «Трактат о принципах человеческого знания» (1710, переработанное издание — 1734) ([21], с. 149-248):
Некоторые из них, имеющие громкое имя, не довольствуются мнением, будто конечные линии могут быть делимы на бесконечное число частей, но утверждают далее, что каждая из этих бесконечно малых частей в свою очередь делима на бесконечное число других частей, или бесконечно малых величин второго порядка, и т.д. ad infinitum. Они утверждают, говорю я, что существуют бесконечно малые части бесконечно малых частей и т.д. без конца… Другие утверждают, что все порядки бесконечно малых величин ниже первого порядка суть ничто…
([21], с. 234.)Критику идей Лейбница Беркли продолжил в своем «Аналитике» [«Аналитик, или Рассуждение, адресованное неверующему математику» ([21], с. 395-442)]:
Лейбниц и его последователи в их calculus differentialis без тени сомнения сначала предполагают и затем отвергают бесконечно малые величины, что не может не заметить любой мыслящий человек, наделенный ясным умом и здравостью суждений и не относящийся к такого рода вещам с предвзятой благосклонностью,
Отношение дифференциалов, утверждал Беркли, геометрически должно означать тангенс угла наклона секущей, а не касательной. Эту ошибку математики совершают, пренебрегая высшими дифференциалами. Так, «благодаря двойной ошибке вы приходите хотя и не к науке, но все же к истине», потому что одна ошибка компенсирует другую. Неудовольствие Беркли вызвал и второй дифференциал Лейбница d(dx) — «разность величины dx, которая и сама едва различима».
«Можно ли назвать действия современных математиков, — спрашивал Беркли, имея в виду подход как Ньютона, так и Лейбница, действиями людей науки, если они с гораздо большим рвением стремятся применить свои принципы, нежели понять их?» «Во всякой другой науке, — утверждал Беркли, — люди доказывают правильность заключений, исходя из принятых ими принципов, а не принципы, исходя из заключений».
Беркли завершал свой «Аналитик» целой серией вопросов. Вот некоторые из них:
Разве математики, столь чувствительные в вопросах религии, столь же скрупулезно придирчивы в своей науке? Разве не полагаются они на авторитет, принимая многое на веру, и разве не веруют они в вещи, непостижимые для разума? Разве нет у них своих таинств и, более того, своих несовместимостей и противоречий?
Многие математики выступили с ответом на критику Беркли, и каждый из них пытался, но безуспешно, обосновать математический анализ. Наиболее значительную попытку предпринял Эйлер. Он полностью отверг геометрию как основу анализа и начал работать с функциями чисто формально, т.е. строить рассуждения, исходя из алгебраического (аналитического) представления функций. Эйлер отверг и предложенное Лейбницем понятие бесконечно малой как величины, которая меньше любого заданного числа, но все же не равна нулю. В своем сочинении «Основы дифференциального исчисления» (Institutiones calculi differentialis, 1755), классическом курсе математического анализа XVIII в., Эйлер привел следующее рассуждение:
Каждая величина, несомненно, может уменьшиться настолько, что исчезнет полностью и растает. Но бесконечно малая величина есть не что иное, как исчезающая величина, и поэтому сама равна нулю. Это полностью согласуется также с определением бесконечно малых величин, по которому эти величины должны быть меньше любого заданного числа. Ясно, что такая величина не может не быть нулем, ибо если бы она была отлична от нуля, то вопреки предположению не могла бы быть меньше самой себя.
Такие бесконечно малые, как dx (обозначение Лейбница), равны нулю, следовательно, равны нулю (dx)2, (dx)3 и т.д., утверждал Эйлер, потому что последние принято считать бесконечно малыми более высокого порядка, чем dx. Производная dy/dx (в обозначениях Лейбница), бывшая для Лейбница отношением бесконечно малых, понимаемых в его смысле, для Эйлера, по существу, обращалась в неопределенность 0/0. Эйлер утверждал, что 0/0 может принимать много значений, так как n∙0 = 0 при любом числе n, и, разделив равенство на 0, мы получим n = 0/0. Какое именно значение принимает 0/0 для вполне определенной функции, можно установить с помощью обычного метода вычисления производной. Эйлер демонстрирует это на примере функции y = x2. Придадим переменной x приращение h (Эйлер обозначал приращение ω). Пока h, по предположению, не равно нулю. [Ср. сказанное в связи с выражениями (1) — (4).] Следовательно,
k/h = 2x + h.
Там, где Лейбниц считал приращение h бесконечно малым, но не равным нулю, Эйлер положил h равным нулю, после чего отношение k/h, т.е. 0/0, оказалось равным 2x.
Эйлер подчеркивал, что эти дифференциалы (предельные значения k и h) — абсолютные нули и из них нельзя извлечь ничего, кроме их отношения, которое и было вычислено в заключение и оказалось конечной величиной. В третьей главе «Основ анализа» Эйлера есть немало рассуждений такого рода. Стремясь приободрить читателя, Эйлер замечает, что понятие производной не столь уж загадочно, как обычно думают, хотя оно в глазах многих делает дифференциальное исчисление подозрительным. Разумеется, предложенное Эйлером обоснование метода нахождения производной было ничуть не более здравым, чем обоснования, предлагавшиеся Ньютоном и Лейбницем.
Формальный, некорректный подход Эйлера все же явился большим шагом вперед, ибо, избавляя математический анализ от традиционной основы — геометрии, подводил под него базу арифметики и алгебры. Этот шаг впоследствии привел к обоснованию анализа на основе понятия числа.
Наиболее претенциозная из последующих попыток заложить фундамент анализа была предпринята в XVIII в. Лагранжем. Подобно Беркли и другим своим предшественникам, Лагранж считал, что полученные с помощью анализа правильные результаты объясняются наложением и взаимной компенсацией ошибок. Свою собственную реконструкцию анализа Лагранж изложил в книге под названием «Теория аналитических функций» (1797; 2-е изд. — 1813).{79} Подзаголовок книги гласил: «Содержащая основные теоремы дифференциального исчисления, [доказанные] без использования бесконечно малых, исчезающих величин, пределов и флюксий, и сведенная к искусству алгебраического анализа конечных величин» (курсив М. К.).
Критикуя Ньютона, Лагранж, в частности, указывал, что, рассматривая предел отношения дуги к хорде, тот считал хорду и дугу равными не до и не после, а в момент исчезновения. В этой связи Лагранж заметил:
Такой метод чрезвычайно неудобен тем, что величины приходится рассматривать в тот самый момент, когда они, так сказать, перестают быть величинами, ибо, хотя мы всегда хорошо представляем отношения двух величин, покуда они остаются конечными, их отношение не дает уму никакого ясного и точного представления, коль скоро обе величины исчезают одновременно.
Лагранж не был удовлетворен ни бесконечно малыми величинами Лейбница, ни абсолютными нулями Эйлера, так как оба этих понятия, «хотя и правильны в действительности, все же недостаточно ясны для того, чтобы служить основанием науки, надежность выводов которой зиждется на ее очевидности».
Лагранж хотел придать математическому анализу всю строгость доказательств древних и стремился достичь желаемого путем сведения математического анализа к алгебре. В частности, Лагранж предложил использовать для строгого обоснования анализа бесконечные ряды, которые в то время было принято относить к алгебре, хотя с их обоснованием дело обстояло хуже, чем с обоснованием математического анализа. Лагранж «скромно» заметил, что его метод почему-то не пришел в голову Ньютону.
Нам нет необходимости вдаваться в подробности обоснования анализа «по Лагранжу». Помимо совершенно неудовлетворительного использования рядов Лагранж производил множество алгебраических преобразований, призванных скорее помешать читателю обнаружить немаловажное обстоятельство: отсутствие строгого определения производной. Все результаты, полученные Лагранжем, были обоснованы столь же плохо, как и результаты его предшественников. Лагранж был убежден, что ему удалось избавиться от понятия предела и построить весь анализ на основе алгебры. Несмотря на все допущенные Лагранжем ошибки, предложенный им вариант обоснования анализа имел несколько выдающихся продолжателей.
Мнение о том, что математический анализ представляет собой лишь продолжение алгебры, было подкреплено фундаментальным трехтомным трудом Сильвестра Франсуа Лакруа (1765-1843), вышедшим в 1797-1800 гг. Лакруа шел по стопам Лагранжа. В меньшей по объему однотомной работе под названием «Элементарный трактат по дифференциальному и интегральному исчислению» (1802) Лакруа использовал теорию пределов (точнее, то, что понимали под теорией пределов в начале XIX в.) — правда, по словам Лакруа, лишь для того, чтобы сэкономить место.
Некоторые английские математики начала XIX в. решили взять реванш над превосходившими их математиками из континентальной Европы. Чарлз Бэббедж (1792-1871), Джон Гершель (1792-1871) и Джордж Пикок (1791-1858), бывшие тогда выпускниками Кембриджского университета, основали Аналитическое общество и перевели краткий курс математического анализа Лакруа.{80} Однако в предисловии переводчиков говорилось следующее:
Сочинение Лакруа, перевод которого предлагается вниманию публики… может рассматриваться как сокращенный вариант его фундаментального труда по дифференциальному и интегральному исчислению, хотя при доказательстве первых принципов автор пользовался методом пределов Д'Аламбера вместо наиболее правильного и естественного метода Лагранжа, который он применил в более обширном своем сочинении…
Пикок утверждал, что теория пределов неприемлема, так как она отделяет принципы дифференциального исчисления от алгебры. Гершель и Бэббедж выразили полное согласие с мнением своего коллеги.
Насущная необходимость надлежащего обоснования математического анализа остро ощущалась в конце XVIII в. всем математическим миром, и по предложению Лагранжа отделение математики Берлинской академии наук, директором которой он состоял в 1766-1878 гг., назначила в 1784 г. приз (который должен был быть вручен в 1786 г.) за лучшее решение проблемы бесконечности в математике. Объявление об условиях конкурса гласило:
Своими предложениями, всеобщим уважением и почетным титулом образцовой «точной науки» математика обязана ясности своих принципов, строгости своих доказательств и точности своих теорем.
Для обеспечения непрестанного обновления столь ценных преимуществ этой изящной области знания необходима ясная и точная теория того, что называется в математике бесконечностью.
Хорошо известно, что современная геометрия [математика] систематически использует бесконечно большие и бесконечно малые величины. Однако геометры античности и даже древние аналитики всячески стремились избегать всего, что приближается к бесконечности, а некоторые знаменитые аналитики современности усматривают противоречивость в самом термине бесконечная величина.
Учитывая сказанное, Академия желает получить объяснение, каким образом столь многие правильные теоремы были выведены из противоречивого предположения, вместе с формулировкой точного, ясного, короче говоря, истинно математического принципа, который был бы пригоден для замены принципа бесконечного и в то же время не делал бы проводимые на его основе исследования чрезмерно сложными или длинными. Предмет должен быть рассмотрен во всей возможной общности и со всей возможной строгостью, ясностью и простотой.
К участию в конкурсе допускались все желающие, за исключением членов Академии, Всего на рассмотрение жюри поступило двадцать три работы. Официальное решение, опубликованное после окончания работы жюри, гласило:
Академия получила много работ на объявленную тему. Авторы всех работ не смогли объяснить, каким образом из противоречивого предположения — о существовании бесконечно большой величины — удалось вывести так много правильных теорем. Все авторы в большей или в меньшей степени пренебрегли требованиями ясности, простоты, а главное — строгости. Большинство из авторов даже не осознали, что принцип, который им надлежало найти, должен был не ограничиваться дифференциальным исчислением, а распространяться также на алгебру и геометрию, рассматриваемые в духе древних.
Учитывая изложенное, Академия считает, что ее требования удовлетворены не полностью.
Тем не менее жюри нашло, что в наибольшей мере удовлетворил требованиям участник конкурса, представивший работу на французском языке под девизом «Бесконечность — пучина, в которой тонут наши мысли». Ему и присужден приз.
Победителем оказался швейцарский математик Симон Люилье. В том же 1876 г. Берлинская академия опубликовала его «Элементарное изложение высшего анализа». Несомненно, решение, принятое математическим отделением Академии, по существу было правильным. Ни в одной из других работ (за исключением работы, представленной Карно; см. гл. VII) даже не делалось попытки объяснить, каким образом в математическом анализе исходя из ложных посылок удается вывести так много правильных теорем. Люилье, несомненно, заслуживал награды, хотя основная идея его работы была далеко не оригинальна. По словам самого Люилье, его работа представляла «развитие идей… бегло намеченных Д'Аламбером и как бы изложенных в его статье «Дифференциал», опубликованной в «Энциклопедии», и в его сочинении «Разное». Во вводной главе своего сочинения Люилье излагает слегка усовершенствованный вариант теории пределов. Впервые в печатном тексте он ввел для обозначения предела символ lim. Производную dP/dx (ранее встречавшуюся как отношение k/h) Люилье обозначал lim ΔP/Δx, но вклад самого Люилье в теорию пределов был крайне незначительным.
Хотя почти каждый математик XVIII в. предпринимал попытку обосновать математический анализ или по крайней мере высказывал свое мнение по поводу столь важной проблемы, а два-три математика были на верном пути, все усилия оказались тщетными. Математики XVIII в. либо умышленно обходили все сколько-нибудь важные и тонкие проблемы, либо просто не замечали их. Различие между очень большим числом и бесконечно большой величиной они ощущали с трудом. Математикам XVIII в. казалось очевидным, что теорема, которая выполняется при любом конечном n, должна выполняться и при бесконечном n. Разностное отношение k/h [см. выражение (3)] они охотно заменяли производной, а сумму членов вида (7) с трудом отличали от интеграла. Переход от конечного к бесконечному как в одну, так и в другую сторону совершался ими необыкновенно легко и просто. Суть математики XVIII в., пожалуй, наиболее точно выразил Вольтер, охарактеризовавший [математический] анализ как «искусство считать и точно измерять то, существование чего непостижимо для разума». Предпринимавшиеся на протяжении века попытки строгого обоснования анализа, в особенности попытки, предпринятые такими гигантами науки, как Эйлер и Лагранж, лишь окончательно запутали и завели в тупик как их современников, так и математиков последующих поколений. В целом подобные попытки оказались безнадежно ошибочными — от них можно было бы прийти в отчаяние и усомниться в том, что математикам вообще когда-нибудь удастся разрешить проблему обоснования анализа.
Математики верили в символы больше, чем в логику. Поскольку бесконечный ряд имеет один и тот же вид при всех значениях x, различие между значениями x, при которых ряд сходится, и теми значениями, при которых он расходится, не привлекало должного внимания. И хотя было известно, что некоторые ряды, например 1 + 2 + 3 + …, имеют бесконечную сумму, математики предпочитали пытаться придать какой-то смысл бесконечной сумме, чем усомниться в применимости суммирования. Было бы неверно утверждать, что математики XVIII в. не ощущали необходимости доказательства некоторых утверждений. Мы видели, что Эйлер пытался обосновать использование расходящихся рядов. Более того, Эйлер, Лагранж и многие другие математики пытались обосновать математический анализ. Но немногочисленные попытки достичь желаемой строгости (ценные тем, что они показали, как изменяются со временем критерии математической строгости) не увенчались успехом. Математический анализ, созданный трудом многих людей на протяжении почти столетия, по-прежнему оставался под сомнением. И математики, можно сказать, сознательно прибегли к житейской мудрости: если анализ нельзя излечить, необходимо хотя бы продлить ему жизнь. В своих рассуждениях мыслители XVIII в. нередко обращались к термину «метафизика». Под ним понимали совокупность истин, лежащих за пределами собственно математики. В случае необходимости эти истины могли быть использованы для обоснования того или иного математического утверждения, хотя природа метафизических истин оставалась неясной. Обращение к метафизике означало использование аргументов, которые не подкреплялись разумом. Так, Лейбниц утверждал, что метафизика используется в математике шире, чем можно себе представить. Единственным «обоснованием» равенства 1/2 = 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − … и принципа непрерывности было утверждение Лейбница о том, что оба утверждения «обоснованы» метафизически. Предмет спора исчезал, коль скоро появлялось метафизическое «обоснование». Эйлер также обращался к метафизике и доказывал, что метафизические аргументы должны приниматься в анализе на веру. Всякий раз, когда математики XVII-XVIII вв. не находили подобающего аргумента в подтверждение того или иного утверждения, они говорили, что это утверждение верно по метафизическим причинам.
Итак, XVIII в. закончился, оставив обоснование дифференциального и интегрального исчисления и высших разделов математического анализа в крайне неудовлетворительном состоянии. Без преувеличения можно было сказать, что к началу XIX в. ситуация с обоснованием математического анализа выглядела гораздо хуже, чем в канун XVIII в. Гиганты науки, главным образом Эйлер и Лагранж, дали неверные обоснования анализа. А поскольку их авторитет был чрезвычайно велик, многие из их коллег воспринимали и некритически повторяли все, что делали корифеи, и даже пытались строить новые теории на возведенных теми ложных основаниях. Другие, менее доверчивые, не были удовлетворены тем, что предлагали Эйлер и Лагранж, но надеялись достичь полного обоснования путем незначительных поправок и дополнений. Нужно ли говорить, что и они стояли на неверном пути.
VII Нелогичное развитие: серьезные трудности на пороге XIX в.
Почто, о боги, в этом мире
Должно быть дважды два — четыре?
Александр ПопК началу XIX в. математика оказалась в весьма парадоксальной ситуации. Ее успехи в описании и предсказании физических явлений превзошли самые смелые ожидания. Но при этом многие математики еще в XVIII в. отмечали, что все огромное здание математической науки было лишено логического фундамента и держалось на столь шатких основаниях, что не было уверенности в «правильности» этой науки. Подобная ситуация сохранялась и в течение всей первой половины XIX в. Многие математики с головой ушли в новые области физики и добились там значительных успехов, а об основаниях математики никто попросту не задумывался. Естественно, что критика по поводу учения об отрицательных и комплексных числах, а также в адрес алгебры, дифференциального и интегрального исчисления и других разделов стремительно развивавшегося математического анализа не утихала.
С какими же трудностями столкнулась математика в начале XIX в.? Вряд ли необходимо останавливаться на возражениях, которые продолжали выдвигаться против использования иррациональных чисел: ведь, как мы уже отмечали, иррациональные числа можно представлять как точки на прямой — и потому на чисто интуитивном уровне их принятие вряд ли было сопряжено с большими трудностями, чем использование целых и дробных чисел; польза же от введения иррациональных чисел была несомненна. В результате иррациональные числа, не имевшие сколько-нибудь серьезного научного обоснования, были приняты без особых возражений. Однако отрицательные и комплексные числа по-прежнему доставляли немало беспокойства, так как интуитивно казались неприемлемыми. В XIX в., как и в предыдущие столетия, многие их все еще просто отвергали или довольно злобно критиковали их использование.
Уильям Френд (1757-1841), тесть Огастеса де Моргана и член совета колледжа Иисуса Кембриджского университета, в предисловии к своей книге «Начала алгебры» (1796) заявлял без обиняков:
[Любое число] допустимо вычитать из большего числа, но любая попытка вычесть какое-либо число из меньшего числа смехотворна сама по себе. Тем не менее именно это пытаются делать алгебраисты, толкующие о числах, меньших нуля; об умножении отрицательного числа на отрицательное, дающем положительное произведение; о мнимых числах. Они разглагольствуют о двух корнях любого уравнения второй степени и предлагают тому, кто их слушает, попытать счастья с доставшимся ему уравнением; они толкуют о решении уравнения, имеющего лишь невозможные, или мнимые корни; они умеют находить невозможные числа, которые при многократном переумножении дают единицу. Все это не более чем жаргон, в котором нет ни капли здравого смысла. Но будучи однажды принят, он, подобно многим другим измышлениям, находит множество горячих приверженцев среди тех, кто охотно принимает на веру всякую бессмыслицу и не склонен к серьезным размышлениям.
В статье, послужившей как бы приложением к сочинению барона Мазера (1800), о котором мы уже упоминали в гл. V, Френд подверг критике общее правило, согласно которому число корней уравнения равно его степени. Френд утверждал, что оно верно лишь для некоторых уравнений, и, разумеется, в качестве примера приводил уравнения, все корни которых положительны. О математиках, приемлющих названное общее правило, Френд говорил, что «они, дабы скрыть ложность принимаемого ими общего утверждения или придать ему хотя бы на словах видимость истины, оказываются вынужденными дать особые названия тому скопищу величин, которые им хотелось бы выдать за корни уравнения, хотя те таковыми не являются».
Знаменитый французский геометр Лазар Никола Карно (1753-1823) известен не только своими оригинальными работами, но и как автор обстоятельного методологического сочинения «Размышления о метафизике исчисления бесконечно малых» (1797, 2-е (переработанное) изд. — 1813), переведенного на многие языки [45]. Карно прямо утверждал: нелепо думать, будто что-то может быть меньше, чем ничто. Отрицательные числа, по мнению Карно, можно вводить в алгебру как некие фиктивные величины, облегчающие вычисления, но, разумеется, это не настоящие величины, и они могут приводить к неверным заключениям.
Начавшийся в XVIII в. спор о логарифмах отрицательных и комплексных чисел совершенно лишил математиков душевного покоя, так что даже в XIX в. они испытывали настоятельную потребность усомниться в существовании как отрицательных, так и комплексных чисел. Роберт Вудхаус из Кембриджского университета опубликовал статью «О непременной истинности некоторых заключений, получаемых с помощью мнимых величин», где, в частности, утверждалось: «Парадоксы и противоречия, в которых обвиняют друг друга математики, вовлеченные в спор относительно логарифмов отрицательных и мнимых величин, можно использовать как веские аргументы против использования этих величин в исследованиях».
Коши — несомненно, один из величайших математиков первой половины XIX в. и создатель теории функций комплексного переменного — как это ни парадоксально, в первые десятилетия XIX в. сам отказывался считать числами такие выражения, как a + b√−1. В своем знаменитом «Курсе анализа» (Cours d'analyse, 1821) он назвал подобные выражения «количествами, лишенными всякого смысла». Тем не менее, продолжал он, эти «бессмысленные количества» позволяют высказывать некие утверждения относительно (реально существующих) вещественных чисел a и b; так, например, равенство
a + b√−1 = c + d√−1
указывает, что a = c и b = d. По утверждению Коши, «каждое равенство, связывающее мнимые числа, есть не более как символическая запись двух равенств вещественных чисел». Даже в 1847 г. он выдвинул весьма сложную теорию, призванную обосновать операции над комплексными числами без использования при этом величины √−1, от которой, говорил Коши, «мы можем полностью отречься и которую должны оставить без сожаления, поскольку нам не известно, ни что означает этот символ, ни какой смысл надлежит ему приписывать».
В 1831 г. Огастес де Морган, автор знаменитых «законов де Моргана» математической логики, внесший немалый вклад в развитие алгебры, высказал свои возражения против отрицательных и комплексных чисел в книге «Об изучении и трудностях математики», в которой, по его словам, не содержалось ничего, что нельзя было бы найти в лучших учебниках, используемых в те времена студентами Оксфорда и Кембриджа:
Мнимое выражение √−a и отрицательное выражение −b сходны в том, что каждое из них, встречаясь как решение задачи, свидетельствует о некоторой противоречивости или абсурдности. Что же касается реального смысла, то оба выражения надлежит считать одинаково мнимыми, так как 0 − a столь же непостижимо, как и √−a.
В качестве примера де Морган приводит следующую задачу: отцу — 56 лет, а сыну — 29; через сколько лет отец будет вдвое старше сына? Де Морган составляет уравнение 56 + x = 2(29 + x) и, решая его, получает x = −2. Такой ответ он считает абсурдным, но замечает, что если x заменить на, −x, то данное уравнение перейдет в 56 − x = 2(29 − x), откуда следует, что x = 2. Отсюда де Морган делает вывод, что исходная задача была неверно поставлена: отрицательный ответ указывает на ошибку в первоначальной формулировке задачи, где на самом деле следует спрашивать: «Сколькими годами ранее отец был вдвое старше сына?»
По поводу комплексных чисел де Морган замечает:
Мы показали, что символ √−a лишен смысла или, точнее, внутренне противоречив и абсурден. Тем не менее такие символы позволили создать часть алгебры, приносящую немалую пользу. Объясняется это тем, что применение к таким выражениям [комплексным числам] общих правил алгебры, как должно быть проверено на опыте, никогда не приводит к ложным результатам. Обращение к опыту такого рода, по-видимому, противоречит первым принципам, положенным в основу алгебры. Мы не можем отрицать, что в действительности все обстоит именно так, Не следует, однако забивать, что та область алгебры, о которой идет речь, составляет лишь небольшую и изолированную часть обширного предмета, ко всем прочим частям которого указанные принципы применимы в полном объеме. [Принципы, которые упоминает де Морган, представляют собой математические истины, с необходимостью выводимые из аксиом с помощью дедуктивных рассуждений.]
Далее де Морган сравнивает отрицательные и комплексные корни:
Итак, между отрицательными и мнимыми решениями уравнения различие все же существует. Если задача допускает отрицательное решение, то, изменив знак неизвестного x в уравнении, которое привело к такому решению, мы можем либо обнаружить ошибку, допущенную при составлении уравнения, либо показать, что вопрос задачи чрезмерно сужен, и, расширив его надлежащим образом, мы получим удовлетворительное решение. Если же задача допускает мнимое решение, то дело обстоит совсем не так.
Несколько дальше де Морган замечает:
Нам отнюдь не хотелось бы воспрепятствовать проникновению в суть предмета тому, кто впервые изучает алгебру, поэтому мы не станем приводить здесь во всех подробностях доводы за и против по таким вопросам, как применение отрицательных чисел и т.д., недоступные пониманию учащегося и не вполне убедительные. Вместе с тем мы считаем своим долгом предуведомить тех, кто изучает алгебру, о существующей трудности и указать на природу ее. Мы надеемся, что учащийся, рассмотрев достаточное число примеров, разобранных отдельно, обретет уверенность в тех результатах, к которым приводят правила.
Не более чем де Морган был склонен принимать отрицательные и комплексные числа Уильям Роуан Гамильтон, один из самых выдающихся математиков XIX в., о котором мы упоминали ранее. Свои возражения против необычных чисел он сформулировал в работе от 1837 г.:
Не требуется особого скептицизма, чтобы усомниться или даже не поверить в учение об отрицательных и мнимых [числах], излагаемое, как это обычно принято, на основе таких принципов, как то, что большую величину можно вычесть из меньшей и что разность может быть меньше, чем ничто, что два отрицательных числа, т.е., числа, означающие величины, каждая из которых меньше нуля, можно умножить одно на другое и произведение при этом будет положительным, иначе говоря, числом, означающим величину, которая больше нуля, и что хотя квадрат числа, или произведение числа на самого себя, всегда положителен независимо от того, положительно или отрицательно само число, тем не менее можно найти, представить себе или определить числа, называемые мнимыми, и производить над ними действия по всем правилам, используемым для положительных и отрицательных чисел, как если бы мнимые числа удовлетворяли этим правилам, хотя эти числа имеют отрицательные квадраты и, следовательно, не должны считаться ни положительными, ни отрицательными числами и ни нулем, в силу чего обозначаемые ими величины не могут быть ни больше, чем ничто, ни меньше, чем ничто, ни равны ничему. Трудно, должно быть, возводить науку на таких основах, хотя правила логики позволяют построить из мнимых чисел симметричную систему выражений и можно выучиться практическому искусству правильно применять полезные правила, по-видимому связанные с этими несуществующими или мнимыми числами.{81}
Джордж Буль (1815-1864), один из создателей (наряду с де Морганом) математической логики, в своем труде «Исследование законов мышления» (1854) называет √−1 неинтерпретируемым символом. Однако, используя этот символ в тригонометрии, мы, по мнению Буля, переходим с помощью неинтерпретируемых выражений от одних интерпретируемых выражений к другим, тоже интерпретируемым.
С комплексными числами математиков несколько примирила не логика, а их геометрическое представление, предложенное Весселем, Арганом и Гауссом (см. гл. IV). Тем не менее в работах Гаусса отчетливо ощущается его нежелание принять комплексные числа. Гаусс предложил четыре доказательства основной теоремы алгебры, утверждающей, что многочлен n-й степени имеет ровно n корней. В первых трех доказательствах (1799, 1815 и 1816) Гаусс рассматривает многочлены с вещественными коэффициентами и, кроме того, предполагает, хотя нигде не определяет его явно, взаимно-однозначное соответствие между точками декартовой (координатной) плоскости и комплексными числами. По существу это еще не было геометрическим представлением комплексных чисел x + iy; Гаусс рассматривал x и y как координаты точки на вещественной плоскости. Кроме того, во всех трех доказательствах Гаусс не использовал теорию функций комплексного переменного, так как вещественную и мнимую части встречающихся функций рассматривал отдельно. В письме к Бесселю (1811) Гаусс высказался более определенно: числу a + bi соответствует точка (a, b) на комплексной плоскости; из одной точки комплексной плоскости в другую можно перейти по многим путям. Если судить по этим трем доказательствам и другим неопубликованным работам, то Гауссу не давала покоя мысль о статусе комплексных чисел и функций комплексного переменного. В письме от 11 декабря 1825 г. Гаусс признавался, что не может оторваться от «истиной метафизики отрицательных и мнимых величин. Истинный смысл √−1 неотступно сидит у меня в голове, но его трудно выразить словами».
Однако к 1831 г. Гаусс — если у него еще оставались какие-то сомнения относительно того, принимает ли он сам и другие математики комплексные числа, — преодолел эти сомнения и опубликовал работы по геометрическому представлению комплексных чисел. В работах, вышедших из-под пера Гаусса в тот год, все было сформулировано в явном виде. Гаусс не только предложил представлять число a + bi точкой на комплексной плоскости, но и дал геометрическое толкование сложения и умножения комплексных чисел (гл. IV). Он отметил, что к тому времени уже сложилось достаточно четкое понимание дробей, а также отрицательных и вещественных чисел. К комплексным же числам, несмотря на всю их значимость, отношение было в лучшем случае терпимым. Многие математики считали комплексные числа не более чем игрой с символами. Но «здесь [в геометрическом представлении] доказательство интуитивного понимания числа √−1 полностью обосновано и не нуждается более в необходимости относить указанные величины в область объектов, изучаемых арифметикой». Из этого высказывания видно, что сам Гаусс был согласен с интуитивным пониманием мнимых чисел. Гаусс утверждал также, что если бы величины 1, −1 и √−1 назывались соответственно не положительной, отрицательной и мнимой единицей, а прямой, обратной и побочной, то у людей не создавалось бы впечатления, что с этими числами связана какая-то мрачная тайна. По словам Гаусса, геометрическое представление дает истинную метафизику мнимых чисел в новом свете. Именно Гаусс ввел термин «комплексные числа» (в противоположность «мнимым числам» Декарта) и использовал для обозначения √−1 символ i. Однако Гаусс не обмолвился ни словом относительно того, что и он сам, и его современники свободно использовали вещественные числа, не имея никакого их обоснования, хотя этот момент был не менее важен.
В работе от 1840 г., о которой в дальнейшем мы расскажем несколько подробнее, Гаусс использовал комплексные числа более свободно, отметив, что «теперь их знают все». Но Гаусс заблуждался. Еще долго после того, как была создана (главным образом трудами Коши в первой трети XIX в.) теория комплекснозначных функций комплексного переменного, нашедшая применение в гидродинамике, профессора Кембриджского университета испытывали непреодолимое отвращение к «сомнительной» величине √−1 и с помощью громоздких построений стремились изгнать ее отовсюду, где она только появлялась.
В первой половине XIX в. логические основания алгебры характеризовались попросту их полным отсутствием. Основная проблема состояла в том, что вместо всех типов чисел в алгебре использовались буквы и все действия над этими буквами производились так, как если бы они обладали хорошо известными и интуитивно приемлемыми свойствами положительных целых чисел, такими, как коммутативность сложения (a + b = b + a) или ассоциативность умножения [(ab)c = a(bc)]. Полученные с использованием этих свойств результаты оставались верными при подстановке вместо букв любых чисел: отрицательных, иррациональных или комплексных. Но поскольку природа этих чисел оставалась непонятой, а их свойства не были логически обоснованы, такое использование буквенных символов вызывало справедливые нарекания. Создавалось впечатление, что алгебра буквенных выражений обладала своей собственной логикой, которая и была причиной непостижимой эффективности и правильности алгебры. Так в 30-х годах XIX в. математики столкнулись с проблемой обоснования операций, производимых над буквенными, или символическими, выражениями.
Впервые анализом этой проблемы занялся профессор математики Кембриджского университета Джордж Пикок (1791-1858). Он ввел различие между арифметической алгеброй и символической алгеброй. Первая оперировала с символами, представляющими положительные целые числа, и поэтому имела под собой прочную основу. При этом в арифметической алгебре допустимыми считались только операции, приводящие к положительным числам. Символическая алгебра, по мнению Пикока, перенимает правила арифметической алгебры, но распространяет их с положительных целых чисел на произвольные. Все результаты, полученные в рамках арифметической алгебры, выражения которой общи по виду, но частны по допускаемым ими значениям, остаются в силе и в символической алгебре, где помимо общности вида обретают общность и принимаемые рассматриваемыми выражениями значения. Так, равенство ma + na = (m + n)a выполняется в арифметической алгебре, — если a, m и n — положительные целые числа; следовательно, оно справедливо и в символической алгебре, где уже a, m и n могут быть какими угодно. Аналогично разложение бинома (а + b)n, справедливое при положительных целых n, остается в силе при всех n, если рассматривать его в общем виде безотносительно к последнему члену. Идея Пикока, известная под названием «принцип перманентности эквивалентных форм», была выдвинута им в 1833 г. в «Докладе о последних достижениях и современном состоянии некоторых областей анализа», прочитанном на заседании Британской ассоциации поощрения науки. Пикок догматически утверждал:
Если алгебраические формы эквивалентны, когда символы имеют общий вид, но могут принимать лишь частные [положительные целые] значения, то они эквивалентны и в том случае, когда символы не только имеют общий вид, но и могут принимать общие значения.
Свой принцип Пикок использовал, в частности, для обоснования операций над комплексными числами. Во избежание возможных нападок Пикок и сделал осторожную оговорку «…когда символы имеют общий вид». Тем самым его принцип не охватывал только числа 0 и 1, поскольку эти числа обладают необщими, специфическими свойствами.
Во втором издании своего «Трактата по алгебре» (1842-1845), (1-е изд. — 1830) Пикок вывел предложенный им принцип из аксиом. Он в явном виде сформулировал, что алгебра, подобно геометрии, является дедуктивной наукой. Следовательно, алгебраические методы должны основываться на полном наборе явно сформулированных законов, или аксиом, которым подчиняются операции, используемые в алгебраических процедурах. Символы операций не имеют (по крайней мере в алгебре как дедуктивной науке) иного смысла, кроме того, который придают им аксиомы. Так, сложение означает не более чем любой процесс, сопоставляющий двум элементам третий (который мы уславливаемся называть суммой первых двух элементов) и удовлетворяющий законам сложения. К числу законов, о которых говорит Пикок, относятся, например, коммутативный и ассоциативный законы для сложения и умножения или закон, состоящий в том, что если ac = bc и c ≠ 0, то а = b. Таким образом, принцип перманентности форм был обоснован принятием определенной системы аксиом.
Точка зрения на алгебру, утвержденная Пикоком, просуществовала на протяжении большей части XIX в. С небольшими видоизменениями она была принята Дунканом Ф. Грегори (1813-1844), Огастесом де Морганом и немецким математиком Германом Ганкелем (1839-1873).
По существу принцип перманентности форм был произвольным. Естественно, напрашивался вопрос: почему числа различных типов обладают теми же свойствами, что и целые числа? Принцип перманентности форм был санкционирован декретом как эмпирически правильный, но логически не обоснованный. Пикок, Грегори и де Морган, по-видимому, полагали, что алгебре можно придать смысл независимо от свойств вещественных и комплексных чисел. Вряд ли нужно говорить, что если какое-либо правило правой (или левой) руки назвать принципом, то его логическое обоснование от этого не улучшится. Но, как заметил епископ Беркли, «древние и глубоко укоренившиеся предрассудки нередко переходят в принципы, и не только сами утверждения, которые обретают силу и репутацию принципа, но и выводимые из них следствия принято считать во всех отношениях выделенными».
Принцип перманентности форм подходит к алгебре как к науке о символах и правилах комбинирования символов. Такому подходу недоставало ни ясности, ни гибкости. Сторонники принципа настаивали на столь жестком параллелизме арифметики и алгебры, что, осуществись он, общности алгебры был бы нанесен серьезный ущерб. По-видимому, этим математикам никогда не приходило в голову, что формула, истинная при одной интерпретации символов, может быть ложной при другой интерпретации тех же символов. Создание кватернионов подорвало самые основы принципа перманентности, потому что умножение кватернионов, ставших первым примером так называемых гиперкомплексных чисел, не обладало коммутативным свойством (гл. IV). А это означало, что буквенные символы, принимающие кватернионные значения, не обладают всеми свойствами вещественных и комплексных чисел: математики обнаружили «гиперчисла», свойства которых разнятся от свойств известных им ранее чисел. Тем самым принцип перманентности был низложен. Пикок и его последователи не учли, что вскоре (после открытия кватернионов) стало очевидным: существует не одна-единственная алгебра, а много разных алгебр и алгебру вещественных и комплексных чисел можно обосновать, лишь доказав, что буквенные символы, принимающие вещественные или комплексные значения, обладают всеми свойствами, которые приписываются этим буквенным символам.
В начале XIX в. «логический туман» окутывал не только алгебру, но и анализ. Предложенное Лагранжем обоснование математического анализа (гл. VI) удовлетворяло не всех математиков, и некоторые из них вновь встали на позицию Беркли и других критиков, считавших, что благополучие в этой области обеспечивается лишь за счет того, что ошибки взаимно компенсируются. Такого же мнения придерживался и Лазар Карно в своих «Размышлениях о метафизике исчисления бесконечно малых»: его метафизика «объясняла», что одни ошибки компенсируют другие. После длительного обсуждения различных подходов к математическому анализу Карно приходит к выводу, что, хотя все эти методы, равно как и введенное Д'Аламбером понятие предела, в действительности эквивалентны греческому методу исчерпывания, бесконечно малые позволяют быстрее получать результат. Карно внес свою лепту в разъяснение и уточнение понятий анализа, но вклад его не был особенно велик. Кроме того, сопоставляя идеи Ньютона, Лейбница и Д'Аламбера с греческим методом исчерпывания, он сделал явно рискованный шаг: ведь в греческой геометрии и алгебре не существовало общего понятия производной.
Грубые ошибки в области математического анализа были, увы, нередки у математиков XIX в. Можно было бы привести немало примеров этого, но мы ограничимся одной-двумя иллюстрациями. В основе всего математического анализа лежат понятия непрерывной функции и производной от функции. Чисто интуитивно, непрерывная функция — это такая кривая, которую можно начертить одним росчерком пера, не отрывая его от бумаги (рис. 7.1). Геометрический смысл производной к такой функции — тангенс угла наклона касательной, проведенной к кривой в точке P. Казалось бы, очевидно, что непрерывная функция должна иметь касательную в каждой точке. Однако некоторые математики XIX в. сумели подняться над интуитивными представлениями и вознамерились доказать все, что возможно, чисто логическим путем.
Рис. 7.1. График непрерывной функции.
К сожалению, непрерывная функция с точками излома не имеет в них производной (функция, изображенная на рис. 7.2, не имеет производной в точках излома A, B и C).
Рис. 7.2. Непрерывная, но не дифференцируемая (в точках A, B и C) функция.
Тем не менее Андре Мари Ампер (1775-1836) «доказал» в 1806 г., что любая функция имеет производную во всех точках, где она непрерывна. Другие или аналогичные «доказательства» этого были приведены Лакруа в его знаменитом трехтомном «Трактате по дифференциальному и интегральному исчислению» (2-е изд. — 1810-1819) и почти во всех основных учебниках математического анализа XIX в. Жозеф Луи Франсуа Бертран (1822-1900) «доказал» в 1875 г. дифференцируемость непрерывной функции! Разумеется, все эти «доказательства» были ошибочными. Заблуждение некоторых авторов «доказательств» дифференцируемости было вполне простительным, если учесть, что в течение долгого времени не было точно определено само понятие функции, но примерно к 30-м годам прошлого века этот пробел был наконец восполнен.{82}
Если вспомнить, что непрерывность и дифференцируемость два основных понятия математического анализа и что основной областью математики с середины XVII в. и, пожалуй, вплоть до настоящего времени являлся именно математический анализ, то нельзя не ужаснуться неясности и неопределенности этих фундаментальных понятий. Ошибки в рассуждениях и даже ошибочные заключения в вопросах, связанных с непрерывностью и дифференцируемостью, зачастую были столь значительны, что сегодня они считались бы непростительными даже для студентов младших курсов, — а ведь их совершали знаменитейшие математики: Фурье, Коши, Галуа, Лежандр, Гаусс, а также другие ведущие математики того времени, хотя и более низкого ранга.
Принятые в XIX в. учебники математического анализа по-прежнему свободно оперировали такими терминами, как дифференциал или бесконечно малая величина, которые все еще оставались неясными или противоречивыми: они вроде бы одновременно и равнялись нулю, и были отличны от нуля. Это не могло не озадачивать тех, кто только начинал изучать математический анализ. Единственно, что им оставалось делать, — это следовать совету Д'Аламбера: «Будьте настойчивы, и вера к вам придет». Бертран Рассел, учившийся в 1890-1894 гг. в Тринити-колледже Кембриджского университета, вспоминал в своей автобиографической книге «Мое философское развитие»: «Те, кто преподавал мне дифференциальное исчисление, не знали правильных доказательств основных теорем и пытались заставить меня принять официальную софистику как акт веры».
Логические трудности, вставшие перед математиками XVII-XIX вв., достигли наибольшей остроты в таких разделах математического анализа, как дифференциальное и интегральное исчисление, а также теория бесконечных рядов и дифференциальных уравнений. Но в начале XIX в. излюбленной областью исследования математиков вновь стала геометрия. Евклидова геометрия расширилась. Новую область геометрии, так называемую проективную геометрию (занимавшуюся изучением тех свойств фигуры, которые сохраняются при ее проектировании, подобном, скажем, проектированию реальной трехмерной сцены на кинопленку, осуществляемому объективом кинокамеры), впервые подробно рассмотрел Жан Виктор Понселе (1788-1867). Как можно было ожидать, исходя из предшествующей истории математики, Понселе и другие геометры благоговейно относились к многим теоремам, доказывая которые они столкнулись с бесчисленными трудностями. К тому времени, благодаря главным образом работам Декарта и Ферма (XVII в.), уже возникли алгебраические методы доказательства геометрических теорем; однако геометры первой половины XIX в. считали алгебраические методы чуждыми геометрии, геометрической интуиции и всему, что составляет дух «истинно геометрического» исследования.
Чтобы «доказать» свои теоремы чисто геометрическими методами, Понселе широко использовал принцип непрерывности. В своем «Трактате о проективных свойствах фигур» (1822) он сформулировал этот принцип следующим образом: «Если одна фигура получается из другой непрерывным преобразованием и полученная фигура не уступает по общности исходной, то можно сразу же утверждать, что любое свойство первой фигуры будет справедливо и для второй фигуры». Никаких пояснений по поводу того, в каких случаях конечную фигуру можно считать не уступающей по общности исходной фигуре, Понселе не дает.
Для «доказательства» правильности своего принципа Понселе воспользовался теоремой евклидовой геометрии, согласно которой произведения отрезков пересекающихся хорд равны (на рис. 7.3 ab = cd). Понселе заметил, что, когда точка пересечения хорд сдвигается во внешнюю по отношению к окружности область, равными становятся произведения секущих и их внешних отрезков (на рис. 7.4 ab = cd).
Рис. 7.3. Теорема о пересекающихся хордах.
Рис. 7.4. Теорема о секущих, проходящих через одну точку вне окружности.
Никаких доказательств не требовалось, так как принцип непрерывности гарантировал правильность этого заключения. Кроме того, когда одна из секущих вырождается в касательную, она становится равной своему внешнему отрезку, а их произведение продолжает оставаться равным произведению другой секущей на ее внешний отрезок (на рис. 7.5 ab = c2). Этими результатами Понселе воспользовался, чтобы продемонстрировать, как принцип непрерывности приводит к трем хорошо известным теоремам, удовлетворяющим данному принципу и в какой-то мере воплощающим его. Но, разумеется, эти рассуждения не заменяют доказательства принципа непрерывности, а Понселе, предложивший термин «принцип непрерывности», рассматривал его как абсолютную истину и смело применял в своем «Трактате» для «доказательства» многих новых теорем проективной геометрии.
Рис. 7.5. Теорема о секущей и касательной, проведенных к окружности из одной точки
В действительности принцип непрерывности не был «изобретением» Понселе. В широком философском смысле этот принцип восходит к Лейбницу. В гл. VI мы уже рассказывали о том, как Лейбниц использовал математический принцип непрерывности при построении дифференциального и интегрального исчисления. Однако принцип непрерывности не получил достаточно широкого распространения, пока Гаспар Монж (1746-1818), вдохнув в него новую жизнь, не применил этот принцип для доказательства теорем некоторых типов. Монж сначала доказывал общую теорему для особым образом расположенной фигуры, а затем утверждал, что теорема верна и в общем случае, хотя при переходе к общему положению некоторые элементы фигуры становились мнимыми. Так, для доказательства теоремы о кривой и прямой Монж сначала рассмотрел бы случай, когда кривая и прямая пересекаются, а затем стал бы утверждать, что доказанная теорема остается верной и в том случае, когда кривая и прямая не пересекаются, т.е., когда их точки пересечения становятся мнимыми.
Некоторые члены Парижской академии наук весьма скептически отнеслись к принципу непрерывности, считая, что он лишен доказательной силы и имеет лишь чисто эвристическое значение. В частности, по поводу этого принципа критически высказывался Коши:
Собственно говоря, речь идет о чисто индуктивном принципе, позволяющем распространять теоремы, доказанные при определенных ограничениях, на те случаи, когда эти ограничения более не существуют. Примененный к кривым второго порядка, этот принцип приводит автора к правильным результатам. Тем не менее мы считаем, что он неприемлем в общем случае и ко всем вопросам геометрии и даже анализа. Придавая принципу непрерывности чрезмерно большое значение, мы рискуем иногда впасть в очевидные ошибки.
К сожалению, критикуя принцип непрерывности, Коши приводил неудачные примеры, в которых правильность результатов, получаемых с помощью этого принципа, подтверждалась другими методами.
Критики обвиняли Понселе и других математиков между прочим и в том, что якобы их уверенность в правильности принципа непрерывности основывается на возможности его обоснования алгебраическими методами, тогда как «чистые геометры» такие методы не признавали. Из записей, которые Понселе делал, находясь в плену в России (он был офицером наполеоновской армии), видно, что он действительно использовал алгебру для проверки правильности принципа непрерывности. Понселе не возражал против доказательства, основанного на алгебре, считая, однако, что принцип не зависит от такого доказательства. Тем не менее не подлежит сомнению, что если Понселе и прибегал к алгебраическим методам, то только как к эвристическим, после чего подкреплял геометрические результаты, используя для их обоснования принцип непрерывности.
Несмотря на критику, принцип непрерывности воспринимался в XIX в. как интуитивно ясный и потому вполне приемлемый как метод доказательства; геометры широко пользовались им. Но с точки зрения логического развития математики принцип непрерывности был не более чем догматическим, искусственно вводимым утверждением, предназначенным для обоснования того, что математикам не удавалось тогда обосновать с помощью «истинных» дедуктивных доказательств. Принцип был специально изобретен для обоснования того, что устанавливалось интуитивно, на основе наглядных представлений.
Утверждение справедливости принципа непрерывности Понселе и применение этого принципа — лишь один из примеров тех извилистых путей, по которым приходится идти математикам, когда они стремятся обосновать то или иное утверждение, не располагая для этого убедительными доказательствами. Но с непротиворечивостью геометрии дело обстояло из рук вой плохо. Как уже говорилось (гл. V), лишь создание в конце XVIII — начале XIX вв. неевклидовой геометрии позволило обнаружить серьезные изъяны в дедуктивной структуре евклидовой геометрии. Однако и посла этого математики не торопились ликвидировать обнаруженные изъяны, пребывая в полной уверенности, что в действительности выведенные ими теоремы абсолютно надежны. Интуитивную основу теорем и подтверждение их правильности многочисленными практическими применениями геометрии математики считали столь убедительными, что не придавали особого значения дефектам ее логической структуры.
Несколько иная ситуация сложилась в неевклидовой геометрии. В начале XIX в. лишь немногие ученые помимо ее создателей — Ламберта, Гаусса, Лобачевского и Бойаи — воспринимали неевклидову геометрию как заслуживающую внимания область математики, ибо ее дедуктивная структура была далеко не так разработана, как дедуктивная структура классической евклидовой геометрии. Однако после появления работ Гаусса и Римана не только основатели новой науки, но и их последователи уверовали в непротиворечивость неевклидовой геометрии (т.е. в то, что никакие ее теоремы не противоречат другим теоремам), которая отнюдь не была доказана.{83} Стало очевидным, что Саккери заблуждался, полагая, будто он пришел к противоречию; однако возникшая после этого общая уверенность в том, что он не мог прийти к противоречию, первоначально также не была ничем обоснована.
Ведь вполне могло случиться, что противоречие в неевклидовой геометрии все же существует, но пока оно еще не обнаружено. Если бы это было так, то допущение основной аксиомы гиперболической геометрии было бы невозможно — и аксиома Евклида о параллельных оказалась бы, как некогда считал Саккери, следствием остальных евклидовых аксиом. Так, не располагая доказательством непротиворечивости или какими-либо данными о применимости новой геометрии, многие математики приняли то, что их предшественники считали абсурдным. Принятие неевклидовой геометрии было актом веры. Вопрос о непротиворечивости неевклидовой геометрии оставался открытым на протяжении еще полувека (гл. VIII).
Итак, в начале XIX в. не была обоснована практически ни одна область математики. Арифметика вещественных чисел, алгебра, евклидова и более новые неевклидова и проективная геометрии либо имели неполноценные обоснования, либо вообще были лишены логического фундамента. Математическому анализу, т.е. дифференциальному и интегральному исчислению, теории рядов и другим разделам недоставало не только строгой теории (даже просто определения!) широко использующихся здесь вещественных чисел и полноты логической структуры алгебры, но и ясности в определении основных понятий анализа — производной, интеграла и бесконечного ряда. С полным основанием можно сказать, что в математике начала XIX в. ничто не было обосновано хоть сколько-нибудь надежно.
Отношению многих математиков XVIII-XIX вв. к доказательству нельзя не удивляться, если вспомнить, что математику было принято считать непревзойденным образцом дедуктивной (или, по Аристотелю, «выводной») науки. В XVIII в. многие пробелы в обосновании математического анализа были вполне очевидны, и некоторые математики, работавшие в этой области, просто перестали заботиться о строгости. Так, Мишель Ролль (1652-1719) утверждал, что математический анализ представляет собой набор хитроумных логических парадоксов. Другие математики пошли еще дальше и, уподобляясь персонажу известной басни о лисе и винограде, принялись открыто высмеивать строгость греческой математики. Так, в своих «Элементах геометрии» (1741) Алекси Клод Клеро писал:
Евклид заботился о доказательстве того, что две пересекающиеся окружности не имеют общего центра, что сумма сторон треугольника, заключенного внутри другого треугольника, меньше, чем сумма сторон объемлющего треугольника, и это не удивительно. Ведь этому геометру приходилось убеждать упрямых софистов, почитавших за доблесть отрицание очевиднейших истин. Чтобы успешно парировать придирки, геометрия должна, подобно логике, опираться на формальные рассуждения.
Далее Клеро добавляет: «Но теперь все обстоит иначе. Все рассуждения, приводящие к результатам, заранее известным из соображений здравого смысла, ныне игнорируются — ведь они служат лишь для того, чтобы сокрыть истину и утомить читателя».{84}
Умонастроение, господствовавшее в XVIII — начале XIX вв., выразил Юзеф Гене-Вронский (1775-1853), искусный вычислитель, нисколько не заботившийся о строгости. Комиссия Парижской академии наук раскритиковала одну из представленных им работ. Отвечая на критику, Гене-Вронский охарактеризовал мнение комиссии как «педантизм, ставящий средства достижения цели превыше самой цели».
Во втором издании (1810-1819) трехтомного «Трактата по дифференциальному и интегральному исчислению» маститого Лакруа в предисловии к первому тому говорилось: «Нам нет дела до тех тонкостей, о которых так заботились греки». Типичным для того времени был недоуменный вопрос: почему мы должны брать на себя труд и доказывать с помощью хитроумных рассуждений то, что ни у кого не вызывает сомнений, и почему более очевидные истины необходимо доказывать ссылками на менее очевидные?
Даже в конце XIX в. Карл Густав Якоб Якоби (1804-1854), в работах которого по теории эллиптических функций осталось множество неразрешенных вопросов, говаривал: «На гауссовскую строгость у нас нет времени, господа». Многие математики действовали так, будто то, что им не удавалось доказать, попросту не нуждалось в доказательстве. Большинство математиков вообще не заботилось о строгости. Нередко то, чему, по их утверждениям, можно было бы придать строгий смысл, если воспользоваться методом Архимеда, не могло быть доказано строго никакими новыми Архимедами. В частности, это относится к работам по дифференциальному исчислению, не имевшему параллелей в греческой математике. Слова Д'Аламбера: «До сих пор больше внимания уделялось расширению здания, чем освещению входа, возведению новых этажей, чем укреплению фундамента» — применимы к математике на протяжении всего XVIII в. и начала XIX в.
К середине XIX в. значение доказательства упало настолько, что некоторые математики не считали необходимым проводить полные доказательства даже в тех случаях, где это было возможно. Один из выдающихся приверженцев использования алгебраических методов в геометрии, создатель так называемой матричной алгебры (гл. IV) Артур Кэли (1821-1895) сформулировал теорему о матрицах, получившую впоследствии название теоремы Кэли — Гамильтона. (Для непосвященных сообщим, что матрицей в математике называют прямоугольную таблицу чисел. Если матрица квадратна, то в каждой ее строке и в каждом столбце стоят по n чисел.) Кэли проверил, что его теорема выполняется для (2×2)-матриц, и заявил (в работе 1858 г.): «Я не считаю необходимым обременять себя формальным доказательством теоремы в общем случае матрицы любого порядка [т.е. (n×n)-матрицы]».
Один из ведущих алгебраистов Англии Джеймс Джозеф Сильвестр (1814-1897) был в 1876-1884 гг. профессором университета Джона Гопкинса в Балтиморе. В одной из своих лекций он сказал: «Я не доказал этого, но уверен, насколько можно быть вообще в чем-либо уверенным, что это действительно так», после чего воспользовался результатом, о котором шла речь, для доказательства новых теорем. Нередко в конце очередной лекции Сильвестру приходилось признавать, что утверждение, в истинности которого он не сомневался на предыдущей лекции, оказалось неверным. В 1893 г. Сильвестр доказал одну теорему для (2×2)-матриц и лишь наметил те несколько пунктов, которые необходимо дополнительно рассмотреть, чтобы доказать теорему и для (n×n)-матриц.
Если учесть, как прекрасно начал строить Евклид дедуктивную систему геометрии и теорию целых чисел, то нелогичность истории математики естественно подводит нас к вопросу: почему математики так много и так безуспешно пытались обосновать иррациональные, отрицательные и комплексные числа, алгебру, дифференциальное и интегральное исчисление, теорию функций вещественного и комплексного переменного, в то время как евклидова геометрия и теория чисел возводилась на столь шатком основании, и почему это никого не смущало? Ответ на этот вопрос частично уже известен (гл. V): поскольку развивавшиеся Евклидом разделы математики затрагивали интуитивно совершенно ясные понятия (как точка или целое положительное число), найти фундаментальные принципы, или аксиомы, из которых надлежало выводить остальные свойства, было сравнительно просто, хотя аксиоматика Евклида вовсе не была лишена недостатков и в ней отсутствовали как понятие неопределяемого объекта, так и полноценные определения начальных понятий. Что же касается иррациональных, отрицательных и комплексных чисел, операций над буквенными символами, понятий дифференциального и интегрального исчисления, то они для понимания гораздо труднее тех понятий, с которыми имели дело древние греки, и поэтому некритическое их использование вызывает большую неудовлетворенность.
Но была и более глубокая причина. Сами того не желая, великие математики вызвали своими трудами едва уловимое изменение в самой природе математики. До XVI в. математические понятия были идеализациями или абстракциями, почерпнутыми непосредственно из опыта. Правда, к тому времени отрицательные и иррациональные числа уже были приняты индийцами и арабами. Но хотя мы отнюдь не склонны недооценивать вклада, внесенного арабами и индийцами в развитие математики, в вопросах обоснования они полагались главным образом на интуицию и «внематематический» опыт. Когда же появились комплексные числа, а также алгебра, широко использующая буквенные коэффициенты, производные и интегралы, главенствующее положение в математике заняли понятия, представляющие собой абстракции более высокого ранга. Так, понятие производной, или мгновенной скорости изменения величины, хотя оно и не лишено интуитивной основы (ибо существует физическое понятие скорости), является весьма абстрактным. Качественно оно имеет совсем иную природу, чем, например, понятие треугольника. Аналогичным образом были обречены на провал все попытки математиков — еще не осознавших, что все эти понятия не основаны непосредственно на опыте, а являются абстракциями более высокой степени, — понять, что такое бесконечно большие величины, которых так старательно избегали греки, бесконечно малые величины, которые греки так искусно обходили, а также отрицательные и комплексные числа.
Иначе говоря, математики создавали понятия, а не черпали абстрактные идеи из реального мира. В поисках источника математических идей математики стали обращаться не к ощущениям, а к человеческому разуму. По мере того как новые идеи оказывались все более полезными в приложениях, их принимали — сначала недовольно, а потом с жадностью. Становясь привычными, новые понятия отнюдь не становились более приемлемыми: привычка лишь рождала у математиков некритичность и создавала ощущение естественности там, где этой естественности на самом деле не было. Начиная с XVIII в. в математику входило все больше далеких от непосредственного опыта, все более абстрактных понятий, которые тем не менее принимались с все меньшими трудностями. Математикам, вознесенным ими же созданной ракетой, не оставалось ничего другого, как рассматривать свою науку с высоты, намного превышающей уровень земной поверхности.
Не почувствовав изменения, происшедшего в характере новых понятий, математики тем самым лишили себя возможности признать необходимость иной основы для аксиоматического построения своей науки, чем самоочевидные истины. Разумеется, новые понятия отличались от старых большей тонкостью, и заложить надлежащий аксиоматический фундамент, как мы теперь знаем, здесь было совсем не так уж просто.
Как же математики могли узнать, в каком направлении следует двигаться, и, если учесть древнюю традицию доказательства, как они могли даже осмеливаться применять полученные результаты и утверждать что-либо о надежности своих выводов? Несомненно, что выбирать направление развития математики помогали как постановка, так и решение физических проблем. Как только физические проблемы облекались в математические формулировки, на передний план выступало виртуозное владение математическим аппаратом, возникали новые методы, рождались новые выводы. Таким образом, физический смысл стал путеводной звездой на разных этапах математического творчества; нередко он становился источником различного рода соображений, позволявших, по крайней мере частично, восполнить недостающие этапы. По существу этот процесс мало чем отличался от доказательства геометрической теоремы, опирающегося на чертеж, но не подкрепляемого ни аксиомами, ни ранее доказанными теоремами.
Помимо физического смысла в развитии новой математики известную роль играли и чутье — здоровая интуиция разумно мыслящего человека. Ведь основная идея и суть метода всегда интуитивно постигаются задолго до того, как они находят рациональное обоснование. Великих математиков, сколь бы рискованными ни были их рассуждения, всегда отличала тонкая интуиция, позволяющая избегать катастрофических ошибок. Интуиция гения более надежна, чем дедуктивное доказательство посредственности.
Постигнув суть физической проблемы в той или иной ее математической постановке, математики XVIII в. не могли устоять перед соблазном формул. По-видимому, формулы обладали в их глазах такой притягательной силой, что процесс вывода одной формулы из другой с помощью какой-нибудь формальной процедуры, например путем дифференцирования, доставлял им глубокое удовлетворение. Восхищение перед символами переполняло их и лишало способности рассуждать. Восемнадцатое столетие окрестили Героическим веком в истории математики, потому что именно тогда математики дерзнули совершить столь небывалые по своим масштабам и значимости научные завоевания, пользуясь столь слабым логическим оружием.
Напрашивается еще один вопрос: почему математики были так уверены в своих результатах, хотя они прекрасно понимали (особенно в XVIII в.), что основные понятия математического анализа сформулированы недостаточно ясно, а доказательства неадекватны? Отчасти такая уверенность объясняется тем, что многие математические результаты были подкреплены опытом и наблюдением. Мы уже рассказывали (гл. II) о замечательных предсказаниях в астрономии, сделанных на основе математических расчетов. Но математики XVII-XVIII вв. верили в правильность своих результатов и еще по одной причине: они были убеждены в том, что мир сотворен богом на основе математических принципов, а они призваны постепенно раскрывать планы творца (гл. II). И хотя их открытия не носили общего характера, математики считали эти открытия составными частями единой основополагающей истины. Вера в то, что они открывают детали божественного замысла и в конечном счете достигнут когда-нибудь «земли обетованной» и вечных истин, поддерживала дух математиков XVII-XVIII вв., вселяла в них бодрость, а плодотворные научные результаты были для них манной небесной, питавшей разум и облегчавшей их тяготы.
Математики обнаружили лишь часть тех сокровищ, поиском которых занимались, и, судя по многим признакам, еще немало интересных открытий ожидало их впереди. Так стоило ли придираться к тому, что математическим законам, так хорошо согласующимся с природой, недостает строгого логического доказательства? Слабое или несуществующее обоснование подменялось религиозным убеждением, подкрепляемым научными фактами. Математикам XVII-XVIII вв. так не терпелось постичь божественную истину, что они продолжали возводить здание, не подведя под него прочного фундамента. Успех заглушал у них муки сомнений. Более того, опьянение от успеха оказалось столь сильным, что на протяжении почти двух веков теория и строгость были забыты. Возникавшие трудности они пытались преодолевать, обращаясь к философским или мистическим доктринам, и трудности, казалось, исчезали. С точки зрения логической обоснованности математика XVII, XVIII и начала XIX вв., несомненно, выглядела весьма примитивной, однако ее методы оказались необычайно плодотворными. Математики конца XIX в. и XX в., стремясь приуменьшить триумф своих предшественников, иногда были не вполне объективны, акцентируя внимание на их ошибках и промахах.
Математику XVII-XVIII вв. можно сравнить с мощной торговой фирмой, которая совершает многочисленные деловые сделки и приносит внушительную прибыль, но из-за неправильной постановки дела стоит на грани банкротства. Разумеется, ни покупатели (ученые, потребляющие «математические товары»), ни кредиторы (общество, которое без колебаний вкладывает средства в развитие математики) не знали об истинном финансовом положении «фирмы».
Итак, ситуация сложилась весьма парадоксальная. Никогда еще логика быстро расширяющей свои границы математики не находилась в столь плачевном состоянии. Но успехи математики в описании и предсказании явлений природы были настолько внушительными, что все мыслители XVIII в. с еще большим убеждением, чем древние греки, выдвигали тезис о существовании основанной на математических принципах системы мира и превозносили математику как великолепный и возвышенный продукт человеческого разума. Перефразируя слова «Гимна» Джозефа Эддисона, обращенные к небесным телам, можно сказать: «Их усладил глас, доступный слуху разума».
Сейчас все это славословие в адрес математических рассуждений кажется невероятным. То, чем в действительности оперировали тогда математики, правильнее было бы назвать лишь обрывками рассуждений. Век разума (XVIII в.), когда разгорелись жаркие споры по поводу смысла и свойств комплексных чисел, логарифмов отрицательных и комплексных чисел, обоснования дифференциального и интегрального исчисления, суммирования рядов и других вопросов, которые мы не затрагивали, с большим основанием заслуживал бы названия Века безумия. К началу XIX в. математики были более уверены в результатах, чем в их логическом обосновании. В результаты верили — но не более того. Как мы увидим, Веком разума скорее следовало бы назвать вторую половину XIX в.
В то время как большинство математиков без особых колебаний устремились за новыми результатами, мало заботясь о доказательствах, иные выдающиеся математики, которые составляли явное меньшинство, были серьезно обеспокоены плачевным состоянием математики. Отчаянность ситуации, сложившейся в математическом анализе, замечательный норвежский математик Нильс Хенрик Абель (1802-1829) охарактеризовал в письме (1826) к профессору Кристоферу Ханстену. Абель жаловался на «необычайную неразбериху, несомненно царящую в математическом анализе»:
В нем не чувствуется плана, полностью отсутствует всякая система. Странно, что столько людей занимаются математическим анализом. Хуже всего, что в нем ничего не рассматривалось строго. В высших разделах анализа имеется лишь, несколько теорем, доказанных с более или менее приемлемой строгостью. Повсюду встречаются жалкие заключения от частного к общему. Странно, что такой способ доказательства не привел к гораздо большему числу парадоксов.
В частности, по поводу расходящихся рядов Абель писал в январе 1826 г. своему бывшему учителю Берндту Хольмбе:
Расходящиеся ряды — поистине изобретение дьявола, и основывать на них какое бы то ни было доказательство — стыд и позор. Используя их, можно прийти к любому заключению, именно потому эти ряды и породили так много логических ошибок и парадоксов… Я так болезненно реагирую на все это, потому что, за исключением геометрической прогрессии, нет ни одного бесконечного ряда, сумма которого была бы строго определена. Иначе говоря, то, что имеет наибольшее значение в математике, обосновано хуже всего. Удивительно, что многие из результатов, несмотря на все сказанное, верны. Я пытаюсь понять, в чем здесь причина. Это чрезвычайно интересный вопрос.
Как не все люди склонны топить свои печали в алкоголе, так и далеко не все математики старались заглушить свое беспокойство по поводу необоснованности математических понятий, превознося успехи математики в описании и предсказании физических явлений. Но утешение, которое эти более отважные люди искали в убеждении, что они открывают детали замысла самого творца, было сведено на нет, когда в конце XVIII в. естествоиспытатели отказались от идеи о божественном плане творения (гл. IV). Утратив столь мощную духовную поддержку, математики сочли своим долгом критически пересмотреть полученные ранее результаты — и обнаружили нечетко сформулированные понятия, отсутствие доказательств в одних случаях и неадекватность существующих доказательств в других, противоречия и полную неразбериху относительно того, что правильно и что неправильно в полученных ранее результатах. В конце XVIII в. математики осознали, что созданная ими наука отнюдь не была тем образцом строгости, каким ее считали. Вместо дедуктивных рассуждений в ней широко использовалась интуиция, геометрическая наглядность, физические соображения, принципы, взятые «с потолка» (например, принцип перманентности форм), а в качестве аргумента для обоснования принимаемого обращались к метафизике.
Идеал логической структуры, несомненно, был выяснен и провозглашен древними греками. Немногих математиков, задавшихся целью достичь его в арифметике, алгебре и анализе, поддерживала вера, что по крайней мере в одном весьма важном случае — в евклидовой геометрии — столь высокий идеал был достигнут. А если кому-то удалось однажды взойти на Олимп, считали они, то не исключено, что и другие сумеют покорить вершину. Эти математики и не предполагали, что подведение строгого обоснования под всю существующую математику окажется задачей несравненно более трудной и тонкой, чем можно было представить в середине XIX в. Не могли они предвидеть и новых трудностей, которые возникнут на их пути.
VIII Нелогичное развитие: у врат рая
Можно сказать, что ныне достигнута абсолютная строгость.{85}
Анри ПуанкареОснователи так называемого критического движения в математике сознавали, что на протяжении более двух тысячелетий математики бродили в непролазных дебрях интуитивных представлений, правдоподобных аргументов, индуктивных рассуждений и формального манипулирования символами. Они предложили подвести прочный логический фундамент под те разделы математики, где он отсутствовал, исключить противоречия и те понятия, которые не имели четких определений, а также усовершенствовать обоснование таких разделов математики, как евклидова геометрия. Осуществление этой программы началось в 20-х годах XIX в., хотя в тот период критическое движение затронуло лишь немногих математиков. Когда исследования по неевклидовой геометрии приобрели более широкую известность, это, естественно, весьма стимулировало критическое движение, поскольку были обнаружены существенные изъяны в структуре евклидовой геометрии: стало очевидным, что даже эта часть математики, слывшая нерушимым оплотом и недосягаемым эталоном «истинной» строгости, нуждается в критическом пересмотре. А вскоре (1843) создание кватернионов поставило под сомнение уверенность, с которой математики обращались с вещественными и комплексными числами. Разумеется, многие математики по-прежнему пользовались нестрогими рассуждениями и, получая правильные результаты, убеждали себя в том, что как их доказательства, так и представления, изложенные на страницах учебников по математике, вполне обоснованны и логичны. Однако теперь подобной самоуверенностью страдали далеко не все.
Прекрасно понимая, что от претензий математики на роль носительницы абсолютных истин о реальном мире необходимо отказаться, критически мыслившие математики в то же время отдавали должное колоссальным достижениям своей науки в механике, акустике, гидродинамике, теории упругости, оптике, теории электромагнетизма, а также во многих отраслях техники; они по достоинству оценивали исключительную точность даваемых математикой предсказаний в этих областях. Математика сражалась под непобедимым знаменем истины, но одерживать победы ей позволяла какая-то скрытая и даже таинственная сила. Необычайная эффективность математических методов в естествознании, разумеется, нуждалась в объяснении (гл. XV), но отрицать мощь математики как инструмента познания и отмахиваться от нее не осмеливался никто. Без сомнения, эту мощь не следовало подрывать, погружаясь в лабиринты логических трудностей и противоречий. И хотя математики, поступившись строгими обоснованиями, нарушили собственные принципы доказательности, в их намерения отнюдь не входило навсегда оставлять математику на прагматической основе. На карту был поставлен престиж математиков, ибо как иначе они могли провести грань, отделяющую их возвышенную деятельность от прозаической работы инженеров и ремесленников?
И некоторые математики вознамерились еще раз пройти по едва различимым следам прошлого, оставленным в процессе бурного развития своей науки, и проложить надежные пути к тому, что уже достигнуто. Свои усилия они решили прежде всего направить на построение (или критическую перестройку) оснований математики.
Чтобы привести в порядок здание математики, требовались решительные и крутые меры. К тому времени уже стало ясно, что не существует твердой почвы, на которой можно было бы без опасений заложить фундамент математики: столь надежная на первый взгляд опора на истину оказалась обманчивой. Но, может быть, гигантское здание математики станет устойчивым, если под него подвести прочный фундамент иного рода, представляющий собой полную систему четко сформулированных аксиом, определений и явных доказательств всех результатов, сколь бы интуитивно очевидными они ни казались? Основной акцент делался не на истинность утверждений, а на их логическую совместимость, т.е. непротиворечивость. Теснейшая зависимость между аксиомами и теоремами должна была придать устойчивость всему зданию математики. Отдельные части этого здания оказались бы накрепко стянутыми скрепами независимо от того, насколько прочно само оно опирается на землю. Так колеблется под напором ветра гигантский небоскреб, оставаясь тем не менее единой, цельной конструкцией от крыши до фундамента.
Математики начали с оснований математического анализа. Но поскольку математический анализ предполагает использование арифметики вещественных чисел и алгебры, не имевших обоснования, нелогичность такого шага станет более очевидной, если обратиться к следующей аналогии. Представьте себе, что владелец пятидесятиэтажного дома со множеством жильцов, битком набитого мебелью и различной утварью, узнав о шаткости здания, решает перестроить его — и начинает капитальный ремонт с двадцатого этажа!
Но при всей кажущейся нелогичности выбор отправной точки для перестройки математики все же имел объяснение. К началу XIX в. различные типы чисел стали настолько привычными, что, хотя их использование и не было обосновано в рамках формальной логики, сами по себе свойства чисел не вызывали никаких сомнений. Не возникало трудностей и с применением евклидовой геометрии, хотя она и утратила ореол непогрешимости: безотказное служение человечеству на протяжении двух тысячелетий вселяло уверенность в те ее положения, которые не удавалось обосновать с помощью логики. Однако математический анализ был постоянной мишенью для критики. В этом обширном разделе математики встречались нестрогие доказательства, парадоксы и даже противоречия. К тому же многие результаты не были подкреплены даже практически.
В начале XIX в. проблема строгого обоснования математического анализа привлекла внимание трех мыслителей: священника, философа и математика Бернарда Больцано, Нильса Хенрика Абеля и Огюстена Луи Коши. К сожалению, Больцано жил в Праге, и его работы долгие годы оставались неизвестными. Абель умер в возрасте 27 лет и не успел продвинуться в обосновании анализа сколько-нибудь существенно. Коши работал в Париже, столице математического мира того времени, и к 20-м годам XIX в. имел репутацию одного из величайших математиков мира. Именно поэтому его заслуги в движении за обоснование математики получили наибольшее признание, именно поэтому он оказал наибольшее влияние на своих современников.
Коши решил построить обоснование математического анализа на понятии числа. Почему именно это понятие привлекло его внимание? Англичане, следуя Ньютону, пытались обосновать математический анализ, используя геометрию, — и потерпели неудачу. Коши понимал, что геометрия не может служить основой математического анализа. К тому же математики континентальной Европы, следуя Лейбницу, всегда использовали аналитические методы. Кроме того, хотя к 20-м годам XIX в. работы по неевклидовой геометрии не получили еще широкой известности, математики, по-видимому, были достаточно наслышаны о них, что побуждало их относиться к геометрии с некоторым недоверием. С другой стороны, в царстве чисел математики чувствовали себя достаточно уверенно вплоть до 1843 г., когда Гамильтон создал свои кватернионы; впрочем, даже это знаменательное событие первоначально не вызвало ни малейшего сомнения в том, что с вещественными числами все обстоит благополучно.
Коши поступил весьма мудро, решив построить математический анализ на понятии предела. Как это неоднократно случалось в истории математики, избранный Коши правильный подход уже предлагался ранее некоторыми проницательными умами. Еще в XVII в. Джон Валлис в «Арифметике бесконечно малых» (1655) и шотландский профессор Джеймс Грегори в «Истинной квадратуре окружности и гиперболы» (1667), а затем в XVIII в. Д'Аламбер со всей определенностью указали на понятие предела как на наиболее подходящую основу построения анализа.{86} Особое значение имели взгляды Д'Аламбера, базировавшиеся на трудах Ньютона, Лейбница и Эйлера. Свое понимание предела Д'Аламбер отчетливо сформулировал в статье «Предел», написанной для «Энциклопедии» (1751-1765):
Говорят, что одна величина есть предел другой величины, если вторая величина может приблизиться к первой настолько, что будет отличаться от нее меньше чем на любую заранее заданную сколь угодно малую величину, хотя величина, которая стремится к другой величине, никогда не может превзойти ее…{87}
Теория пределов составляет основу истинной метафизики дифференциального исчисления.
Д'Аламбер написал для «Энциклопедии» также статью «Дифференциал», в которой дал обзор работ Барроу, Ньютона, Лейбница, Ролля и других математиков и утверждал, что дифференциал — бесконечно малая величина, т.е. меньше любой «наперед заданной величины». Д'Аламбер счел нужным пояснить, что использует такую терминологию, следуя установившейся традиции. Что же касается самой терминологии, то она, по мнению Д'Аламбера, отличается еще большей краткостью и неясностью, чем подлежащее определению понятие. Правильная терминология и правильный подход должны быть основаны на понятии предела. Д'Аламбер критиковал Ньютона за то, что тот «объяснял» производную как скорость: ведь ясного представления о мгновенной скорости не существует и такое «объяснение», по мнению Д'Аламбера, вводит в математику чисто физическое понятие — движение. В своем сочинении «Разное» (Mélanges, 1767) Д'Аламбер повторил: «Любая величина есть либо нечто, либо ничто. Если величина есть нечто, то ей не дано исчезнуть бесследно. Если величина есть ничто, то она исчезает полностью». Д'Аламбер указал также на понятие предела. Но сам он не развил свою идею о пределе применительно к обоснованию математического анализа, и его современники не смогли оценить ее по достоинству.
Концепцию предела можно также обнаружить в «Размышлениях о метафизике исчисления бесконечно малых» Карно, в работе Люилье от 1786 г., удостоенной премии Берлинской академии наук, и в работе Карно, не получившей премии, но тем не менее удостоенной похвального отзыва той же академии. Весьма возможно, что все эти работы оказали влияние на формирование взглядов Коши. Во всяком случае, во введении к знаменитому ныне «Курсу алгебраического анализа» (Cours d'analyse algébrique, 1821) Коши высказался со всей определенностью: «Что же касается методов, то я стремился придать им ту степень строгости, которая достижима в математике».
Несмотря на слово «алгебраический», которое Коши вынес в заголовок своего курса, он не разделял традиционной веры в «общность алгебры». Коши имел здесь в виду рассуждения, неявно используемые его современниками: то, что истинно для вещественных чисел, истинно и для комплексных чисел; то, что истинно для сходящихся рядов, истинно и для расходящихся рядов; то, что истинно для конечных величин, истинно и для бесконечно малых величин. Коши очень тщательно определил и установил свойства основных понятий математического анализа: функции, предела, непрерывности, производной и интеграла. Он также ввел различие между бесконечными рядами, имеющими сумму в указанном им смысле, и бесконечными рядами, не имеющими такой суммы, т.е. различие между сходящимися и расходящимися рядами. Последние Коши объявил «вне закона».{88} В октябре 1826 г. Абель имел все основания сообщить в письме своему бывшему учителю Хольмбе, что Коши «в настоящее время единственный, кто знает, как следует действовать в математике». Далее Абель называет Коши глупцом и фанатиком, но замечает, что тот по крайней мере считает необходимым «воздать дьяволу дьяволово».
Хотя Коши поставил своей целью обоснование математического анализа и заявил в переиздании своего курса (1829), что достиг мыслимых пределов строгости, он допустил немало ошибок, впрочем вполне понятных, если учесть тонкость затронутых им понятий. Приведенные Коши определения функции, предела, непрерывности и производной по существу были правильными, но язык, которым ему приходилось пользоваться, не отличался ни ясностью, ни точностью. Подобно своим современникам, Коши был убежден, что из непрерывности следует дифференцируемость (гл. VII), и сформулировал множество теорем, в условиях которых предполагал только непрерывность, тогда как в доказательстве использовал дифференцируемость, причем упорствовал в своих заблуждениях, даже когда ему указывали на ошибку. Введя со всеми необходимыми оговорками определение столь важного понятия, как «определенный интеграл», Коши намеревался показать, что для любой непрерывной функции значение такого интеграла существует и единственно; однако предложенное им доказательство оказалось ошибочным (поскольку Коши не сознавал необходимости введения более тонкого понятия — равномерной непрерывности).{89} Ясно понимая различие между сходящимися и расходящимися рядами, Коши тем не менее неоднократно предлагал неверные теоремы о расходящихся рядах и приводил ошибочные доказательства. Так, он утверждал — и более того, доказывал, — что сумма бесконечного ряда непрерывных функций непрерывна (это верно лишь при условии равномерной непрерывности). Коши почленно интегрировал бесконечные ряды, утверждая, что проинтегрированный ряд соответствует интегралу от функции, представленной исходным рядом (и в этом случае его ошибка была обусловлена непониманием необходимости равномерной сходимости). Коши предложил критерий сходимости последовательности, ныне известный под названием критерия Коши, но не сумел доказать его достаточность, так как для доказательства этого требовалось использовать такие свойства вещественных чисел, которые не были известны ни Коши, ни его современникам. Коши был также убежден, что если функция двух переменных имеет в некоторой точке предел, когда каждая из переменных в отдельности стремится к точке, то эта функция должна стремиться к пределу и в том случае, когда обе переменные изменяются одновременно и (переменная) точка M (x, y) стремится к рассматриваемой точке N (a, b).{90}
С самого начала работы по обоснованию математического анализа носили сенсационный характер. После заседания Парижской академии наук, на котором Коши изложил свою теорию сходимости рядов, Лаплас поспешил домой и оставался там взаперти до тех пор, пока не проверил на сходимость все ряды, которые он использовал в своей «небесной механике». Велика же была его радость, когда он обнаружил, что ряды сходятся.
Как ни парадоксально, сам Коши отнюдь не был склонен сковывать себя требованиями математической строгости. Написав три учебника (1821, 1823 и 1829) главным образом с целью строгого обоснования математического анализа, Коши в своих исследованиях продолжал полностью игнорировать строгость. Дав определение непрерывности, Коши никогда не доказывал, что рассматриваемые им функции непрерывны. Неоднократно подчеркивая важность сходимости рядов и несобственных интегралов, Коши оперировал с бесконечными рядами, преобразованиями Фурье и несобственными интегралами так, словно никаких проблем сходимости не существовало. Определив производную как предел, Коши предложил и чисто формальный подход, аналогичный предложенному Лагранжем (гл. VI). Коши допускал и полусходящиеся (осциллирующие) ряды, например 1 − 1 + 1 − 1 + … и перестановку членов в так называемых условно сходящихся рядах (некоторых рядах с положительными и отрицательными членами). Совершал он и другие «преступления», но безошибочная интуиция позволяла ему угадывать истину даже в тех случаях, когда ему не удавалось установить ее в соответствии со стандартами строгости, присущими его же собственным учебникам математического анализа.
Труды Коши вызвали к жизни многочисленные работы по обоснованию математического анализа. Но основной вклад в решение этой важной проблемы был внесен другим выдающимся математиком — Карлом Вейерштрассом (1815-1897). Именно ему суждено было завершить обоснование математического анализа. Результаты своих исследований Вейерштасс начал излагать в лекциях, прочитанных в 1858-1859 гг. в Берлинском университете. Самые ранние из сохранившихся конспектов лекций Вейерштрасса были сделаны его учеником Германом Амандусом Шварцем весной 1861 г. Труды Вейерштрасса полностью освободили математический анализ от какой бы то ни было зависимости от движения, интуитивных представлений и геометрической наглядности, которые во времена Вейерштрасса выглядели уже довольно подозрительно.
К 1861 г. Вейерштрасс отчетливо понимал, что вопреки широко распространенному убеждению (гл. VII) дифференцируемость отнюдь не следует из непрерывности. Мир был потрясен, когда в 1872 г. Вейерштрасс представил Берлинской академии пример функции, непрерывной при всех вещественных x, но не дифференцируемой ни при одном значении x. (Он сам не опубликовал свой пример; это было сделано, разумеется со ссылкой на Вейерштрасса, Полем Дюбуа-Реймоном в 1875 г. Ранее Вейерштрасса примеры непрерывной, но нигде не дифференцируемой функции были с помощью геометрических соображений построены Больцано в 1830 г. и Шарлем Селирье примерно в то же время, но второй из этих примеров был опубликован лишь в 1890 г., а первый — еще позже; в силу этого Больцано и Селирье не оказали влияния на развитие математики.)
То обстоятельство, что Вейерштрасс привел свой пример на позднем этапе развития математического анализа, следует расценивать как удачу, ибо, как сказал в 1905 г. Эмиль Пикар, «если бы Ньютон и Лейбниц знали, что непрерывные функции необязательно должны иметь производные, то дифференциальное исчисление никогда не было бы создано». Строгое мышление может стать препятствием для творческого начала.
Коши и даже Вейерштрасс — в начале своей деятельности по обоснованию математического анализа — рассматривали все свойства вещественных и комплексных чисел как нечто данное, не нуждающееся в обосновании. Первый шаг к логическому обоснованию вещественных и комплексных чисел был сделан в 1837 г. создателем кватернионов Гамильтоном. Гамильтон знал, что комплексные числа можно использовать для представления векторов на плоскости, и пытался найти (гл. IV) числа с тремя единицами, которые могли бы служить представлением векторов в пространстве. Гамильтон стал изучать свойства комплексных чисел с тем, чтобы обобщить их. Одним из результатов, изложенных в его работе «Алгебраические пары, с предварительным очерком о времени», было логическое обоснование комплексных чисел, при построении которого Гамильтон, однако, считал свойства вещественных чисел общеизвестными. Вместо комплексных чисел a + b√−1 Гамильтон ввел упорядоченные пары (a, b) вещественных чисел и определил операции над этими парами так, чтобы результаты совпадали с результатами операций, производимых над комплексными числами a + b√−1.{91} Следует заметить, что Гамильтону пришлось создавать новую теорию комплексных чисел, поскольку для него, как и для всех его предшественников, были неприемлемы не только символ √−1, но до какого-то времени и отрицательные числа. Позднее в одной из своих работ Гамильтон писал:
Настоящая теория пар опубликована, дабы продемонстрировать скрытый смысл [комплексных чисел] и показать на этом примечательном примере, что выражения, которые все считали чисто символическими и не допускавшими интерпретации, входят в мир идей, обретая реальность и значимость,
Далее в той же статье говорится следующее:
В теории отдельных чисел символ √−1 лишен всякого смысла [курсив Гамильтона] и означает невозможное извлечение корня, или мнимое число, но в теории пар тот же символ √−1 обретает смысл и означает возможное извлечение корня, или вещественную пару, а именно (как мы только что убедились) главное значение квадратного корня из пары (−1, 0). Следовательно, знак √−1 может быть надлежащим образом использован во второй теории, но отнюдь не в первой, и мы можем, если угодно, написать для любой пары (a1, a2)
(a1, a2) = a1 + a2√−1
…и интерпретировать символ √−1 в том же выражении как обозначающий вторую единицу, или чисто вторичную пару (0, 1).
Так Гамильтон убрал то, что он назвал «метафизическими камнями преткновения» в системе комплексных чисел.
В свою теорию пар Гамильтон включил и свойства вещественных чисел — пар вида (a, 0). В работе от 1837 г. он попытался логически обосновать систему вещественных чисел. Исходя из понятия времени, Гамильтон вывел свойства положительных целых чисел, а затем распространил эти свойства на рациональные (положительные и отрицательные целые числа и дроби) и иррациональные числа. Но развитая Гамильтоном теория была логически весьма несовершенна и особенно несостоятельна во всем, что касалось иррациональных чисел. Она была не только неясно изложена, но и неверна. Математический мир вполне справедливо просто не заметил эту работу Гамильтона. Интерес Гамильтона к обоснованию вещественных и комплексных чисел был ограниченным. Истинной целью его исследований были кватернионы. Но когда Гамильтону случалось работать в области математического анализа, он, подобно большинству своих современников, без малейших колебаний свободно оперировал свойствами вещественных и комплексных чисел.
Вейерштрасс первым понял, что обоснование математического анализа останется незавершенным, если не добиться более глубокого понимания системы вещественных чисел, и первым предложил строгое определение и вывод свойств иррациональных чисел на основе известных свойств рациональных чисел. Свои исследования Вейерштрасс начал еще в 40-х годах XIX в., но его результаты долгое время оставались неопубликованными; впервые они стали известны лишь из лекций, прочитанных Вейерштрассом в Берлинском университете в 60-е годы.
Некоторые другие математики, прежде всего Рихард Дедекинд и Георг Кантор, также правильно определили иррациональные числа и доказали их свойства, приняв за исходные свойства рациональных чисел. Работы этих математиков были опубликованы в 70-х годах XIX в. Дедекинд, как и в Вейерштрасс, отчетливо сознавал необходимость ясной теории иррациональных чисел для последовательного изложения математического анализа. В небольшой книге «Непрерывность и иррациональные числа» (1872) [46] Дедекинд писал, что начиная с 1858 г. он «острее, чем когда-либо, ощущал отсутствие строгого обоснования арифметики». В работе о теоремах анализа (гл. IX) Кантор также признавал необходимость последовательной теории иррациональных чисел. Работы Вейерштрасса, Дедекинда и Кантора позволили математикам наконец доказать, что √2∙√3 = √6.
Однако логическое обоснование рациональных чисел по-прежнему отсутствовало. Дедекинд понимал это и в работе «Что такое числа и для чего они служат» (1888) [47] описал основные свойства чисел, которые могли бы стать основой аксиоматического подхода к рациональным числам. Джузеппе Пеано (1858-1932), используя идеи Дедекинда и некоторые идеи, заимствованные из «Учебника арифметики» (1861) Германа Грассмана, построил в работе «Элементы арифметики» (1889) теорию рациональных чисел из аксиом, описывающих свойства положительных целых — (натуральных) чисел.{92} Наконец логическая структура систем вещественных и комплексных чисел была создана.
Как побочный результат обоснования числовой системы была решена проблема обоснования привычной всем алгебры. Почему, свободно манипулируя символами так, как если бы они были натуральными числами, мы получаем верные результаты и в том случае, если вместо символов подставляем вещественные или комплексные числа? Это происходит потому, что вещественные и комплексные числа обладают такими же формальными свойствами, что и натуральные числа. Если не гнаться за строгостью, то можно сказать,что верно не только равенство 2∙3 = 3∙2, но и равенство √2∙√3 = √3∙√2.
Иначе говоря, ab можно заменить на ba независимо от того, означают ли a и b натуральные или иррациональные числа.
Весьма примечательна последовательность, в которой развивались события. Вместо того, чтобы, начав с целых чисел и дробей, перейти к иррациональным и комплексным числам, алгебре и математическому анализу, ученые решали проблему обоснования математики в обратном порядке. Они действовали так, будто крайне неохотно затрагивали проблемы, которые, как всем было ясно, можно было до поры до времени обходить стороной, и принимались за обоснование лишь в тех случаях, когда это вызывалось настоятельной необходимостью. Как бы то ни было, в 90-е годы XIX в., через каких-нибудь шесть тысяч лет (!) после того, как египтяне и вавилоняне «пустили в оборот» целые числа, дроби и иррациональные числа, математики смогли наконец доказать, что 2 + 2 = 4. Стало ясно, что даже великие математики должны заботиться о математической строгости.
В конце XIX в. была решена еще одна выдающаяся проблема. На протяжении 60 лет — с того времени, когда Гаусс выразил уверенность в непротиворечивости построенной им неевклидовой геометрии, вероятно, считая, что она может явиться геометрией реальной Вселенной, и вплоть до начала 70-х годов XIX в., когда были опубликованы работы Гаусса по неевклидовой геометрии и (впоследствии прославленная, а первоначально не оцененная) пробная лекция Римана на получение звания приват-доцента, — большинство математиков не принимали неевклидову геометрию всерьез (гл. IV). Выводы, напрашивающиеся из самого существования неевлидовой геометрии, настолько пугали своей непривычностью, что ученые предпочитали не задумываться над ними. У математиков все еще теплилась надежда, что в один прекрасный день в каждой из нескольких предложенных неевклидовых геометрий вскроются противоречия и эти странные творения человеческой фантазии можно будет предать забвению как бессмысленные.
К счастью, вопрос о непротиворечивости элементарных неевклидовых геометрий наконец удалось разрешить. Метод, которым была решена эта проблема, заслуживает — особенно в свете последующих событий — того, чтобы познакомиться с ним подробнее. Одна из неевклидовых геометрий — так называемая удвоенная эллиптическая геометрия, идея которой содержалась в лекции Римана 1854 г., — существенно отличается от евклидовой геометрии. В этой геометрии нет параллельных; любые две прямые пересекаются в двух точках; сумма внутренних углов треугольника больше 180°. Многие другие ее теоремы также отличаются от своих евклидовых аналогов. В 1868 г. Эудженио Бельтрами (1835-1900) обнаружил, что удвоенная эллиптическая геометрия плоскости применима к поверхности сферы, если прямые в удвоенной эллиптической геометрии интерпретировать как большие окружности на сфере (окружности, центры которых совпадают с центром сферы, например окружности, образуемые меридианами).
Может показаться, что предложенная Бельтрами интерпретация удвоенной эллиптической геометрии неприемлема. Создатели всех неевклидовых геометрий показали, что в их геометриях прямые ничем не отличаются от евклидовых прямых. Напомним, однако, что предложенные Евклидом определения прямой и других понятий (гл. V) были излишними. В любой области математики, как подчеркивал Аристотель, мы должны начинать наши построения с неопределяемых понятий. От прямых требуется лишь, чтобы они удовлетворяли аксиомам. Но большие окружности на сфере удовлетворяют всем аксиомам удвоенной эллиптической геометрии. А поскольку аксиомы удвоенной эллиптической геометрии применимы к большим окружностям на сфере, к этим окружностям должны быть применимы и теоремы удвоенной эллиптической геометрии, так как они логически вытекают из аксиом.
Если исходить из интерпретации прямой как большой окружности, то непротиворечивость удвоенной эллиптической геометрии устанавливается следующим образом. Если бы в удвоенной эллиптической геометрии существовали противоречивые теоремы, то должны были бы существовать противоречивые теоремы и в сферической геометрии — геометрии на поверхности сферы. Но сфера — один из объектов, изучаемых евклидовой геометрией. Следовательно, если евклидова геометрия непротиворечива, то должна быть непротиворечива и удвоенная эллиптическая геометрия.
Доказать непротиворечивость гиперболической геометрии (гл. IV) оказалось не так просто. Но как непротиворечивость удвоенной эллиптической геометрии удалось доказать на модели — сферической поверхности, так и непротиворечивость гиперболической геометрии была доказана на модели — несколько более сложной поверхности трехмерного евклидова пространства, изучаемой в (евклидовой!) дифференциальной геометрии. Нам нет необходимости описывать эту модель (см., например, [48]). Заметим лишь, что непротиворечивость гиперболической геометрии означает помимо прочего независимость аксиомы Евклида о параллельных от остальных аксиом евклидовой геометрии. Действительно, если бы аксиома Евклида о параллельных не была независима от остальных аксиом евклидовой геометрии, т.е. если бы ее можно было вывести из них, то она была бы теоремой гиперболической геометрии, так как, за исключением аксиомы о параллельных, все остальные аксиомы гиперболической геометрии совпадают с аксиомами евклидовой геометрии. Но эта евклидова «теорема» противоречила бы аксиоме о параллельных гиперболической геометрии и гиперболическая геометрия была бы противоречивой. Следовательно, полуторавековые попытки вывести аксиому Евклида о параллельных (пятый постулат Евклида) из других аксиом евклидовой геометрии были заранее обречены на провал.
Неевклидовы геометрии, задуманные как «геометрии реального пространства», где прямая имеет тот же смысл (тот же вид, то же строение), что и в евклидовой геометрии, оказались применимыми к фигурам, совершенно отличным от тех, которые имели в виду создатели неевклидовых геометрий, и это важное обстоятельство имело серьезные последствия: неевклидовы геометрии получили совершенно различные интерпретации, ибо (как мы уже неоднократно отмечали) в любой аксиоматике должны быть неопределяемые понятия, которым в принципе можно придать какой угодно смысл — только бы удовлетворялись определяющие эти понятия аксиомы. Интерпретации неевклидовых геометрий получили название моделей. Таким образом, физический смысл той или иной математической теории оказался необязательным: одна и та же теория могла применяться к совершенно различным физическим или математическим ситуациям.
Непротиворечивость неевклидовых геометрий была доказана в предположении, что евклидова геометрия непротиворечива. У математиков 70-80-х годов прошлого века непротиворечивость евклидовой геометрии сомнений не вызывала. Несмотря на работы Гаусса, Лобачевского, Бойаи и Римана, евклидову геометрию продолжали считать естественной и непременной геометрией реального мира, а сама мысль о том, что геометрия реального мира может быть внутренне противоречивой, казалась нелепой. Тем не менее непротиворечивость евклидовой геометрии не была доказана логически.
Многие математики, относившиеся к неевклидовой геометрии почти презрительно, с удовлетворением восприняли доказательства непротиворечивости ее различных вариантов совсем по другой причине: дело в том, что хотя неевклидовы геометрии обретали смысл, но, как следовало из приведенных доказательств, лишь как модели, которые строились в рамках евклидовой геометрии. Это позволяло принять их как геометрии, реализуемые на тех или иных поверхностях, а не как геометрии, применимые к физическому миру, где прямые понимались в обычном смысле. Разумеется, подобный подход полностью противоречил взглядам Гаусса, Лобачевского и Римана (а в несколько ином смысле — и Бойаи).
Нерешенной оставалась лишь одна фундаментальная проблема, связанная с наведением строгости в математике: в основаниях евклидовой геометрии обнаружились изъяны. Однако в отличие от математического анализа природа геометрии и ее понятий была ясна. Установить неопределяемые термины, уточнить определения, восполнить недостающие аксиомы и завершить доказательства было сравнительно простой задачей. Она была решена независимо Морицем Пашем (1843-1930), Джузеппе Веронезе (1854-1917) и Марио Пиери (1860-1904). Давид Гильберт (1862-1943), по достоинству оценивший вклад Паша, предложил свой вариант аксиоматического построения евклидовой геометрии, который наиболее широко используется в наши дни. На едином дыхании он заложил основания неевклидовой геометрии Ламберта, Гаусса, Лобачевского и Бойаи, а также других геометрий, созданных в XIX в., главным образом проективной геометрии.{93}
Так, к началу XX в. математическая строгость восторжествовала в арифметике, алгебре, математическом анализе (начала которого базировались на аксиомах для целых чисел) и геометрии (на основе аксиом для точек, прямых и других геометрических объектов). Многих математиков соблазняла возможность пойти еще дальше и достроить на понятии числа всю геометрию — план, осуществимый с помощью аналитической геометрии. Сама геометрия как таковая по-прежнему не вызывала у них доверия. У математиков еще не изгладился из памяти один из уроков, преподанных им неевклидовой геометрией, которая выявила серьезные изъяны в евклидовой геометрии, считавшейся до сих пор образцом математической строгости. Однако к началу XX в. программа сведения всей геометрии к числу не была выполнена. Тем не менее большинство математиков того времени говорили об арифметизации геометрии, хотя правильнее было бы говорить об арифметизации математического анализа. Так, на II Международном конгрессе математиков, состоявшемся В 1900 г. в Париже, Пуанкаре утверждал: «На сегодняшний день в математическом анализе остались только целые числа, а также конечные и бесконечные системы целых чисел, связанных между собой системой отношений равенства или неравенства. Математика, можно сказать, арифметизована». Паскалю принадлежит следующее высказывание: «Tout ce qui passe la Géométrie nous passe» (все, что выходит за рамки Геометрии, выходит за рамки нашего понимания). В начале XX в. математики предпочитали говорить иначе: «Tout ce qui passe l'Arithmétique nous passe» (все, что выходит за рамки Арифметики, выходит за рамки нашего понимания).
Движения, первоначально ставившие перед собой довольно ограниченные цели, по мере своего разрастания нередко начинают охватывать гораздо более широкий круг проблем, чем ранее предполагалось. Критическое движение в области оснований математики со временем сделало мишенью своих атак и логику — законы мышления, используемые в математических доказательствах при переходе от одного заключения к другому.
Начало логике как науке было положено сочинением Аристотеля «Органон» (Инструмент [мышления], около 300 г. до н.э.) [см. прим. {38} к гл. IV]. По признанию Аристотеля, он выделил законы мышления, используемые математиками, абстрагировал их от частностей и обнаружил, что эти законы обладают универсальной применимостью. Так, один из фундаментальных законов аристотелевой логики, закон исключенного третьего, гласит: всякое имеющее смысл высказывание либо истинно, либо ложно. Закон исключенного третьего Аристотель мог абстрагировать, например, из такого математического утверждения, как «всякое целое число либо четно, либо нечетно». Логика Аристотеля в основном представляла собой силлогистику — набор правил о выводе новых утверждений из уже известных.
На протяжении более чем двух тысячелетий логика Аристотеля не вызывала возражений у мыслителей, в частности у математиков. Правда, Декарт, подвергавший сомнению любые убеждения и учения, задал вопрос: откуда нам известно, что законы логики правильны? И сам же ответил на него: господь бог не стал бы вводить нас в заблуждение. Так Декарт обосновал для себя всеобщую убежденность в правильности законов логики.
Декарт и Лейбниц надеялись, что им удастся расширить логику до универсальной науки о мышлении, применимой ко всем областям человеческого разума, — построить своего рода универсальное исчисление мышления. Они намеревались уточнить и облегчить применение законов мышления введением буквенной символики, подобной алгебраической. О математическом методе Декарт отзывался так: «Это более мощный инструмент познания, чем все остальные, что дала нам человеческая деятельность, ибо он служит источником всего остального».
По замыслам Лейбница, имевшим несколько более конкретный характер, чем планы Декарта, для построения универсальной логики необходимы три основных элемента. Первый элемент — универсальный научный язык (characteristica universalis), частично или полностью символический и применимый ко всем истинам, выводимым посредством рассуждений. Вторая составная часть — исчерпывающий набор логических форм мышления (calculus ratiocinator), позволяющих осуществить любой дедуктивный вывод из начальных принципов. Третий элемент — набор основных понятий (ars сотbinatoria), через которые определяются все остальные понятия, своего рода алфавит мышления, позволяющий сопоставить символ каждой простой идее. Комбинируя символы и производя над ними различные операции, мы получаем возможность выражать и преобразовывать более сложные понятия.
К числу фундаментальных принципов следует отнести, например, закон тождества: A есть A (и A не есть «не A»). Из таких законов можно было бы вывести все мыслимые истины, включая математические. Кроме того, существуют фактические истины, но они в значительной мере опираются на так называемый принцип достаточного основания, состоящий в том, что эти истины могут быть именно такими, а не какими-либо иными. Лейбниц был основоположником символической логики, однако его работы в этой области оставались неизвестными до 1901 г.
Ни Декарту, ни Лейбницу не удалось развить последовательно символическое исчисление логики. Они создали лишь отдельные фрагменты.{94} Вплоть до XIX в. логика Аристотеля сохраняла свои позиции. В 1797 г. Кант во втором издании «Критики чистого разума» назвал логику «замкнутым и полным учением». Хотя до начала XX в. большинство математиков в своих рассуждениях продолжали следовать неформальным, изложенным лишь словесно, а не символически, принципам аристотелевой логики, они пользовались и другими схемами рассуждений, не исследованными Аристотелем. Не вдаваясь в анализ используемых логических принципов, математики пребывали в уверенности, что их рассуждения не выходят за рамки адекватной дедуктивной логики. В действительности же они использовали интуитивно вполне разумные, но не сформулированные явно логические принципы.
В то время как внимание большинства математиков было сосредоточено на обосновании собственно математики, менее многочисленная группа занялась критическим пересмотром логики. Выдающихся успехов в этом направлении добился профессор математики Куинз-колледжа в Корке (Ирландия) Джордж Буль (1815-1864).{95}
В своей работе Буль, несомненно, вдохновлялся примером общей (или абстрактной) алгебры, основы которой были заложены кембриджской группой — Пикоком, Грегори и де Морганом (гл. VII). Хотя использованный этими авторами принцип перманентности форм в действительности не мог служить обоснованием алгебраических операций, производимых над буквенными коэффициентами с вещественными или комплексными значениями, Пикок, Грегори и де Морган косвенно способствовали возникновению нового взгляда на алгебру как на науку о символах и операциях, которые могут иметь любую природу и представлять любые объекты. Работа Гамильтона о кватернионах (1843) показала, что возможны другие алгебры, отличные от привычной алгебры вещественных и комплексных чисел. Обобщение алгебраических рассуждений в форме так называемой алгебры операторов предложил в 1844 г. Буль. Его также беспокоила мысль о том, что алгебра не обязательно должна заниматься рассмотрением одних лишь чисел и что законы алгебры не обязательно должны совпадать с законами арифметики вещественных и комплексных чисел. Упомянув об этом в начале своей работы «Математический анализ логики» (1847), Буль вскоре развил алгебру логики. Шедевром по праву считается работа Буля «Исследование законов мышления» (1854). Основная идея Буля, менее претенциозная, чем идея Лейбница об универсальной алгебре, и более близкая по духу лейбницевскому calculus ratiocinator (логическая форма мышления), состояла в том, что существующие законы мышления представимы в символическом виде, позволяющем придать более точный смысл обычным логическим рассуждениям и упростить их применение. В своей книге Буль так сформулировал программу построения алгебры логики:
В предлагаемом вниманию читателей трактате мы намереваемся исследовать фундаментальные законы тех операций разума, посредством которых осуществляется мышление, дабы выразить их на символическом языке исчисления и на этой основе построить науку логики и ее метод.
Кроме того, Буля интересовали некоторые конкретные приложения логики, в частности к законам вероятности.
Буквенная символика обладает многими преимуществами. В ходе рассуждений тому или иному выражению иногда по ошибке можно придать смысл, отличный от первоначального, или употребить неправильное дедуктивное умозаключение. Так, при обсуждении света как оптического явления употребление выражения «повидать свет» может быть истолковано неверно (так как в обычной бытовой лексике оно означает «побывать во многих странах мира»). Но если свет как физическое явление обозначить, например, буквой l, то при любых преобразованиях буквенных выражений, содержащих l, эта буква будет означать только свет как физическое явление и ничего другого. Кроме того, все доказательства сводятся к преобразованию одних наборов символов в другие по заранее заданным правилам, заменяющим словесные формулировки законов логики. Правила преобразований выражают правильные законы логики в сжатом, четком и легко применимом виде.
Чтобы по достоинству оценить булеву алгебру логики, упомянем лишь некоторые из ее идей. Пусть символы x и y означают классы объектов, например класс собак и класс рыжих животных. Тогда xy означает класс объектов, принадлежащих одновременно классу x и классу y. Если x и y имеют предложенную нами интерпретацию, то xy означает класс рыжих собак. Равенство xy = yx верно при любых x и y. Если z — класс белых объектов и если x = y, то zx = zy. Кроме того, из самого смысла «произведения» xy следует, что xx = x.
Символ x + y означает класс объектов, принадлежащих либо классу x, либо классу y, либо классам x и y одновременно. (Это более поздняя модификация логических построений Буля, предложенная Уильямом Стенли Джевонсом (1835-1882).{96}) Так, если x — класс мужчин, а y — класс избирателей, то x + y — класс мужчин и избирателей (включающий в себя помимо избирателей-мужчин также и избирателей-женщин). Нетрудно доказать, что если, скажем, z — класс людей старше 35 лет, то
z(x + y) = zx + zy.
Если x — некоторый класс объектов, то 1 − x (или −x) — множество всех объектов, не принадлежащих классу x. Так, если 1 — множество всех объектов, x — множество собак, то 1 − x (или −x) — множество всех объектов, не являющихся собаками. Соответственно −(−x) означает множество собак. Равенство
x + (1 − x) = 1
означает, что все объекты либо относятся к собакам, либо нет. А это есть не что иное, как закон исключенного третьего для классов. Буль показал, как с помощью таких чисто алгебраических операций проводить рассуждения в самых различных областях.
Буль заложил также основы исчисления высказываний, хотя начало этой области логики восходит к стоикам (IV в. до н.э.). В интерпретации этого исчисления p, например, означает «Джон — человек». Утверждать p означает утверждать, что высказывание «Джон — человек» истинно. Тогда 1 − p (или −p) означает, что высказывание «Джон — человек» не истинно. Аналогично высказывание −(−p) означает: «Неверно, что Джон не человек», т.е. «Джон — человек». Закон исключенного третьего для высказываний, гласящий, что любое высказывание либо истинно, либо ложно, Буль записывал в виде p + (−p) = 1, где 1 соответствует истине. Произведение pq истинно, когда истинны оба высказывания p и q, а сумма p + q истинна, если истинно либо p, либо q (либо истинны оба высказывания).
Другое новшество было внесено де Морганом. В своем главном труде «Формальная логика» (1847) де Морган высказал идею о том, что логика должна заниматься изучением отношений в общем виде. Так, аристотелева логика занималась изучением отношения «быть» (x есть y). Классический пример: «Все люди смертны». Но аристотелева логика, по словам де Моргана, не в состоянии вывести из утверждения «Лошадь — животное» утверждение «Голова лошади — голова животного»: для этого необходимо ввести дополнительную посылку о том, что у всех животных есть головы. В сочинениях Аристотеля также есть фрагменты, посвященные логике отношений, хотя писал он о них довольно невразумительно и сжато. Кроме того, многие труды Аристотеля и обобщения, сделанные средневековыми учеными, были безвозвратно утеряны к XVII в. В необходимости логики отношений убедиться нетрудно. Так, следующее рассуждение, построенное только на отношении «быть», как легко видеть, ложно:
A есть p;
B есть p.
Следовательно, А и В суть p.
Действительно, рассуждение
Джон — брат,
Питер — брат;
следовательно, Джон и Питер братья (каждый доводится братом другому)
вполне может привести к неправильному заключению, если понятие «брат» расширить, включив в него и двоюродного брата. Аристотелевой логике не удалось построить логику отношений. На этот ее недостаток обращал внимание еще Лейбниц.
Отношения далеко не всегда удается перевести на язык субъекта и предиката, когда предикат лишь утверждает, что субъект принадлежит к задаваемому предикатом классу. Часто бывает необходимо рассматривать и такие утверждения, как «2 меньше 3» или «Точка Q лежит между точками P и R». Для подобных высказываний также необходимо определять, что означает их отрицание, т.е. обратное утверждение, сложное высказывание, составленное из нескольких таких высказываний, и т.д.
Логика отношений была развита в серии статей, опубликованных в 1870-1893 гг. Чарлзом Сандерсом Пирсом (1839-1914), и систематизирована Эрнстом Шредером (1841-1902). Пирс ввел специальную символику для обозначения высказываний, выражающих отношения. Так, символ lij означает, что i любит j. Построенная Пирсом алгебра была сложной и малополезной. Позднее мы увидим, как рассматривает отношения современная математическая логика.
Пирс внес в науку логики еще одно важное дополнение, которое лишь слегка затронул Буль; он подчеркнул важность пропозициональных функций (функций-высказываний). Подобно тому как в математике мы рассматриваем функции, например y = 2x, отличая их от утверждений о конкретных числовых равенствах типа 10 = 2∙5, так высказывание «Джон — человек» вполне конкретно, а высказывание «x — человек» означает пропозициональную функцию, зависящую от переменной x. Пропозициональные функции могут зависеть от двух и большего числа переменных: такова, например, функция «x любит y». Результаты Пирса позволили распространить логику и на пропозициональные функции.
Пирс ввел в логику и так называемые кванторы. Обычный язык неоднозначен по отношению к кванторам. В двух высказываниях:
Американец возглавлял войну за независимость;
Американец верит в демократию
субъект «американец» используется в двух различных смыслах: в первом высказывании речь идет о вполне конкретном лице — Джордже Вашингтоне, во втором — о любом американце. Обычно неоднозначность можно уменьшить, сославшись на контекст, в котором используется предложение, но в строгом логическом мышлении такая неоднозначность недопустима. Смысл высказывания должен быть ясен без всяких ссылок на контекст. Кванторы позволяют достичь однозначности высказываний. Мы можем утверждать, что какая-то пропозициональная функция истинна для всех индивидуумов из определенного класса, например для всех граждан США. В этом случае высказывание «Для всех x, x — люди» означает «Все граждане США — люди». Слова «для всех x» — квантор. Но мы можем также утверждать: существует по крайней мере один x, такой, что x — человек из США. В этом случае квантор — это слова «существует по крайней мере один x, такой, что». Каждый из этих типов кванторов имеет специальное обозначение: в первом случае x (квантор общности), во втором x (квантор существования).
Включение в логику отношений пропозициональных функций и кванторов позволило существенно расширить ее. Охватив те типы рассуждений, которые используются в математике, логика стала более полной.
Последний шаг в математизации логики в XIX в. был сделан профессором математики Йенского университета Готлобом Фреге (1848-1925). Его перу принадлежит несколько фундаментальных трудов: «Исчисление понятий» (1879), «Основания арифметики» (1884) и «Основные законы арифметики» (т. I — 1893, т. II — 1903). Восприняв идеи логики высказываний, логики отношений, пропозициональные функции и кванторы, Фреге внес свой вклад в развитие математической логики. Он ввел различие между простым утверждением высказывания и утверждением, что данное высказывание истинно. В последнем случае Фреге ставил перед высказыванием знак |—. Фреге проводил также различие между объектом x и множеством {x}, содержащим только x, между элементом, принадлежащим множеству, и включением одного множества в другое.
Фреге формализовал более широкое понятие импликации — так называемую материальную импликацию, хотя следы этого понятия в неформализованной, словесной форме можно проследить вплоть до Филона из Мегары (около III в. до н.э.).{97} Логика имеет дело с рассуждениями относительно высказываний и пропозициональных функций, и весьма важная роль в этих рассуждениях отводится импликации. Так, если мы знаем, что Джон мудр и что мудрые люди живут долго, то с помощью импликации заключаем, что Джон будет жить долго.
Материальная импликация несколько отличается от обычно используемой импликации. Когда мы говорим, например, «Если пойдет дождь, то я отправлюсь в кино», между двумя высказываниями «Пойдет дождь» и «Я отправлюсь в кино» существует не просто какое-то отношение, а именно импликация: если антецедент (высказывание, стоящее в условном высказывании между «если» и «то») истинен, то из него с необходимостью следует консеквент (высказывание, стоящее в условном высказывании после «то»). Но в материальной импликации антецедентом p и консеквентом q могут быть любые высказывания. Между ними не обязательно должна существовать причинно-следственная связь и даже вообще какое бы то ни было отношение. Так, ничто не мешает нам рассматривать материальную импликацию «Если x — нечетное число, то я пойду в кино». Эта импликация ложна только в том случае, если x — нечетное число, а я все равно не отправлюсь в кино.
На более формальном языке это означает, что если p и q — высказывания и p истинно, то из истинности импликации «Если p, то q» («из p следует q», или «p влечет за собой q») мы вправе заключить, что q также истинно. Если же p ложно, то независимо от того, ложно или истинно q, материальная импликация «Если p, то q» считается истинной. И только в том случае, если p истинно, a q ложно, импликация считается ложной. Понятие материальной импликации расширяет привычное употребление связки «если …, то …». Но такое расширение не приводит к каким-либо затруднениям, так как обычно мы используем импликацию «если p, то q», только когда знаем, что p истинно. Кроме того, материальная импликация в какой-то мере согласуется с тем смыслом, который мы обычно вкладываем в условные высказывания «Если …, то …». Рассмотрим предложение «Если Гарольд получит сегодня жалованье, то он купит продукты». Здесь p — высказывание «Гарольд получит сегодня жалованье», q — высказывание «Он купит продукты». Но Гарольд может купить продукты, даже если он не получит сегодня жалованье. Следовательно, импликацию «Если p, то q» мы можем считать истинной и в том случае, когда p ложно, a q истинно. Другим, возможно еще лучшим, примером разумности такого решения может служить условное предложение «Если бы дерево было металлом, то дерево было бы ковким». Мы знаем, что оба высказывания (и антецедент, и консеквент) ложны, тем не менее вся импликация в целом истинна. Следовательно, если p ложно и q ложно, то импликацию «Если p, то q» также надлежит считать истинной. Понятие материальной импликации находит важное применение, позволяя судить об истинности q по истинности p и импликации «Если p, то q». Обобщение на случай, когда p ложно, удобно для математической логики и представляется наиболее разумным из всех вариантов.
Поскольку если p ложно, то q следует из p независимо от того, истинно ли q или ложно, в случае материальной импликации из ложного высказывания может следовать что угодно — консеквент может быть любым. Упреки тех, кто видит в этом неисправимый «порок» материальной импликации, можно было бы отвергнуть, сославшись на то, что в непротиворечивой системе математики и логики не должно быть ложных высказываний. Тем не менее возражения против понятия материальной импликации все же выдвигались. Так, Пуанкаре иронически заметил: «Но кто исправлял плохую кандидатскую математическую работу, тот мог заметить, насколько правильно смотрит на дело Рассел. Кандидат часто много трудится для того, чтобы найти первое ложное уравнение; но лишь только он его получил, для него уже не представляет никакого труда сделать из него самые неожиданные выводы, из которых иные могут оказаться и точными» ([1], с. 379). Но, несмотря на все попытки усовершенствовать понятие импликации, именно материальная импликация стала стандартным понятием, по крайней мере в математической логике, используемой как основа всей современной математики.
Фреге внес в развитие логики еще один вклад, важность которого была по достоинству оценена много позднее. В логике известно много принципиальных схем рассуждений. Их можно сравнить с многочисленными утверждениями евклидовой геометрии о треугольниках, прямоугольниках, окружностях и других фигурах. В результате пересмотра других областей математики, произведенного в конце XIX в., многие утверждения геометрии были выведены из небольшого числа основных утверждений — аксиом. То же самое Фреге сделал в логике. Его обозначения и аксиомы были достаточно сложными, и мы ограничимся лишь словесным описанием предложенного Фреге аксиоматического подхода к логике (см. также гл. X). Вряд ли кто-нибудь усомнится принять за аксиому утверждение «Если p, то p или q», так как высказывание «p или q» истинно, если истинно по крайней мере одно из входящих в него высказываний, p или q, а если p истинно, то одно из высказываний, p или q, заведомо истинно.
Можно принять также за аксиому, что если какое-то высказывание (или комбинация высказываний) A истинно и если из A следует B, где B — другое высказывание (или комбинация высказываний), то B истинно. Эта аксиома, называемая правилом вывода, позволяет нам выводить новые высказывания и утверждать, что они истинны.
Из приведенных аксиом мы можем, например, вывести
p истинно или p ложно,
т.е. закон исключенного третьего.
Можно также вывести закон противоречия, словесная формулировка которого гласит: не верно, что p и не p оба истинны (истинным может быть только одно из двух высказываний: либо p, либо не p). Закон противоречия часто используется в математике в так называемых доказательствах от противного. В доказательствах такого рода мы, предположив, что p истинно, заключаем, что p ложно. Но тогда p и не p истинны одновременно, что невозможно. Следовательно, p ложно. Иногда доказательство от противного проводится несколько иначе. Предположив, что p истинно, мы доказываем, что из p следует q. Но о высказывании q известно, что оно ложно. Следовательно, по одному из законов логики должно быть ложным и p. Многие другие законы логики, широко используемые в математических доказательствах, также выводимы из аксиом. Начало дедуктивному построению логики было положено Фреге в его работе «Исчисление понятий» и продолжено им в «Основных законах арифметики».
Фреге поставил перед собой и более претенциозную задачу, о которой пойдет речь в дальнейшем (гл. X). Пока же, не вдаваясь в подробности, заметим, что Фреге стремился своими трудами по логике заложить новую основу арифметики, алгебры и математического анализа — более строгую, чем удалось создать за последние десятилетия XIX в., ознаменовавшиеся критическим движением в области оснований математики.
Значительную роль в использовании математической логики для достижения большей математической строгости сыграл Джузеппе Пеано. Занимаясь преподаванием математики, Пеано, как до него Дедекинд, обнаружил недостаточность строгости существовавших до него доказательств и посвятил всю свою жизнь усовершенствованию оснований математики. Символику математической логики Пеано применил для записи не только законов логики, но и математических аксиом, а также для вывода теорем из аксиом с помощью преобразования по правилам математической логики комбинаций символов, выражающих аксиомы. Пеано открыто и со всей определенностью говорил о необходимости отказаться от интуитивных представлений. Достичь намеченной цели можно было, лишь используя буквенную символику, так как при этом интерпретация символов не влияла на математическое доказательство. Символика позволяла избежать обращения к интуитивным ассоциациям, связанным с обычными словами.
Для обозначения понятий, кванторов и таких связок, как «и», «или» и «не», Пеано ввел собственные символы. Его символическая логика была весьма рудиментарной, но тем не менее Пеано оказал огромное влияние на развитие работ по основаниям математики. Он был основателем и главным редактором журнала Revista di Matematica (1891-1906) и пятитомного «Формуляра математики» (1894-1908). Именно в «Формуляре» Пеано впервые опубликовал уже упоминавшуюся нами аксиоматику целых чисел. Пеано основал школу математических логиков, в то время как работы Пирса и Фреге, по существу, оставались незамеченными, пока Бертран Рассел не «открыл» в 1901 г. труды Фреге. О работах Пеано Рассел узнал в 1900 г. и считал символику Пеано более удачной, чем символика Фреге.
От Буля до Шредера, Пирса и Фреге все нововведения в логике сводились к применению математического метода: символики и дедуктивного вывода логических законов из логических аксиом. Вся эта работа по созданию формальной или символической логики была благосклонно встречена логиками и математиками, так как использование символики позволило избегать психологических, теоретико-познавательных и метафизических смысловых неоднозначностей и ассоциаций.
Систему логики, включающую пропозициональные функции, отношения типа «x любит у» или «точка A лежит между точками B и C», ныне принято называть исчислением предикатов первой ступени. Хотя, по мнению некоторых логиков, такое исчисление охватывает не все типы рассуждений, используемых в математике, например оно не включает математическую индукцию, современные логики отдают предпочтение именно этой логической системе.{98}
Распространение логики на все типы рассуждений, используемых в математике, придание утверждениям большей точности за счет проведения различия между высказываниями и пропозициональными функциями, введение кванторов, несомненно, способствовали повышению математической строгости, к которой так стремились математики XIX в. Аксиоматизация логики полностью отвечала духу времени.
Имея в виду наш последующий анализ логической структуры математики, подчеркнем, что как в самой математике, так и в алгебре установление высоких стандартов строгости стало возможным благодаря аксиоматическому подходу, впервые использованному Евклидом. Движение за аксиоматизацию в XIX в. позволило выяснить некоторые особенности аксиоматического подхода. Рассмотрим их подробнее.
Одна из особенностей аксиоматического подхода — необходимость неопределяемых понятий. Математика строится независимо от остальных областей человеческого знания, поэтому одно математическое понятие приходится определять через другие. Но тогда возникла бы бесконечная цепочка определений. Выход из создавшегося затруднения состоит в том, что основные понятия должны быть неопределяемыми. Но как пользоваться неопределяемыми понятиями? Откуда мы знаем, что о них можно утверждать? Ответ на этот вопрос и дает аксиоматика; аксиомы содержат утверждения о неопределяемых (и определяемых) понятиях. Следовательно, аксиомы говорят нам, что можно утверждать о неопределяемых понятиях. Так, если точка и прямая неопределяемы, то аксиома о том, что две точки задают прямую и притом только одну, и аксиома о том, что три точки задают плоскость и притом только одну, служат теми утверждениями, которые мы можем использовать при выводе новых утверждений о точке, прямой и плоскости. Хотя Аристотель в «Органоне», Паскаль в «Трактате о геометрическом духе» и Лейбниц в «Монадологии» подчеркивали необходимость неопределяемых понятий, математики по непонятным причинам прошли мимо этих предупреждений и продолжали давать определения, не имевшие смысла. Еще в начале XIX в. Жозеф Диас Жергонн (1771-1859) высказал со всей определенностью важную мысль: аксиомы говорят нам все, что мы можем утверждать о неопределяемых понятиях, т.е. как бы содержат неявные определения таких понятий. Но математики всерьез восприняли эту идею лишь после того, как в 1882 г. Мориц Паш вновь подтвердил необходимость неопределяемых понятий.
Осознание того, что любая дедуктивная система должна содержать неопределяемые понятия, которые можно интерпретировать как угодно, лишь бы вводимые объекты удовлетворяли аксиомам, подняло математику на новый уровень абстракции. Это весьма рано понял Герман Грассман, отметивший в своей «Теории линейной протяженности» (1844), что геометрия не сводится исключительно к изучению реального, физического, пространства. Геометрия — конструкция чисто математическая. Она применима для описания реального пространства, но отнюдь не исчерпывается этой своей интерпретацией. Творцы аксиоматики, работавшие позднее, Паш, Пеано и Гильберт, всячески подчеркивали абстрактность геометрии. Тем не менее, отчетливо сознавая существование неопределяемых понятий, смысл которых ограничен лишь аксиомами, Паш в своих работах мысленно следовал единому образцу геометрии. Пеано, знавший работы Паша, в статье от 1889 г. высказал мысль о возможности многих других интерпретаций геометрии. Гильберт в «Основаниях геометрии» (1899) [50] заявил, что, хотя мы используем такие слова, как точка, прямая, плоскость и т.д., вполне можно было бы говорить о пивных кружках, стульях и любых других предметах, лишь бы они удовлетворяли аксиомам. То, что одна дедуктивная система допускает множество интерпретаций, можно расценивать как весьма благоприятное обстоятельство, позволяющее расширить круг возможных приложений, но вместе с тем оно приводит, как мы увидим в дальнейшем (гл. XII), и к некоторым неприятным последствиям.
Паш великолепно понимал современную аксиоматику. Именно ему принадлежит замечание (важность которого в конце XIX в. не была по достоинству оценена) о том, что во всех случаях необходимо дать доказательство непротиворечивости любой рассматриваемой системы аксиом, т.е. доказательство того, что выбранная система аксиом не порождает противоречащих друг другу теорем. Проблема непротиворечивости возникла в связи с неевклидовыми геометриями и была для них удовлетворительно разрешена. Однако неевклидова геометрия оставалась для многих довольно непривычной областью математики. Что же касается таких старых фундаментальных ее разделов, как арифметика или евклидова геометрия, то всякие сомнения в их непротиворечивости казались чисто академическими. Тем не менее Паш считал необходимым установить непротиворечивость и этих систем аксиом. Ему вторил Фреге, писавший в «Основаниях арифметики» (1884):
Обычно поступают так, будто принятие постулатов само по себе достаточно для того, чтобы все постулаты выполнились. Мы постулируем, что операция вычитания, деления или извлечения корня всегда выполнима, и считаем, что этого вполне достаточно. Но почему мы не постулируем, что через любые три точки можно провести прямую? Почему мы не постулируем, что все законы сложения и умножения остаются в силе для комплексных чисел с тремя единицами точно так же, как они выполняются для вещественных чисел? Это происходит потому, что такого рода постулаты содержат противоречие. Прекрасно! Но тогда первое, что нам необходимо сделать, — это доказать непротиворечивость наших остальных постулатов. А пока это не будет сделано, вся строгость, к которой мы так стремимся, останется столь же зыбкой и призрачной, как лунное сияние.
Пеано и его школа в 90-х годах XIX в. также стали несколько серьезнее относиться к проблеме непротиворечивости. Пеано был уверен в том, что методы, позволяющие доказывать непротиворечивость аксиом, не замедлят появиться.
Над проблемой непротиворечивости математики вполне могли бы задуматься еще древние греки. Почему же она выступила на передний план лишь в конце XIX в.? Как мы уже говорили, создание неевклидовой геометрии в значительной мере способствовало осознанию того, что геометрия является творением человека и лишь приближенно описывает происходящее в реальном мире. При всех неоспоримых достоинствах этого описания его нельзя считать истинным в том смысле, что оно не адекватно внутренней структуре окружающего мира и, следовательно, не обязательно непротиворечиво. Движение за аксиоматизацию математики в конце XIX в. заставило математиков понять, сколь глубокая пропасть отделяет математику от реального мира. Каждая аксиоматическая система содержит неопределяемые понятия, свойства которых задаются только аксиомами. Смысл неопределяемых понятий не зафиксирован раз и навсегда, хотя интуитивно мы представляем себе, что такое точки или прямые. Разумеется, предполагается, что аксиомы выбраны так, чтобы задаваемые им свойства находились в согласии с теми, которые мы интуитивно с ними связываем. Но можем ли мы быть уверенными в том, что нам удалось выбрать аксиомы именно таким образом, что, формулируя их, мы не привнесли некоторое нежелательное свойство (или же оно следует из принятых нами аксиом), которое может привести к противоречию?
Паш отметил еще одну особенность аксиоматического метода. В любой области математики желательно, чтобы аксиомы были независимыми, т.е. чтобы любую из принятых аксиом нельзя было вывести из остальных, так как аксиома, выведенная из других, является уже не аксиомой, а теоремой. Метод доказательства независимости той или иной аксиомы состоит в указании интерпретации или построении модели, в которой все аксиомы, кроме проверяемой на независимость, выполняются, а проверяемая аксиома не выполняется. (Такая интерпретация не обязательно должна быть совместимой с отрицанием проверяемой аксиомы.) Так, для доказательства независимости аксиомы Евклида о параллельных от остальных аксиом евклидовой геометрии можно воспользоваться интерпретацией гиперболической неевклидовой геометрии, в которой выполняются все аксиомы евклидовой геометрии, кроме аксиомы о параллельных, а сама аксиома о параллельных не выполняется. Интерпретация, удовлетворяющая проверяемой аксиоме и противоположной аксиоме, не была бы непротиворечивой. Следовательно, прежде чем воспользоваться для доказательства независимости какой-либо аксиомы интерпретацией, или моделью, необходимо убедиться в том, что эта интерпретация, или модель, непротиворечива. Так, независимость аксиомы Евклида о параллельных была доказана на модели гиперболической евклидовой геометрии, реализуемой на поверхности в евклидовом пространстве.
В дальнейшем мы расскажем о сомнениях, неадекватностях и глубоких проблемах, которые породила аксиоматизация математики; однако в начале XX в. аксиоматический метод считался идеалом математической строгости. Никто не превозносил аксиоматический метод больше, чем Гильберт, ставший к тому времени признанным лидером мировой математики. В статье «Аксиоматическое мышление» (1918) он утверждал:
Все, что может быть предметом математического мышления, коль скоро назрела необходимость в создании теории, оказывается в сфере действия аксиоматического метода и тем самым математики. Проникая во все более глубокие слои аксиом… мы получаем возможность все дальше заглянуть в сокровенные тайны научного мышления и постичь единство нашего знания. Именно благодаря аксиоматическому методу математика, по-видимому, призвана сыграть ведущую роль во всем нашем знании.
Аналогичные мысли Гильберт высказывал и в 1922 г.:
Аксиоматический метод поистине был и остается подходящим и неоценимым инструментом, в наибольшей мере отвечающим духу каждого точного исследования, в какой бы области оно ни проводилось. Аксиоматический метод логически безупречен и в то же время плодотворен; тем самым он гарантирует полную свободу исследования. В этом смысле применять аксиоматический метод — это значит действовать, понимая, о чем идет речь. Если ранее, до аксиоматического метода, приходилось действовать наивно, слепо веря в существование определенных отношений, то аксиоматический метод устраняет подобную наивность, сохраняя все преимущества уверенности.
Возможно, создается впечатление, что математики приветствовали установление прочной, строгой основы своей науки. Однако математикам ничто человеческое не чуждо. И далеко не все математики с энтузиазмом приветствовали точную формулировку таких основных понятий, как иррациональное число, непрерывность, производная и интеграл. Многие не поняли новой терминологии и сочли точные определения своего рода причудами, отнюдь не обязательными для понимания математики и даже для строгих доказательств. Те, кто так считал, полагались на свою интуицию, несмотря на сюрпризы, преподнесенные открытием непрерывных, но не дифференцируемых функций и других логически правильных, но противоречащих интуиции математических объектов. Так, в 1904 г. Эмиль Пикар (1856-1941), говоря о строгости в теории дифференциальных уравнений с частными производными, заметил: «Истинная строгость плодотворна и этим отличается от другой строгости, чисто формальной и утомительной, бросающей тень на затрагиваемые ею проблемы». Шарль Эрмит (1822-1901) в письме к Томасу Яну Стильтьесу от 20 мая 1893 г. признавался: «С чувством непреодолимого отвращения я отшатываюсь от достойного всякого сожаления зла — непрерывных функций, не имеющих производных». Пуанкаре (1854-1912), с чьей философией математики нам предстоит познакомиться в следующей главе, жаловался; «В прежние времена новые функции вводились для того, чтобы их можно было применять. Ныне же строят функции, чтобы прийти в противоречие с выводами наших предшественников. Такие функции не годятся ни для чего иного».
Многие авторы тех определений и доказательств, ошибочность которых стала очевидной, принялись утверждать, будто имели в виду именно тот смысл, к которому привела строгая теория. К подобному приему прибегал даже такой выдающийся математик, как Эмиль Борель. Другие возражали против, как они говорили, «выискивания блох». В одной из своих работ, опубликованной в 1934 г., Годфри Гарольд Харди назвал строгость неотъемлемым элементом математики. Другие математики не понимали природы математической строгости и, опасаясь неприятностей, поносили ее. Некоторые даже поговаривали об анархии в математике. Новые идеи, в частности те, которые способствовали установлению математической строгости, математики воспринимали ничуть не менее предвзято, чем обычно люди воспринимают любые новшества.
Успехи в области оснований математики обнаружили еще одну сторону математических творений. Строгость не только удовлетворяла потребностям математики XIX в., но и позволила нам кое-что понять в развитии математики. Предполагалось, что обоснованные по последнему слову «математической техники» строгие структуры гарантируют «доброкачественность» математики, но эти гарантии оказались необоснованными. Ни одна теорема арифметики, алгебры или евклидовой геометрии не была изменена в результате пересмотра оснований, и только некоторые теоремы математического анализа пришлось сформулировать точнее. Например, прежде чем воспользоваться производной непрерывной функции, современным математикам приходится вводить дополнительную гипотезу о том, что эта функция дифференцируема. В действительности все новые аксиоматические структуры и строгость лишь подтвердили то, в чем и без того не сомневались математики. Аксиомы позволили доказать уже известные, а не какие-то новые теоремы, так как «старые» теоремы в подавляющем большинстве были правильными. В целом это означало, что в основе математики лежит не логика, а здравый смысл и интуиция. Строгость, по выражению Жака Адамара, лишь освящает то, что завоевано интуицией. Герман Вейль назвал строгость гигиеной, с помощью которой математик поддерживает здоровье и силу своих идей.
Как бы то ни было, к началу XX в. строгость снова стала играть заметную роль в математике и служить, хотя и с большим запозданием, гарантией прочности и обоснованности достижений, накопленных математикой за много столетий. Математики могли наконец во всеуслышание заявить, что исполнили свой долг по отношению к стандарту, установленному древними греками, и не без облегчения отметить, что, за исключением незначительных поправок, здание, построенное ими на эмпирической или интуитивной базе, теперь было в основном подкреплено логикой. При мысли об этом математиков охватывало ликование и даже самодовольство. Оглядываясь в прошлое, они могли указать несколько кризисных ситуаций (иррациональные числа, математический анализ, неевклидова геометрия, кватернионы) и поздравить себя с тем, что всякий раз им удавалось успешно разрешить возникавшую проблему.
На II Международном конгрессе математиков, состоявшемся в 1900 г. в Париже, с докладом на пленарном заседании выступил Анри Пуанкаре, соперничающий тогда с Гильбертом в борьбе за лидерство в математике. Несмотря на скептическое отношение к ценности некоторых усовершенствований в основаниях математики, Пуанкаре не без гордости заметил:
Достигли ли мы абсолютной строгости? Ведь на каждой стадии эволюции наши предки также верили в то, что достигли ее. Если они ошибались, то не ошибаемся ли и мы, подобно им?.. В новейшем анализе — если мы пожелаем взять на себя труд быть строгими — находят место силлогизмы и обращения к этой интуиции чистого числа, единственной интуиции, которая не может обмануть нас. Можно сказать, что ныне достигнута абсолютная строгость.
([1], с. 163-164.)Пуанкаре повторил эти преисполненные гордости слова в одном из очерков, составивших его книгу «Ценность науки» (1905) [1]. И эта гордость вполне понятна, если учесть, какая проницательность потребовалась, чтобы добиться строгости в различных разделах математики. Наконец-то математика обрела основания, которые с радостью приняли все, за исключением нескольких тугодумов. Математикам было чему радоваться.
Один из персонажей «Кандида» Вольтера философ доктор Панглосс даже в ожидании повешения твердит о «лучшем из миров». Так и математики, не ведая, что вскоре их ожидает взрыв ими же заложенного сокрушительного заряда, с энтузиазмом рассуждали о том, что достигли наилучшего из возможных состояний. Между тем тучи уже сгущались, и если бы математики, собравшиеся в 1900 г. на конгресс, не были так поглощены заздравными тостами, то они без труда бы заметили их.
Но и среди участников достопамятного конгресса 1900 г. нашелся человек, который прекрасно понимал, что в основаниях математики разрешены далеко не все проблемы. На этом конгрессе Давид Гильберт выступил с знаменитым докладом, где перечислил 23 проблемы [51], решение которых, по его мнению, девятнадцатое столетие завещало двадцатому. Первая из названных проблем состояла из двух частей. Георг Кантор ввел трансфинитные числа для обозначения мощности (числа элементов) бесконечных множеств. В этой связи Гильберт предложил доказать, что трансфинитное число, выражающее мощность множества всех вещественных чисел, является ближайшим к трансфинитному числу, выражающему мощность множества всех целых чисел. К этой проблеме мы вернемся в гл. IX.
Во второй части первой проблемы Гильберта говорилось о необходимости поиска метода, который позволил бы переупорядочить вещественные числа, чтобы их множество стало вполне упорядоченным. С понятием вполне упорядоченного множества мы подробнее познакомимся в дальнейшем, а пока достаточно лишь сказать, что если множество всех вещественных чисел вполне упорядочено, то в любой извлеченной из него подпоследовательности должен существовать первый элемент. При обычном упорядочении вещественных чисел это требование не выполняется: например, если мы рассмотрим все числа, которые больше, например, 5, то в этом подмножестве первый элемент отсутствует.
Вторая проблема Гильберта была более очевидной и имела более широкое значение. Мы уже упоминали о проблеме непротиворечивости, поднятой в связи с неевклидовыми геометриями, и о доказательствах их непротиворечивости, исходивших из предположения о непротиворечивости евклидовой геометрии. Используя аналитическую геометрию, Гильберт показал, что евклидова геометрия непротиворечива, если непротиворечива арифметика. И содержание второй проблемы Гильберта составляло требование дать доказательство непротиворечивости арифметики.
Обе части первой проблемы Гильберта были известны еще Кантору. Паш, Пеано и Фреге обращали внимание также и на проблему непротиворечивости. Но только Гильберт в своем докладе, 1900 г. в полной мере продемонстрировал фундаментальный, непреходящий характер этих проблем. Большинство математиков, слушавших доклад Гильберта, несомненно, считали проблемы непротиворечивости тривиальными, несущественными, своего рода математическими курьезами и придавали большее значение другим проблемам, сформулированным Гильбертом. Что же касалось непротиворечивости арифметики, то она ни у кого не вызывала сомнений. То, что многие сомневались в непротиворечивости неевклидовой геометрии, вполне понятно, если учесть, сколь необычной и даже противоречащей интуиции была эта геометрия. Но вещественные числа находились в обращении более пяти тысяч лет, и о них было доказано бесчисленное множество теорем. Никаких противоречий при этом обнаружено не было. Аксиомы вещественных чисел приводили к хорошо известным теоремам. Как же система аксиом вещественных чисел могла быть противоречивой?
Но всякие сомнения в том, насколько мудро поступил Гильберт, включив названные выше проблемы в число 23 наиболее важных проблем и, более того, отведя им почетные первые места, вскоре рассеялись. Тучи, собравшиеся над математикой, закрыли теперь весь горизонт. Началась гроза, и некоторые математики услышали раскаты грома. Но даже Гильберт не мог предвидеть все неистовство бури, обрушившейся на здание математики.
IX Изгнание из рая: новый кризис оснований математики
В математике нет настоящих противоречий.
ГауссЛогика — это искусство уверенно совершать ошибки.
Неизвестный авторИтак, после многовековых блужданий в тумане математикам как будто бы удалось к началу XX в. придать своей науке ту идеальную структуру, которая была декларирована Аристотелем и, казалось, осуществлена Евклидом в его «Началах». Математики наконец-то полностью осознали необходимость неопределяемых понятий; определения были очищены от неясных или вызывавших какие-либо возражения терминов; некоторые области математики были построены на строгой аксиоматической основе; на смену умозаключениям, опиравшимся на интуитивные соображения или эмпирические данные, пришли надежные, строгие, дедуктивные доказательства. Даже законы логики были расширены настолько, что охватывали теперь те типы рассуждений, которые ранее математики использовали неформально и порой неявно, хотя, как показывал опыт, эти рассуждения всегда приводили к правильным результатам. Как уже говорилось, в начале XX в. у математиков были поводы торжествовать. Но пока они праздновали свои победы, уже назревали события, которые в дальнейшем лишили математиков покоя в гораздо большей степени, чем создание неевклидовой геометрии и кватернионов в первой половине XIX в. По меткому замечанию Фреге, «едва здание было достроено, как фундамент рухнул».
Случившееся нельзя было считать полной неожиданностью: еще Гильберт обратил внимание математиков на то, что некоторые проблемы в основаниях математики оставались нерешенными (гл. VIII). Самой важной из этих проблем, по мнению Гильберта, была проблема установления непротиворечивости тех или иных аксиоматизируемых разделов математики. Гильберт отчетливо понимал, что аксиоматический метод базируется на исходном списке неопределяемых понятий, а также аксиом, которым эти понятия должны удовлетворять. Интуитивно смысл всех фигурирующих в математической теории понятий и аксиом был вполне ясен. Такие математические понятия, как точка, прямая и плоскость, имеют вполне конкретные физические аналоги, а аксиомы евклидовой геометрии содержат некоторые физически ясные утверждения, касающиеся этих понятий. Тем не менее, как подчеркивал Гильберт, абстрактная, чисто логическая схема евклидовой геометрии не требует, чтобы понятия точки, прямой и плоскости были привязаны к какой-то одной, например «физической», интерпретации. Что же касается аксиом, то их формулируют, вкладывая в них как можно меньше, с тем чтобы извлечь из них возможно больше. И хотя аксиомы принято формулировать так, чтобы их физический смысл не вызывал сомнений, тем не менее существует опасность, что сформулированные даже самым тщательным образом аксиомы могут оказаться противоречивыми, т.е. привести к противоречию. Паш, Пеано и Фреге сознавали эту опасность, и в своем докладе на II Международном математическом конгрессе 1900 г. Гильберт также обратил внимание математиков на это обстоятельство.
Слабости абстрактной формулировки понятий, отношений и фактов, заимствованных из физической реальности, можно проиллюстрировать на таком примере, конечно весьма грубо отражающем суть дела. Представим себе, что было совершено какое-то преступление (многие, возможно, согласились бы с тем, что математика — это преступление). Следователь, которому поручено раскрыть преступление, располагает неопределяемыми понятиями: преступник, время совершения преступления и т.д. Все обнаруживаемые в ходе следствия факты следователь скрупулезно записывает. Это его аксиомы. Затем следователь начинает делать логические выводы в надежде, что это позволит ему выдвинуть какие-то версии. Весьма вероятно, что его выводы, хотя они и основаны на правдоподобных предположениях относительно происходивших событий, окажутся противоречивыми, так как исходные предположения либо не соответствуют подлинным событиям, либо недостаточно точно их отражают. В реальной же (физической) ситуации никаких противоречий нет и быть не может. Было совершено преступление, был преступник. Но логические выводы могут привести следователя, скажем, к заключению, что преступник одновременно и низкого роста (около 1,5 м), как следует из анализа следов преступления, и высокого роста (около 1,8 м), как показывает кто-то из свидетелей.
Вряд ли математики сочли бы ключевой проблемой доказательство непротиворечивости нескольких аксиоматических структур, если бы не дальнейшее развитие событий. К началу XX в. математики отчетливо сознавали, что в вопросах непротиворечивости они не могут полагаться на «физическую реализуемость» математики. Ранее, когда евклидова геометрия считалась геометрией реального физического пространства, мысль о том, что непрерывная дедуктивная цепочка теорем может когда-нибудь привести к противоречию, казалась дикой. Но к началу XX в. стало ясно, что евклидова геометрия представляет собой лишь логическую структуру, возведенную на фундаменте из примерно двадцати аксиом, не данных нам богом или природой, а сформулированных человеком. В такой системе вполне могли быть и противоречащие друг другу теоремы. Подобное открытие обесценивало многое из того, что было достигнуто ранее: достаточно было где-нибудь оказаться двум взаимно исключающим теоремам, как их могли использовать для доказательства новых противоречий и полученные в таком случае новые теоремы не имели бы смысла. Гильберт отверг столь страшную возможность, доказав, что евклидова геометрия непротиворечива, если непротиворечива логическая структура арифметики, т.е. система вещественных чисел. Предложенное Гильбертом доказательство в тот период еще не вызывалось насущной необходимостью и потому не привлекло особого внимания математиков (гл. VIII).
Но к всеобщему ужасу в самом начале XX в. противоречия были обнаружены в теории, лежащей в основе наших представлений о числе и далеко простирающейся за пределы арифметики. К 1904 г. выдающийся математик Альфред Принсхейм (1850-1914) имел все основания утверждать, что истина, поиском которой занимается математика, — это не больше и не меньше как непротиворечивость. И когда в работе 1918 г. Гильберт вновь подчеркнул важность проблемы непротиворечивости, у него были теперь для этого гораздо более веские доводы, чем в 1900 г.
Новой теорией, которая привела к противоречиям и открыла многим глаза на противоречия, существовавшие в более старых областях математики, была теория бесконечных множеств. Наведение математической строгости в анализе привело к необходимости учитывать различие между сходящимися (т.е. имеющими конечную сумму) и расходящимися бесконечными рядами. Некоторые из таких рядов, например бесконечные ряды тригонометрических функций, названные рядами Фурье — в честь активно использовавшего их Жозефа Фурье, стали играть важную роль и при попытке строгого обоснования анализа породили немало проблем. К решению этих проблем и приступил Георг Кантор (1845-1918). Логика исследования привела его к рассмотрению теории числовых множеств, в частности к введению мощностей таких бесконечных множеств, как множество всех нечетных чисел, множество всех рациональных чисел (включающее в себя положительные и отрицательные целые числа, а также дроби) и множество всех вещественных чисел.
Кантор порвал с многовековой традицией уже тем, что рассматривал бесконечные множества как единые сущности, притом сущности, доступные человеческому разуму. Начиная с Аристотеля математики проводили различие между актуальной бесконечностью объектов и потенциальной бесконечностью. Чтобы пояснить эти понятия, рассмотрим возраст Вселенной. Если предположить, что Вселенная возникла в какой-то момент времени в далеком прошлом и будет существовать вечно, то ее возраст потенциально бесконечен: в любой момент времени возраст Вселенной конечен, но он продолжает возрастать и в конце концов превзойдет любое число лет. Множество (положительных) целых чисел также потенциально бесконечно: оборвав счет, например, на миллионе, мы всегда можем затем прибавить к нему 1, 2 и т.д. Но если Вселенная существовала в прошлом всегда, то ее возраст в любой момент времени актуально бесконечен. Аналогично множество целых чисел, рассматриваемое в «готовом виде» как существующая совокупность, актуально бесконечно.
Вопрос о том, следует ли считать бесконечные множества актуально или потенциально бесконечными, имеет длинную историю. Аристотель в своей «Физике» ([6], т. 3, с. 59-221) утверждал: «Остается альтернатива, согласно которой бесконечное имеет потенциальное существование… Актуально бесконечное не существует». По мнению Аристотеля, актуальная бесконечность не нужна математике. Греки вообще считали бесконечность недопустимым понятием. Бесконечность — это нечто безграничное и неопределенное. Последующие дискуссии нередко лишь затемняли существо дела, так как математики говорили о бесконечности как о числе, не давая явного определения понятия бесконечности и не указывая свойства этого понятия. Так, Эйлер довольно легкомысленно утверждал в своей «Алгебре» (1770), что 1/0 — бесконечность, хотя и не счел нужным определить, что такое бесконечность, а лишь ввел для нее обозначение ∞. Без тени сомнения Эйлер утверждал также, что 2/0 вдвое больше, чем 1/0. Еще больше недоразумений возникало в тех случаях, когда речь шла об использовании символа ∞ для записи пределов при n, стремящемся к бесконечности (например, для записи того, что предел 1/n при n, стремящемся к ∞, равен 0). В подобных случаях символ ∞ означает лишь, что n неограниченно возрастает и может принимать сколь угодно большие (но конечные!) значения, при которых разность между 0 и 1/n становится сколь угодно малой. Необходимость в обращении к актуальной бесконечности при таких предельных переходах не возникает.
Большинство математиков (Галилей, Лейбниц, Коши, Гаусс и другие) отчетливо понимали различие между потенциально бесконечными и актуально бесконечными множествами и исключали актуально бесконечные множества из рассмотрения. Если им приходилось, например, говорить о множестве всех рациональных чисел, то они отказывались приписывать этому множеству число — его мощность. Декарт утверждал: «Бесконечность распознаваема, но не познаваема». Гаусс писал в 1831 г. Шумахеру: «В математике бесконечную величину никогда нельзя использовать как нечто окончательное; бесконечность — не более чем façon de parle [манера выражаться], означающая предел, к которому стремятся одни величины, когда другие бесконечно убывают».
Таким образом, введя актуально бесконечные множества, Кантор выступил против традиционных представлений о бесконечности, разделяемых великими математиками прошлого. Свою позицию Кантор пытался аргументировать ссылкой на то, что потенциальная бесконечность в действительности зависит от логически предшествующей ей актуальной бесконечности. Кантор указывал также на то, что десятичные разложения иррациональных чисел, например числа √2, представляют собой актуально бесконечные множества, поскольку любой конечный отрезок такого разложения дает лишь конечное приближение к иррациональному числу. Сознавая, сколь резко он расходится во взглядах со своими предшественниками, Кантор с горечью признался в 1883 г.: «Я оказался в своего рода оппозиции к общепринятым взглядам на математическую бесконечность и к нередко отстаиваемым суждениям о природе числа».
В 1873 г. Кантор не только занялся изучением бесконечных множеств как «готовых» (т.е. реально существующих) сущностей, но и поставил задачу классифицировать актуально бесконечные множества ([15]*, [53]). Введенные Кантором определения позволяли сравнивать два актуально бесконечных множества и устанавливать, содержат ли они одинаковое, «число элементов» или нет. Основная идея Кантора сводилась к установлению взаимно-однозначного соответствия между множествами. Так, 5 книгам и 5 шарам можно сопоставить одно и то же число 5 потому, что книги и шары можно разбить на пары, каждая из которых содержит по одной, и только одной книге, и по одному, и только одному, шару. Аналогичное разбиение на пары Кантор применил, устанавливая взаимно-однозначное соответствие между элементами бесконечных множеств. Например, взаимно-однозначное соответствие между положительными целыми числами и четными числами можно установить, объединив те и другие в пары:
1 2 3 4 5 …,
2 4 6 8 10 …
Каждому целому числу при этом соответствует ровно одно четное число (равное удвоенному целому), а каждому четному числу соответствует ровно одно целое число (равное половине четного). Следовательно, в каждом из двух бесконечных множеств — множестве целых чисел и множестве четных чисел — элементов столько же, сколько в другом множестве. Установленное соответствие (то, что все множество целых чисел можно поставить во взаимно-однозначное соответствие с частью этого множества) казалось неразумным предшественникам Кантора{99} и заставляло их отвергать все попытки рассмотрения бесконечных множеств. Но это не испугало Кантора. С присущей ему проницательностью он понял, что бесконечные множества могут подчиняться новым законам, не применимым к конечным совокупностям или множествам, подобно тому как, например, кватернионы подчиняются законам, не применимым к вещественным числам. И Кантор определил бесконечное множество как такое множество, которое можно поставить во взаимно-однозначное соответствие со своим собственным (т.е. отличным от всего множества) подмножеством.
Идея взаимно-однозначного соответствия привела Кантора к неожиданному результату: он показал, что можно установить взаимно-однозначное соответствие между точками прямой и точками плоскости (и даже точками n-мерного пространства). По поводу этого результата он писал в 1877 г. своему другу Рихарду Дедекинду: «Я вижу это, но не могу в это поверить». Тем не менее Кантор поверил в правильность полученного им результата и, следуя принципу взаимно-однозначного соответствия, установил для бесконечных множеств отношение эквивалентности, или равенства («равномощности» двух множеств).
Кантор выяснил также, в каком смысле следует понимать, что одно бесконечное множество больше другого{100}: если множество A можно поставить во взаимно-однозначное соответствие с частью или собственным подмножеством множества B, а множество B невозможно поставить во взаимно-однозначное соответствие с множеством A или собственным подмножеством множества A, то множество B по определению больше множества A. Это определение по существу обобщает на бесконечные множества то, что непосредственно очевидно в случае конечных множеств. Если у нас имеется 5 шаров и 7 книг, то между шарами и частью книг можно установить взаимно-однозначное соответствие, но невозможно установить взаимно-однозначное соответствие между всеми книгами и всеми шарами или частью шаров. Используя свои определения равенства и неравенства бесконечных множеств, Кантор сумел получить поистине удивительный результат: множество целых чисел равно («равномощно») множеству рациональных чисел (всех положительных и отрицательных целых чисел и дробей), но меньше множества всех вещественных (рациональных и иррациональных) чисел.
Подобно тому как количество элементов в конечных множествах мы обозначаем числами 5, 7, 10 и т.д., Кантор предложил ввести специальные символы n для обозначения количеств элементов в бесконечных множествах. Множество целых (или натуральных) чисел и множества, которые можно поставить во взаимно-однозначное соответствие с этим множеством, содержат одинаковое количество (или «число») элементов, которое Кантор обозначил символом N0 (алеф-нуль; алеф — первая буква алфавита на иврите). Так как, по доказанному, множество всех вещественных чисел больше множества целых чисел, Кантор обозначил количество элементов в множестве всех вещественных чисел новым символом — c.
Кантору удалось доказать, что для любого заданного множества всегда найдется множество, большее исходного. Так, множество всех подмножеств данного множества всегда больше первого множества. Не вдаваясь в подробности доказательства этой теоремы, продемонстрируем разумность этого результата на примере конечных множеств. Если множество состоит из 4 элементов, то из них можно составить 4 различных подмножества, содержащих по 1 элементу; 6 различных подмножеств, содержащих по 2 элемента; 4 различных подмножества, содержащих 3 элемента; наконец, 1 множество, содержащее 4 элемента. Если добавить сюда еще пустое множество, совсем не содержащее элементов, то общее число подмножеств окажется равным 16 = 24, что, разумеется, больше 4. В соответствии с результатом, имеющим место для конечных множеств, Кантор обозначил количество подмножеств (бесконечного!) множества, содержащего α элементов (где α — трансфинитное число), через 2α; его результат гласил: 2α > α. Рассматривая все возможные подмножества множества целых чисел, Кантор сумел показать, что 2N0 = c, где c — «число» всех вещественных чисел.
Когда Кантор в 70-х годах XIX в. приступил к созданию теории бесконечных множеств и еще много лет спустя, эта теория находилась на периферии математической науки. Доказанные им теоремы о тригонометрических рядах не были столь уж фундаментальными. Но к началу XX в. канторовская теория множеств нашла широкое применение во многих областях математики. Кантор и Рихард Дедекинд понимали, сколь важна теория множеств для обоснования теории целых чисел (конечных, или «финитных», и трансфинитных) для анализа понятий линии или размерности и даже для оснований математики. Другие математики, в частности Эмиль Борель и Анри Леон Лебег, к тому времени уже работали над обобщением интеграла, в основу которого была положена канторовская теория бесконечных множеств.
Поэтому, когда сам Кантор обнаружил, что его теория множеств сопряжена с определенными трудностями, это было далеко не маловажным событием. Как уже говорилось, Кантор установил, что существуют все большие бесконечные множества, т.е. все большие трансфинитные числа. Но в 1895 г. у Кантора возникла идея рассмотреть множество всех множеств. Мощность такого «сверхмножества» должна была бы быть самой большой из возможных. Но еще ранее Кантор доказал, что множество всех подмножеств любого заданного множества должно обладать трансфинитным числом, которое превосходит трансфинитное число, отвечающее исходному множеству. Следовательно, заключил Кантор, должно существовать трансфинитное число, превосходящее наибольшее из трансфинитных чисел. Придя к столь нелепому выводу, Кантор сначала растерялся; однако затем он решил, что все множества можно разбить на противоречивые и непротиворечивые, и в 1899 г. сообщил об этом Дедекинду. Таким образом, множество всех множеств и соответствующее ему трансфинитное число попадали в разряд «противоречивых» — и тем самым исключались из рассмотрения.
Когда Бертран Рассел (1872-1970) впервые узнал о выводе, к которому пришел Кантор по поводу множества всех множеств, он усомнился в правильности рассуждений Кантора. В 1901 г. Рассел писал в своей работе, что Кантор, должно быть, «совершил очень тонкую логическую ошибку, которую я [Рассел] надеюсь объяснить в одной из следующих работ». Ясно, продолжал Рассел, что наибольшее трансфинитное число должно существовать, так как если взято все, то не останется ничего и, следовательно, ничего нельзя добавить. Рассел принялся размышлять над этой проблемой — и лишь пополнил арсенал проблем своим собственным «парадоксом», с которым мы вскоре познакомимся. Когда шестнадцать лет спустя статья Рассела была перепечатана в сборнике «Мистицизм и логика», он счел нужным добавить к ней подстрочное примечание, в котором извинился за допущенную ранее ошибку, ибо объяснить парадокс Кантора ему так и не удалось.
Помимо уже описанных количественных трансфинитных чисел, названных кардинальными, Кантор ввел также порядковые трансфинитные (ординальные) числа. Различие между ними достаточно тонко. Если мы рассматриваем, например, множество монет одинакового достоинства, то обычно имеет значение лишь количество монет, но никак не порядок, в котором они расположены. Но если требуется упорядочить студентов по успеваемости, то всегда найдется первый, второй, третий студент и т.д. Если в группе десять студентов, то занимаемые ими места в таком перечне образуют множество от первого до десятого. Это и есть множество ординальных чисел. Хотя в некоторых ранее существовавших цивилизациях и проводилось различие между кардинальными и ординальными числами, количество элементов в упорядоченном множестве из десяти элементов обычно обозначалось тем же символом, что и количество элементов в неупорядоченном множестве из десяти элементов. Так же поступали и в дальнейшем; подобным образом действуем и мы. Действительно, установив, кто занял десятое место, мы тем самым находим, что число людей, которых мы предварительно расставили по ранжиру, или упорядочили, равно десяти, и обозначаем количество элементов как в упорядоченном, так и в неупорядоченном множестве из десяти людей одним и тем же символом 10. В случае бесконечных множеств различие между кардинальными и ординальными числами более существенно, и поэтому для обозначения их применяют различные символы. Так, Кантор обозначал ординальное число, соответствующее упорядоченному множеству целых чисел 1, 2, 3, …, буквой ω. Упорядоченному множеству 1, 2, 3, …, 1, 2, 3 (или, если угодно, 4, 5, 6, …, 1, 2, 3) в обозначениях Кантора (сохранившихся и поныне) соответствовал символ ω + 3. Кантор ввел иерархию трансфинитных ординальных чисел. Эта иерархия простиралась до ω∙ω, ωn, ωω и далее (ср. [53]).
Разработав теорию трансфинитных ординальных чисел, Кантор в 1895 г. понял, что с этими числами также связана определенная трудность, о чем и сообщил Гильберту в том же году. Первым, кто указал на эту трудность в опубликованной (1897) работе, был Чезаре Бурали-Форти (1861-1931). Кантор считал, что множество ординальных чисел можно упорядочить подходящим образом по аналогии с тем, как упорядочены по величине хорошо знакомые всем вещественные числа. Но одна из теорем о трансфинитных ординальных числах утверждает, что ординальное число множества всех ординальных чисел от 1 и вплоть до любого ординального числа α (включая и само число α) больше α. Например, ординальное число множества ординальных чисел 1, 2, 3, …, ω равно ω + 1. А это в свою очередь означает, что множество всех ординальных чисел должно иметь ординальное число, превышающее самое большое число этого множества. Действительно, заметил Бурали-Форти, даже и к самому большому ординальному числу мы всегда можем прибавить единицу и получить еще большее ординальное число. Возникает противоречие, так как рассматриваемое множество, по предположению, содержит все ординальные числа. Из этого Бурали-Форти заключил, что ординальные числа допускают только частичное упорядочение.
Столкнувшись всего лишь с этими двумя проблемами, большинство математиков, несомненно, могли бы и дальше пребывать в том состоянии безмятежности, которое они обрели в результате пересмотра оснований математики в XIX в. Над вопросом о том, существует ли наибольшее кардинальное и ординальное числа, они предпочитали не задумываться. Ведь не существует же наибольшего целого числа — и никого это никогда не беспокоило!
Тем не менее канторовская теория бесконечных множеств вызвала бурю протестов. Несмотря на то что эта теория нашла, как уже говорилось, применение во многих областях математики, некоторые ученые по-прежнему отказывались принимать актуально бесконечные множества и все, что с ними связано. Леопольд Кронекер, испытывавший к тому же личную антипатию к Кантору, называл того шарлатаном. Анри Пуанкаре называл теорию множеств тяжелой болезнью и считал ее своего рода математической патологией. «Грядущие поколения, — заявил он в 1908 г., — будут рассматривать теорию множеств как болезнь, от которой они излечились». Даже в 20-х годах XX в. многие математики стремились избегать использования трансфинитных чисел (гл. X). Кантор выступил в защиту своей теории. Он утверждал, что разделяет философию Платона и верит, что в окружающем нас мире идеи существуют независимо от человека. И чтобы осознать реальность этих идей, необходимо лишь задуматься над ними. Парируя критические замечания философов, Кантор приводил метафизические и даже богословские доводы.{101}
К счастью, у теории Кантора были не только противники, но и сторонники. Рассел назвал Кантора одним из великих мыслителей XIX в. В 1910 г. Рассел писал: «Решение проблем, издавна окутывавших тайной математическую бесконечность, является, вероятно, величайшим достижением, которым должен гордиться наш век». Расселу вторил Гильберт: «Никто не изгонит нас из рая, созданного Кантором». В 1926 г. Гильберт так отозвался о трудах Кантора: «Мне представляется, что это самый восхитительный цветок математической мысли и одно из величайших достижений человеческой деятельности в сфере чистого мышления».
Причину споров, которые породила теория множеств, очень тонко и точно охарактеризовал Феликс Хаусдорф в «Основаниях теории множеств» (1914).{102} Теорию множеств он метко назвал «областью, где ничто не является очевидным, где истинные утверждения нередко звучат парадоксально, а правдоподобные зачастую оказываются ложными».
Большинство математиков были обеспокоены вытекавшими из теории Кантора следствиями по совершенно иной причине, нежели приемлемость или неприемлемость бесконечных множеств различной мощности. Противоречия, вскрытые Кантором при попытке сопоставить (трансфинитное) число множеству всех множеств и множеству всех ординальных чисел, заставили математиков осознать, что они используют аналогичные понятия не только в новых, но и в, казалось бы, хорошо обоснованных традиционных областях математики. Обнаруженные противоречия математики предпочитали называть парадоксами, так как парадокс может быть объяснен, а математиков не покидала надежда, что все встретившиеся трудности им в конце концов удастся разрешить. (В наше время то, что раньше называли парадоксами, чаще называют «антиномии».)
Приведем некоторые из парадоксов. Нематематическим примером парадоксов теории множеств может служить высказывание «Из всех правил имеются исключения». Само это высказывание является правилом. Следовательно, для него можно найти по крайней мере одно исключение. Но это означает, что существует правило, не имеющее ни одного исключения. Такого рода высказывания содержат ссылку на самих себя и отрицают самих себя.
Наибольшей известностью из нематематических парадоксов пользуется так называемый парадокс лжеца. Его разбирали Аристотель и многие другие логики, жившие позднее. В классическом варианте парадокса лжеца речь идет о высказывании «Это утверждение ложно». Обозначим предложение, стоящее в кавычках, через S. Если S истинно, то истинно то, что оно утверждает. Следовательно, S ложно. Если S ложно, то ложно то, что оно утверждает. Следовательно, S истинно.
Парадокс лжеца существует во многих вариантах. Например, комментируя какое-то свое высказывание, человек может заметить: «Все, что я говорю, — ложь». Является ли высказывание «Все, что я говорю, — ложь» истинным или ложным? Если человек действительно лжет, то, утверждая, что он лжет, он говорит правду, а если человек говорит правду, то, утверждая, что он лжет, он действительно лжет. В некоторых вариантах парадокса лжеца ссылка на себя менее очевидна. Так, два высказывания: «Следующее за этим утверждение ложно», «предыдущее утверждение истинно» — содержат противоречие, так как если второе утверждение истинно, то тогда заведомо ложно первое утверждение, сообщающее нам о том, что второе утверждение ложно. Если же второе утверждение, как и говорится в первом утверждении, ложно, то значит, первое утверждение ложно и, следовательно, второе утверждение должно быть истинным.
Курту Гёделю (1906-1978), величайшему логику XX в., принадлежит несколько иной вариант парадокса с противоречивыми высказываниями, 4 мая 1934 г. A произносит единственную фразу: «Любое высказывание, которое A сделает 4 мая 1934 г., ложно». Это высказывание не может быть истинным, так как утверждает о самом себе, что оно ложно. Но оно не может быть и ложным, так как, для того чтобы оно было ложным, A должен был бы высказать 4 мая 1934 г. хоть одну истину, — а A сказал в этот день лишь одну фразу.
Первые математические противоречия, чреватые серьезными неприятностями, обнаружил Бертран Рассел и сообщил о них Готлобу Фреге в 1902 г. Фреге в то время занимался подготовкой к печати второго тома «Основных законов арифметики», в котором изложил новый подход к обоснованию числовой системы. (Подробнее о развитом Фреге подходе мы расскажем в следующей главе.) Свой подход Фреге в значительной мере основывал на теории множеств, или классов, — той самой теории, где Рассел обнаружил противоречие, о котором сообщил в письме Фреге и поведал математическому миру в книге «Принципы математики» (1903). Рассел занимался изучением парадокса Кантора о множестве всех множеств — и предложил свой вариант этого парадокса.
Парадокс Рассела относится к классам. Класс книг не является книгой и поэтому не содержит самого себя, но класс идей есть идея и содержит сам себя. Каталог каталогов — каталог. Следовательно, одни классы содержат (или включают) самих себя, другие не содержат. Пусть N — класс классов, не содержащих самих себя. К какой разновидности классов принадлежит N? Если N принадлежит N, то, по определению, N не должен принадлежать N. Если же N не принадлежит N, то по определению N должен принадлежать N. Когда Рассел впервые открыл это противоречие, он решил, что трудность здесь кроется в логике, а не в самой математике. Но обнаруженное противоречие ставит под удар само понятие множества, или класса объектов, широко используемое во всей математике. По словам Гильберта, парадокс Рассела был воспринят математическим миром как катастрофа.
В 1918 г. Рассел предложил популярный вариант своей антиномии, получивший название парадокс брадобрея. Один деревенский брадобрей объявил, что он бреет всех жителей деревни, которые не бреются сами, но, разумеется, не бреет тех жителей, которые бреются сами. Брадобрей похвалялся, что в парикмахерском деле ему нет равных, но однажды задумался над вопросом, должен ли он брить самого себя. Если он не бреется сам, то первая половина его утверждения (а именно та, в которой говорится, что брадобрей бреет всех, кто не бреется сам) требует, чтобы он самого себя брил. Но если брадобрей бреется сам, то вторая половина его утверждения (та, в которой говорится, что всех тех, кто бреется сам, он не бреет), требует, чтобы он самого себя не брил. Таким образом, брадобрей оказался в безвыходном положении — он не мог ни брить себя, ни не брить.
Другой парадокс, дающий представление о тех трудностях, с которыми столкнулись математики, был впервые сформулирован в 1908 г. математиками Куртом Греллингом (1886-1941) и Леонардом Нельсоном (1882-1927). Этот парадокс относится к прилагательным, описывающим самих себя и не описывающим самих себя. Такие прилагательные, как, например, «короткий» (-ая, -ое, -ие) или «русский» (-ая, -ое, -ие) описывают самих себя, т.е. применимы к себе, в то время как прилагательные «длинный» или «французский» к себе неприменимы (ведь прилагательное «длинный» вовсе не является длинным, а прилагательное «французский», конечно, русское, а не французское). Аналогично прилагательное «многосложное» является многосложным, но прилагательное «односложное» односложным не является. Назовем прилагательные, применимые к самим себе, автологическими, а прилагательные, неприменимые к самим себе, — гетерологическими. Если прилагательное «гетерологический» гетерологично, то оно применимо к самому себе и, следовательно, автологично. Если прилагательное «гетерологический» автологично, то оно не гетерологично. Но автологичное прилагательное по определению применимо к самому себе. Следовательно, прилагательное «гетерологический» гетерологично. Таким образом, какое бы допущение мы ни приняли, оно неизменно приводит к противоречию. В символической записи парадокс Греллинга — Нельсона гласит: x гетерологичен, если x есть «не x».
В 1905 г. Жюль Ришар (1862-1956), используя тот же метод, которым Кантор доказал, что вещественных чисел больше, чем целых, изобрел еще один «парадокс». Рассуждения Ришара довольно сложны, но противоречие, к которому он приходит, в упрощенном варианте содержится в парадоксе, о котором Дж.Дж. Берри из Бодлеанской библиотеки сообщил Бертрану Расселу (Рассел опубликовал этот парадокс в 1906 г.). Парадокс Берри получил название парадокса слов. Каждое целое число допускает множество различных словесных описаний. Например, число «пять» можно задать одним словом «пять» или фразой «число, следующее за числом четыре». Рассмотрим теперь все возможные описания, состоящие не более чем из 100 букв русского алфавита. Таких описаний не больше чем 33100; поэтому существует лишь конечное множество целых чисел (не большее чем 33100), задаваемых всеми возможными описаниями.{103} Следовательно, существуют какие-то целые числа, не задаваемые описаниями, состоящими не более чем из 100 букв. Рассмотрим «наименьшее число, не задаваемое описанием, которое содержит не более ста букв». Но мы только что привели описание такого числа, содержащее менее 100 букв (оно содержит всего 65 букв).
Многие математики в начале XX в. попросту отмахивались от парадоксов, не придавая им особого значения, так как парадоксы относились к теории множеств — тогда еще новой области математики, лежащей далеко не в центре интересов математического мира. Но их оставшиеся в меньшинстве более проницательные коллеги понимали, что парадоксы затрагивают не только классическую математику, но и логику, и это их серьезно тревожило. Кое-кто пытался следовать совету, который Уильям Джеймс дал в своем «Прагматизме»: «Если вам встретится противоречие, введите более тонкое различие». Некоторые логики, начиная с Френка Пламптона Рамсея (1903-1930), пытались проводить различие между семантическими и истинными (т.е. логическими) противоречиями. «Парадокс слов», «гетерологический парадокс» и «парадокс лжеца» они относили к семантическим парадоксам, так как все эти парадоксы затрагивали такие понятия, как истинность и определяемость (или неоднозначность) того или иного словоупотребления. Предполагалось, что строгое определение таких понятий позволит разрешить семантические парадоксы. С другой стороны, парадокс Рассела, парадокс Кантора о множестве всех множеств и парадокс Бурали-Форти были отнесены к логическим противоречиям. Сам Рассел не проводил различия между семантическими и логическими противоречиями. По его мнению, все парадоксы возникают из-за одной логической ошибки, которую он назвал принципом порочного круга и описал следующим образом: «То, что содержит все множество, не должно быть элементом множества». Принцип Рассела можно сформулировать иначе: «Если для того, чтобы определить множество, необходимо использовать все множество, то определение не имеет смысла». Так в 1905 г. Рассел объяснил принцип порочного круга. В 1906 г. его объяснение принял Пуанкаре, предложивший специальный термин «непредикативное определение» (определение, в котором некий объект задается (или описывается) через класс объектов, содержащий определяемый объект). Такие определения незаконны.
Рассмотрим пример, приведенный Расселом в «Основаниях математики» (Principia Mathematica [95]*, гл. X). Закон исключенного третьего утверждает, что каждое высказывание является либо истинным, либо ложным. Но закон исключенного третьего сам также является высказыванием. Следовательно, вопреки нашим намерениям сформулировать всегда истинный закон логики мы получили высказывание, которое, как и любое другое высказывание, может быть истинным, но может быть и ложным. «Такая формулировка логического закона, — заявил Рассел, — лишена смысла».
Приведем еще несколько примеров. Может ли всемогущее существо создать неразрушимый предмет? Разумеется, может — на то оно и всемогущее. Но коль скоро оно всемогущее, то ему ничего не стоит разрушить что угодно, в том числе и неразрушимый предмет. В этом примере слово «всемогущее» принимает значение из недопустимого множества. Такого рода парадоксы, как отметил логик Альфред Тарский, будучи семантическими, бросают вызов языку в целом.
Предпринимались и другие попытки разрешить названные парадоксы. Противоречие, заключенное в высказывании «Из всех правил имеются исключения», отвергалось некоторыми как лишенное смысла. Существуют предложения, поясняли они, построенные по всем правилам грамматики и тем не менее лишенные смысла, т.е. ложные, как, например, фраза «Это предложение состоит из пяти слов». Аналогично первоначальный вариант парадокса Рассела (предложенный самим Расселом) отвергался на том основании, что класс всех классов, не содержащих самих себя, не имеет смысла или не существует. Парадокс брадобрея «решался» либо ссылкой на то, что такого брадобрея не существует, либо требованием, согласно которому брадобрей должен исключить себя как из класса тех, кого он бреет, так и из класса тех, кого он не бреет (утверждение «Учитель обучает всех, кто ходит к нему на занятия», поясняли сторонники такого решения парадокса брадобрея, не распространяется на самого учителя). Рассел отверг подобное объяснение. В работе 1908 г. он так выразил свое мнение по этому поводу: «Всякий волен в беседе с человеком, у которого длинный нос, заметить: "Говоря о носах, я отнюдь не имею в виду слишком длинные носы". Вряд ли, однако, такое замечание можно считать успешной попыткой обойти больной вопрос».
Слово «все» действительно многозначно. По мнению некоторых логиков и математиков, несколько семантических парадоксов обязаны своим происхождением употреблению слова «все». Так, в парадоксе Бурали-Форти речь идет о классе всех ординальных чисел. Включает ли этот класс ординальное число, соответствующее всему классу? Аналогичным образом гетерологический парадокс определяет некий класс слов. Включает ли этот класс само слово «гетерологический»?
Возражение Рассела — Пуанкаре против непредикативных определений стало общепринятым. К сожалению, такие определения использовались в классической математике. Наибольшие треволнения вызвало понятие наименьшей верхней границы. Рассмотрим множество всех чисел x, заключенных между 3 и 5, но не достигающих этих границ: 3 < x < 5. Верхними границами, т.е. числами, превосходящими все принадлежащие множеству числа, являются числа 5, 51/2, 6, 7, 8 и т.д. Среди них существует наименьшая верхняя граница — число 5. Следовательно, наименьшая верхняя граница определена через класс верхних границ, содержащий ту самую границу, которая подлежит определению. Другой пример непредикативного определения — определение максимального значения (максимума) функции на заданном интервале. Максимальное значение — наибольшее из значений, принимаемых функцией на заданном интервале. Наименьшая верхняя граница, как и максимум функции, — фундаментальные понятия математики, и в математическом анализе избавиться от них нелегко. Кроме того, немало непредикативных определений используется и в других случаях.
Хотя непредикативные определения, встречающиеся в парадоксах, действительно приводят к противоречиям, чувство неудовлетворенности не оставляло математиков, так как, насколько они могли видеть, далеко не все непредикативные определения приводили к противоречиям. Такие высказывания, как «Джон — самый высокий игрок в своей команде» или «Это предложение — короткое», заведомо безобидны в этом отношении, хотя они и непредикативны. То же можно сказать и о предложении «Самое большое число в множестве чисел 1, 2, 3, 4, 5 равно 5». Непредикативные предложения используются буквально на каждом шагу. Так, задав класс всех классов, содержащих более пяти элементов, мы тем самым задаем класс, содержащий самого себя. Множество S всех множеств, определяемых не более чем 25 словами, также содержит S. Безусловно, обилие в математике непредикативных определений не могло не тревожить ученых.
К сожалению, мы не располагаем критерием, который позволил бы распознавать, приводит ли данное непредикативное определение к противоречию или не приводит. Следовательно, всегда существует опасность, что вновь обнаруженные непредикативные определения приведут к противоречиям. Эта проблема стояла очень остро с самого начала, когда Эрнст Цермело и Анри Пуанкаре впервые взялись за нее. Пуанкаре предложил наложить запрет на непредикативные определения. Один из выдающихся математиков первой половины XX в. Герман Вейль, сознавая, что некоторые непредикативные определения приводят к противоречиям, приложил немало усилий, пытаясь переформулировать определение наименьшей верхней границы таким образом, чтобы это позволило избежать непредикативности. Усилия Вейля не увенчались успехом. Обеспокоенный постигшей его неудачей, Вейль пришел к выводу, что математический анализ логически не обоснован и что некоторыми его разделами необходимо пожертвовать. Наложенный Расселом запрет («Мы не можем при определении множеств исходить из произвольных условий, а затем разрешать всем построенным множествам без разбора быть элементами других множеств») заведомо не давал ответа на вопрос, какие из непредикативных определений можно считать допустимыми.
Хотя первопричина возникших противоречий казалась вполне очевидной, проблема построения математики, свободной от противоречий, оставалась открытой. Более того, у математиков отнюдь не было уверенности в том, что в будущем не появятся новые противоречия. Все это позволяет понять, почему в начале XX в. проблема непротиворечивости стала весьма острой. Математики рассматривали эти противоречия как парадоксы теории множеств. Но именно теория множеств открыла математикам глаза на то, что противоречия возможны и в классических разделах математики.
На фоне непрекращающихся попыток подвести прочный фундамент под здание математики доказательство непротиворечивости перерастало в острейшую проблему. Но в начале XX в. математики поняли, что с точки зрения обоснования уже полученных результатов существуют и другие проблемы, не уступающие по своей значимости проблемам непротиворечивости. Критический дух математиков окреп и закалился в конце XIX в., и, вступив в двадцатое столетие, они подвергли безжалостному пересмотру все, что легко принимали на веру их предшественники. Им удалось обнаружить совершенно невинное на первый взгляд утверждение, которое ранее кочевало из доказательства в доказательство, не привлекая внимания. Утверждение это состояло в следующем: если имеется любой набор (конечный или бесконечный) множеств, то всегда можно, выбрав из каждого множества по одному элементу, составить из этих элементов новое множество. Так, от каждого штата из пятидесяти штатов США можно выбрать по одному жителю и составить из них группу из 50 человек.
То, что это утверждение в действительности составляет специальную аксиому — так называемую аксиому выбора, математики осознали из работы Эрнста Цермело (1871-1953), опубликованной в 1904 г. В этой связи весьма уместно обратиться к истории вопроса [56]. Когда Кантор задумал расположить трансфинитные числа по величине, ему понадобилась теорема о том, что любое множество вещественных чисел может быть вполне упорядочено. Всякое вполне упорядоченное множество прежде всего линейно упорядочено. Это означает, что если a и b — любые два (разные!) элемента множества, то, как и в множестве вещественных чисел или точек прямой, либо a предшествует b, либо b предшествует a. Кроме того, если a предшествует b и b предшествует c, то a предшествует c. Множество вполне упорядочено, если в любом его подмножестве, каким бы способом оно ни было выбрано, всегда существует первый элемент. Например, множество положительных целых чисел, расположенных в обычной последовательности, вполне упорядочено. Множество вещественных чисел, расположенных в обычной последовательности, линейно упорядочено, а не вполне упорядочено, так как в подмножестве, состоящем из всех чисел, которые больше нуля, нет первого элемента. В 1883 г. Кантор высказал предположение, что каждое множество можно вполне упорядочить, и этой гипотезой он пользовался, так и не сумев ее доказать. Напомним, что в своем докладе на II Международном математическом конгрессе 1900 г. Гильберт назвал среди прочих проблему доказательства полной упорядочиваемости множества вещественных чисел. В 1904 г. Цермело доказал, что каждое множество может быть вполне упорядочено (см., например, [54]), и в ходе доказательства особо отметил, что он использует аксиому выбора.
Как уже неоднократно случалось в прошлом, математики использовали аксиому выбора бессознательно и лишь гораздо позднее не только поняли, что применяют эту аксиому, но и докопались до причин, побудивших их ее принять. Кантор неявно использовал аксиому выбора в 1887 г. для доказательства теоремы о том, что любое бесконечное множество содержит подмножество с кардинальным числом N0. Кроме того, аксиома выбора неявно использовалась при доказательствах многих теорем топологии, теории меры, алгебры и функционального анализа. Например, аксиома выбора находит применение при доказательстве теоремы о том, что в любом ограниченном множестве чисел всегда можно выбрать последовательность, сходящуюся к предельной точке множества. Аксиома выбора используется также для доказательства фундаментальных утверждений, например при построении вещественных чисел из аксиом Пеано для целых чисел. Аксиома выбора применяется и при доказательстве теоремы о конечности множества всех подмножеств конечного множества. В 1923 г. Гильберт назвал аксиому выбора общим принципом, который необходим и неоценим как один из первых элементов теории математического вывода. Пеано первым обратил внимание на аксиому выбора. Еще в 1890 г. он писал, что нельзя бесконечно применять произвольное правило, позволяющее отбирать по одному элементу из каждого множества, сколько бы их ни было. Пеано сформулировал правило выбора для частного случая, т.е. для той задачи (интегрируемости дифференциальных уравнений), рассмотрением которой он занимался, и тем самым устранил возникшую трудность. То, что аксиома выбора действительно является аксиомой, понял в 1902 г. Беппо Леви, а Цермело узнал об этом от Эрхардта Шмидта в 1904 г.
Явное использование Цермело аксиомы выбора вызвало бурю протестов в следующем же номере (за 1904 г.) авторитетного журнала Mathematische Annalen. С критикой аксиомы выбора выступили Эмиль Борель (1871-1956) и Феликс Бернштейн (1878-1956). Вслед за их критическими выступлениями последовал обмен письмами между ведущими математиками того времени Эмилем Борелем, Рене Бэром (1874-1932), Анри Лебегом (1875-1941) и Жаком Адамаром (1865-1963); эти письма были опубликованы на страницах журнала Bulletin de la Société Mathématique de France за 1905 г.
Суть критики сводилась к тому, что если не указано правило, по которому из каждого множества выбирается по элементу, то реально выбор не производится и поэтому в действительности новое множество не образуется. В ходе доказательства выбор может изменяться, поэтому доказательство утрачивает силу. По выражению Бореля, выбор без правил представляет собой акт веры; поэтому аксиома выбора лежит за пределами математики. Поясним сказанное на примере, предложенном в 1905 г. Бертраном Расселом. Предположим, что у меня есть сто пар обуви и я из каждой пары выбираю левый ботинок. Правило, которым я руководствуюсь при выборе в этом случае, ни у кого не вызовет сомнений. Но предположим, что у меня имеется сто пар носков и из каждой пары я выбираю по одному носку. В этом случае невозможно указать, какой носок (правый или левый) был выбран из каждой пары, т.е. нельзя сформулировать правило, по которому был произведен выбор. Те, кто отстаивал аксиому выбора, признавали, что правила выбора может и не быть, но не считали его необходимым. По их мнению, акты выбора определены просто тем, что их считают определенными.
Против аксиомы выбора выдвигались и другие возражения. Так, Пуанкаре принимал аксиому выбора, но отвергал предложенное Цермело доказательство полной упорядоченности, поскольку в этом доказательстве используются непредикативные утверждения. Бэр и Борель возражали не только против аксиомы, но и против доказательства, так как из него не видно, как осуществляется полное упорядочение, — доказывается лишь, что оно осуществимо. Брауэр, со взглядами которого на основания математики мы познакомимся в дальнейшем (гл. X), возражал потому, что считал неприемлемыми актуально бесконечные множества. Возражение Рассела сводилось к тому, что множество естественно определять свойством, которым обладают все элементы этого множества, и только они. Так, например, множество людей, носящих зеленую шляпу, можно было бы определить свойством «носящие зеленую шляпу». Но аксиома выбора не требует, чтобы выбранные элементы обладали каким-нибудь определенным свойством. Она лишь утверждает, что каждый элемент выбран из одного из заданных множеств — по одному элементу на каждое множество. Сам Цермело довольствовался интуитивным понятием множества, и поэтому у него не вызывало сомнений, что при любом выборе из каждого множества по одному элементу образуется новое множество.
Единственным стойким защитником Цермело был Адамар. Он утверждал, что аксиома выбора приемлема по тем же причинам, какие он приводил, отстаивая теорию множеств Кантора. По мнению Адамара, для того чтобы утверждать существование объектов, отнюдь не требуется их описывать. Если одного утверждения о том, что объект существует, достаточно для прогресса математики, то это утверждение приемлемо.
В ответ на критические замечания Цермело дал второе доказательство полного упорядочения, также основанное на использовании аксиомы выбора (в действительности Цермело показал, что оба доказательства эквивалентны). Цермело отстаивал использование аксиомы выбора и утверждал, что до тех пор, пока эта аксиома не приводит к противоречию, ее использование в математике вполне допустимо. По словам Цермело, аксиома выбора «имеет исключительно объективный характер, который сразу же ясен». Он признал, что аксиома выбора не вполне самоочевидна, так как в ней говорится о выборе из бесконечно многих множеств, но она научно необходима, поскольку используется для доказательства важных теорем.
Было предложено много эквивалентных вариантов аксиомы выбора. Если аксиому выбора принять наряду с другими аксиомами теории множеств, то эти варианты представляют собой теоремы. Но все попытки заменить аксиому выбора менее спорной аксиомой оказались безуспешными. Маловероятно, что удастся найти удачную замену аксиомы выбора, приемлемую для всех математиков.
Споры вокруг аксиомы выбора по существу сводились к одной главной проблеме: как следует понимать существование в математике? Одни математики склонны считать «существующим» любое понятие, оказавшееся полезным, если оно не приводит к противоречиям, например обычную замкнутую поверхность, площадь которой бесконечна. Для других математиков «существование» означает четко распознаваемое определение или такое понятие, которое позволяет отождествить или по крайней мере описать его. Одной лишь возможности выбора недостаточно. В дальнейшем эти взаимоисключающие точки зрения стали еще более непримиримыми — мы поговорим о них в следующих главах. Пока же заметим только, что аксиома выбора стала яблоком раздора между математиками.
И тем не менее десятилетия спустя, когда математика значительно расширила свои границы, многие ученые продолжали использовать аксиому выбора. Не утихали и споры по поводу того, можно ли считать аксиому выбора и доказываемые с ее помощью теоремы законной, вполне приемлемой математикой.{104} Аксиома выбора стала предметом активного обсуждения и уступала в этом отношении лишь аксиоме Евклида о параллельных. По замечанию Лебега, оппонентам не оставалось ничего другого, как поносить друг друга, ибо прийти к соглашению они не могли. Сам Лебег, несмотря на отрицательное и скептическое отношение к аксиоме выбора, все же пользовался ею, по его собственному выражению, «дерзко и осторожно», полагая, что будущее покажет, кто прав.
Но в первые же годы XX в. математиков стала беспокоить еще одна проблема. Сначала она не представлялась достаточно фундаментальной, но по мере распространения канторовской теории трансфинитных кардинальных и ординальных чисел становилась все более острой и настоятельно требовала своего решения.
В своих последних работах Кантор построил теорию трансфинитных кардинальных чисел на основе теории ординальных чисел. Например, кардинальное число множества всех возможных конечных множеств (точнее, множество всех конечных ординальных чисел) равно N0. Кардинальное число всех возможных множеств ординальных чисел, содержащих лишь считанное число (N0) элементов, равно N1. Продолжая эту последовательность, Кантор получал все большие кардинальные числа, которые обозначил N0, N1, N2, …. Кроме того, каждое очередное кардинальное число непосредственно следовало за предыдущим (было ближайшим к предыдущему кардинальным числом). Но в самом начале своих работ по трансфинитным числам Кантор показал, что множество всех вещественных чисел насчитывает 2N0 членов (эту величину принято кратко обозначать c) и что 2N0 больше, чем N0. Вопрос, который тогда же поставил Кантор, заключался в следующем: с каким членом последовательности алефов совпадает c? Так как кардинальное число N1 следует непосредственно за N0, кардинальное число c больше или равно N1. Кантор высказал предположение, что c = N1. Это предположение, впервые сформулированное в 1884 г. и опубликованное в том же году, получило название гипотезы континуума.{105} Эта гипотеза допускает также другую, несколько более простую формулировку: не существует трансфинитного числа, заключенного между N0 и c (кардинальное число любого бесконечного подмножества множества вещественных чисел либо равно N0, либо равно с).{106} В первые десятилетия XX в. вокруг гипотезы континуума развернулась бурная дискуссия, но проблема так и не была решена. Помимо того что гипотеза континуума дала возможность доказать новые теоремы, она приобрела особое значение, так как позволила глубже понять бесконечные множества, взаимно-однозначное соответствие и аксиому выбора и тем самым способствовала лучшему обоснованию теории множеств.
Итак, в начале XX в. перед математиками встало несколько трудных проблем. Требовалось устранить уже обнаруженные противоречия. Но еще более важным представлялось доказать непротиворечивость всей математики, ибо без этого нельзя было гарантировать, что в будущем не возникнут новые противоречия. Все эти проблемы имели решающее значение для судеб математики. Многие ученые продолжали считать неприемлемой аксиому выбора и ставили под сомнение доказанные на ее основе теоремы. «Нельзя ли доказать те же теоремы, исходя из более приемлемой аксиомы, и полностью отказаться от аксиомы выбора?» — этот вопрос беспокоил умы. Необходимо было также доказать или опровергнуть гипотезу континуума, важность которой по мере развития математики становилась все более очевидной.
Проблемы, с которыми столкнулись математики в начале XX в., были весьма серьезными, однако при других обстоятельствах они вряд ли вызвали бы столь сильные потрясения. Правда, противоречия в любом случае пришлось бы разрешать, но выявленные к началу XX в. противоречия относились к теории множеств — новому разделу математики, и математиков не оставляла надежда, что в свое время его удастся строго обосновать. Что же касается опасений обнаружить в классической математике новые противоречия, возможно связанные с использованием непредикативных определений, то к началу XX в. проблему непротиворечивости удалось свести к проблеме непротиворечивости арифметики, а то, что арифметика непротиворечива, ни у кого не вызывало сомнений. Вещественные числа находились в обращении более пяти тысяч лет, и относительно их было доказано огромное число теорем; при этом никаких противоречий никогда обнаружено не было. То обстоятельство, что какая-то аксиома, в данном случае аксиома выбора, использовалась неявно и что ее продолжали применять, подавляющее большинство математиков не беспокоило. Движение за аксиоматизацию, развернувшееся в конце XIX в., обнаружило, что многие аксиомы использовались неявно. Гипотеза континуума была в то время не более чем деталью теории Кантора, а некоторые математики целиком отвергали канторовскую теорию множеств. Математикам приходилось сталкиваться и с гораздо более серьезными трудностями, но они никогда не теряли присутствия духа. Например, в XVIII в., полностью сознавая принципиальный характер трудностей, возникших при попытках обосновать математический анализ, математики тем не менее продолжали создавать на основе дифференциального и интегрального исчисления новые обширные разделы математики и лишь впоследствии подвели под свои построения прочный фундамент, в основе которого лежало понятие числа.
Проблемы теории множеств можно было бы сравнить с запалом, который приводит к воспламенению заряда, вызывающего взрыв бомбы. Некоторые все еще верили, что математика представляет собой свод незыблемых истин. Они надеялись доказать это, и Фреге предпринял попытку осуществить подобные намерения. Кроме того, возражения против аксиомы выбора были вызваны не только тем, что утверждает сама аксиома. Математики, в частности Кантор, вводили все новые абстрактные понятия, обладавшие, по их утверждениям, той же степенью достоверности, какой обладает, например, понятие треугольника. Другие отвергали абстрактные понятия, считая их далекими от реальности и потому неспособными нести сколько-нибудь полезную нагрузку. Дискуссия по поводу теории множеств Кантора, аксиомы выбора и аналогичных понятий свелась к основному вопросу: в каком смысле можно утверждать, что математические понятия существуют? Должны ли они соответствовать реальным физическим объектам, являясь их идеализацией? Эту проблему рассматривал еще Аристотель. Он, как и большинство греческих мыслителей, считал, что математические понятия непременно должны иметь реальные прототипы. Именно из-за отсутствия физических реализаций Аристотель отвергал и существование бесконечного множества как «готовой» совокупности элементов и правильный семиугольник, который не удавалось построить циркулем и линейкой, что заставляло античных математиков считать его «непостроимым», т.е. в определенном смысле «не существующим». С другой стороны, последователи Платона — а Кантор был одним из них — полагали, что идеи существуют в некоем объективном «мире идей» и не зависят от человека. Человек лишь открывает эти идеи.
Другой гранью проблемы существования был смысл доказательств существования. Например, Гаусс доказал, что любое алгебраическое уравнение n-й степени с вещественными или комплексными коэффициентами имеет по крайней мере один (комплексный, а может, и вещественный) корень. Но из приведенного Гауссом доказательства не было ясно, каким образом можно вычислить этот корень. Аналогично Кантор доказал, что вещественных чисел больше, чем алгебраических (корней алгебраических уравнений с целыми коэффициентами). Следовательно, должны существовать трансцендентные иррациональные числа, не являющиеся алгебраическими. Но такое доказательство существования не позволяло назвать и тем более вычислить хотя бы одно трансцендентное число. Некоторые математики начала XX в. (Борель, Бэр, Лебег) считали чистые доказательства существования бессмысленными. По их мнению, доказательство существования должно позволять математикам вычислять существующие величины с любой степенью точности. Такие доказательства существования получили название конструктивных.
Некоторых математиков беспокоило еще одно обстоятельство. Аксиоматизация математики была осуществлена как формальный ответ на интуитивное принятие многих очевидных фактов. Правда, аксиоматизация помогла избавиться от противоречий и неясностей, в частности в математическом анализе. Но сторонники аксиоматизации настаивали также на явных определениях, формулировках аксиом и доказательствах того, что было очевидно на интуитивном уровне — настолько очевидно, что прежде никто даже не осознавал, в какой мере те или иные рассуждения опираются на интуицию (гл. VIII). Возникшие в результате аксиоматизации дедуктивные построения оказались весьма сложными и громоздкими. Так, построение теории рациональных и в особенности иррациональных чисел на основе аксиоматики целых чисел изобиловало множеством деталей и отличалось большой сложностью. Все это вызывало тягостное чувство у некоторых математиков, в частности у Леопольда Кронекера (1823-1891), считавшего все эти новомодные теории излишне сложными и искусственными. Кронекер первым из выдающихся математиков своего времени пришел к заключению, что с помощью логических средств невозможно создать разумную теорию, выходящую за рамки интуиции, подсказываемой здравым смыслом.
Другим камнем преткновения стала математическая логика, бурное развитие и все расширяющиеся границы которой заставили математиков осознать, что обращение к законам логики не может оставаться неформальным и осуществляться лишь от случая к случаю. Работы Пеано и Фреге показали математикам необходимость тонко различать понятия, используемые в математических рассуждениях, например проводить различия между элементом, принадлежащим какому-то классу, и классом, входящим в другой класс.{107} Проведение такого рода различий современники Фреге считали чрезмерным педантизмом. По их мнению, эти различия скорее затрудняли, чем облегчали, работу математика.
Гораздо более важным было то, что многие математики начали сомневаться в неограниченной применимости принципов логики, хотя в конце XIX в. эти сомнения еще никто не высказывал явно. Что гарантирует применимость принципов логики к бесконечным множествам? Если принципы логики есть продукт человеческого опыта, то нельзя не спросить, распространяются ли они на те чисто рациональные построения, которые не имеют опытной основы.
Разногласия между математиками по поводу затронутых нами проблем начались задолго до наступления XX в. Новые парадоксы лишь усугубили уже существовавшие расхождения в мнениях. Через многие годы математики с тоской вспомнят о коротком, но счастливом периоде, предшествовавшем появлению противоречий, — периоде, о котором Поль Дюбуа-Реймон отозвался как о времени, когда математики «еще жили в раю».
X Логицизм против интуиционизма
Логистика не бесплодна, она порождает антиномии.{108}
Анри ПуанкареОткрытие парадоксов теории множеств и осознание того, что аналогичные парадоксы могут встретиться и в уже существующей классической математике (хотя пока они и не обнаружены), заставили математиков всерьез заняться проблемой непротиворечивости. Весьма насущным вдруг стал вопрос о том, какой смысл имеет в математике глагол «существовать», поднятый, в частности, в связи с вольным использованием аксиомы выбора. Все более широкое применение бесконечных множеств при перестройке оснований математики и создании ее новых разделов вновь оживило старые разногласия по поводу законности использования актуально бесконечных величин и множеств. Начавшееся в конце XIX в. движение за аксиоматизацию математики все эти кардинальные проблемы просто оставляло в стороне.
Но сколь ни важны были эти и другие вопросы, которых мы коснулись в предыдущей главе, не только они привели к пересмотру оснований собственно математики. Проблемы, о которых идет речь, подобно ветру, раздули тлевшие угли и заставили их вспыхнуть ярким пламенем. Еще до начала XX в. было провозглашено и даже разработано несколько радикально новых подходов к математике. Но поскольку они до времени оставались в тени, большинство математиков не восприняли их всерьез. Однако в первые десятилетия XX в. в битву за новые подходы к математике вступили гиганты. Они разделились на враждующие лагери и вступили в открытое противоборство.
Одно из направлений получило название «логистическая школа». Если не вдаваться в подробности, то основной тезис логицистов сводился к утверждению, что математика полностью может быть выведена из логики. В начале XX в. большинство математиков видели в законах логики незыблемые, вечные истины. Но если законы логики истинны, рассуждали логицисты, то истинна и математика. А поскольку истина непротиворечива, продолжали они, то математика также должна быть непротиворечивой.
Как и обычно, когда речь идет о создании нового большого направления в науке, прежде чем логистика обрела строгую форму и привлекла широкое внимание, потребовались значительные усилия многих ученых. Мысль о том, что математика выводима из логики, восходит по меньшей мере к Лейбницу. Лейбниц различал истины основания (или необходимые истины) и истины факта (или случайные истины) (гл. VIII). Суть этого различия он пояснил в письме к своему другу Косте. Истина именуется необходимой, если противоположное утверждение приводит к противоречию. Если же истина не является необходимой, то она называется случайной. Утверждения о том, что бог существует{109}, что все прямые углы равны между собой и т.д., — необходимые истины. Утверждения о том, что я сам существую, или о том, что в природе встречаются тела, в которых можно указать углы, в точности равные 90°, — случайные истины. Эти утверждения могут быть как истинными, так и ложными — и в том и в другом случае Вселенная не перестанет существовать. Господь бог, по мнению Лейбница, выбрал из бесконечно многих возможностей ту, которую счел наиболее подходящей. Поскольку математические истины необходимы, они должны быть выводимы из логики, принципы которой также необходимы и незыблемо истинны во всех возможных мирах.
Лейбниц не осуществил программу вывода математики из логики, как не осуществили ее в течение последующих почти двухсот лет все те, кто высказывал аналогичные убеждения. Так, Рихард Дедекинд голословно утверждал, что число невыводимо из интуитивных представлений о пространстве и времени, а является «непосредственной эманацией законов чистого разума». По мнению Дедекинда, из числа мы выводим точные понятия пространства и времени. Дедекинд начал развивать свой тезис, но не особенно преуспел в этом [47].
Наконец, за осуществление основного тезиса логицизма принялся находившийся под влиянием идей Дедекинда Готлоб Фреге, который внес немалый вклад в развитие математической логики (гл. VIII). Фреге относил математические законы к числу так называемых аналитических суждений. Такие суждения утверждают не более того, что неявно заложено в принципах логики, являющихся априорными истинами. Математические теоремы и их доказательства позволяют нам выявить это неявное. Не вся математика применима к реальному миру, но вся математика заведомо состоит из необходимых истин. Построив в своей работе «Исчисление понятий» (1879) логику на основе явно сформулированных аксиом, Фреге в «Основаниях арифметики» (1884) и в двухтомном сочинении «Основные законы арифметики» (1893-1903) приступил к выводу из логических посылок арифметических понятий, определений и правил. В свою очередь из законов арифметики можно вывести алгебру, математический анализ и даже геометрию, так как аналитическая геометрия позволяет выразить геометрические понятия и свойства геометрических фигур на языке алгебры. К сожалению, символика Фреге была чрезвычайно сложной и непривычной для математиков, в силу чего работы Фреге оказали слабое влияние на современников. Известна история о том, что как раз в то время, когда Фреге завершил работу над вторым томом «Основных законов арифметики» (1902), он получил (такова ирония судьбы!) письмо от Бертрана Рассела. В этом письме Рассел писал, что, к сожалению, Фреге использовал в своем труде понятие (множество всех множеств), применение которого недопустимо, ибо оно приводит к противоречию. В конце второго тома Фреге отметил: «Вряд ли с ученым может приключиться что-нибудь худшее, чем если у него из-под ног выбьют почву в тот самый момент, когда он завершит свой труд. Именно в таком положении оказался я, получив письмо от Бертрана Рассела, когда моя работа уже была почти закончена». Фреге ничего не знал о парадоксах, обнаруженных за то время, пока он писал свою книгу.
Бертран Рассел независимо наметил ту же программу и, работая над ее осуществлением, узнал о работах Фреге. В своей «Автобиографии» (1951) Рассел признает также, что на него оказали влияние взгляды Пеано, с которым он встретился на II Международном конгрессе математиков в Париже в 1900 г.:
Конгресс стал поворотным пунктом в моей интеллектуальной жизни, потому что на нем я встретил Пеано. Я уже знал его имя и некоторые из его работ… Мне стало ясно, что используемые им обозначения представляют собой тот самый инструмент анализа, на поиск которого я затратил не один год, и что, изучив обозначения Пеано, я обрету новый мощный аппарат, о создании которого давно мечтал.
В «Принципах математики» (1-е изд. — 1903) Рассел говорит прямо: «Тот факт, что вся математика есть не что иное, как символическая логика, — величайшее открытие нашего века».
В начале XX в. Рассел, как и Фреге, надеялся, что если фундаментальные законы математики удастся вывести из логики, то поскольку логика, несомненно, является сводом нетленных истин, математические законы также окажутся истинными — и тем самым проблема непротиворечивости будет разрешена. В книге «Мое философское развитие» (1959) Рассел писал, что стремился прийти к «совершенной математике, не оставляющей места для сомнений».
Разумеется, Расселу было известно, что Пеано вывел свойства вещественных чисел из аксиом для целых чисел. Знал он и о том, что Гильберт предложил систему аксиом для всей системы вещественных чисел. Однако во «Введении в математическую философию» (1919) Рассел заметил по поводу аналогичного подхода Дедекинда: «Метод постулирования того, что нам требуется, обладает многими преимуществами, но такими же преимуществами обладает воровство перед честным трудом». В действительности Рассел был озабочен тем, что постулирование десяти или пятнадцати аксиом о числах отнюдь не гарантирует их непротиворечивость и истинность. По выражению Рассела, постулируя, мы излишне полагаемся на счастливый случай. В то время как Рассел в начале XX в. не сомневался, что принципы логики — истины и поэтому они непротиворечивы, Уайтхед в 1907 г. предостерегал: «Невозможно формально доказать непротиворечивость самих логических посылок».
Многие годы Рассел считал, что принципы логики и объекты математического знания существуют независимо от разума и лишь воспринимаются разумом. Знание объективно и неизменно. Свою позицию Рассел ясно изложил в книге «Проблемы философии» (1912).
Когда дело касалось проблемы истины в математике, Рассел готов был пойти еще дальше, чем Фреге. В юности Рассел был убежден, что математика служит источником истин о реальном мире. Рассел не мог указать, какая из конфликтующих геометрий (евклидова или неевклидова) истинна, — тем более что обе соответствуют реальному миру (гл. IV), — но в «Очерке оснований геометрии» (1898) ему удалось найти несколько математических законов (например, закон, согласно которому физическое пространство должно быть однородно, т.е. должно всюду обладать одинаковыми свойствами), являющихся, по его мнению, истинами. В то же время трехмерность пространства Рассел считал эмпирическим фактом. Тем не менее существует объективный реальный мир, о котором мы можем получать точные знания. Поэтому-то Рассел и пытался найти математические законы, которые вместе с тем должны быть физическими истинами. Эти математические законы должны были следовать из логических принципов.
В «Принципах математики» Рассел обобщил свои взгляды в отношении физической истинности математики. По его словам, «все утверждения относительно всего реально существующего, например пространства, в котором мы живем, относятся к экспериментальной или эмпирической науке, а не к математике; утверждения, относящиеся к прикладной математике, возникают в тех случаях, когда в утверждениях, относящихся к чистой математике, одно или несколько переменных полагают равными некоторым константам…» Даже в этом варианте Рассел продолжал верить, что какие-то основополагающие физические истины содержатся в математике, выводимой из логики, В ответ на замечания скептиков, утверждавших, что абсолютных истин не существует, Рассел заявил: «Математика служит вечным укором подобному скептицизму, ибо ее здание, возведенное из истины, противостоит неколебимо и неприступно всему оружию сомневающегося цинизма».
Идеи, в общих чертах намеченные Расселом в «Принципах математики», были подробно развиты им совместно с Алфредом Hopтом Уайтхедом{110} (1861-1947) в трехтомном труде «Основания математики» (Principia Mathematica [95]*, 1-е изд. — 1910-1913 гг.). Так как именно в этом фундаментальном труде содержался окончательный вариант изложения позиции логистической школы, ознакомимся хотя бы бегло с его содержанием.
Авторы начинают с построения самой логики. Они тщательно формулируют аксиомы логики и выводят из них теоремы, используемые в последующих рассуждениях. Как и подобает любой аксиоматической теории (гл. VIII), построение логики начинается с неопределяемых понятий. Назовем некоторые из них: понятие элементарного высказывания, присвоение элементарному высказыванию значения истинности, отрицание высказывания, конъюнкция и дизъюнкция двух высказываний, понятие пропозициональной функции.
Рассел и Уайтхед снабдили неопределяемые понятия пояснениями, хотя и подчеркнули, что эти пояснения не входят в логическое построение теории. Под высказыванием и пропозициональной функцией они понимали то же, что и Пирс. Например, «Джон — человек» — высказывание, «x — человек» — пропозициональная функция. Под отрицанием понималось высказывание «Неверно, что …», в котором многоточием обозначено отрицаемое высказывание; так, если p есть высказывание «Джон — человек», то под его отрицанием, обозначаемым символом ~p, понимается высказывание «Неверно, что Джон — человек» или «Джон не человек». Под конъюнкцией двух высказываний p и q, обозначаемой p∙q, Рассел и Уайтхед понимали составное высказывание «p и q», а под дизъюнкцией p и q, обозначаемой p\/q, — составное высказывание «p или q». Смысл связки «или» здесь такой же, как в объявлении «Обращаться по телефону 22-22-38 или 22-22-39», означающем, что обращаться можно либо по телефону 22-22-38, либо по телефону 22-22-39, но можно и по тому, и по другому (неисключающее «или»). В предложении «Это лицо — мужчина или женщина» связка «или» имеет иной, более привычный, смысл: либо мужчина, либо женщина, но, разумеется, никак не мужчина и женщина одновременно (исключающее «или»). Математики используют «или» в первом (неисключающем) смысле, хотя иногда «или» употребляется только во втором смысле.{111} Например, в предложении «Треугольник ABC — равнобедренный или четырехугольник PQRS — параллелограмм» связка «или», как правило, неисключающая, а в предложении «Каждое отличное от нуля вещественное число положительно или отрицательно» связка «или» исключающая — ведь имеющиеся у нас дополнительные сведения о положительных и отрицательных числах говорят нам, что одно и то же число не может быть одновременно и положительным, и отрицательным. Итак, в «Основаниях математики» высказывание «p или q» означает, что p и q оба истинны, или что p ложно, a q истинно, или что p истинно, a q ложно.
Наиболее важное отношение между высказываниями — отношение следования, или импликация, означающая, что из истинности одного элементарного высказывания вытекает истинность другого.{112} В работе Рассела и Уайтхеда импликация обозначается символом ; при этом под записью (импликацией) p q («p влечет q» или «из p следует q») они понимают примерно то же, что Фреге понимал под материальной импликацией (гл. VIII): утверждение «p влечет q» (из p следует q) означает, что если p истинно, то и q обязано быть истинным, а если p ложно, то q может быть истинно или ложно, т.е. из ложного высказывания следует все что угодно. Такое понятие следования (импликации) высказываний, по крайней мере в некоторых случаях, представляется вполне естественным. Например, если верно, что a — четное число, то и число 2a должно быть четным. Но если не верно, что a — четное число, то 2a может быть как четным, так и нечетным (в случае, если a не целое, скажем дробное, число). Иначе говоря, если высказывание «a — четное число» ложно, то из него может следовать любое заключение.
Разумеется, для того чтобы выводить логические теоремы, необходимо перечислить аксиомы логики. Приведем примеры нескольких таких аксиом:
A) Любое следствие истинного элементарного высказывания{113} является истинным.
B) Если истинно высказывание «истинно p или q», то p истинно.
C) Если q истинно, то «p или q» истинно.
D) Высказывание «p или q» влечет за собой высказывание «q или p».
E) Из «p или (q или r)», следует «q или (p или r)».
Сформулировав аксиомы, Рассел и Уайтхед приступили к выводу теорем логики. Обычные правила силлогистики Аристотеля (см., например, [58] и [59]) вошли в систему «Оснований математики» как теоремы.
Чтобы лучше понять, каким образом логика была формализована и сделана дедуктивной, рассмотрим несколько первых теорем из «Оснований математики» Рассела и Уайтхеда. Одна из теорем утверждает: если из предположения об истинности высказывания p следует, что p ложно, то p ложно. Это не что иное, как принцип reductio ad absurdum (приведения к абсурду, основа доказательства от противного). Другая теорема гласит: если r следует из q, то при условии, что q следует из p, r следует из p. (Это один из силлогизмов Аристотеля.) Основная теорема начальной части «Оснований математики» — принцип исключенного третьего: если p — любое высказывание, то p либо истинно, либо ложно.
Построив логику высказываний, авторы приступили к пропозициональным функциям. Последние представляют собой классы, или множества: вместо того чтобы называть элементы класса «поштучно», пропозициональная функция указывает их отличительное свойство. Например, пропозициональная функция «x красный» задает множество всех красных предметов. Такой способ задания класса позволяет определять бесконечные множества с такой же легкостью, как и конечные. Определение класса по отличительному признаку называется интенсиональным (или дискретным) в отличие от экстенсиональных (прямых) определений, перечисляющих элементы множества.
Рассел и Уайтхед, разумеется, стремились избежать парадоксов, возникающих в тех случаях, когда определяемое множество содержит само себя в качестве элемента. Эту проблему они разрешили, введя требование: «То, что содержит все элементы множества, не должно быть элементом того же множества». Чтобы удовлетворить этому требованию, Рассел и Уайтхед ввели теорию типов.
Хотя сама теория типов довольно сложна, в основе ее лежит простая идея. Индивидуумы, например Джон или какая-то вполне конкретная книга, имеют тип 0. Любое утверждение о свойстве индивидуума имеет тип 1. Всякое утверждение о свойстве свойства индивидуума имеет тип 2 и т.д. Каждое утверждение принадлежит более высокому типу, чем те, о которых в нем что-то утверждается. На языке теории множеств суть теории типов можно было бы сформулировать так: индивидуальные объекты принадлежат типу 0, множество индивидуальных объектов — типу 1, множество множеств индивидуумов — типу 2 и т.д. Так, если a принадлежит b, то b должно быть более высокого типа, чем a. Кроме того, нельзя говорить о множестве, принадлежащем самому себе. При переходе к пропозициональным функциям теория типов становится несколько сложнее. Ни один из аргументов пропозициональной функции (ни одно из значений входящих в нее переменных) не должен определяться через саму функцию. Если это требование соблюдено, то функция считается принадлежащей к более высокому типу, чем входящие в нее переменные. Рассмотрев на основе теории типов все известные парадоксы, Рассел и Уайтхед показали, что теория типов позволяет их избегать.
Это несомненное достоинство теории типов (то, что она позволяет избегать противоречий) станет более наглядным, если воспользоваться следующим нематематическим примером. Рассмотрим парадокс, связанный с высказыванием «Из всех правил есть исключения» (гл. IX). Это высказывание относится ко всякого рода конкретным правилам, например к правилу «Во всех книгах имеются опечатки». При обычной интерпретации высказывание «Из всех правил есть исключения» применимо и к самому высказыванию, вследствие чего возникает противоречие. Но в теории типов общее правило принадлежит к более высокому типу, и все, что в нем утверждается о конкретных правилах, к нему самому неприменимо. Следовательно, из общего правила исключений может не быть.
Аналогичным образом гетерологический парадокс (слово называется гетерологическим, если оно неприменимо к самому себе) есть не что иное, как определение всех гетерологических слов, и поэтому принадлежит к более высокому типу, чем любое гетерологическое слово. Следовательно, вопрос о том, гетерологично ли само прилагательное «гетерологический», попросту неправомерен.
В рамках теории типов находит свое решение и парадокс лжеца. Рассел излагает это решение следующим образом. Высказывание «Я лгу» означает «Существует утверждение, которое я высказываю, и оно ложно», или «Я высказываю утверждение p, и p ложно». Если p принадлежит к n-му типу, то утверждение относительно p принадлежит к более высокому типу. Следовательно, если утверждение относительно p истинно, то само p ложно, и если утверждение относительно p ложно, то p истинно. Никакого противоречия не возникает. Аналогичным образом теория типов разрешает и парадокс Ришара: суть решения сводится к тому, что высказывание более высокого типа содержит некое утверждение о высказывании более низкого типа.
Ясно, что теория типов предполагает тщательную классификацию высказываний по типам. Но если попытаться положить теорию типов в основу строгого обоснования математики, то все построения становятся чрезвычайно сложными. Например, в «Основаниях математики» Рассела и Уайтхеда два предмета a и b считаются равными, если любое высказывание или любая пропозициональная функция, применимые к a (или истинные для a), применимы к b и наоборот. Но различные высказывания принадлежат, вообще говоря, к различным типам. Следовательно, понятие равенства становится необычайно сложным. Аналогичные трудности возникают и в связи с понятием числа: так как иррациональные числа определяются через рациональные, а рациональные — через положительные целые числа, то иррациональные числа принадлежат к более высокому типу, чем рациональные, а те в свою очередь — к более высокому типу, чем целые числа. Система вещественных чисел оказывается состоящей из чисел различных типов. Следовательно, вместо того чтобы сформулировать одну теорему для всех вещественных чисел, мы должны формулировать теоремы для каждого типа в отдельности, поскольку теорема, применимая к одному типу, автоматически на другой тип не переносится.
Теория типов вносит осложнение и в понятие наименьшей верхней границы ограниченного множества вещественных чисел (гл. IX). Наименьшая верхняя граница, по определению, есть минимальная из всех верхних границ. Мы видим, что в определении наименьшей верхней границы фигурирует множество вещественных чисел, и поэтому наименьшая верхняя граница должна принадлежать к более высокому типу, чем вещественные числа, а значит, сама она вещественным числом не является.
Чтобы избежать подобных осложнений, Рассел и Уайтхед ввели весьма тонкую аксиому сводимости (или аксиому редукции). Аксиома сводимости для высказываний гласит: любое высказывание более высокого типа эквивалентно одному из высказываний первого типа. Аксиома сводимости для пропозициональных функций утверждает, что любая функция одного переменного или двух переменных эквивалентна некоторой функции типа 1 от того же числа переменных, к какому бы типу ни принадлежали переменные. Аксиома сводимости была необходима Расселу и Уайтхеду и для обоснования используемой в их «Основаниях математики» математической индукции.
Рассмотрев пропозициональные функции, авторы переходят к теории отношений. Отношения представимы с помощью пропозициональных функций двух или большего числа переменных. Так, пропозициональная функция «x любит y» выражает отношение. После теории отношений Рассел и Уайтхед излагают явную теорию классов, или множеств, определяемых с помощью пропозициональных функций. Теперь уже все готово к введению понятия натурального (целого положительного) числа.
Определение натурального числа представляет значительный интерес. Оно зависит от введенного ранее отношения взаимно-однозначного соответствия между классами. Два класса называются эквивалентными, если между ними можно установить взаимно-однозначное соответствие. Все эквивалентные классы обладают одним общим свойством — числом, отвечающим этим классам (т.е. числом их элементов). Но возможно, что эквивалентные классы обладают и более чем одним общим свойством. Рассел и Уайтхед обошли эту трудность так же, как Фреге, — определив отвечающее классу число как класс всех классов, эквивалентных данному классу. Например, число 3 — это класс всех классов, содержащих по 3 элемента. Все такие классы обозначаются символом {x, у, z}, где x ≠ y ≠ z. Поскольку определение числа предполагает понятие взаимно-однозначного соответствия (обратите внимание на выражение «однозначное»!), может показаться, что здесь мы попадаем в порочный круг. Но отношение между элементами является взаимно-однозначным, если из того, что x и x' находятся в рассматриваемом отношении к y, следует, что, x и x' совпадают, а из того, что x находится в этом отношении и к у, и к у', вытекает, что совпадают y и у'. Следовательно, несмотря на употребленное в названии этого понятия выражение, реально взаимно-однозначное соответствие не определяется без апелляции к числу 1.
Имея натуральные числа, можно построить системы вещественных и комплексных чисел, теорию функций и весь математический анализ. Используя координаты и уравнения кривых, можно через арифметику ввести геометрию. Но для этого Расселу и Уайтхеду понадобились две дополнительные аксиомы. Программа состояла в том, чтобы сначала определить (с помощью пропозициональных функций) натуральные числа, а затем последовательно ввести более сложные рациональные и иррациональные числа. Чтобы включить в эту схему трансфинитные числа, Рассел и Уайтхед ввели аксиому существования бесконечных классов (классов, надлежащим образом определенных с точки зрения логики) и аксиому выбора (гл. IX), необходимую для теории типов.
Такова была грандиозная программа логистической школы. Долго рассказывать о том, что значила эта программа для самой логики, — мы ограничимся здесь лишь беглым перечислением основных пунктов программы. Для математики же (и это необходимо подчеркнуть особо) логистическая программа сводилась к тезису о построении (или возможности построения) всей математической науки на фундаменте логики. Математика становилась не более чем естественным продолжением логических законов и предмета логики.
Логистический подход к математике подвергся резкой критике. Сильные возражения вызвала аксиома сводимости, которая многим математикам казалась совершенно произвольной. Некоторые считали ее счастливой случайностью, а не логической необходимостью. Френк Пламптон Рамсей, сочувственно относившийся к логицизму, так охарактеризовал аксиому сводимости: «Такой аксиоме не место в математике, и все, что не может быть доказано без нее, вообще не должно считаться доказанным». Другие ученые называли аксиому сводимости «жертвоприношением, в котором роль жертвы отведена разуму». Безоговорочно отвергал аксиому сводимости Герман Вейль. Иные критики утверждали, что она снова вводит в обращение непредикативные определения. Наиболее важными были вопросы о том, является ли аксиома сводимости аксиомой логики и, следовательно, подкрепляет ли она тезис о том, что математика выводима из логики.
Пуанкаре заявил в 1909 г., что аксиома сводимости более спорна и менее ясна, чем доказываемый с ее помощью принцип математической индукции. Аксиома сводимости, по его словам, представляет собой замаскированную форму математической индукции. Итак, с одной стороны, математическая индукция — это составная часть математики, а с другой стороны, она оказывается необходимой для обоснования математики. Следовательно, мы не можем доказать непротиворечивость математики.
В первом издании «Оснований математики» (1910) Рассел и Уайтхед обосновывали аксиому сводимости ссылкой на то, что она необходима для доказательства некоторых результатов. Аксиома их явно беспокоила. В защиту ее они приводили следующие доводы:
Что же касается аксиомы сводимости, то она убедительно подкрепляется интуитивными соображениями, так как и допускаемые ею рассуждения, и результаты, к которым она приводит, во всяком случае выглядят правильными. Но хотя маловероятно, чтобы эта аксиома оказалась ложной, она вполне может оказаться выводимой из некоторых других, более фундаментальных и более очевидных аксиом.
В последующие годы применение аксиомы сводимости вызывало у Рассела все большую озабоченность. Во «Введении в математическую философию» (1919) Рассел был вынужден признать:
С чисто логической точки зрения я не вижу оснований считать аксиому сводимости необходимой, т.е. тем, о чем принято говорить, что оно истинно во всех возможных мирах. Следовательно, включение этой аксиомы в систему логики является дефектом, даже если аксиома эмпирически правильна.
Во втором издании «Оснований математики» (1926) Рассел сформулировал аксиому сводимости иначе. Но и в новой формулировке она порождала немало трудностей: запрет на бесконечности высоких порядков, вынужденный отказ от теоремы о наименьшей верхней границе, трудности при использовании математической индукции. Во втором издании «Оснований математики» Рассел так же, как и в первом, выразил надежду вывести аксиому сводимости из более наглядных аксиом и снова назвал ее логическим дефектом. По словам авторов «Оснований математики», «эта аксиома имеет чисто прагматическое обоснование. Она приводит к желаемым и ни к каким другим результатам. В то же время ясно, что она не принадлежит к такого рода аксиомам, на которые можно спокойно положиться». Рассел и Уайтхед понимали, что ссылка на правильность выводов, получаемых с помощью аксиомы сводимости, не является убедительным аргументом. Были предприняты различные попытки свести математику к логике без столь спорной аксиомы, но никому в этом отношении не удалось продвинуться сколько-нибудь далеко, а некоторые попытки подверглись суровой критике, так как они основывались на неверных доказательствах.
Другое направление в критике логистической школы было связано с аксиомой бесконечности. По общему убеждению, структура всей арифметики существенно зависела от этой аксиомы, в то время как не было ни малейших оснований считать ее истинной и, что еще хуже, не было способа, позволившего бы установить, истинна ли она или нет. Оставался открытым и вопрос о том, является ли эта аксиома аксиомой логики.
Справедливости ради заметим, что Рассел и Уайтхед испытывали сомнения относительно того, включать или не включать аксиому бесконечности в число аксиом логики. Их беспокоило, что содержание аксиомы выглядит «фактообразно». Сомнения возникали не только по поводу принадлежности аксиомы к логике, но и относительно ее истинности. Согласно одной из интерпретаций термина «индивидуум», предложенной Расселом и Уайтхедом, под «индивидуумами» понимались мельчайшие частицы, или элементы, составляющие Вселенную. Создавалось впечатление, что, хотя аксиома бесконечности сформулирована на языке логики, она по существу сводится к вопросу о том, конечно или бесконечно число мельчайших частиц во Вселенной, т.е. к вопросу, ответ на который может дать только физика, но никак не математика и не логика. Но если мы хотим рассматривать бесконечные множества или показать, что математические теоремы, при выводе которых была использована аксиома бесконечности, принадлежат к числу теорем логики, то нам, по-видимому, не остается ничего другого, как считать аксиому бесконечности аксиомой логики. Короче говоря, если мы хотим «свести» математику к логике, то логика, очевидно, должна включать в себя аксиому бесконечности.
Рассел и Уайтхед использовали также аксиому выбора (гл. IX), которую они называли мультипликативной аксиомой: если задан класс непересекающихся (взаимно исключающих) классов, ни один из которых не является нулевым (или пустым), то существует класс, содержащий ровно по одному элементу из каждого класса и не содержащий других элементов. Как мы знаем, аксиома выбора породила больше дискуссий и споров, чем любая другая аксиома, за исключением, может быть, аксиомы Евклида о параллельных. Аксиома выбора вызывала сомнения и у Рассела и Уайтхеда, которые так и не смогли убедить самих себя признать ее логической истиной наравне с другими аксиомами логики. Тем не менее если мы хотим свести к логике те разделы классической математики, для построения которых необходима аксиома выбора, то эту аксиому, вероятно, также необходимо счесть составной частью логики.
Использование этих трех аксиом (сводимости, бесконечности и выбора) поставило под сомнение основной тезис логицизма о возможности вывести всю математику из логики. Где провести границу между логикой и математикой? Сторонники логистического тезиса утверждали, что логика, используемая Расселом и Уайтхедом, была «чистой», или «очищенной». Другие, памятуя о трех спорных аксиомах, ставили под сомнение «чистоту» этой логики. Тем самым они отрицали, что вся математика или даже какая-то важная часть ее может быть сведена к логике. Некоторые математики и логики были склонны расширить термин «логика» так, чтобы он охватывал аксиомы сводимости, бесконечности и выбора.
Рассел, отстаивавший логистический тезис, по-прежнему защищал все, что было сделано им и Уайтхедом в первом издании «Оснований математики». В работе «Введение в математическую философию» ([79]*, 1919) он приводил следующие доводы:
При доказательстве этого тождества [математики и логики] все упирается в детали; начав с посылок, относящихся, по всеобщему признанию, к логике, и придя с помощью дедукции к результатам, заведомо принадлежащим математике, мы обнаружим, что нигде не возможно провести четкую границу, слева от которой находилась бы логика, а справа — математика. Если кто-нибудь вздумает отвергать тождество логики и математики, то мы можем оспорить его мнение, попросив указать то место в цепи определений и дедуктивных выводов «Оснований математики», где, по его мнению, заканчивается логика и начинается математика, и тогда сразу станет ясно, что любой ответ совершенно произволен.
Разногласия по поводу теории Кантора и аксиом выбора и бесконечности достигли в начале XX в. столь большой остроты, что Рассел и Уайтхед не стали включать две последние аксиомы в число аксиом своей системы, хотя и использовали их (во втором издании, 1926) при доказательстве некоторых теорем, каждый раз особо оговаривая, что вывод теорем опирается на «посторонние» аксиомы. Но аксиомы выбора и бесконечности оказались необходимыми для вывода значительной части классической математики. Во втором издании своих «Принципов математики» ([81]*, 1937) Расселу пришлось пойти на еще большие уступки. По его собственному признанию, «весь вопрос о том, что считать принципами логики, становится в значительной степени произвольным». Аксиомы бесконечности и выбора «можно доказывать или опровергать, лишь исходя из эмпирических данных». Тем не менее Рассел продолжал настаивать на единстве логики и математики.
Но и подобные признания не смогли заставить критику умолкнуть. В своей книге «Философия математики и естественных наук» ([93]*, 1949) Герман Вейль писал о том, что Рассел и Уайтхед возвели математику на основе
…не просто логики, а своего рода рая для логиков, мира, снабженною всем необходимым «инвентарем» весьма сложной структуры… Кто из здравомыслящих людей осмелится утверждать, что верит в этот трансцендентальный мир?.. Эта сложная структура требует от нас не меньшей веры, чем учения отцов церкви или средневековых философов-схоластов.
Критика логицизма имела и другой характер. Хотя в трех томах «Оснований математики» Рассела и Уайтхеда не нашлось места для последовательного построения геометрии, ни у кого не вызывало сомнений, что такое построение вполне осуществимо, если воспользоваться, как об этом уже говорилось, аналитической геометрией. Тем не менее иные критики утверждали, что авторы, сведя к логике систему аксиом целых чисел, тем самым свели к логике арифметику, алгебру и математический анализ, но не свели к логике «неарифметические» разделы математики, например геометрию, топологию и абстрактную алгебру. Такого мнения придерживался, в частности, логик Карл Гемпель, считавший, что хотя в случае арифметики неопределяемым, или первичным, понятиям оказалось возможным придать обычный смысл с помощью «чисто логических понятий», «аналогичная процедура неприменима к тем математическим дисциплинам, которые обязаны своим появлением на свет не арифметике». Коллега Гемпеля Уиллард Ван Орман Куайн, по мнению которого «вся математика сводится к логике», считал, что для геометрии существует «готовый метод, позволяющий свести ее к логике» и что топология и абстрактная алгебра «укладываются в общую структуру логики». Сам Рассел сомневался, что всю геометрию удастся вывести только из логики.
Философы также подвергли логистическое направление серьезной критике, суть которой сводилась к следующему. Если основной тезис логицизма верен, то вся математика является чисто формальной, логико-дедуктивной наукой, теоремы которой следуют из законов мышления. Казалось необъяснимым, каким образом с помощью дедуктивного вывода одни лишь законы мышления могут привести к описанию неисчерпаемого разнообразия явлений природы, к различным применениям чисел, геометрии пространства, акустике, электромагнетизму и механике. Именно так и следует понимать критическое замечание Вейля: «Из ничего и следует ничто».
Пуанкаре, со взглядами которого мы познакомимся подробнее в дальнейшем, также критически относился к тому, что считал бесплодными манипуляциями логическими символами. В работе «Наука и метод» (1906), опубликованной в то время, когда Рассел и Гильберт уже успели неоднократно изложить свои программы, Пуанкаре утверждал по поводу логицизма:
Эта наука [математика] не имеет единственной целью вечное созерцание своего собственного пупа; она приближается к природе, и раньше или позже она придет с ней в соприкосновение; в этот момент необходимо будет отбросить чисто словесные определения, которыми нельзя будет довольствоваться.
([1], с. 393.)В той же книге (с. 397) Пуанкаре говорил:
Как бы там ни было, логистика должна быть переделана, и неизвестно, что в ней может быть спасено. Бесполезно прибавлять, что на карту поставлены только канторизм и логистика. Истинные математические науки, т.е. те, которые чему-нибудь служат, могут продолжать свое развитие только согласно свойственным им принципам, не заботясь о тех бурях, которые бушуют вне их; они будут шаг за шагом делать свои завоевания, которые являются окончательными и от которых им никогда не будет нужды отказываться.
Другое серьезное критическое замечание по поводу логистической программы состояло в том, что в процессе развития математики новые понятия, как выводимые, так и не выводимые непосредственно из опыта, формируются на основе чувственной или образной интуиции. Впрочем, как же иначе может возникать новое знание? Между тем в «Основаниях математики» все понятия сводятся к логическим. Формализация не дает сколько-нибудь реального представления о математике: это лишь шелуха, а не зерно. Высказывание Рассела: «Математика — такой предмет, в котором мы никогда не знаем ни того, о чем говорим, ни насколько верно то, что мы говорим» — вполне может быть адресовано логицизму.
На вопросы о том, каким образом могут входить в математику новые идеи и как математика может описывать реальный мир, если ее содержание целиком выводимо из логики, ответить нелегко, и Рассел и Уайтхед не дали на них никакого ответа. Один из возможных ответов состоял в том, что логицизм не ставит своей задачей объяснить, почему математика применима к реальному миру. На это можно было бы возразить, что математика применима к наиболее фундаментальным физическим принципам. По отношению к реальности их можно рассматривать как логические посылки. Математические методы позволяют извлекать из этих посылок такие заключения, как, например, pV = const (закон Бойля — Мариотта) или F = ma (второй закон Ньютона). Но эти заключения применимы к реальному миру. Возникает проблема соответствия реального мира «математической вселенной», базирующейся не на эмпирических фактах, а на дедуктивных выводах.{114} К этому вопросу мы вернемся в дальнейшем (гл. XV).
Рассел продолжал размышлять над логистической программой и после выхода в свет второго издания «Оснований математики». В книге «Мое философское развитие» (1959) он признавал, что эта программа заключалась в постепенном отходе от «евклидианства» в сочетании с намерением по возможности сохранить максимум определенности. Критика логистической философии, несомненно, сказалась на позиции, занятой Расселом в конце 20-х годов XX в. Приступая к работе над «Основаниями математики» в самом начале XX в., Рассел считал аксиомы логики истинами. В издании «Принципов математики» 1937 г. он отказался от таких взглядов. Теперь уже Рассел не был убежден, что принципы логики являются априорными истинами. Следовательно, выводимую из логики математику также нельзя считать априори истинной.
Но если аксиомы логики не принадлежат к числу истин, то логицизм оставляет без ответа фундаментальный вопрос о непротиворечивости математики. Еще в большей степени непротиворечивость ставится под угрозу сомнительной аксиомой сводимости. Использование аксиомы сводимости в первом и во втором изданиях «Оснований математики» Рассел оправдывал неубедительной ссылкой на то, что, во-первых, «из нее следует много высказываний, истинность которых почти не вызывает сомнений», и, во-вторых, «если бы эта аксиома была ложной, не существовало бы столь же правдоподобного объяснения, почему истинны выведенные из нее высказывания и почему из нее не следует ни одного высказывания, которое было бы ложным». Принятая в «Основаниях математики» (и во многих других логических системах) материальная импликация может быть истинной, даже если ее первый член ложен. Следовательно, если бы в число аксиом входило ложное высказывание p и импликация «если p, то q» была бы истинной, то и высказывание q могло бы быть истинным. Поэтому ссылка на то, что из аксиомы сводимости следуют высказывания, истинность которых не вызывает сомнений, не достигает цели, так как в логической системе «Оснований математики» любое «бесспорно истинное» высказывание вполне может следовать из ложной аксиомы.{115}
Работу Рассела и Уайтхеда критиковали и по многим другим причинам, которые мы не затрагивали. Как обнаружилось в дальнейшем, иерархия типов оказалась разумной и полезной, но, по-видимому, все же не полностью соответствующей своему назначению. Типы были введены как предохранительная мера против антиномий, и они действительно помогли разрешить антиномии теории множеств и логики. Однако не исключено, что возникнут новые антиномии, против которых иерархия типов окажется бессильной.
Тем не менее некоторые выдающиеся логики и математики, например Уиллард Ван Орман Куайн и Алонсо Черч, по-прежнему выступают в защиту логицизма, хотя в его современном состоянии относятся к нему критически. Многие авторы трудятся над восполнением тех или иных изъянов логицизма. Некоторые логики и математики, разделяющие не все тезисы логицизма, настаивают на том, что логика и, следовательно, математика аналитичны, т.е. представляют собой обобщенные варианты того, что утверждается в аксиомах. Итак, у логической программы имеются убежденные сторонники, стремящиеся ликвидировать причины возражений и сделать менее громоздкими некоторые построения. Другие ученые склонны видеть в логицизме несбыточную мечту. Находятся и такие, которые, как мы увидим, выступают с резкой критикой, считая логицизм абсолютно ложной концепцией математики. В целом, если учесть спорные аксиомы и длительное, сложное развитие, нельзя не признать, что у критиков были все основания утверждать, что логицизм выводит заранее известные заключения из необоснованных посылок.
Своим фундаментальным трудом Рассел и Уайтхед способствовали прогрессу еще одного направления математической мысли. Математизация логики началась в конце XIX в. (гл. VIII). Рассел и Уайтхед осуществили всю аксиоматизацию в чисто символическом виде, тем самым значительно продвинув развитие математической логики.
По-видимому, последнее слово о логицизме было сказано Расселом в его книге «Портреты по памяти» (1958):
Я жаждал определенности примерно так же, как иные жаждут обрести религиозную веру. Я полагал, что найти определенность более вероятно в математике, чем где-либо еще. Выяснилось, однако, что математические доказательства, на принятие которых мной мои учителя возлагали такие надежды, изобилуют грубыми логическими ошибками и что определенность, если и кроется в математике, то заведомо в какой-нибудь новой области, обоснованной более надежно, чем традиционные области с их, казалось бы, незыблемыми истинами. В процессе работы у меня из головы не выходила басня о слоне и черепахе: воздвигнув слона, на котором мог бы покоиться математический мир, я обнаружил, что этот слон шатается, — тогда и мне пришлось создать черепаху, которая не давала бы слону упасть. Но и черепаха оказалась ничуть не более надежной, чем слон, — и через каких-нибудь двадцать лет напряженных усилий и поисков я пришел к выводу, что не могу сделать ничего более, дабы придать математическому знанию неоспоримый характер.
В книге «Мое философское развитие» (1959) Рассел признавался: «Восхитительная определенность, которую я всегда надеялся найти в математике, затерялась в путанице понятий и выводов… Это оказался поистине запутанный лабиринт, выхода из которого не было видно». Трагедия постигла не только Рассела.
Еще в то время, когда логицизм переживал период становления, группа математиков, называвших себя интуиционистами, предложила совершенно иной подход к математике, диаметрально противоположный логицизму. Один из интереснейших парадоксов в истории математики состоял в том, что в то время как логицисты в поисках надежных оснований математики все более полагались на изощренную логику, их основные соперники отворачивались от логики и даже в каком-то отношении отказались от нее (ср., впрочем, ниже). Но цель, которую преследовали логицисты и интуиционисты, была единой. В конце XIX в. математика утратила свои претензии на истинность как выражение законов, присущих структуре реального мира. Логики, главным образом Фреге и Рассел, первоначально считали, что логика является сводом незыблемых истин и поэтому основанная на логике математика также будет собранием истин; однако впоследствии они отошли от исходной позиции к логическим принципам, имевшим лишь прагматическое обоснование. Интуиционисты также пытались обосновать истинность собственно математики, ссылаясь непосредственно на человеческий разум. Выводы из логических принципов интуиционисты считали менее надежными, чем непосредственно интуитивные соображения. Открытие парадоксов не только укрепило недоверие к логическим принципам, но и ускорило процесс формулировки основных представлений интуиционизма.
Интуиционизм в широком смысле слова восходит по крайней мере к Декарту и Паскалю. Так, в «Правилах для руководства ума» Декарта говорится следующее:{116}
Для того, чтобы в дальнейшем не подвергать себя подобному заблуждению, мы рассмотрим здесь все те действия нашего интеллекта, посредством которых мы можем придти к познанию вещей, не боясь никаких ошибок. Возможны только два таких действия, а именно: интуиция и дедукция.
Под интуицией я разумею не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же, прочное понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама дедукция, хотя последняя и не может быть плохо построена человеком, как я уже говорил выше.
Так например, всякий может интуитивно постичь умом, что он существует, что он мыслит, что треугольник ограничивается только тремя линиями, что шар имеет только одну поверхность, и подобные этим истины, гораздо более многочисленные, чем это замечает большинство людей вследствие того, что не считает достойными внимания такие простые вещи.
Может возникнуть сомнение, для чего мы добавляем к интуиции еще и этот другой способ познания, заключающийся в дедукции, посредством которой мы познаем все, что необходимо выводится из чего-либо достоверно известного. Это нужно было сделать потому, что есть много вещей, которые хотя и не являются самоочевидными, но доступны достоверному познанию, если только они выводятся из верных и понятных принципов путем последовательного и нигде не прерывающегося движения мысли при зоркой интуиции каждого отдельного положения. Подобно этому мы узнаем, что последнее кольцо длинной цепи соединено с первым, хотя мы и не можем охватить одним взглядом все находящиеся между ними кольца, которые обусловливают это соединение, лишь бы мы последовательно проследили их и вспомнили, что каждое из них, от первого до последнего, соединено с соседним. Итак, мы различаем здесь интуицию ума от правильной дедукции в том отношении, что под дедукцией подразумевается именно движение или последовательность, чего нет в интуиции; кроме того, дедукция не нуждается в наличной очевидности, как интуиция, но скорее как бы заимствует свою достоверность у памяти. Отсюда следует, что положения, непосредственно вытекающие из первого принципа, можно сказать, познаются как интуитивным, так и дедуктивным путем, в зависимости от способа их рассмотрения, сами же принципы — только интуитивным, как и, наоборот, отдаленные их следствия — только дедуктивным путем.
([15], с. 57-60.)Паскаль также глубоко верил в интуицию и в своих математических работах опирался в основном на интуицию. Он предвидел важные результаты, высказывал великолепные догадки и находил изящные, неожиданные решения. С годами Паскаль стал отдавать интуиции явное предпочтение как источнику истины. Некоторые из его высказываний на эту тему получили широкую известность: «У сердца — свои причины, о которых не знает разум»; «Логика — медленный и мучительный метод, позволяющий тем, кто не знает истины, открывать ее»; «Смири гордыню, бессильный разум».
Многие положения интуиционизма были предвосхищены Иммануилом Кантом. Будучи прежде всего философом, Кант тем не менее в 1755-1770 гг. преподавал математику и физику в Кёнигсбергском университете. Он считал, что свои ощущения мы получаем из предполагаемого внешнего мира, однако эти ощущения (или восприятия) не дают существенного знания. Все восприятия включают в качестве необходимого звена взаимодействие между тем, кто воспринимает, и воспринимаемым объектом. Разум организует восприятия, и эти организации являются интуитивными представлениями о пространстве и времени. Пространство и время не существуют сами по себе, а являются творениями нашего разума. Разум применяет свое понимание пространства и времени к данным опыта, которые лишь пробуждают разум. Знание может начинаться с опыта, но в действительности не опыт является источником знания. Знание берется из разума. Математика дает нам блестящий пример того, как далеко мы можем продвинуться в априорном (истинном) знании независимо от опыта. Математические теоремы Кант относит к разряду так называемых синтетических суждений, т.е. суждений, доставляющих нам новое знание и тем отличающихся от аналитических суждений типа, например, предложения «Все тела протяженны», не содержащих ничего нового, так как в силу самой природы тел протяженность является их неотъемлемым свойством (примером синтетического суждения может служить, скажем, утверждение о том, что отрезок прямой есть кратчайшее расстояние между двумя точками).
Хотя Кант заблуждался, приписывая евклидовой геометрии априорный синтетический характер, аналогичное заблуждение разделяли почти все философы и математики того времени. Эта ошибка дискредитировала философию Канта в глазах философов и математиков последующих поколений. Однако проведенный Кантом анализ времени как одной из форм интуиции и его общий тезис о том, что разум служит источником основных истин, имели непреходящее значение.
Если бы математики были лучше знакомы со взглядами таких мыслителей, как Декарт, Паскаль и Кант, то интуиционистское направление в основаниях математики, считавшееся, по крайней мере в первые годы после его возникновения, весьма радикальным, шокировало бы их гораздо меньше. Но, разумеется, ни Декарт, ни Паскаль, ни Кант не имели в виду интуиционистский подход ко всей математике. Как направление в основаниях математики интуиционизм — порождение нашей эпохи.
Непосредственным предшественником современного интуиционизма был Леопольд Кронекер. Широко известно его высказывание: «Господь бог создал целые числа; все остальное — дело рук человеческих». Сложную логическую концепцию целого числа Кантора и Дедекинда, базирующуюся на теоретико-множественной основе, Кронекер считал менее надежной, чем непосредственное принятие целых чисел. По мнению Кронекера, целые числа интуитивно понятны и не нуждаются в более строгом обосновании.{117} Все остальные математические понятия следовало строить так, чтобы их смысл был интуитивно понятен. Кронекер выступал за построение системы вещественных чисел на основе целых чисел и методов, позволяющих не только доказывать общие теоремы существования, но и вычислять значения соответствующих чисел. Так, Кронекер считал вполне приемлемыми иррациональные числа, являющиеся корнями многочленов, лишь в том случае, если соответствующие корни могут быть вычислены с любой степенью точности.
Кантор доказал, что существуют трансцендентные иррациональные числа, не являющиеся корнями никаких алгебраических уравнений [с целыми коэффициентами]{118}, и в 1882 г. Фердинанд Линдеман (1852-1939) доказал, что π — трансцендентное число. По поводу этой работы Кронекер заявил Линдеману: «Что толку от вашей прекрасной работы о числе π? Стоит ли браться за исследование подобных проблем, если подобные иррациональные числа вообще не существуют?» Возражение Кронекера относилось не вообще к иррациональным числам, а к доказательствам, не позволяющим вычислять те числа, о которых идет речь. Предложенное Линдеманом доказательство трансцендентности числа π не было конструктивным. С помощью разложения в ряд значение π можно было вычислить с любой степенью точности — но Кронекер считал неприемлемым само использование такого (бесконечного!) ряда.
Бесконечные множества и трансфинитные числа Кронекер полностью отвергал, так как считал возможным иметь дело только с потенциальной бесконечностью. С точки зрения Кронекера, все, что сделал в этой области Кантор, было не математикой, а мистикой. Классический анализ Кронекер назвал игрой в слова. Он мог бы с успехом добавить, что если у бога есть несколько математик, то ему следовало бы оставить их при себе. Однако Кронекер лишь высказывал подобные взгляды, но не развивал их. Возможно, он и сам относился к своим столь радикальным воззрениям не слишком серьезно.
Борель, Бэр и Лебег, с чьими возражениями против аксиомы выбора мы уже познакомились, были «полуинтуиционистами». Основание всей математики они усматривали в системе вещественных чисел. Подробное изложение их взглядов представляет лишь исторический интерес, так как и эти математики, в полемике которых речь шла о специальных вопросах, последовательной философии не создали. Пуанкаре, как и Кронекер, считал, что не следует давать определения целым числам или выводить их свойства на аксиоматической основе. Наша интуиция предшествует такому выводу. Пуанкаре также считал, что математическая индукция является общим принципом, допускающим получение новых результатов. При всей своей кажущейся интуитивности метод математической индукции к логике, по его мнению, не сводится.
Сущность метода математической индукции, каким его видел Пуанкаре, заслуживает изучения, поскольку она и поныне вызывает споры. Следуя методу математической индукции, тот, кто хочет доказать, например, что при всех целых положительных n имеет место равенство
1 + 2 + 3 + … + n = n(n + 1)/2 (1)
должен сначала установить, что оно выполняется при n = 1, а затем доказать, что если оно выполняется при каком-то целом n = k, то выполняется и при следующем значении n = k + 1. Следовательно, считал Пуанкаре, метод математической индукции апеллирует к бесконечному множеству аргументов: мы утверждаем, что так как равенство (1) выполняется при n = 1, то оно выполняется и при n = 2, а так как оно выполняется при n = 2, то оно выполняется и при n = 3 и т.д. при всех положительных целых n. Но ни один логический принцип не охватывает бесконечно много аргументов. Следовательно, метод математической индукции не следует из логических принципов. Тем самым, по мнению Пуанкаре, непротиворечивость математики не может быть доказана сведением математики к логике, как предлагали логицисты.
По поводу бесконечных множеств Пуанкаре утверждал: «Актуальной бесконечности не существует. То, что мы называем бесконечностью, представляет собой неограниченную возможность создания новых объектов независимо от того, сколько объектов уже существует».
Пуанкаре резко отрицательно относился к громоздким обозначениям логицистов, и в его «Науке и методе» по поводу логицизма отчетливо звучат саркастические ноты. Так, говоря о подходе к понятию целого числа, избранном Бурали-Форти в работе 1897 г., где число 1 определяется с помощью сложного лабиринта буквенных символов, Пуанкаре замечает:
Это определение в высшей степени подходит для того, чтобы дать представление о числе 1 тем лицам, которые никогда о нем ничего не слышали!.. Я слишком мало понимаю приверженцев Пеано, чтобы рискнуть его [определение числа 1] критиковать; но я опасаюсь, что это определение заключает petitio principii [логическую ошибку «предвосхищение основания»], так как я вижу цифру 1 в левой части и изображенное буквами слово «один» (Un) — в правой части равенства.
([1], с. 377.)Затем Пуанкаре обращается к определению нуля, предложенному одним из первых сторонников логицизма Луи Кутюра (1868-1914). Нуль, по Кутюра, — это «число элементов нулевого класса. А что такое нулевой класс? Это класс, который не содержит никакого элемента» ([1], с. 377). Далее Кутюра «усовершенствует» свое определение, переводя его на язык символических обозначений. Пуанкаре дает обратный перевод: «Нуль есть число предметов, удовлетворяющих такому условию, которое никогда не выполняется. Но так как «никогда» означает «ни в одном случае», то я не вижу значительного успеха в этой замене» ([1], с. 377).
Пуанкаре критикует далее предложенное Кутюра определение числа 1: «Один, утверждает Кутюра, в сущности есть число элементов класса, два любых элемента коего тождественны… Боюсь, что если спросить у Кутюра, что такое «два», то он должен будет в ответ воспользоваться словом «один» ([1], с. 377-378).{119}
Предшественники интуиционизма Кронекер, Борель, Лебег, Пуанкаре и Бэр — созвездие блистательных имен! — высказывали критические замечания по поводу стандартных математических рассуждений и логического подхода, но их собственный вклад в развитие интуиционизма был фрагментарным и случайным. Их идеи вошли в окончательную версию, разработанную голландским математиком, основоположником философии интуиционизма Лейтценом Эгбертом Яном Брауэром (1881-1966). Изложение философии интуиционизма Брауэр начал в своей докторской диссертации «Об основаниях математики» (1907). Обобщенный вариант своих взглядов Брауэр изложил в серии статей, опубликованных, начиная с 1918 г., в различных журналах.
Интуиционистская позиция Брауэра в математике проистекает из его общефилософских взглядов. Математика, считает Брауэр, — это человеческая деятельность, которая начинается и протекает в разуме человека. Вне человеческого разума математика не существует. Следовательно, заключает Брауэр, математика не зависит от реального мира. Разум непосредственно постигает основные, ясные и понятные, интуитивные представления. Они являются не чувственными или эмпирическими, а непосредственно данными, достоверными представлениями о некоторых математических понятиях. К таким понятиям относятся целые числа. Фундаментальное интуитивное представление — постижение различных событий в хронологической последовательности. «Математика возникает тогда, когда сущность двойки [числа «два»], возникающая вследствие хода времени, абстрагируется от всего частного. Остающаяся пустая форма общего содержания всех двоек становится исходным интуитивным представлением математики и, повторяемая неограниченно, создает новые математические сущности». Под неограниченным повторением Брауэр понимает образование последовательных натуральных чисел. Идею о том, что понятие целого числа является производным от интуитивного представления о времени, высказывали также И. Кант, Уильям Р. Гамильтон (в статье «Алгебра как наука о времени») и философ Артур Шопенгауэр.
Математическое мышление, по Брауэру, представляет собой процесс мысленного построения, создающего свой собственный мир, не зависящий от опыта и ограниченный лишь тем, что в основе его должна лежать фундаментальная математическая интуиция. Это фундаментальное интуитивное понятие следует представлять себе не как нечто сходное по природе с неопределяемыми понятиями, встречающимися в аксиоматических теориях. Наоборот, через него должны постигаться разумом все неопределяемые идеи, используемые в различных математических системах, если они действительно призваны служить математическому мышлению. Кроме того, математика по своей природе синтетична. Она занимается составлением истин, а не выводит их из логики.
Брауэр был убежден в том, что «в этом конструктивном процессе, ограниченном непременной обязанностью отмечать по мере возникновения новых идей и повышения культуры мышления, какие тезисы приемлемы для интуиции, самоочевидны для разума, а какие неприемлемы, — единственное возможное основание, которое стремится обрести математика». Интуиция (а не опыт или логика) определяет, согласно Брауэру, правильность и приемлемость идей. Следует помнить, подчеркивал он, что это отнюдь не отрицает той исторической роли, которую сыграл опыт.
Помимо натуральных чисел Брауэр считал интуитивно ясными сложение, умножение и математическую индукцию. Кроме того, получив натуральные числа 1, 2, 3, …, разум, используя возможность неограниченного повторения «пустой формы» — шаги от n к n + 1, — создает бесконечные множества. Однако такие множества лишь потенциально бесконечны в том смысле, что к любому заданному конечному множеству чисел всегда можно прибавить еще большее число. Брауэр отвергал актуально бесконечные множества Кантора, все элементы которых были представлены «в готовом виде», и тем самым отрицал теорию трансфинитных чисел, аксиому выбора Цермело и те разделы анализа, которые используют актуально бесконечные множества. В докладе, прочитанном в 1912 г., Брауэр признал ординальные числа вплоть до ω и счетные множества. Он также допускал существование иррациональных чисел, определяемых последовательностями рациональных чисел без какого бы то ни было закона образования последовательности — «последовательностями свободного выбора». Сколь ни расплывчато это определение, оно все же делало возможным появление несчетного множества вещественных чисел. В то же время геометрия включает понятие пространства и поэтому в отличие от понятия числа не полностью контролируется нашим разумом. Синтетическая геометрия относится к физическим наукам.
В связи с интуиционистским понятием бесконечного множества интуиционист Вейль{120} писал в статье 1946 г.:
Последовательность чисел, которые, возрастая, превосходят любой достигнутый ими предел… есть многообразие возможностей, открывающихся перед бесконечностью; она навсегда остается в стадии сотворения, но не переходит в замкнутый мир вещей, существующих в себе. Источник наших трудностей, в том числе и антиномий [парадоксов], более фундаментален по своей природе, чем указанный принципом порочного круга Рассела, и состоит в том, что мы одно слепо превратили в другое. Брауэр открыл нам глаза и показал, как далеко классическая математика, питаемая верой в абсолют, превосходящий все человеческие возможности реализации, выходит за рамки утверждений, которые могут претендовать на реальный смысл и истинность, основанную на опыте.
Брауэр подверг критическому анализу отношение математики к языку. Математика — полностью автономный, находящий основание в самом себе вид человеческой деятельности. Она не зависит от языка. Слова или словесные связки используются в математике только для передачи истин. Математические идеи уходят своими корнями в человеческий разум глубже, чем в язык. Мир интуитивных математических представлений противостоит миру восприятий. К последнему, а не к математике, принадлежит язык, служащий для повседневного общения. Язык с помощью букв и звуков пробуждает в человеческом разуме копии идей. Различие между идеями и их копиями такое же, как между восхождением на гору и его словесным описанием. Но математические идеи не зависят от словесного одеяния, в которое их облекает язык, и в действительности гораздо богаче. Мысли никогда невозможно выразить полностью даже на математическом языке, в том числе и на языке символов. Кроме того, язык вносит отклонения от предмета собственно математики.
Еще более решительную позицию, резко контрастирующую с логицизмом, интуиционизм занимает в отношении логики. Логика принадлежит языку. Она дает систему правил, позволяющих осуществлять дедуктивный вывод новых словесных связок, предназначаемых, по предположению, для того, чтобы передавать истины. Однако эти истины не относятся к числу постигаемых непосредственно и даже постигаемых вообще. Логика не является надежным инструментом для открытия истин и не может открыть истины, не получаемые каким-то другим путем. Логические принципы — это закономерности, наблюдаемые апостериорно в языке. Их можно назвать удобным инструментом для манипулирования языком или считать, что они образуют теорию представлений языка. Логика — это наделенное внутренней структурой словесное построение, и не более того. Самые значительные успехи в математике достигнуты не за счет усовершенствования логической формы, а в результате изменений основной теории. Логика строится на математике, а не математика на логике. Логика обладает гораздо меньшей определенностью, чем наши интуитивные представления, и поэтому математика не нуждается в поддержке со стороны логики. Если посмотреть исторически, то принципы логики сначала были абстрагированы из опыта, накопленного в обращении с конечными множествами, после чего их объявили обладающими априорной справедливостью и в дополнение ко всему распространили на бесконечные множества.
Не признавая никаких априори обязательных логических принципов, Брауэр тем самым отвергал математическую задачу вывода заключений из аксиом. Следовательно, наряду с логицизмом Брауэр отвергал и аксиоматизацию математики, предпринятую в конце XIX в. Математика отнюдь не обязана почтительно относиться к правилам логики. Знание математики не требует знания формальных доказательств, и поэтому парадоксы несущественны, даже если бы мы приняли те математические понятия и построения, которые приводят к парадоксам. Парадоксы являются дефектом логики, а не собственно математики. Следовательно, непротиворечивость — это своего рода привидение. Она лишена плоти. Непротиворечивость возникает как следствие правильных размышлений, а о правильности размышлений мы судим интуитивно.
Но в логике существуют некоторые ясные, интуитивно приемлемые логические принципы или методы, которые можно использовать для вывода новых теорем из старых. Эти принципы входят составными частями в фундаментальную математическую интуицию. Не все из обычных логических принципов приемлемы для фундаментальной интуиции, и следует критически относиться к тому, что считалось приемлемым со времен Аристотеля. Поскольку математики излишне свободно применяли ограниченные законы Аристотеля, те породили антиномии. Что же допустимого или надежного, спрашивали интуиционисты, в математических построениях, если математики временно предали забвению интуицию и работают лишь со словесной структурой?
Итак, интуиционисты принялись анализировать логические принципы, намереваясь установить, какие из них можно принять, чтобы обычная логика соответствовала и надлежащим образом выражала правильные интуитивные представления. В качестве примера логического принципа, применявшегося излишне свободно, Брауэр привел закон исключенного третьего. Этот принцип, утверждающий, что каждое осмысленное высказывание либо истинно, либо ложно, исторически возник в рассуждениях, проводимых применительно к конечным множествам, и был абстрагирован из них. Затем закон исключенного третьего был принят как независимый и априорный принцип и необоснованно распространен на бесконечные множества. Но если для конечного множества мы можем решить, все ли его элементы обладают некоторым свойством, проверяя один за другим все элементы множества, то для бесконечного множества такая проверка становится невозможной. Может случиться так, что мы заведомо будем знать, что некий элемент бесконечного множества не обладает интересующим нас свойством, или по определению нам будет известно (или мы сумеем это доказать), что каждый элемент множества обладает требуемым свойством. Однако установить с помощью закона исключенного третьего, что каждый элемент множества обладает нужным свойством, нам не удастся никогда, ибо это потребовало бы бесконечного числа проверок.
Так, если доказано, что не все элементы бесконечного множества целых чисел четны, то заключение о существовании (а что означает сам термин «существование») среди них по крайней мере одного нечетного целого числа Брауэр отверг как основанное на применении к бесконечным множествам закона исключенного третьего. Но рассуждения такого типа широко используются в математике для доказательства существования различных сущностей, например для доказательства того, что каждое алгебраическое уравнение имеет корень (гл. IX). Следовательно, многие математические доказательства неприемлемы для интуиционистов. По их утверждениям, такие доказательства слишком неопределенны в отношении тех математических объектов, существование которых они должны доказывать. Закон исключенного третьего может быть использован лишь в тех случаях, когда множество содержит конечное число элементов. Например, если бы мы, рассматривая конечный набор целых чисел, доказали, что они не все четны, то отсюда действительно следовало бы, что по крайней мере одно из чисел нечетно.
Вейль, говоря об интуиционистском взгляде на логику, утверждал:
Согласно его [Брауэра] взглядам и свидетельствам истории, классическая логика была абстрагирована из математики конечных множеств и их подмножеств… Забыв о столь ограниченном происхождении, кто-то впоследствии ошибочно принял логику за нечто, стоящее над математикой и предшествующее всей математике, и, наконец, без всякого на то основания применил логику к математике бесконечных множеств. В этом грехопадение и первородный грех всей теории множеств, за что ее и покарали антиномии. Удивительно не то, что такие противоречия возникли, а то, что они возникли на столь позднем этапе игры.
Несколько позднее Вейль добавил: «Принцип исключенного третьего может быть верным для господа бога, как бы обозревающего единым взглядом бесконечную последовательность натуральных чисел, но не для человеческой логики».
В работе 1923 г. Брауэр привел примеры теорем, которые нельзя считать доказанными, если отрицать применение закона исключенного третьего к бесконечным множествам.{121} В частности, не доказана ни теорема Больцано — Вейерштрасса, утверждающая, что каждое ограниченное бесконечное множество имеет предельную точку, ни теорема о существовании максимума непрерывной функции на замкнутом отрезке. Отвергнутой оказалась и лемма Гейне — Бореля, согласно которой из любого множества отрезков, покрывающих отрезок (взятый вместе с его концами) можно выделить конечную подсистему отрезков, также покрывающих этот отрезок. Разумеется, следствия из всех этих теорем интуиционисты также не считают приемлемыми.
Однако интуиционисты не только отказались от неограниченного использования закона исключенного третьего для доказательства существования математических объектов, но и выдвинули еще одно требование. Они сочли неприемлемым задавать множество свойством, присущим всем его элементам (например, множество, задаваемое признаком «красный», присущим всем элементам этого множества). По мнению интуиционистов, математическому рассмотрению подлежат только конструктивные понятия и объекты, только о них имеет смысл утверждать, что они существуют. Иначе говоря, необходимо указывать метод, позволяющий построить объект или объекты за конечное число шагов (или вычислить с любой требуемой степенью точности).{122} Так, число π, с точки зрения интуиционистов, вполне приемлемо, так как возможно выписать любое число верных знаков его десятичной записи. Если бы нам удалось доказать, что при некотором n > 2 существуют целые числа x, y и z, удовлетворяющие уравнению xn + yn = zn (т.е. доказать великую теорему Ферма), но мы не могли бы при этом указать конкретные значения чисел n, x, y и z, то интуиционист не принял бы такого доказательства.{123} С другой стороны, определение простого числа конструктивно, так как можно указать метод, позволяющий за конечное число шагов установить, является ли то или иное число простым.
Рассмотрим еще один пример. Числами-близнецами называют простые числа вида l − 2 и l, например 5 и 7, 11 и 13. До сих пор неизвестно, конечно или бесконечно количество пар чисел-близнецов. Пусть теперь l — наибольшее простое число, такое, что l − 2 также простое число, если этому нашему определению отвечает какое-то значение l или же l = 1, если l, описываемое первым условием, не существует. Классицист сочтет число l вполне определенным независимо от того, известно или не известно, что последняя пара чисел-близнецов существует, так как по закону исключенного третьего такая пара чисел либо имеется, либо нет, — и, значит, l определено либо первым, либо вторым (l = 1) способом. То, что реально мы не в состоянии вычислить l, для неинтуиционистов несущественно. Интуиционист же будет считать приведенное выше «определение» числа l лишенным смысла до тех пор, пока число l нельзя будет вычислить, т.е. пока не будет решена проблема конечности или бесконечности числа пар чисел-близнецов. Требование конструктивности относится, в частности, и к определению бесконечных множеств. Бесконечные множества, построенные с помощью аксиомы выбора, неприемлемы с точки зрения интуиционистов. Как показывают приведенные выше примеры, некоторые из доказательств существования неконструктивны. Следовательно, их необходимо отвергнуть не только потому, что в них может использоваться закон исключенного третьего, но и по другой причине.
По выражению Германа Вейля, неконструктивные доказательства существования извещают мир о том, что сокровище существует, не указывая при этом его местонахождение, т.е. не позволяя это сокровище использовать. Такие доказательства не могут заменить построение — подмена конструктивного доказательства неконструктивным влечет утрату смысла и значения самого понятия «доказательство». Вейль указал, что приверженцы философии интуиционизма вынуждены отказаться от наиболее важных теорем существования классического анализа. Канторовскую иерархию трансфинитных чисел Вейль считал очень запутанной. Классический анализ, писал Вейль в книге «Континуум» (1918), — это дом, построенный на песке. Уверенным можно быть только в том, что доказано интуиционистскими методами.
Отрицание закона исключенного третьего приводит к возможности появления новых типов неразрешимых высказываний. В бесконечных множествах, как утверждают интуиционисты, возможна третья ситуация: могут существовать высказывания, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Интуиционисты приводили пример такого высказывания. Пусть, по определению, число k характеризуется условием, согласно которому k-e положение в десятичном разложении числа π занимает первый нуль, такой, что за ним по порядку следуют цифры от 1 до 9. По логике Аристотеля, k либо существует, либо не существует, и математики, следуя Аристотелю, исходили в своих рассуждениях лишь из этих двух возможностей. Брауэр и интуиционисты отвергли все рассуждения подобного типа на том основании, что неизвестно, удастся ли нам вообще когда-либо доказать, существует ли число k или не существует. Иначе говоря, по мнению интуиционистов, существуют вполне осмысленные и важные математические проблемы, которые могут оказаться неразрешимыми, какое бы обоснование мы ни подводили под математику.{124} Эти вопросы могут казаться нам разрешимыми только потому, что они касаются понятий и проблем, сходных с теми, которые нам уже приходилось решать в прошлом.
С точки зрения интуиционистов неприемлемы классическое и логическое (аксиоматическое) построения системы вещественных чисел, математический анализ, современная теория функций вещественного переменного, интеграл Лебега и многие другие понятия и теории. Брауэр и его сторонники не ограничивались критикой и пытались построить математику на конструктивной основе. Им удалось спасти некоторые разделы перечисленных выше теорий, но конструктивные варианты отличались такой сложностью, что даже разделявший философию интуиционизма Вейль сетовал по поводу невыносимой громоздкости конструктивных доказательств. Среди прочего интуиционистам удалось перестроить на конструктивной основе элементарные разделы алгебры и геометрии.
Тем не менее перестройка происходила чрезвычайно медленно. И в 1927 г. в статье «Обоснования математики» ([50], с. 365-388; ср. также [50], с. 389-399) Гильберт с полным правом заявил: «Какое значение имеют жалкие остатки, немногочисленные, неполные, не связанные друг с другом единичные результаты, которые были выработаны интуиционистами по сравнению с могущественным размахом современной математики!» ([50], с. 383). Разумеется, в 1927 г. интуиционистам, по их же собственным меркам, не удалось продвинуться сколько-нибудь далеко в осуществлении своей программы перестройки классической математики. К сожалению, интуиционисты, как и логицисты, не смогли прийти к единому мнению относительно того, на какой основе производить эту перестройку. Одни считали необходимым исключить все общие теоретико-множественные понятия и ограничиться лишь теми понятиями, которые допускают эффективное определение или построение. Менее экстремистскую позицию занимали конструктивисты, не ставившие под сомнение классическую логику, а стремившиеся как можно полнее использовать ее.{125} Некоторые выделяли определенный класс математических объектов, а затем вводили конструктивные методы. Немало было и тех, кто допускал по крайней мере тот или иной класс вещественных чисел (не охватывавший весь континуум вещественных чисел). Другие допускали лишь целые числа, а из остальных чисел и функций признавали лишь вычислимые. При этом различные группы понимали вычислимость по-разному. Например, число считалось вычислимым, если к нему можно было приближаться со все возрастающей точностью (эффективно определяя точность приближения!), используя допустимые числа из некоторого множества, по аналогии с тем, как к обычным иррациональным числам можно все более точно приближаться с помощью конечных десятичных дробей.
К сожалению, понятие «конструктивность» отнюдь не является ни четким, ни однозначным. Рассмотрим число N, определенное следующим образом:
На время положим p = 3. Тогда N = 1 − 0,001 = 0,999. С другой стороны, если p = 2, то N = 1,01. Пусть теперь p — первый знак в десятичном разложении числа π, следующий после группы цифр 123456789, идущих друг за другом именно в этом порядке; если же такое p вообще не существует, то положим, что N, по определению, равно 1. Если число p существует и четно, то N = 1,000… (на p-м месте после запятой стоит 1). Если число p нечетно, то N = 0,999… (p девяток после запятой). Однако мы не знаем, существует ли определенное выше число p. Если оно не существует, то N = 1. Если же p существует, но не встречается, например, среди первой тысячи знаков десятичного разложения числа π, то мы не можем даже начать выписывать N. Тем не менее N определено, и его даже можно записать с любой степенью точности. Но разве определение N конструктивно?
Разумеется, доказательства существования, использующие аксиому выбора или гипотезу континуума, не конструктивны; они неприемлемы не только для интуиционистов, но и для многих математиков, не разделяющих идей интуиционистов.
Хотя разные группы интуиционистов и конструктивистов в чем-то расходились между собой, им все же удалось перестроить значительную часть классической математики. Некоторые из перестроенных на конструктивной основе теоремы оказались более узкими, чем их неконструктивные прототипы. Когда интуиционистам указывали на это, они отвечали, что классический анализ при всей своей несомненной полезности по математической истинности уступает конструктивному анализу. Резюмируя, можно сказать, что конструктивистам удалось добиться лишь весьма ограниченных успехов и что перспективы распространить конструктивистский подход на всю современную математику нельзя считать обнадеживающими. Имея в виду медленный прогресс конструктивистского направления, математики из школы Бурбаки, о которой у нас пойдет речь в дальнейшем, заметили: «Интуиционистская школа, о которой математики вспоминают как о своего рода историческом курьезе, во всяком случае, оказала услугу математике тем, что заставила своих противников, т.е. подавляющее большинство математиков, яснее осознать причины (одни — логического порядка, другие — психологического) их веры в математику» ([68], с. 53).{126} Критики интуиционизма вполне могли бы процитировать четверостишие Сэмуэля Хоффенштейна:
Мало-помалу все станет гладко, Коль все ошибки изымем из факта, Иллюзий плевелы — из истины золота, Но разум погибнет от лютого голода.Чтобы гарантировать надежность оснований математики, интуиционисты готовы даже пожертвовать какими-то разделами классической математики и не считают слишком высокой ценой отказ от «рая» канторовской теории трансфинитных чисел.
Хотя противники интуиционизма иногда излишне бесцеремонно и догматически требовали отказа от интуиционистской философии, критические замечания в адрес интуиционизма высказывали и сочувствующие ему люди — и к этим замечаниям нельзя не отнестись серьезно. В частности, одно из критических замечаний состояло в том, что теоремы, которые интуиционисты столь лихорадочно стремились перестроить в соответствии со своими принципами, не были подсказаны интуицией и вряд ли подкреплялись ею. Открытию этих теорем в равной мере способствовали все известные математические методы, всевозможные рассуждения, догадки, обобщения частных случаев и внезапные, не поддающиеся рациональному объяснению озарения. Следовательно, на практике интуиционисты не менее других зависят от обычных методов, принятых в математике, и даже от классической логики, хотя и пытаются реконструировать доказательства в соответствии со своими принципами. В ответ на подобное замечание интуиционисты могли бы возразить, что когда новые результаты устанавливаются традиционными методами, сами результаты вполне могут оказаться интуитивно приемлемыми. Не отрицая важности других утверждений интуиционизма, нельзя не отметить, что многие теоремы, даже приемлемые для интуиционистов, содержат столь тонкие и далекие от интуиции утверждения, что трудно представить, как может человеческий разум непосредственно воспринимать их истинность.
Тезис о важной роли обычных приемов математического творчества, а также идеализации и абстракции выдвинули Феликс Клейн и Мориц Паш. Разве интуиция могла бы открыть непрерывную (нигде не дифференцируемую) функцию{127} или кривую, покрывающую квадрат (кривую Пеано)? Такого рода «патологические» математические объекты, даже если их существование подсказано интуицией, подлежат «очищению», которое производится путем идеализации и абстракции. По выражению Клейна, примитивная интуиция не точна, а утонченная интуиция вообще не является интуицией, а возникает в результате логического вывода из аксиом. В ответ на требование полагаться на надежность логического вывода из аксиом Брауэр возразил, что непротиворечивость системы аксиом доказывается с помощью интерпретаций или моделей (гл. VIII), относительно которых должно быть известно, что они непротиворечивы. Всегда ли мы, справедливо заметил Брауэр, располагаем такими моделями, и не полагаемся ли мы на интуицию, объявляя их непротиворечивыми?
Вейль также оспаривал утверждение о том, что традиционные способы построения новых математических объектов и доказательства якобы обладают большей силой по сравнению с конструктивными. В книге «Разум и природа» (1934) он писал: «Приятно утешать себя надеждой, что сознанию откроются истины более глубокие по своей природе, чем те, которые доступны непосредственно интуиции».
Некоторые из противников интуиционизма, вполне признавая, что математика — это творение человека, тем не менее считали, что правильность или неправильность может быть установлена объективно, тогда как интуиционисты ставили решение этих вопросов в зависимость от человеческого разума, склонного заблуждаться. В этом, как писали Гильберт и Пауль Бернайс (1888-1978) в первом издании своего труда [75] по основаниям математики, мы усматриваем легко уязвимое место интуиционистский философии. На какие понятия и рассуждения мы можем положиться, если правильность понимается как очевидность для человеческого разума? Где же истина, объективно существующая для всех людей?
Другое критическое замечание в адрес интуиционизма состояло в том, что он совсем не касается вопросов о приложимости математики к исследованию природы. Интуиционизм не связывает математику с восприятием. Брауэр признавал, что интуиционистская математика бесполезна для практических приложений. Более того, Брауэр отрицал господство человека над природой. Несмотря на всевозможные критические замечания в адрес интуиционизма, Вейль заявил в 1951 г.: «Думаю, что всякому, кто хотел бы по-прежнему верить в истинность математических утверждений, в истинность, основанную на опыте, придется принять критику, которой подверг основания математики Брауэр».
Доктрины интуиционизма затронули и еще один вопрос, тесно связанный с их основными установками. Как мы уже знаем, интуиционисты утверждали, что здравые и приемлемые идеи могут восприниматься и воспринимаются человеческим разумом. Эти идеи не рождаются в словесной форме. Язык не более чем несовершенное устройство для передачи идей. Вопрос, породивший долгие споры и обсуждения, состоял в следующем: могут ли мысли существовать в бессловесной форме? С одной стороны, в Евангелии от Иоанна говорится: «В начале было Слово». Хотя св. Иоанн, разумеется, не имел в виду математику, процитированное высказывание согласуется с позицией древнегреческих философов и взглядами некоторых современных психологов. С другой стороны, епископ Беркли считал, что слова — это помеха для мышления.
Эйлер затронул эту проблему в «Письмах к немецкой принцессе» (1768-1772; адресатом писем была принцесса Ангальт-Дессау, племянница Фридриха Великого):
Какой бы склонностью ни обладал человек к тренировке своей способности к абстракции и к выработке общих идей, он не сможет преуспеть в этом без помощи языка, устного или письменного. И тот, и другой содержат множество различнейших слов, представляющих собой не что иное, как знаки, соответствующие нашим идеям. Значение словам придается обычаем или молчаливым соглашением нескольких людей, живущих вместе.
Следовательно, единственное назначение языка состоит в том, чтобы люди могли сообщить друг другу о своих чувствах. Одинокий человек мог бы вполне обойтись и без языка. Стоит немного подумать, как станет ясно, что язык нужен людям, чтобы они могли следить за своими мыслями и развивать их, а также общаться друг с другом.
В книге «Исследование психологии процесса изобретения в области математики» (1945) Жак Адамар занялся изучением вопроса о том, как мыслит математик, и обнаружил, что в процессе творчества почти все математики избегают пользоваться языком. Они мыслят смутными образами, визуальными или тактильными. Именно о таком характере мышления говорится в письме Эйнштейна к Адамару, приведенном в названной книге:
Слова, написанные или произнесенные, не играют, видимо, ни малейшей роли в механике моего мышления. Психологическими элементами мышления являются некоторые более или менее ясные знаки или образы, которые могут быть «по желанию» воспроизведены и скомбинированы.
…Элементы, о которых я только что упомянул, бывают у меня обычно визуального или изредка двигательного типа. Слова или другие условные знаки приходится подыскивать (с трудом) только на вторичной стадии…
([70], с. 80.)Разумеется, визуализация играет главную роль в творческом акте. Образ бесконечных прямых, делящих евклидову плоскость на две части, берет начало из визуализации. Вопрос сводится к следующему: «верит» ли разум фактам (независимо от того, каким образом они получены) настолько, что, как утверждают интуиционисты, необходимость в точной словесной формулировке и логическом доказательстве отпадает?
В 1930 г. Аренд Гейтинг (р. 1898), наиболее выдающийся представитель интуиционизма после Брауэра, опубликовал работу с изложением формальных правил интуиционистской логики высказываний{128}; это явилось своего рода символическим выражением намерения наладить отношения с формальными логиками. Логика высказываний охватывала лишь часть классической формальной логики. Например, в логике Гейтинга из истинности высказывания p следует: неверно, что p ложно. Но из утверждения «неверно, что p ложно» еще не следует, что p истинно, так как высказывание p может оказаться неконструктивным. Закон исключенного третьего (утверждение «p или не p всегда истинно») в логике Гейтинга не используется. Но если из высказывания p следует высказывание q, то из отрицания q следует, что p ложно. Сами интуиционисты не придали особого значения предпринятой Гейтингом попытке формализации логики. Она не позволяла полностью представить идеи. Кроме того, формализация Гейтинга не была единственной: среди интуиционистов не существовало единого мнения по поводу того, какие логические принципы считать приемлемыми.
Несмотря на ограничения, наложенные интуиционистами на математику, и на критику интуиционистской философии представителями других направлений, в целом интуиционизм пошел математике на пользу. Он выдвинул на первый план вопрос «Что означает в математике существование?», впервые серьезно обсуждавшийся в связи с аксиомой выбора. Перефразируя Вейля, можно сказать; много ли проку от того, что мы знаем о существовании числа, обладающего теми или иными свойствами, если у нас нет возможности реализовать или вычислить его? Неограниченное, наивное использование закона исключенного третьего явно нуждается в пересмотре. Особенно важно, по-видимому, то, что интуиционизм отстаивал непременную вычислимость чисел и функций, существование которых доказано лишь тем, что предположение об их несуществовании приводит к противоречию. Узнать эти числа непосредственно — это то же самое, что жить рядом с другом, но это означает совсем иное, чем просто знать, что где-то в мире у тебя есть друг.
Противоборство логицистов и интуиционистов было лишь первой схваткой в разгоравшейся битве за обоснование математики. В борьбу вступали все новые участники, о которых речь еще впереди.
XI Формализм и теоретико-множественные основания математики
Какое значение могут иметь жалкие остатки, немногочисленные, неполные, не связанные друг с другом единичные результаты, которые были выработаны интуиционистами, по сравнению с могущественным размахом современной математики!{129}
Давид ГильбертЛогицизм и интуиционизм — два направления, возникшие в первые годы XX в. и придерживавшиеся диаметрально противоположных взглядов на основания математики, — были лишь первыми признаками надвигающейся бури. Третье направление — формализм — сформировал и возглавил Давид Гильберт. Родоначальником четвертого (теоретико-множественного) направления в основаниях математики стал Эрнст Цермело.
В своем докладе [51] на II Международном математическом конгрессе, проходившем в 1900 г. в Париже (гл. VIII), Гильберт подчеркнул важность доказательства непротиворечивости математики. Он указал также, что желательно получить прямое доказательство полной упорядоченности вещественных чисел. Но из работ Цермело мы знаем, что полное упорядочение эквивалентно аксиоме выбора. Гильберт обратил также внимание математиков на необходимость доказательства гипотезы континуума, согласно которой не существует (количественного) трансфинитного числа, большего N0 и меньшего c. Еще до того, как обрели известность парадоксы теории множеств, доставившие немало хлопот математикам, и возникла дискуссия по поводу аксиомы выбора, Гильберт предвидел насущную необходимость решения всех этих проблем.
Суть своего подхода к основаниям математики, в том числе и к доказательству ее непротиворечивости, Гильберт изложил в 1904 г. в докладе на III Международном конгрессе математиков в Гейдельберге. Тогда он еще не имел серьезных работ, реализующих намеченную им программу. В последующие 15 лет логицисты и интуиционисты развили бурную деятельность в направлении, указанном этим докладом; однако Гильберт, мягко говоря, не был удовлетворен предложенными ими решениями проблем, потрясающих сами основания математики.
С логицизмом Гильберт разделался довольно спокойно. Его главное возражение против логицизма в докладе на конгрессе и в работе, опубликованной в том же 1904 г., сводилось к тому, что в ходе длительного и сложного развития логики целые числа оказались, хотя и неявно, вовлеченными в присущую ей систему понятий. Следовательно, занимаясь построением понятия числа, логика в действительности ходит по замкнутому кругу. Критиковал Гильберт и задание множеств по их свойствам: при таком определении множеств возникала необходимость различать высказывания и пропозициональные функции по типам, а теория типов требовала принятия сомнительной аксиомы сводимости. Гильберт разделял мнение Рассела и Уайтхеда о необходимости включения в математику бесконечных множеств. Но для этого потребовалась бы аксиома бесконечности, а Гильберт вместе с другими не считал ее аксиомой логики.
С другой стороны, философия интуиционизма также не устраивала Гильберта, поскольку интуиционисты отвергали не только бесконечные множества, но и обширные разделы анализа, опирающиеся на чистые теоремы существования, и он яростно нападал на интуиционизм. В 1922 г. он обвинил интуиционистов в том, что они «стремятся разрушить и изуродовать математику». В статье 1927 г. он выразил свой протест против интуиционизма следующим образом: «Отнять у математиков закон исключенного третьего — это то же самое, что забрать у астрономов телескоп или запретить боксерам пользование кулаками. Запрещение теорем существования и закона исключенного третьего почти равносильно полному отказу от математической науки» ([50], с. 383).
По поводу отношения Гильберта к интуиционизму Вейль сказал в 1927 г.: «То, что с этой [интуиционистской] точки зрения надежна лишь часть классической математики, причем далеко не самая лучшая, — горький, но неизбежный вывод. Гильберту была невыносима мысль об этой ране, нанесенной математике».
И логицизм, и интуиционизм Гильберт обвинял в том, что они не смогли доказать непротиворечивость математики. В работе 1927 г. Гильберт торжественно заявил:
Математика есть наука, в которой отсутствует гипотеза. Для ее обоснования я не нуждаюсь ни, как Кронекер, в господе боге, ни, как Пуанкаре [который считал, что доказать непротиворечивость системы, использующей математическую индукцию, невозможно], в предположении об особой, построенной на принципе полной индукции способности нашего разума, ни, как Брауэр, в первоначальной интуиции, наконец, ни, как Рассел и Уайтхед, в аксиомах бесконечности, редукции [сводимости] или полноты, которые являются подлинными гипотезами содержательного характера и, сверх того, вовсе не правдоподобными.
([50], с. 383.)В 20-е годы XX в. Гильберт сформулировал свой собственный подход к обоснованию математики и до конца жизни работал над ним. Среди работ, опубликованных Гильбертом в 20-е годы и в начале 30-х годов, особое место по богатству идей занимает работа «О бесконечности» ([44]*, 1925), где он формулирует замысел своей теории: «Эта теория ставит своей целью установить определенную надежность математического метода» ([50], с. 340).
Первый из тезисов Гильберта состоял в том, что, поскольку логика, развиваясь, непременно включает в себя математические идеи и поскольку для сохранения классической математики нам неизбежно приходится привлекать внелогические аксиомы типа аксиомы бесконечности, правильный подход к математике должен включать понятия и аксиомы не только логики, но и математики. Кроме того, логика должна чем-то оперировать, и это «что-то» состоит из внелогических конкретных понятий (таких, как понятие числа), воспринимаемых интуитивно еще до того, как мы начинаем рассуждать логически.
Принятые Гильбертом логические аксиомы несущественно отличаются от аксиом Рассела, хотя Гильберт ввел больше аксиом, поскольку его не интересовало построение наиболее экономной системы аксиом логики. Но так как, согласно Гильберту, математика невыводима из логики (математика не следствие логики, а автономная научная дисциплина), то аксиоматика как логики, так и математики должна включать математические и логические аксиомы. Гильберт считал также, что математику надежнее всего рассматривать не как фактическое знание, а как формальную, т.е. абстрактную, дисциплину, занимающуюся преобразованием символов безотносительно к их значению (хотя неформально значение символов и их отношение к реальности также учитываются). Доказательства теорем должны сводиться к преобразованиям символов, производимым по определенным правилам логического вывода.
Чтобы избежать неоднозначности языка и бессознательного использования интуитивных представлений, приводящих к одним парадоксам, исключить другие парадоксы и достичь строгости доказательств и объективности, Гильберт счел необходимым записать все утверждения логики и математики в символической форме. Хотя символы и могли иметь некоторое интуитивно воспринимаемое значение, в предложенной Гильбертом трактовке математики они не нуждались в интерпретации. Некоторые символы могли даже означать бесконечные множества, поскольку Гильберт намеревался включить их в свою теорию, но в таком случае они оказались бы лишенными интуитивного образа. Такие «идеальные элементы», как их называл Гильберт, необходимы для построения всей математики; поэтому их введение обоснованно, хотя сам Гильберт считал, что в реальном мире существует лишь конечное число объектов: материя состоит из конечного числа элементов.
Суть рассуждений Гильберта можно понять, если воспользоваться следующей аналогией. Иррациональное число лишено интуитивного смысла. Хотя мы можем построить отрезки, длины которых выражаются иррациональными числами, эти длины сами по себе еще не создают никакого интуитивного представления об иррациональных числах. Тем не менее иррациональные числа как идеальные элементы с необходимостью входят даже в элементарную математику. Именно поэтому математики и шли на использование иррациональных чисел, хотя те до 70-х годов XIX в. не имели логического обоснования. Гильберт занял аналогичную позицию в отношении комплексных чисел, т.е. чисел, содержащих выражение √−1. Комплексные числа не имеют прямых аналогов среди вещественных чисел, тем не менее они позволяют сформулировать некоторые общие теоремы, например теорему о том, что каждое алгебраическое уравнение n-й степени имеет ровно n корней, и делают возможной теорию функций комплексного переменного, оказавшуюся необычайно полезной даже в физических исследованиях. Независимо от того, означают ли символы объекты, имеющие интуитивный смысл или лишенные его, все знаки и символы понятий и операций рассматриваются как чисто формальные элементы той системы, которую мы строим. По мнению Гильберта, при обосновании математики элементами математического мышления следует считать символы и высказывания, т.е. комбинации (или строки) символов. Формалисты надеялись «купить» определенность за подходящую цену, и этой ценой было манипулирование символами, лишенными всякого смысла.
К счастью, символика логики была разработана в конце XIX — начале XX вв. (гл. VIII), поэтому у Гильберта с самого начала было под рукой все необходимое. В частности, он располагал такими символами, как — ~ (не), ∙ (и), \/ (или), (следует), (существует). Все они были первичными, или неопределяемыми, понятиями. Что же касается самой математики, то для нее символические обозначения были разработаны давно.
По замыслу Гильберта из выбранных им аксиом логики должны были следовать все законы логики Аристотеля. Применимость этих аксиом вряд ли вызывала у кого-нибудь сомнения, например, если X, Y и Z — высказывания, то одна из аксиом Гильберта гласит: «Если X, то X \/ Y» (иными словами, «Если истинно X, то истинно также X или Y»). Другая аксиома сводится к неформальному утверждению о том, что если из X следует Y, то из «Z или X» следует «Z или Y». Особое место в логике Гильберта занимает схема заключения. На неформальном уровне она утверждает, что если формула А верна и если из формулы А следует формула В, то формула В верна. В аристотелевой логике этот закон называется modus ponens (модус поненс). Гильберт не хотел также отказываться от закона исключенного третьего и с помощью специального приема записал в символическом виде и этот закон. Тот же прием позволил формализовать и аксиому выбора, которая, несомненно, принадлежит к числу математических аксиом. Подобный прием позволял избегать явного употребления слова «все» — Гильберт надеялся, что это поможет ему обойти все парадоксы.
В любой области математики, имеющей дело с числами, существуют (в соответствии с программой Гильберта) аксиомы арифметики. Например, существует аксиома «из a = b следует a' = b'», утверждающая, что если два целых числа a и b равны, то числа, непосредственно следующие за ними (интуитивно — ближайшие большие a, соответственно b, целые числа), также равны. В аксиомы арифметики входит и аксиома математической индукции (ср. [72]). Как правило, аксиомы имеют отношение к нашему опыту, связанному с наблюдением явлений природы, или к миру уже существующих математических знаний.
Формальная система, представляющая теорию множеств, должна содержать (записанные в виде комбинаций символов) аксиомы, которые указывают, какие множества допустимо образовывать. Например, подобные аксиомы могут допускать составление множества, являющегося объединением двух множеств, и множества всех подмножеств данного множества.
Записав все математические и логические аксиомы в виде символических формул, Гильберт подготовил все необходимое для ответа на главный вопрос: что следует понимать под объективным доказательством? По Гильберту, строгое доказательство складывается из трех этапов: 1) предъявление некоторой формулы; 2) утверждение, что из предъявленной формулы следует другая формула, и 3) предъявление второй формулы. Последовательность из этих трех этапов, в которой вторая предъявляемая формула является следствием из принятых ранее аксиом или ранее выведенных заключений, и является доказательством теоремы. Допустимой операцией считается также подстановка одного символа или группы символов вместо другого символа или группы символов. По Гильберту, вывод формулы сводится к применению логических аксиом для манипуляции с символами ранее выведенных формул или аксиом.
Формула истинна в том и только том случае, если ее можно получить как последнее звено последовательности формул, каждый член которой либо представляет собой аксиому формальной системы, либо выведен с помощью одного из правил вывода. При желании можно проверить, является ли данная формула заключительным звеном соответствующей цепочки дедуктивных выводов, поскольку доказательство по существу представляет собой механическое преобразование символов. Мы видим, что, с точки зрения формалиста, доказательство и строгость — понятия вполне определенные и объективные.
Собственно математику формалист рассматривает как набор формальных систем, каждая из которых имеет свою логику, обладает своими собственными понятиями, своими аксиомами, своими правилами дедуктивного вывода и своими теоремами. Развитие каждой из этих формальных систем и составляет задачу математики.
Такова была предложенная Гильбертом программа построения собственно математики. Но свободны ли от противоречий выводимые из аксиом заключения? Поскольку предыдущие доказательства непротиворечивости основных областей математики проводились в предположении, что арифметика непротиворечива (более того, как показал сам Гильберт, непротиворечивость евклидовой геометрии сводится к непротиворечивости арифметики), вопрос о непротиворечивости последней приобрел решающее значение. По словам Гильберта, «в геометрии и физической теории доказательство непротиворечивости достигается путем сведения к непротиворечивости арифметики. Подобный метод явно непригоден для доказательства непротиворечивости самой арифметики». Гильберта волновал вопрос абсолютной, а не относительной непротиворечивости. На этой проблеме он сосредоточил свои усилия, утверждая, что нельзя подвергать себя риску столкнуться в будущем с неприятными сюрпризами, подобными тем, которые возникли в математике начала XX в.
Непротиворечивость «не видна снаружи». Невозможно предвидеть все следствия из аксиом. Но Гильберт, как и почти все математики, занимавшиеся проблемами оснований математики, использовал понятие материальной импликации (гл. VIII), в которой из ложного высказывания следует что угодно. Если в системе существует противоречие, то по закону противоречия одно из каких-то двух высказываний должно быть ложным, а если существует ложное высказывание, то из него следует, что 1 = 0. Следовательно, для доказательства непротиворечивости необходимо лишь убедиться в том, что мы нигде не придем к утверждению 1 = 0. Тогда, заметил Гильберт в работе 1925 г., «то, что мы пережили дважды — сначала с парадоксами дифференциального исчисления, а затем с парадоксами теории множеств — не произойдет в третий раз и не повторится никогда».
В серии работ, выполненных в период 1920-1930 гг., Гильберт и его ученики Вильгельм Аккерман (1896-1962), Пауль Бернайс (1888-1978) и Джон фон Нейман (1903-1957), постепенно создали метод, получивший название гильбертовской Beweistheorie [теории доказательства] или метаматематики, — метод доказательства непротиворечивости любой формальной системы (ср. [73], [74]). Суть основной идеи метаматематики можно пояснить с помощью следующей аналогии. Допустим, вы захотели бы изучить выразительные возможности японского языка и решили бы проводить этот анализ на японском языке — тогда ваши результаты оказались бы в значительной мере ограничены возможностями самого японского языка. Но если считать, что английский язык выразителен, то при изучении возможностей японского языка целесообразно было бы воспользоваться английским.
В метаматематике Гильберт предложил использовать особую логику, которая не вызывала бы никаких возражений. Истинность ее законов должна быть настолько очевидной, что всякий мог бы принять их без тени сомнения. По существу эти идеи Гильберта были весьма близки принципам интуиционизма. Все спорные моменты — доказательство существования от противного, трансфинитная индукция, актуально бесконечные множества, непредикативные определения — старательно изгонялись. Доказательства существования должны были быть конструктивными. Поскольку формальная система может продолжаться неограниченно, метаматематика не могла обойти вниманием понятия и проблемы, по крайней мере относящиеся к потенциально бесконечным системам. Но ссылки на бесконечное число структурных свойств формулы или использование бесконечного числа производимых над формулами операций объявлялись недопустимыми. Рассматривать формулы, в которые входят символы, означающие актуально бесконечные множества, не запрещалось, но сами множества могли входить лишь как символы в формулах. Математическая индукция по натуральным (положительным целым) числам считалась допустимой, поскольку она доказывает утверждение для любого конечного n; однако не следовало понимать этот метод так, будто он позволяет доказывать утверждение сразу для всего бесконечного множества натуральных чисел.
Понятия и методы метаматематического доказательства Гильберт назвал финитными. Строгого определения этого термина дано не было. В работе 1925 г. смысл финитности Гильберт пояснил на следующем примере. Высказывание «Если p — простое число, то существует простое число, которое больше p» не финитно, так как представляет собой утверждение о всех целых числах, которые больше p. Высказывание же «Если p — простое число, то существует простое число, которое больше p и меньше p! + 1 (p — факториал плюс единица)» финитно, так как при любом простом p нам необходимо лишь убедиться, существует ли простое число среди конечного{130} множества чисел, заключенных между p и p! + 1.
В книге, написанной вместе с Бернайсом и опубликованной в 1934 г., Гильберт описывает финитность следующим образом:
…Мы будем говорить о финитных понятиях и утверждениях, подчеркивая всюду словом «финитный», что рассматриваемое рассуждение, утверждение или определение придерживаются рамок принципиальной представимости объектов и принципиальной выполнимости операций, а тем самым происходят в рамках конкретного рассмотрения.
([75], т. I, с. 59.)В тех случаях, когда это не могло привести к недоразумениям, формалисты использовали язык и некоторые обозначения интуитивной, или неформальной, математики.
Выступая с докладом о своей метаматематической программе на Международном математическом конгрессе 1928 г., Гильберт с уверенностью заявил: «Не сомневаюсь, что наш новый подход к основаниям математики, который можно было бы назвать теорией доказательства, позволит навсегда покончить со всеми проблемами обоснования математики». В частности, Гильберт выражал надежду на то, что ему удастся доказать непротиворечивость математики и решить проблему полноты. Иначе говоря, все высказывания, имеющие смысл, будут либо доказаны, либо опровергнуты. Не останется ни одного неразрешимого утверждения.
Как и следовало ожидать, формалистская программа вызвала критику со стороны представителей соперничающих направлений. Во втором издании «Принципов математики» (1937) Рассел заметил, что используемые формалистами аксиомы арифметики не задают однозначно значения символов 0, 1, 2, …, с тем же успехом счет можно было бы начать и с того, что мы интуитивно понимаем под числами 100, 101, 102, …. Поэтому утверждение «Апостолов было 12» с точки зрения формализма лишено смысла. «Формалисты напоминают часовщика, который настолько озабочен тем, как выглядят выпускаемые им часы, что забыл об их прямом назначении — измерять время — и не вставил в корпус механизм». Логицистское определение числа вкладывает смысл в связь этого понятия с реальным миром; формалистская теория лишает такую связь всякого смысла.
Рассел подверг критике и формалистское понятие существования. Гильберт считал приемлемыми бесконечные множества и другие идеальные элементы и утверждал, что если аксиомы какой-либо области математики, включающие закон исключенного третьего и закон противоречия, не приводят к противоречию, то тем самым гарантируется существование объектов; удовлетворяющих этим аксиомам. Такую трактовку существования Рассел назвал метафизической. Кроме того, он обратил внимание на то, что число непротиворечивых аксиоматических систем, которые можно придумать, неограниченно, но интерес представляют лишь такие системы, которые согласуются с эмпирическим материалом.
Критика Рассела напоминает поговорку «Не смейся, горох, ты не лучше бобов». Должно быть, к 1937 г. он успел основательно подзабыть то, что писал сам в 1901 г.: «Математику можно определить как предмет, в котором никогда не известно ни то, о чем мы говорим, ни истинно или ложно то, что мы говорим».
Формалистская программа была неприемлема и для интуиционистов. Помимо основных различий во взглядах на бесконечность и закон исключенного третьего интуиционисты неоднократно подчеркивали, что они полагаются на смысл математики и стремятся установить, насколько его можно считать здравым, в то время как формалисты (и логицисты) имеют дело с идеальными, или трансцендентальными, мирами, лишенными всякого смысла. Брауэр еще в 1908 г. показал, что в некоторых утверждениях классического математического анализа, в том числе в теореме Больцано — Вейершрасса (носящей сугубо специальный характер и утверждающей, что у любого ограниченного бесконечного множества существует по крайней мере одна предельная точка), логика и здравый смысл находятся в вопиющем противоречии. Мы должны выбирать, заявил Брауэр, между нашим априорным понятием положительного целого числа и неограниченным использованием закона исключенного третьего в тех случаях, когда последний применяется к любому утверждению, не поддающемуся проверке за конечное число шагов. Некритическое использование аристотелевой логики привело к появлению формально правильных, но бессмысленных утверждений. Порывая со смыслом во многих логических построениях, классическая математика тем самым порывала с реальностью.
Критика Брауэра заставила многих осознать неправильность казавшегося ранее бесспорным мнения о том, что великие математические теории правильно отражают некое заложенное в них реальное содержание. Разумеется, создатели математических теорий мыслили их как идеализации реальных вещей и явлений. Но впоследствии, особенно в XIX в., многие понятия математического анализа утратили какую бы то ни было интуитивную подоплеку, и в глазах интуиционистов они не выглядели логически удовлетворительными. Принять взгляды Бауэра означало отвергнуть значительную часть классической математики на том основании, что она лишена интуитивного смысла.
Современные интуиционисты заявляют, что формализованная математика бессодержательна, даже если бы Гильберту и удалось доказать ее непротиворечивость. Вейль сетовал на то, что Гильберт «спас» классическую математику «ценой коренного пересмотра ее содержания», формализовав и выхолостив ее и «тем самым в принципе превратив из системы с интуитивно воспринимаемыми результатами в игру с формулами по определенным, раз и навсегда установленным правилам… Вполне возможно, что математика Гильберта представляет собой великолепную игру с формулами, более увлекательную, чем шахматы. Но что, спрашивается, дает такая игра нашему разуму, если ее формулы умышленно лишены материального содержания, посредством которого они могли бы выражать интуитивные истины?» В защиту формалистской философии следует заметить, что Гильберт свел математику к бессодержательным формулам только во имя высокой цели: доказательства непротиворечивости, полноты и других не менее важных свойств. Что же касается математики в целом, то даже формалисты никогда не считали ее «просто игрой», а рассматривали как вполне содержательную научную дисциплину.
Как и Рассел, интуиционисты возражали против формалистской интерпретации существования в математике. Гильберт утверждал, что существование любого математического объекта гарантируется непротиворечивостью той области математики, в которой он был введен. Такая интерпретация существования была неприемлема для интуиционистов. Непротиворечивость отнюдь не гарантирует истинности чистых теорем существования. Возражение против принятия формалистской интерпретации существования было выдвинуто двести лет назад Кантом в его «Критике чистого разума»: «Бесплодная попытка подменить логическую возможность понятия (поскольку понятие не противоречит само себе) трансцендентальной возможностью вещей (поскольку понятию соответствует предмет) может обмануть и удовлетворить разве только неискушенного человека» ([18], т. 3, с. 364).
Яростный спор между формалистами и интуиционистами происходил в 20-е годы нашего столетия. В 1923 г. с критикой формалистского направления в основаниях математики выступил Брауэр. Как утверждал Брауэр, формалистский подход позволяет избежать противоречий, но не дает ничего, что обладало бы хоть какой-то математической ценностью. «Некорректная математическая теория, даже если ее нельзя отвергнуть, ссылаясь на какое-нибудь опровергающее ее противоречие, все же остается некорректной, подобно тому как преступление остается преступлением независимо от того, удастся ли суду оправдать преступника.» В лекции, прочитанной в 1912 г. в Амстердамском университете, Брауэр саркастически заметил: «На вопрос, где следует искать математическую строгость, две группировки дают два различных ответа. Интуиционисты отвечают, что в человеческом разуме, формалисты — что на бумаге».
В свою очередь Гильберт обвинил Брауэра и Вейля в том, что те пытаются выбросить за борт все им не подходящее и наложить диктаторские запреты на многие плодотворные области науки. В работе 1925 г. Гильберт назвал интуиционизм изменой науке. Тем не менее Вейль считал, что в метаматематике Гильберт, по существу, ограничил свои принципы интуционистскими.
Нужно сказать, что принципы метаматематики также подверглись критике. Предполагалось, что принципы метаматематики ни у кого не встретят возражений. Но сами формалисты оказались весьма разборчивыми. Почему же их интуиция должна быть пробным камнем? Почему в таком случае не применить интуиционистский подход целиком ко всей математике? Разумеется, высшим критерием допустимости того или иного метода в метаматематике должна быть его убедительность, но убедительность для кого?
Хотя формалисты могли ответить далеко не на все критические замечания, с начала 30-х годов у них появился весомый аргумент, существенно подкреплявший их позицию. К этому времени Рассел и его коллеги-логицисты признали, что аксиомы логики не являются универсальными истинами и поэтому их непротиворечивость отнюдь не гарантирована автоматически, а интуиционисты могли лишь утверждать, что надежной гарантией непротиворечивости служит сама интуиция. Между тем формалисты располагали тщательно продуманной процедурой доказательства непротиворечивости, которая с успехом применялась к простым системам; это вселяло в формалистов уверенность, что им удастся доказать непротиворечивость арифметики, а тем самым и всей математики. Однако мы на время оставим формалистов в этой сравнительно благоприятной для них позиции и обратимся к еще одному конкурирующему направлению в основаниях математики.
Представители этого направления, получившего название теоретико-множественного, сначала не формулировали в явном виде свою философию — и сторонников, и явно сформулированную программу это направление обрело позднее. Ныне теоретико-множественное направление по числу своих приверженцев успешно конкурирует с логицизмом, интуиционизмом и формализмом.
Истоки теоретико-множественного направления можно проследить в работах Дедекинда и Кантора. Хотя оба этих математика занимались главным образом изучением бесконечных множеств, они приступили к теоретико-множественному обоснованию обычных целых (натуральных) чисел, прекрасно понимая, что если бы им удалось обосновать целые числа, то тем самым была бы обоснована и вся математика (гл. VIII).
Когда обнаружились противоречия в канторовской теории множеств (трудности, связанные с понятиями наибольшего кардинального и наибольшего ординального числа) и противоречия типа парадоксов Рассела и Ришара, также имеющие непосредственное отношение к теории множеств, некоторые математики решили, что парадоксы обусловлены неформальным введением множеств. Кантор смело высказывал новые идеи, но его изложение далеко не соответствовало требованиям математической строгости. Он дал несколько словесных определений множества в 1884, 1887 и 1895 гг. Под множеством Кантор, по существу, понимал любой набор вполне определенных предметов, доступных нашей интуиции или мысли. Иначе говоря, по Кантору, множество определено, если относительно любого предмета x мы знаем, принадлежит он множеству или нет. Оба варианта определения множества не отличаются строгостью, и теорию множеств в том виде, как ее изложил Кантор, ныне нередко называют наивной.{131} По мнению представителей теоретико-множественного направления, тщательный выбор аксиоматической основы должен был избавить теорию множеств от парадоксов, подобно тому как аксиоматизация геометрии и системы чисел позволила разрешить все связанные с ними логические проблемы.
Хотя теория множеств была составной частью логистического направления в математике, представители теоретико-множественной школы предпочитали прямой аксиоматический подход к теории множеств. Аксиоматизацию теории множеств впервые предпринял Эрнест Цермело в работе 1908 г. Причину парадоксов он видел в том, что Кантор не уточнил понятие множества. Поэтому, как полагал Цермело, ясные и явно сформулированные аксиомы могли бы прояснить, что следует понимать под множеством и какими свойствами оно должно обладать. В частности, Цермело намеревался ограничить размеры допустимых множеств. Цермело не придерживался какой-либо последовательной философии, а лишь стремился избежать противоречий. Предложенная Цермело система аксиом оставляла неопределенными фундаментальные понятия множества и отношение включения одного множества в другое. Эти неопределяемые понятия и другие, заданные явными определениями, должны были удовлетворять утверждениям, содержащимся в аксиомах. Не допускалось использование никаких других свойств множеств, кроме тех, что перечислены в аксиомах. Аксиомы гарантировали существование бесконечных множеств и выполнимость таких операций, как объединение множеств и образование подмножеств. Цермело использовал также аксиому выбора.
Система аксиом Цермело была усовершенствована несколько лет спустя (1922) Абрагамом А. Френкелем (1891-1965). Цермело не проводил различия между свойством, задающим множество, и самим множеством. Эти понятия для Цермело были синонимичны. Различие между свойствами множества и множеством было введено Френкелем в 1922 г. Система аксиом, в наше время наиболее часто используемая специалистами по теории множеств, известна как система Цермело — Френкеля. Оба автора опирались на самую изощренную и стройную математическую логику, какая только существовала в их время, но не указывали явно логические принципы. Цермело и Френкель считали их лежащими за пределами математики и применяли столь же уверенно, как в XIX в. математики пользовались логикой.
Назовем некоторые из аксиом Цермело — Френкеля, взяв на себя смелость привести их в словесной формулировке.
1. Два множества тождественны, если они состоят из одних и тех же элементов. (Интуитивно это определяет множество.)
2. Существует пустое множество.
3. Если x и y — множества, то неупорядоченная пара {x, y} также множество.
4. Объединение любого множества множеств есть множество.
5. Существуют бесконечные множества. (Пятая аксиома делает допустимыми трансфинитные кардинальные числа. Это имеет решающее значение, поскольку не подлежит проверке опытом.)
6. Любое свойство, формализуемое на языке теории, может быть использовано для определения множества.
7. Допускается образование множества подмножеств любого множества, т.е. набор всех подмножеств данного множества есть множество. (Процесс образования множества подмножеств можно повторять любое число раз, т.е. рассматривать множество всех подмножеств любого данного множества как некое новое множество; множество подмножеств этого множества также является множеством и т.д).
8. Аксиома выбора.
9. x не принадлежит x.
Нельзя не отметить одну замечательную особенность аксиом Цермело — Френкеля: они не допускают к рассмотрению множество, которое содержит все множества, и тем самым, возможно, позволяют избежать парадоксов. В то же время аксиомы Цермело — Френкеля вместе со следствиями из них адекватно отражают все понятия и теоремы теории множеств, необходимые для построения классического математического анализа. Построить теории натуральных чисел на основе теории множеств несложно. Кантор утверждал в 1885 г., что чистая математика сводится к теории множеств, и канторовская программа была осуществлена Расселом и Уайтхедом, хотя их подход к теории множеств отличался гораздо большей сложностью. А если воспользоваться методом координат, то из математики чисел (т.е. из арифметики) следует вся математика, включая геометрию. Тем самым теория множеств становится основанием всей математики.{132}
Можно сказать, что надежда избежать противоречий в случае аксиоматизации теории множеств была основана на ограничении типов допустимых множеств, причем если налагаемые ограничения не слишком жестки, то система аксиом оказывается достаточной для обоснования математического анализа. Аксиомы теории множеств позволили до такой степени избежать парадоксов, что никому не удавалось получить их в рамках теории. Цермело заявил, что ни один парадокс не может возникнуть в аксиоматической теории множеств. Более поздние представители теоретико-множественного направления пребывали и продолжают пребывать в полной уверенности, что ни один парадокс не может быть выведен в теории, поскольку Цермело и Френкель тщательно построили иерархию множеств, исключив все неоднозначности, существовавшие в более ранних работах о множествах и их свойствах. К подобным заявлениям представителей теоретико-множественной школы никто из их идейных противников не относился всерьез. Пуанкаре не без сарказма заметил: «Мы возвели ограду вокруг стада, чтобы защитить его от волков, но нам не известно, нет ли волков внутри ограды».
Теоретико-множественное направление, как, впрочем, и все другие направления в основаниях математики, также не избежало критики. Многие считали недопустимым использование аксиомы выбора. Другие критики усматривали признак слабости теоретико-множественного направления в том, что его представители обходили молчанием вопрос о логических основах своей теории. Сама логика и ее отношение к математике явились предметом подробного обсуждения уже в первом десятилетии XX в. Представители же теоретико-множественного направления довольно небрежно обращались с логическими принципами. Их уверенность в непротиворечивости аксиоматической теории множеств считалась проявлением наивности (критики не без яда напоминали, что и Кантор был наивен до тех пор, пока не столкнулся с трудностями, гл. IX). Некоторые критики находили, что аксиомы теории множеств весьма произвольны и носят искусственный характер. Аксиомы Цермело — Френкеля предназначены для того, чтобы избежать парадоксов, но некоторые из этих аксиом неестественны или не основаны на интуитивных представлениях. Коль скоро представители теоретико-множественного направления принимают логические принципы как нечто очевидное, то почему бы не начать с арифметики, спрашивали критики.
Несмотря на все критические замечания, аксиоматика Цермело — Френкеля до сих пор используется некоторыми математиками как надежное основание для построения всей математики. Теория множеств Цермело — Френкеля — самая общая и фундаментальная теория, на которой и ныне строятся математический анализ и геометрия. Число приверженцев других направлений в основаниях математики возрастало по мере того, как их лидеры развивали и пропагандировали свои взгляды. Аналогичная история произошла и с теоретико-множественным подходом. Некоторые логицисты, например, Уиллард Ван Орман Куайн, выступили в поддержку теории множеств. В этой связи нельзя не упомянуть (нарушая хронологическую последовательность изложения) о группе известных и весьма уважаемых математиков, объединившихся под коллективным псевдонимом Никола Бурбаки. В 1936 г. эта группа поставила перед собой задачу доказать во всех деталях то, в чем были глубоко убеждены многие математики: если принять аксиоматику теории множеств Цермело — Френкеля (в переработке Бернайса и Гёделя) и некоторые принципы логики, то на них можно построить всю математику. Но для бурбакистов логика подчинена аксиомам собственно математики. Логика не определяет ни того, что такое математика, ни того, чем занимаются математики.
Свои взгляды на логику бурбакисты выразили в статье, опубликованной в Journal of Symbolic Logic (1949): «Иначе говоря, логика, если говорить о математиках, представляет собой не больше и не меньше, как грамматику языка, которым мы пользуемся, языка, который должен был существовать еще до того, как могла быть построена грамматика». Последующее развитие математики может потребовать новых модификаций логики. Так случилось с введением бесконечных множеств и, как мы увидим при обсуждении нестандартного анализа (гл. XIII), будет происходить в дальнейшем. Школа Бурбаки отвергла Фреге, Рассела, Брауэра и Гильберта. Ее представители используют аксиому выбора и закон исключенного третьего, хотя выводят его с помощью приема, предложенного Гильбертом. Группу Бурбаки не заботит проблема непротиворечивости. По поводу нее бурбакисты утверждают: «Мы просто отмечаем, что все эти трудности могут быть преодолены способом, позволяющим избежать всех возражений и не оставляющим сомнений в правильности рассуждений». Противоречия возникали в прошлом, и каждый раз их удавалось успешно разрешить. То же будет происходить и впредь. «Вот уже двадцать пять веков математики имеют обыкновение исправлять свои ошибки и видеть в этом обогащение, а не обеднение своей науки; это дает им право смотреть в будущее спокойно» ([2], с. 30). Бурбаки выпустил около тридцати томов «Элементов математики», построенных на основе теоретико-множественного подхода.{133}
Итак, к тридцатым годам XX в. сложились четыре различных, так или иначе конфликтующих подхода к математике, и сторонники различных направлений, не будет преувеличением сказать, вели между собой ожесточенную борьбу. Никто не мог более утверждать, что такая-то и такая-то теорема доказана правильно: в 30-е годы непременно следовало пояснить, каким стандартам правильности удовлетворяет данное доказательство. Проблема непротиворечивости математики — основная проблема, стимулировавшая появление и развитие не одного нового подхода, — не ставилась совсем (исключение, быть может, составляют интунционисты, считавшие, что человеческая интуиция служит надежной гарантией непротиворечивости).
Та самая наука, которая в начале XIX в., несмотря на все зигзаги логического развития, была провозглашена совершеннейшей из наук, та самая наука, в которой теоремы доказывались с помощью неопровержимых, безупречных рассуждений, та самая наука, утверждения которой были не только неопровержимыми, но и считались истинами об окружающем нас мире и, по мнению некоторых, остались бы истинами в любом из возможных миров, не только отказалась от всяческих притязаний на истину, но и запятнала себя конфликтами между различными школами в основаниях и взаимоисключающими утверждениями о правильных принципах логики. Гордость человеческого разума была глубоко уязвлена.
Положение, сложившееся в 30-е годы, красочно описал математик Эрик Темпл Белл:
Как известно большинству математиков по собственному опыту, многое из того, что одно поколение математиков считает надежным и удовлетворительным, имеет шанс обратиться в тончайшую паутину под пристальным взором следующего поколения… Знания как в некотором смысле разумного общего соглашения по вопросам обоснования математики, по-видимому, не существует… Ясно одно: одинаково компетентные специалисты разошлись и продолжают расходиться во мнениях по поводу простейших рассуждений, хоть в малейшей степени явно или неявно претендующих на универсальность, общность или неоспоримость.
Что могла ожидать математика от будущего? Как мы увидим, будущее принесло множество новых, не менее серьезных проблем.
XII Бедствия
Жарко, жарко, пламя ярко!
Хороша в котле заварка!{134}
Вильям Шекспир, МакбетОглядываясь назад, можно сказать, что состояние оснований математики в 30-е годы XX в. было вполне удовлетворительным. Парадоксы были разрешены, хотя каждая из школ в основаниях математики решала их по-своему. Правда, не существовало единого мнения относительно того, какую математику надлежит считать правильной, но каждый математик мог выбрать подход, наиболее отвечающий его вкусам, и действовать в соответствии с принципами, которых придерживались сторонники данного направления.
Однако две проблемы продолжали беспокоить математиков. Первой, и главной, была проблема доказательства непротиворечивости математики — та проблема, которую в 1900 г. поставил в своем докладе на II Международном математическом конгрессе в Париже Гильберт. Хотя известные парадоксы были разрешены, опасность возникновения в будущем новых парадоксов по-прежнему существовала. Вторая проблема, не дававшая покоя математикам, была связана с так называемой полнотой аксиоматических систем. Говоря кратко, полнота системы аксиом, описывающих какую-либо область математики, означает в известном смысле адекватность этой аксиоматики тому разделу науки, который с ее помощью задается, т.е. означает возможность доказать на основе принятой системы аксиом истинность или ложность любого осмысленного утверждения, содержащего понятия рассматриваемой области математики.
На самом элементарном уровне проблема полноты сводится к вопросу о том, можно ли на основании аксиом Евклида доказать (или опровергнуть), например, разумную гипотезу о том, что в евклидовой геометрии высоты треугольника всегда пересекаются в одной точке. На более высоком уровне (в области кардинальных трансфинитных чисел) проблему полноты иллюстрирует гипотеза континуума (гл. IX). Полнота аксиоматической системы требует, чтобы с помощью аксиом теории множеств гипотезу континуума можно было или доказать, или опровергнуть. Полнота аксиоматики арифметики (теории чисел) требует, чтобы с помощью аксиом теории чисел (т.е. аксиом, задающих множество натуральных чисел) можно было либо доказать, либо опровергнуть гипотезу Гольдбаха, согласно которой каждое четное число представимо в виде суммы двух простых чисел. Пока мы не знаем, верна эта гипотеза или не верна, но если аксиоматика арифметики полна, то она либо верна, либо не верна — третьего исхода нет. Проблема полноты затрагивает также множество других утверждений, которые на протяжении десятилетий и даже веков математикам не удавалось ни доказать, ни опровергнуть.
Представители различных направлений в основаниях математики по-разному относились к проблемам непротиворечивости и полноты. Рассел перестал считать абсолютными истинами логические аксиомы логицистов и признал, что введенная им аксиома сводимости (гл. X) носит искусственный характер. Развитая Расселом теория типов позволила избежать известных парадоксов, и он полагал, что названная теория даст возможность разрешить и новые парадоксы, которые могут возникнуть в будущем. Но одно дело — субъективная уверенность и совсем иное — доказательство. Решить проблему полноты Расселу так и не удалось, несмотря на все его усилия.
Представители теоретико-множественного направления были убеждены в том, что их подход не приводит к новым противоречиям, однако доказать это они не могли. Проблема полноты была не единственной, и даже не главной, их заботой. Интуиционисты также довольно безразлично относились к проблеме непротиворечивости. Они считали, что интуитивные представления непротиворечивы по самой своей природе. Формальное доказательство, по их мнению, не требовалось и даже вообще было неуместным в рамках их философии. Что же касается полноты, то, по мнению интуиционистов, человеческая интуиция достаточно сильна, чтобы распознать истинность или ложность почти любого осмысленного утверждения, хотя некоторые утверждения могут оказаться неразрешимыми.
Однако формалисты во главе с Гильбертом не были настроены столь благодушно. Предприняв некоторые, весьма ограниченные, попытки решить проблему непротиворечивости в первые годы XX в., Гильберт вернулся к этой проблеме и к проблеме полноты в 1920 г.
Свой метод доказательства непротиворечивости Гильберт в общих чертах изложил в метаматематике. Что же касается полноты, то в статье «О бесконечном» (1925) Гильберт, по существу, повторил идеи, высказанные им в докладе на II Международном математическом конгрессе в Париже (1900). Там Гильберт утверждал, что «каждая определенная математическая проблема непременно поддается строгому решению». Ту же мысль, только развитую несколько подробнее, мы находим в статье Гильберта от 1925 г.:
В качестве примера возможного подхода к решению фундаментальных проблем я хотел бы избрать тезис о разрешимости любой математической задачи. Мы все убеждены в том, что любая математическая задача поддается решению. Это убеждение в разрешимости каждой математической проблемы является для нас большим подспорьем в работе, когда мы приступаем к решению математической проблемы, ибо мы слышим внутри себя постоянный призыв: вот проблема, ищи решение. Ты можешь найти его с помощью чистого мышления, ибо в математике не существует ignorabimus [мы не будем знать].
(Ср. также ([51], с. 22.)Выступая с докладом на Международном математическом конгрессе в Болонье (1928), Гильберт подверг критике прежние доказательства полноты как построенные на использовании принципов логики, недопустимых в математике, но выразил несокрушимую уверенность в полноте своей собственной системы: «В нашем мышлении нет ничего таинственного — мы мыслим по вполне определенным и формулируемым правилам, которые твердо гарантируют абсолютную надежность наших суждений». Каждый математик, по словам Гильберта, разделяет убеждение в разрешимости любой четко поставленной математической проблемы. В статье «Естествознание и логика» (1930) Гильберт утверждал: «На мой взгляд, истинная причина, в силу которой Конту{135} не удалось найти неразрешимую математическую проблему, заключается в том, что неразрешимых проблем не существует».
В работе «Обоснования математики», о которой Гильберт доложил в 1927 г., а опубликовал в 1930 г., он, по существу, развил свои идеи, выдвинутые в работе 1905 г. По поводу предложенного им метаматематического метода (теории доказательства) установления непротиворечивости и полноты Гильберт утверждал следующее:
С помощью этого нового обоснования математики, который справедливо можно именовать теорией доказательства, я преследую важную цель: именно, я хотел бы окончательно разделаться с вопросами обоснования математики как таковыми, превратив каждое математическое высказывание в поддающуюся конкретному показу и строго выводимую формулу и тем самым приведя образование понятии и выводы, которыми пользуется математика, к такому изложению, при котором они были бы неопровержимы и все же давали бы картину всей науки. Я надеюсь, что смогу с помощью своей теории доказательства полностью достигнуть этой цели, хотя до ее полного завершения необходима еще большая работа.
([50], с. 365.)Гильберт был уверен, что его теория доказательств позволит разрешить проблемы непротиворечивости и полноты.
К 30-м годам были получены некоторые результаты о полноте различных аксиоматических систем. Сам Гильберт построил несколько искусственную систему, охватывающую лишь часть арифметики, и доказал ее полноту и непротиворечивость. Аналогичные ограниченные результаты вскоре удалось получить и другим авторам. Так, была доказана непротиворечивость и даже полнота таких сравнительно тривиальных аксиоматических систем, как исчисление высказываний. Некоторые из доказательств принадлежали ученикам Гильберта. В 1930 г. Курт Гёдель (1906-1978), ставший впоследствии профессором Института высших исследований в Принстоне, доказал полноту исчисления предикатов первой ступени, охватывающего высказывания и пропозициональные функции.{136} Формалисты были в восторге от полученных результатов. Гильберт еще больше уверовал в то, что его метаматематике (его теории доказательства) удастся доказать непротиворечивость и полноту всей математики.
Но уже в следующем году Гёдель опубликовал другую работу, поистине открывшую ящик Пандоры. В этой работе, называвшейся «О формально неразрешимых утверждениях [оснований математики] и родственных систем» (1931), содержались два поразительных результата. Наибольшее смятение у математиков вызвал один из них — утверждающий, что непротиворечивость любой достаточно мощной математической системы, охватывающей арифметику целых чисел, не может быть установлена средствами самой этой системы на основе математических принципов, принятых различными школами в основаниях математики: логицистами, формалистами и представителями теоретико-множественного направления. Это утверждение Гёделя прежде всего касалось формалистской школы, ибо Гильберт по собственной воле ограничил свою метаматематику такими логическими принципами, которые были приемлемы даже для интуиционистов, чем сузил арсенал доступных формалистам логических средств. Результат Гёделя послужил поводом для известного высказывания Германа Вейля: «Бог существует, поскольку математика, несомненно, непротиворечива, но существует и дьявол, поскольку доказать ее непротиворечивость мы не можем».
Приведенный результат Гёделя является следствием из установленного им другого, не менее поразительного результата, который известен как теорема Гёделя о неполноте. Она утверждает, что если формальная теория T, включающая арифметику целых чисел, непротиворечива, то она неполна.{137} Иначе говоря, существует имеющее смысл утверждение арифметики целых чисел (обозначим его S), которое в рамках данной теории невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но либо утверждение S, либо утверждение «не S» истинно. Следовательно, в арифметике существует истинное утверждение, которое недоказуемо, а значит, и неразрешимо. Хотя Гёдель не указал точно, о каком классе аксиоматических систем идет речь в полученном им результате, теорема о неполноте применима к системам Рассела — Уайтхеда, Цермело — Френкеля, гильбертовской аксиоматике чисел и ко всем наиболее распространенным аксиоматическим системам. Казалось, непротиворечивость достигается ценой неполноты. И словно для того, чтобы разбередить рану и вновь унизить математиков, истинность некоторых неразрешимых утверждений удалось доказать с помощью рассуждений (правил логики), выходящих за рамки допустимого в перечисленных выше формальных системах.
Как и следовало ожидать, получение столь поразительных результатов потребовало от Гёделя немалых усилий. Основная идея его работы состояла в том, чтобы каждому символу или каждой последовательности символов в системе, принятой, например, логицистами или формалистами, сопоставить определенное число. Любому утверждению или последовательности утверждений, образующих доказательство, Гёдель также ставил в соответствие некоторое число — гёделевский номер.{138}
Рассмотрим схему Гёделя подробнее. Произведенная Гёделем арифметизация состояла в том, что каждому математическому понятию он сопоставлял некоторое натуральное число. Числу 1 Гёдель поставил в соответствие число 1, знаку равенства — число 2, введенному Гильбертом символу отрицания — число 3, знаку плюс — число 5 и т.д. Таким образом, набору символов 1 = 1 Гёдель сопоставляет числовые символы 1, 2, 1, тогда как равенству (формуле) 1 = 1 сопоставляется не три (числовых) символа 1, 2, 1, а единственное число, структура которого позволяла бы восстановить все входящие в него символы-компоненты. А именно: Гёдель выбрал три первых простых числа 2, 3 и 5 и, составив из них число 21∙32∙51 = 90, присвоил его равенству 1 = 1. Число 90 допускает однозначное разложение в произведение степеней простых чисел 21∙32∙51, по которому нетрудно восстановить символы 1, 2, 1.
Каждой формуле рассматриваемых систем Гёдель поставил в соответствие некоторое число. Каждой последовательности формул, образующих доказательство, он также сопоставил определенное число. Показатели в разложении номера доказательства в произведение степеней простых чисел сами не являются простыми числами, хотя и связаны с ними довольно просто. Так, число 2900∙390 может быть гёделевским номером доказательства. Это доказательство содержит формулы с гёделевскими номерами 900 и 90. Следовательно, по номеру доказательства мы можем восстановить входящие в него формулы.
Утверждения метаматематики о формулах рассматриваемой аксиоматической системы Гёдель также представил с помощью чисел. Каждое метаматематическое утверждение получило свой гёделевский номер. Тем самым получено «отображение» метаматематики в арифметику.
Осуществив перевод словесных утверждений метаматематики на арифметический язык, Гёдель показал, как построить арифметическое утверждение G, означающее в переводе на метаматематический язык, что утверждение с гёделевским номером m недоказуемо. Но утверждение G, рассматриваемое как последовательность символов, имеет гёделевский номер m. Следовательно, G утверждает о самом себе, что оно недоказуемо. Итак, если G доказуемо, то оно должно быть недоказуемым, а если G недоказуемо, то оно должно быть доказуемым, поскольку недоказуемо, что оно недоказуемо. Так как любое арифметическое утверждение либо истинно, либо ложно, формальная система, которой принадлежит G, неполна (если только она непротиворечива). Тем не менее арифметическое утверждение G истинно, так как является утверждением о целых числах, которое можно доказать, используя более интуитивные рассуждения, чем допускает формальная система.
Поясним суть гёделевской схемы на примере. Рассмотрим утверждение S: «Это утверждение ложно». Оно приводит к противоречию. Действительно, если S, рассматриваемое как единое целое, истинно, то оно, согласно ему самому, должно быть ложным, а если S ложно, то ложно, что S ложно, в силу чего S должно быть истинным. Гёдель заменил слово «ложно» словом «недоказуемо», превратив S в утверждение S — «Это утверждение недоказуемо». Если утверждение недоказуемо, то утверждаемое им истинно. С другой стороны, если утверждение доказуемо, то оно ложно, или, в соответствии с обычной логикой, если утверждение истинно, то оно недоказуемо. Следовательно, утверждение истинно в том и только в том случае, если оно недоказуемо. Мы приходим не к противоречию, а к истинному утверждению, которое недоказуемо, т.е. неразрешимо.
Заготовив впрок неразрешимое утверждение, Гёдель построил арифметическое утверждение A, соответствующее метаматематическому утверждению «Арифметика непротиворечива», и доказал, что из A следует G. Поэтому если бы A было доказуемым, то и G было бы доказуемым. Но так как G неразрешимо, A недоказуемо. Иными словами, утверждение A неразрешимо. Тем самым установлена невозможность доказать «внутренними средствами» (т.е. в рамках той же системы) непротиворечивость арифметики любым методом — с помощью любой системы логических принципов, представимой в виде арифметической системы.
На первый взгляд кажется, что неполноты можно было бы избежать, если ввести в формальную систему дополнительный логический принцип или математическую аксиому. Но метод Гёделя позволяет доказать, что если дополнительное утверждение допускает перевод на язык арифметики по предложенной Гёделем схеме (согласно которой символам и формулам мы ставим в соответствие некоторые числа — их гёделевские номера), то и в расширенной системе можно сформулировать неразрешимое утверждение. Иначе говоря, избежать неразрешимых утверждений и доказать непротиворечивость можно лишь с помощью логических принципов, «не отображаемых» в арифметику. Чтобы пояснить суть дела, воспользуемся аналогией (хотя и несколько неточной): если бы логические принципы и математические аксиомы были сформулированы на японском языке, а арифметизация Гёделя означала бы перевод на английский язык, то результаты Гёделя получались бы до тех пор, пока был бы осуществим перевод с японского на английский.
Таким образом, теорема Гёделя о неполноте утверждает, что ни одна система математических и логических аксиом, арифметизуемая тем или иным способом (например, так, как это сделал Гёдель), не позволяет охватить даже все содержащиеся в ней истины, не говоря уже о всей математике, поскольку любая система аксиом неполна. В любой аксиоматической системе существуют утверждения, недоказуемые в рамках данной системы. Истинность таких утверждений может быть установлена лишь с помощью неформальных рассуждений. Теорема Гёделя о неполноте, показавшая, что аксиоматизация имеет свои пределы, разительно отличалась от господствовавших в конце XIX в. представлений о математике как о совокупности аксиоматизируемых (и аксиоматизированных) теорий. Теорема Гёделя нанесла сокрушительный удар по всеобъемлющей аксиоматизации. Неадекватность аксиоматического подхода сама по себе противоречием не была; однако она явилась полной неожиданностью, поскольку математики, особенно формалисты, предполагали, что в рамках некоторой аксиоматической системы любое истинное в ней утверждение заведомо доказуемо.{139} Брауэр установил, что интуитивно воспринимаемые истины часто лежат далеко за пределами того, что было доказано в классической математике, а Гёдель доказал, что интуитивно воспринимаемые истины вообще выходят за рамки математического доказательства. По выражению Пауля Бернайса, ныне более разумно не столько рекомендовать аксиоматику, сколько предостерегать против ее переоценки. Разумеется, сказанное выше не исключает возможности появления новых методов доказательства, которые выходят за пределы допустимого логическими принципами, принятыми различными школами в основаниях математики,
Оба полученных Гёделем результата потрясли математику. Невозможность доказать непротиворечивость наносила смертельный удар прежде всего формалистской философии Гильберта, который не сомневался в успехе своего намерения в рамках метаматематики доказать непротиворечивость всей математики. Но результаты задевали далеко не только гильбертовскую программу. Гёдель доказал, что какой бы подход к математике на основе надежных логических принципов мы ни избрали, нам все разно не удается доказать непротиворечивость математики. Ни один из предложенных подходов к основаниям математики не был исключением. Это означало, что математика вынуждена бесповоротно отказаться от претензий на абсолютную достоверность или значимость своих результатов, т.е. лишиться одной из основных своих особенностей, на которую претендовала еще сравнительно недавно. Положение осложнялось невозможностью доказать непротиворечивость: ведь все, о чем говорили математики, могло оказаться бессмыслицей, ибо теперь никто не мог гарантировать, что в будущем не возникнет противоречия. Случись такое и окажись противоречие неразрешимым — вся математика обратилась бы в прах. Действительно, одно из двух противоречивых утверждений должно быть ложным, а согласно принятой всеми математическими логиками концепции импликации (так называемой материальной импликации, о которой говорилось в гл. VIII), из ложного утверждения может следовать что угодно. Итак, математики работали под угрозой полного провала. Еще одни удар нанесла теорема о неполноте. И здесь больше всех пострадал Гильберт, хотя теорема Гёделя применима ко всем формальным подходам к математике.
Пусть большинство математиков и не высказывали своих надежд столь откровенно и уверенно, как Гильберт, но все они, несомненно, надеялись, что им удастся решить любую четко поставленную проблему. Например, к 30-м годам XX в. одним лишь попыткам доказать «последнюю» («великую») теорему Ферма (утверждающую, что при любом натуральном n > 2 никакие три целых числа x, y и z не могут удовлетворять уравнению xn + yn = zn) были посвящены сотни обширных и глубоких по содержанию работ. Но, может быть, постигшая их авторов неудача объяснялась неразрешимостью теоремы Ферма?
Теорему Гёделя о неполноте до некоторой степени можно рассматривать как отрицание закона исключенного третьего. Каждое утверждение мы считаем либо истинным, либо ложным. В современных основаниях математики это означает, что рассматриваемое утверждение доказуемо или недоказуемо с помощью законов логики и аксиом того раздела математики, к которому относится интересующее нас утверждение. Гёдель же доказал, что некоторые утверждения нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Следовательно, теорема Гёделя о неполноте в известной мере подкрепляет позиции интуиционистов, хотя те возражали против логических принципов совсем по другим причинам.
Непротиворечивость можно было бы считать доказанной, если бы в противовес подходу Гёделя в системе удалось обнаружить неразрешимое утверждение: ведь как мы уже установили, опираясь на свойства материальной импликации, если в системе имеется противоречие, то в ней можно доказать что угодно. Однако до сих пор обнаружить неразрешимое утверждение не удалось.
Гильберт не считал, что потерпел поражение. По своей натуре Гильберт был оптимистом и обладал поистине безграничной верой в мощь человеческого разума и его способность к познанию. Этот оптимизм придавал ему мужество и силы, мешая в то же время признать возможность существования неразрешимых математических проблем. Для Гильберта математика была областью человеческой деятельности, познанию в которой не существовало иных пределов, кроме возможностей таланта исследователя.
Гёдель опубликовал свои результаты в 1931 г., т.е. до выхода в свет первого (1934) и второго (1939) томов фундаментального труда Гильберта и Бернайса по основаниям математики [75]. В предисловии ко второму тому оба этих автора вынуждены были признать необходимость расширить используемые в метаматематике методы рассуждений. Гильберт и Бернайс включили в число допустимых методов трансфинитную индукцию.{140} Гильберт полагал, что новые принципы вполне могли бы быть интуитивно правильными и приемлемыми для всех. Он пытался развивать дальше это направление, но не пришел ни к каким новым результатам.
События, последовавшие за переломным 1931 г., еще более осложнили ситуацию и обрекли на неудачу любые попытки определить, что такое математика и какие результаты следует считать правильными. Мы упомянем лишь об одном таком событии, далеко не самом важном. Представителю гильбертовской школы Герхарду Генцену (1909-1945) удалось ослабить запреты на методы доказательства, допустимые в метаматематике Гильберта, в частности за счет использования трансфинитной индукции, и в 1936 г. он смог доказать непротиворечивость арифметики и отдельных разделов математического анализа.
Некоторые представители гильбертовской школы в основаниях математики приняли предложенное Генценом доказательство и отстаивали его. Эти формалисты утверждали, что работа Генцена не выходит за пределы интуитивно приемлемой логики. Итак, чтобы защитить формализм, понадобилось перейти от «финитной» логики Брауэра к «трансфинитной» логике Генцена. Противники метода Генцена с сарказмом замечали, что «приемлемая» логика оказывается уж слишком изощренной и что если непротиворечивость арифметики вызывает какие-то сомнения, то введение не менее сомнительного метаматематического принципа вряд ли в состоянии разрешить их. Использование трансфинитной индукции считалось спорным еще до того, как ее взял на вооружение Генцен, и некоторые математики приложили немало усилий, чтобы по возможности исключить трансфинитную индукцию из доказательств. Трансфинитная индукция не была интуитивно убедительным принципом. По выражению Вейля, подобного рода принципы снижают стандартный уровень доказательного рассуждения до такого состояния, когда суть доказываемого становится весьма расплывчатой.
Теорема Гёделя о неполноте породила ряд побочных проблем, о которых также следовало бы упомянуть. Поскольку в любой сколько-нибудь сложной области математики существуют утверждения, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть, возникает вопрос: можно ли определить, доказуемо или недоказуемо любое заданное утверждение? Этот вопрос известен под названием проблемы разрешимости. Решение ее требует эффективных методов (возможно, аналогичных тем, которые используются при расчетах на ЭВМ), позволяющих за конечное число шагов устанавливать доказуемость (истинность или ложность) утверждения или класса утверждений.
Поясним понятие разрешающей процедуры на нескольких простых примерах. Чтобы решить, делится ли одно целое число на другое, мы можем осуществить процесс деления. Если остаток от деления равен нулю, то это означает, что первое число на второе делится. Аналогичная процедура позволяет ответить на вопрос, делится ли один многочлен нацело на другой. Имеется также четкий алгоритм, позволяющий ответить на вопрос, существуют ли целые числа x и y, удовлетворяющие уравнению ах + by = c с целыми a, b и c.
В своем докладе на II Международном математическом конгрессе в Париже Гильберт поставил очень интересную (десятую) проблему о разрешимости диофантовых уравнений, сформулировав ее так: можно ли указать способ, позволяющий за конечное число шагов установить, разрешимо ли диофантово уравнение в целых числах? (Класс уравнений ах + by = c состоит из диофантовых уравнений, ибо каждый элемент класса представляет собой одно уравнение, связывающее два неизвестных, и решить его требуется в целых числах. Проблема Гильберта относится к гораздо более общему классу диофантовых уравнений.) Проблема разрешимости гораздо сложнее десятой проблемы Гильберта, но математики, работающие над ней, охотно ссылаются на десятую проблему Гильберта, так как уже одно то, что полученные при этом результаты связаны с решением указанной проблемы, придает им особую значимость.
Точный смысл понятию эффективной процедуры придал профессор Принстонского университета Алонсо Черч (р. 1903), который ввел определение рекурсивной, или, как еще говорят, вычислимой функции. Рассмотрим простой пример рекурсивности. Пусть, по определению
f(1) = 1, f(n + 1) = f(n) + 3.
Тогда
f(2) = f(1) + 3 = 1 + 3 = 4, f(3) = f(2) + 3 = 4 + 3 = 7.
Шаг за шагом мы можем вычислить все значения функции f(n). Такая функция f(x) называется рекурсивной. Введенное Черчем понятие рекурсивности равнозначно вычислимости, но отличается большей общностью.
В 1936 г. Черч, используя введенное им новое понятие рекурсивной функции, показал, что в общем случае разрешающая процедура (для узкого исчисления предикатов) невозможна: если задано конкретное утверждение, то не всегда можно найти алгоритм, позволяющий установить, доказуемо оно или опровержимо. В любом частном случае утверждение может оказаться доказуемым, но мы не располагаем критерием, который позволял бы заранее определять, доказуемо оно или недоказуемо. Математики могут годами напрасно терять время, безуспешно пытаясь доказать то, что вообще недоказуемо. Относительно десятой проблемы Гильберта Юрий Матиясевич в 1970 г. доказал, что не существует алгоритма, позволяющего установить, удовлетворяют ли какие-либо целые числа соответствующим диофантовым уравнениям или нет.{141}
Различие между неразрешимыми утверждениями и проблемами, для которых нет разрешающей процедуры, довольно тонко, но весьма четко и определенно. Неразрешимые утверждения неразрешимы в конкретной системе аксиом и существуют в любой сколько-нибудь значительной аксиоматической системе. Так, постулат Евклида о параллельных неразрешим в системе остальных аксиом евклидовой геометрии. Другим примером может служить утверждение о том, что вещественные числа образуют наименьшее множество, удовлетворяющее обычно аксиоматизируемым свойствам вещественных чисел.
Нерешенные проблемы могут оказаться неразрешимыми, но далеко не всегда это известно заранее. Например, задача о трисекции угла с помощью циркуля и линейки в течение по крайней мере нескольких столетий ошибочно считалась неразрешимой. Но трисекция оказалась невозможной. Теорема Черча утверждает, что не существует способа, позволяющего заранее определить, можно ли доказать или опровергнуть утверждение. Одни утверждения можно доказать и опровергнуть одновременно, другие нельзя ни доказать, ни опровергнуть — они неразрешимы, но их неразрешимость, как и неразрешимость всех известных неразрешимых проблем, заранее отнюдь не очевидна. Гипотеза Гольдбаха о том, что любое четное число представимо в виде суммы двух простых чисел, пока не доказана. Она может оказаться неразрешимой в системе аксиом арифметики, но ее неразрешимость, конечно, не очевидна. Не исключено, что когда-нибудь гипотезу Гольдбаха удастся доказать или опровергнуть.
Не успели математики оправиться от потрясений, вызванных теоремой Гёделя о неполноте и о невозможности доказать непротиворечивость арифметики, как через десять лет возникла новая серьезная угроза развитию математики. И опять «виной» тому был Гёдель, который явился инициатором серии исследований, которые внесли еще большую неразбериху в вопрос о том, что такое математика, имеющая под собой надежную основу, и в каком направлении она может развиваться. Напомним, что сторонники одного из подходов к основаниям математики, возникшего в начале XX в., намеревались построить математику, исходя из теории множеств (гл. XI); с этой целью была разработана система аксиом Цермело — Френкеля.
В работе «Совместимость аксиомы выбора и обобщенной гипотезы континуума с аксиомами теории множеств» (1940) Гёдель доказал, что если система аксиом Цермело — Френкеля без аксиомы выбора непротиворечива, то добавление аксиомы выбора не нарушает непротиворечивости, т.е. аксиома выбора в рамках этой аксиоматики не может быть доказана. Аналогично он установил, что предположение Кантора — гипотеза континуума о том, что не существует кардинальных чисел, заключенных между N0 и 2N0 (т.е. кардинальным числом c, соответствующим множеству всех вещественных чисел), или, иначе говоря, что не существует несчетного множества действительных чисел с кардинальным числом, меньшим 2N0, и обобщенная гипотеза континуума{142} не противоречит системе аксиом Цермело — Френкеля, даже если последнюю дополнить аксиомой выбора. Другими словами, гипотезу континуума как в обычном, так и в обобщенном варианте нельзя опровергнуть. Для доказательства своих утверждений Гёдель построил модели, в которых оба утверждения выполняются.
Непротиворечивость обоих утверждений — аксиомы выбора и гипотезы континуума — несколько обнадежила математиков: обеими теоремами можно было пользоваться по крайней мере с не меньшей уверенностью, чем остальными аксиомами Цермело — Френкеля.
Однако благодушие математиков (если только оно действительно было) быстро развеяли последующие события. Результаты Гёделя не исключали возможности того, что аксиома выбора и гипотеза континуума — порознь или вместе — могут быть доказаны на основе остальных аксиом Цермело — Френкеля. Мысль о том, что по крайней мере аксиому выбора невозможно вывести из остальных аксиом Цермело — Френкеля, была высказана еще в 1922 г. Тогда же и несколько позднее некоторые ученые, в том числе и Френкель, доказали независимость аксиомы выбора, но каждый из них счел необходимым дополнить систему Цермело — Френкеля вспомогательной аксиомой, которая, собственно, и позволила им осуществить доказательство. Примерно такое же возражение выдвигалось и против более поздних доказательств. В 1947 г. Гёдель предположил, что гипотеза континуума независима от аксиом Цермело — Френкеля и от аксиомы выбора.
В 1963 г. профессор математики Станфордского университета Пол Коэн (р. 1934) доказал, что и аксиома выбора, и гипотеза континуума независимы от остальных аксиом Цермело — Френкеля, если те непротиворечивы, т.е. иначе говоря, аксиома выбора и гипотеза континуума не могут быть доказаны на основе остальных аксиом Цермело — Френкеля. Более того, гипотеза континуума и тем более обобщенная гипотеза континуума не могут быть доказаны в системе Цермело — Френкеля, даже если ее дополнить аксиомой выбора. (Аксиома выбора следует из системы аксиом Цермело — Френкеля, не содержащей аксиомы выбора, но дополненной обобщенной гипотезой континуума.) Эти два результата по независимости означают, что в системе Цермело — Френкеля аксиома выбора и гипотеза континуума неразрешимы. В частности, для гипотезы континуума результат Коэна означает, что может существовать трансфинитное число, заключенное между N0 и 2N0 (или c), хотя такое трансфинитное число не соответствует ни одному известному множеству.
В принципе метод Коэна, получивший название метода форсинга, не отличался от других доказательств независимости.{143} Напомним, что для доказательства независимости аксиомы Евклида о параллельных на основе остальных аксиом евклидовой геометрии требуется найти интерпретацию, или модель, которая удовлетворяла бы всем остальным аксиомам, кроме аксиомы о параллельных.{144} Такая модель должна быть непротиворечивой, так как в противном случае она может также удовлетворять аксиоме, независимость которой нас интересует. В своем доказательстве Коэн усовершенствовал более ранние работы Френкеля, Гёделя и других авторов, использовав без каких-либо вспомогательных условий только аксиомы Цермело — Френкеля. Доказательства независимости аксиомы выбора, хотя и менее удовлетворительные, были известны до Коэна, но вопрос о независимости гипотезы континуума до появления его работы оставался открытым.
Приступая к построению математики на основе теории множеств (или даже на логистической или формалистской основе), можно выбрать ту или иную из возможных исходных позиций. Можно запретить себе использовать аксиому выбора и гипотезу континуума. Приняв такое решение, мы ограничим круг теорем, доказываемых в рамках системы. «Основания математики» не включают аксиому выбора в число основных логических принципов, но при доказательстве теорем используют ее, формулируя в явном виде. В современной математике это главное. Можно поступить иначе и включить в число аксиом системы либо аксиому выбора, либо гипотезу континуума, либо оба утверждения вместе. Можно заменить отрицаниями либо одно утверждение, либо другое, либо оба. Отрицая аксиому выбора, можно отказаться от процедуры явного выбора представителей даже для счетной совокупности множеств. Отрицая гипотезу континуума, можно предположить, что 2N0 = N2 или что 2N0 = N3. Именно так, по существу, и поступил Коэн при построении своей модели.
Сказанное означает, что существует не одна, а много математик. Теория множеств (рассматриваемая отдельно от остальных оснований математики) может развиваться во многих направлениях (ср. [17]*). Кроме того, аксиому выбора можно использовать либо лишь для конечного числа множеств, либо для конечной, или счетной, совокупности множеств, либо для любой совокупности множеств. Все эти возможные варианты были реализованы разными математиками.
С появлением коэновских доказательств независимости математика оказалась в еще более затруднительном положении, чем это было при создании неевклидовой геометрии. Как мы уже говорили (гл. VIII), осознав независимость аксиомы Евклида о параллельных от остальных аксиом евклидовой геометрии, математики сумели построить несколько неевклидовых геометрий. Результаты Коэна поставили математиков перед проблемой выбора: какому из многочисленных вариантов двух аксиом (аксиомы выбора и гипотезы континуума) следует отдать предпочтение перед другими? Даже если ограничиться теоретико-множественным подходом к математике, число возможных вариантов оказывается ошеломляюще большим.
Остановить свой выбор на одном из многих вариантов нелегко, так как в любом случае принятие определенной редакции аксиом имеет свои и положительные, и отрицательные стороны. Отказ от любого использования аксиомы выбора и гипотезы континуума, т.е. как от самих аксиом, так и от их отрицаний, как мы уже отмечали, резко сужает круг утверждений, которые могут быть доказаны в рамках определенной формальной системы, и вынуждает отказаться от многих фундаментальных результатов современной математики. Аксиома выбора необходима даже для доказательства того, что любое бесконечное множество S содержит счетное или несчетное бесконечное собственное подмножество. Теоремы, доказательства которых требуют использования аксиомы выбора, играют важную роль в современном математическом анализе, топологии, абстрактной алгебре, теории трансфинитных чисел и в других областях математики. Отказ от аксиомы выбора связал бы математику по рукам и ногам.
С другой стороны, принятие аксиомы выбора позволяет доказывать теоремы, мягко говоря, противоречащие интуиции. Одна из таких теорем известна под названием парадокса Банаха — Тарского. В нестрогой формулировке эта удивительная теорема звучит следующим образом. Пусть даны два шара — один размером с футбольный мяч, другой — размером с Землю. Оба шара можно разбить на конечное число неперекрывающихся частей так, что каждая часть одного шара будет конгруэнтна одной, и только одной, части другого шара. Иначе говоря, теорема Банаха — Тарского означает, что, разрезав земной шар на мелкие кусочки и пересложив их в другом порядке, мы можем получить футбольный мяч. Ранее, в 1914 г., был получен еще один парадоксальный результат (составляющий на самом деле частный случай парадокса Банаха — Тарского): было доказано, что, разбив шар на четыре части, мы можем переложить эти части так, что получатся два шара того же радиуса, что и исходный шар. В отличие от парадоксов, с которыми столкнулась в начале XX в. теория множеств, парадокс Банаха — Тарского и его ранее известный частный случай не являются противоречиями. Это логические следствия из аксиом теории множеств и аксиомы выбора.
Отказ от общей аксиомы выбора приводит к странным следствиям. Один узкоспециальный результат, говорящий математикам несравненно больше, чем нематематикам, состоит в том, что каждое линейное множество измеримо. Иными словами, поскольку из аксиомы выбора следует существование неизмеримых множеств, аксиому выбора можно отрицать, предполагая, что каждое линейное множество измеримо. Для трансфинитных кардинальных чисел отрицание аксиомы выбора порождает другие странные следствия. Что же касается гипотезы континуума, то тут совершенно неизвестно, к каким важным следствиям может привести как принятие, так и отрицание аксиомы выбора. Но если предположить, что 2N0 = N2, то каждое множество вещественных чисел становится измеримым. Можно вывести много других новых следствий, но ни одно из них не имеет решающего значения.
Подобно тому как работа над аксиомой о параллельных привела к расчленению единого потока развития геометрии на множество рукавов, доказанная Коэном независимость аксиомы выбора и гипотезы континуума сделала реальной возможность раздробления математики — (прежде всего теоретико-множественной, хотя результаты Козна затронули и другие направления в основаниях математики) на множество различных направлений. Каждое из таких направлений вполне приемлемо, и не существует видимых причин для того, чтобы отдать предпочтение одному направлению перед другим. После выхода в свет работы Коэна (1963) было обнаружено немало новых утверждений, неразрешимых в системе Цермело — Френкеля; поэтому число способов, которыми можно выбирать аксиомы теории множеств, комбинируя аксиоматику Цермело — Френкеля с тем или иным (либо несколькими) неразрешимым утверждением, поистине безгранично. Доказательство независимости аксиомы выбора и гипотезы континуума буквально потрясло математиков: их изумление можно разве лишь сравнить с тем чувством, которое испытал бы современный архитектор, если бы его убедили, что, внеся небольшие изменения в чертежи, по которым он строит учреждение, он может соорудить по ним средневековый рыцарский замок.
Ныне математики, работающие в области теории множеств, надеются, что, модифицировав разумным образом аксиоматику этой части математики, они смогут выяснить, выводимы ли из общепринятого варианта аксиом теории множеств аксиома выбора и гипотеза континуума — каждая в отдельности или обе вместе. По мнению Гёделя, их надежды отнюдь не безосновательны. В этом направлении было предпринято немало усилий, однако пока они не увенчались успехом. Возможно, что когда-нибудь математики все же придут к единому мнению относительно того, какими аксиомами надлежит здесь пользоваться.
Математический мир был потрясен не только работами Гёделя, Черча и Коэна. Последующие годы умножили заботы математиков. Исследования, начатые в 1915 г. Леопольдом Левенгеймом (1878-1940), а затем усовершенствованные и завершенные Торальфом Сколемом (1887-1963) в серии работ, осуществленных в 1920-1933 гг., выявили новые изъяны в математике. Суть теоремы, получившей название теоремы Левенгейма — Сколема, сводится к следующему. Предположим, что составлена система аксиом (логических и математических) для какой-то области математики или теории множеств, которая рассматривается как основа всей математики. Наиболее подходящим примером, пожалуй, может служить система аксиом для целых чисел. Составляя ее, математики стремились к тому, чтобы эти аксиомы полностью описывали положительные целые числа, и только целые числа, но, к своему удивлению, обнаружили совершенно иные интерпретации, или модели, тем не менее удовлетворяющие всем аксиомам. Например, в то время как множество целых чисел счетно, т.е. — если воспользоваться обозначениями Кантора — существует N0 целых чисел, в других интерпретациях возникают множества, содержащие столько же элементов, сколько их содержит множество всех вещественных чисел, и множества, отвечающие еще большим трансфинитным числам. Происходит и обратное. Так, предположим, что некий математик составил систему аксиом для теории множеств таким образом, что они позволяют описывать и описывали несчетные совокупности множеств. Нередко он обнаруживает счетную (перечислимую) совокупность множеств, удовлетворяющую всем аксиомам, и другие трансфинитные интерпретации, совершенно отличные от тех, которые он имел в виду, составляя свою систему аксиом. Более того, выяснилось, что каждая непротиворечивая система аксиом допускает счетную модель.
Что это означает? Предположим, кому-то пришла в голову мысль составить перечень характерных черт, присущих, по его мнению, американцам, и только американцам. К своему удивлению, в действительности он обнаруживает людей, обладающих всеми перечисленными им отличительными особенностями американцев и сверх того наделенных множеством собственных специфических черт. Иначе говоря, система аксиом, составленная для описания одного-единственного класса математических объектов, явно не соответствует своему назначению. Теорема Гёделя о неполноте свидетельствует о том, что любая система аксиом не позволяет доказать (или опровергнуть) все теоремы той области математики, для описания которой данная система аксиом предназначена. Теорема Левенгейма — Сколема утверждает, что любая система аксиом допускает намного больше существенно различных интерпретаций, чем предполагалось при ее создании. Аксиомы не устанавливают пределов для интерпретаций, или моделей. Следовательно, математическую реальность невозможно однозначно включить в аксиоматические системы.{145}
Одна из причин появления «побочных» интерпретаций состоит в том, что в каждой аксиоматической системе имеются неопределяемые понятия. Ранее считалось, что аксиомы неявно «определяют» эти понятия. В действительности же одних аксиом недостаточно. Следовательно, неопределяемые понятия могут трансформироваться каким-то заранее непредсказуемым образом.
Теорема Левенгейма — Сколема не менее удивительна, чем теорема Гёделя о неполноте. Она нанесла еще один удар по аксиоматическому методу, который с начала XX в. и вплоть до недавнего времени считался единственно разумным подходом и который поныне используется логицистами, формалистами и представителями теоретико-множественного направления.
Теорему Левенгейма — Сколема, однако, нельзя считать полностью неожиданной. Действительно, теорема Гёделя о неполноте утверждает, что каждая аксиоматическая система неполна. Существуют неразрешимые утверждения. Пусть p — одно из таких утверждений. Ни p, ни его отрицание — утверждение «не p» — не вытекает из аксиом. Следовательно, мы могли бы исходить из более широкой системы аксиом, включив в нее либо исходную систему аксиом и p, либо исходную систему аксиом и «не p». Эти две системы аксиом существенно различны, поскольку их интерпретации не могут быть изоморфными. Иначе говоря, из неполноты следует некатегоричность. Но теорема Левенгейма — Сколема содержит гораздо более сильное и радикальное отрицание категоричности. Она утверждает, что и без введения какой-либо дополнительной аксиомы существуют принципиально различные (неизоморфные) интерпретации, или модели. Разумеется, аксиоматическая система непременно должна быть неполной, ибо в противном случае неизоморфные интерпретации были бы невозможны.
Анализируя собственный результат, Сколем в работе 1923 г. пришел к выводу о непригодности аксиоматического метода в качестве основы для теории множеств. Даже Джон фон Нейман был вынужден признать в 1925 г., что на предложенных им и другими авторами системах аксиом теории множеств лежит «печать нереальности… Категорическая аксиоматизация теории множеств не существует… А поскольку нет ни одной аксиоматической системы для математики, геометрии и т.д., которая не предполагала бы теорию множеств, заведомо не существуют категоричные аксиоматические бесконечные системы». Это обстоятельство, продолжает Нейман, «свидетельствует, как мне кажется, в пользу интуиционизма».
Математики пытались успокоить себя, вспоминая историю с неевклидовой геометрией. Когда после многовековой борьбы с аксиомой параллельности Лобачевский и Бойаи предложили свою неевклидову геометрию, а Риман указал еще одну неевклидову геометрию, математики сначала были склонны отмахнуться от новых геометрий, ссылаясь при этом на ряд причин. Одной из них было бездоказательное утверждение о возможной противоречивости новых геометрий. Однако, как показали найденные впоследствии интерпретации, неевклидовы геометрии оказались непротиворечивыми. Например, удвоенную эллиптическую геометрию Римана, которая по замыслу автора должна была относиться к фигурам на обычной плоскости, удалось интерпретировать как геометрию фигур на поверхности сферы, т.е. она обрела модель, существенно отличную от исходной авторской интерпретации (гл. VIII). Открытие новой модели, или интерпретации, было встречено с энтузиазмом, что вполне понятно: ведь существование такой модели доказало непротиворечивость геометрии. Кроме того, новая модель не приводила ни к каким расхождениям в числе объектов — точек, линий, плоскостей, треугольников и т.д. — по сравнению с исходной авторской интерпретацией. Выражаясь языком математики, обе интерпретации были изоморфны. Теорема Левенгейма — Сколема охватывает неизоморфные, существенно различные интерпретации аксиоматических систем.
Говоря об абстрактности математического мышления, Пуанкаре как-то заметил, что математика — это искусство давать различным вещам одинаковые названия. Так, понятие группы отражает свойства целых чисел и матриц относительно сложения, а также геометрических преобразований и других математических объектов. Теорема Левенгейма — Сколема подтверждает высказывание Пуанкаре, но придает ему обратный смысл. Аксиомы групп отнюдь не предназначены для того, чтобы указывать на необходимость одинакового объема и характера всех мыслимых интерпретаций (поэтому аксиомы групп не являются категоричными, как и аксиомы евклидовой геометрии, если опустить аксиому о параллельных). Аксиоматические системы, к которым применима теорема Левенгейма — Сколема, предназначаются для задания одной вполне конкретной интерпретации, и, будучи применимыми к совершенно различным моделям, они тем самым не соответствуют своему назначению.
Кого боги вздумают погубить, того они прежде всего лишают разума. Возможно, боги сочли, что после работ Гёделя, Коэна, Левенгейма и Сколема математикам еще удалось сохранить остатки разума, — и подстроили новую ловушку, чтобы довести тех до полного безумия. Развивая свой вариант дифференциального и интегрального исчисления, Лейбниц ввел величины, названные им инфинитезимальными или бесконечно малыми (гл. VI). Бесконечно малая, по Лейбницу, отлична от нуля, но меньше 0,1, 0,01, 0,001 и любого другого положительного члена. Лейбниц утверждал также, что с бесконечно малыми величинами надлежит обращаться так же, как с обычными числами. Бесконечно малые величины были идеальными элементами, фикциями, однако приносили вполне ощутимую реальную пользу. Отношение двух бесконечно малых, по Лейбницу, определяло производную — одно из основных понятий математического анализа. И с бесконечно большими величинами Лейбниц обращался так же, как с обычными числами.
На протяжении всего XVIII в. математики вели борьбу с понятием бесконечно малой величины, производили с бесконечно малыми действия по произвольным, ничем не обоснованным и даже противоречащим логике правилам и в конце концов отвергли бесконечно малые величины как лишенные всякого смысла. Коши своими трудами не только наложил запрет на бесконечно малые величины, но и вообще ликвидировал необходимость обращения к ним. Тем не менее поиск законных оснований для использования бесконечно малых исподволь продолжался. На вопрос Гесты Миттаг-Леффлера (1846-1927), не могут ли кроме рациональных и всех вещественных чисел (и, так сказать, «между» этими двумя классами чисел) существовать числа иного рода, Кантор дал резко отрицательный ответ. В 1887 г. он опубликовал работу, где доказал логическую невозможность существования бесконечно малых, основываясь, по существу, на так называемой аксиоме Архимеда, утверждающей, что для любого вещественного числа a найдется такое целое число n, при котором величина na будет больше любого наперед заданного вещественного числа b. Пеано также опубликовал работу, в которой доказывал, что бесконечно малые величины не существуют. К такому же выводу пришел в своих «Принципах математики» (1903) и Бертран Рассел.
Но даже суждения великих людей не следует принимать с поспешностью. Во времена Аристотеля, да и значительно позже, многие мыслители отвергали представление о шарообразности Земли как лишенное смысла на том основании, что в таком случае наши «антиподы» должны были бы ходить по земле вниз головой. Однако сколь ни «убедительны» были их доводы, Земля, как оказалось, все же имеет шарообразную форму. Аналогичным образом, несмотря на все доказательства, изгонявшие лейбницевские бесконечно малые из математики, некоторые исследователи упорно пытались создать логическую теорию бесконечно малых.
Поль Дюбуа-Реймон, Отто Штольц и Феликс Клейн были уверены в осуществимости построения непротиворечивой теории на основе понятия бесконечно малой. Более того, Клейн указал, от какой именно аксиомы вещественных чисел (аксиомы Архимеда) необходимо отказаться, чтобы такая теория стала возможной. В 1934 г. Сколем ввел новые числа (получившие название гипервещественных), отличные от обычных вещественных чисел, и установил некоторые их свойства. Кульминацией исследований некоторых математиков в этой области стало создание новой теории, узаконившей бесконечно малые. Наиболее существенный вклад внес в эту теорию Абрахам Робинсон (1918-1974).
Новая система — так называемый нестандартный анализ (ср. элементарную брошюру [85] или учебники [76]*, [86] и [87]) — вводит гипервещественные числа, включающие в себя обычные («старые») вещественные числа и бесконечно малые. Последние определяются практически так же, как у Лейбница: положительная бесконечно малая есть число, которое меньше любого обычного положительного вещественного числа, но больше нуля{146} (аналогично отрицательная бесконечно малая больше любого отрицательного вещественного числа, но меньше нуля). Бесконечно малые в нестандартном анализе являются фиксированными числами, а не переменными величинами в смысле Лейбница и не переменными величинами, стремящимися к нулю, как понимал иногда бесконечно малые величины Коши и как понимают их сегодня в стандартных учебниках «высшей математики». Кроме того, нестандартный анализ вводит новые бесконечные элементы, обратные бесконечно малым, но не являющиеся трансфинитными числами Кантора. Каждое конечное гипервещественное число r представимо в виде x + α, где x — обычное вещественное число, а α — бесконечно малая.
Понятие бесконечно малого элемента позволяет говорить о бесконечно близких гипервещественных числах. Два гипервещественных числа называются бесконечно близкими, если их разность бесконечно мала. Следовательно, каждое гипервещественное число бесконечно близко некоторому (обычному) вещественному числу, так как разность между ними бесконечно мала. Обращаться с гипервещественными числами можно так же, как с обычными вещественными числами.{147}
Новая система гипервещественных чисел позволяет вводить функции, принимающие обычные вещественные или гипервещественные значения. На языке гипервещественных чисел можно по-новому определить непрерывность функции: функция f(x) непрерывна при x = a, если разность f(x) − f(a) бесконечно мала, когда бесконечно мала разность x − a. Гипервещественные числа позволяют ввести определения производной и других понятий математического анализа и доказать все теоремы анализа. Но главное состоит в том, что в системе гипервещественных чисел обретает точность и доказательность подход к построению анализа, который ранее отвергался как недостаточно ясный и даже бессмысленный.{148}
В какой мере система гипервещественных чисел способствует увеличению мощи математики? Пока введение гипервещественных чисел не привело к сколько-нибудь значительным новым результатам.{149} Важно другое: нестандартный анализ открыл новый путь, по которому одни математики пойдут охотно (уже появилось несколько книг по нестандартному анализу), тогда как другие по тем или иным причинам его отвергнут. С появлением нестандартного анализа с облегчением вздохнули лишь физики, поскольку они, невзирая на запрет Коши, всегда широко пользовались бесконечно малыми (впрочем, их привычки здесь столь устойчивы, что пока они не уделили особенно большого внимания «новому» анализу).
Развитие оснований математики с начала XX в. протекает поистине драматически, и современное состояние математики по-прежнему весьма плачевно, что вряд ли можно считать нормальным. Свет истины более не освещает путь, по которому следовало бы двигаться. Вместо единой, вызывавшей общее восхищение и одинаково приемлемой для всех математической науки, доказательства которой считались наивысшим достижением здравого смысла, хотя порой и нуждались в коррекции, мы имеем теперь различные, конфликтующие между собой подходы к математике. Несколько взаимоисключающих подходов имеется в рамках одного лишь теоретико-множественного направления, не говоря уже о существовании других самостоятельных направлений: логицизма, интуиционизма и формализма. В этих школах также выделяются различные и даже конфликтующие подходы. Так, конструктивистское направление, возникшее в недрах интуиционизма, разделилось на множество группировок. В рамках формализма принципы математики могут быть выбраны по-разному. Нестандартный анализ, не будучи порождением какой-либо одной школы, допускает различные подходы ко многим проблемам математического анализа, в свою очередь приводящие к различным и даже противоположным точкам зрения. То, что считается алогичным и отвергается одной школой, другая объявляет здравым и вполне приемлемым.
Итак, все попытки исключить возможные противоречия и доказать непротиворечивость математических построений до сих пор не увенчались успехом. Между математиками нет более единого мнения относительно того, принимать аксиоматический подход (и если принимать, то какой системе аксиом отдать предпочтение) или остановиться на неаксиоматическом интуиционистском подходе. Большинство современных математиков склонны рассматривать свою науку как совокупность различных аксиоматически определяемых структур, с одной стороны, позволяющих охватить все, что должно входить в математику, а с другой — охватывающих больше, чем положено. Современные математики расходятся во мнениях даже относительно того, какие методы рассуждений следует считать допустимыми. Закон исключенного третьего ныне не принадлежит к числу бесспорных принципов логики, и чистые доказательства существования, не дающие готового рецепта вычисления той величины, существование которой доказывается, ставятся под сомнение независимо от того, используется или не используется в них закон исключенного третьего. От претензий на безупречную доказательность своих рассуждений математикам пришлось отказаться. Возможность неоднозначного выбора аксиоматики и подходов привела к возникновению различных математик. Последние исследования в области оснований математики дошли до той черты, за которой открывается лишь первозданный хаос.
Интуиционисты представляли единственное направление в математике, сохранившее самообладание и выдержку в 30-е годы, когда описанные выше результаты сломили логицистов, формалистов и сторонников теоретико-множественного направления. Игра с логическими символами и принципами, захватившая умы гигантов математической науки, для интуиционистов была пустой забавой. "Непротиворечивость математики очевидна, считали они, ибо ее гарантирует человеческий разум, постигающий истины на интуитивном уровне. Аксиому выбора и гипотезу континуума интуиционисты отвергали как неприемлемые, о чем заявил еще в 1907 г. Брауэр. Неполнота и существование неразрешимых утверждений не беспокоили интуиционистов, ибо они могли с полным основанием сказать представителям других направлений: «А что мы вам говорили?» Но даже интуиционисты неохотно отказывались от разделов математики, возникших еще в XIX в., но не удовлетворявших их требованиям. Интуиционисты считали неприемлемым доказывать существование математических объектов с помощью закона исключенного третьего и объявляли удовлетворительными только такие доказательства, которые позволяли сколь угодно точно вычислять величину, существование которой доказывается. Иначе говоря, интуиционисты боролись за конструктивные доказательства существования.
Итак, ни одна школа не имела права претендовать на то, что она представляет математику в целом. К сожалению, как отметил в 1960 г. Аренд Рейтинг, начиная с 30-х годов дух дружеского сотрудничества между школами уступил место духу непримиримого соперничества.
В 1901 г. Бертран Рассел сказал: «Один из величайших триумфов математики состоит в открытии того, что представляет собой математика в действительности». Ныне эти слова поражают нас своей наивностью. Уже сегодня различные школы по-разному воспринимают математику как таковую, и в будущем это различие в подходах, по-видимому, только усилится. Существующие ныне школы каждая по-своему пытались обосновать современную математику. Но если заглянуть в прошлое и вспомнить об аптечной математике, а также о математике XVII и XIX вв., то происшедшие изменения, разительные и драматические, станут особенно заметными. Представители некоторых современных школ в основаниях математики пытались подвести надежный фундамент под математику начала XX в. Быть может, их результаты послужат математике XXI в.? Интуиционисты воспринимают математику как живой и развивающийся организм. Но предсказывала ли их «интуиция» что-нибудь такое, с чем математикам не приходилось сталкиваться в прошлом? Даже в 30-е годы отрицательный ответ на такой вопрос заведомо не соответствовал бы истине. Следовательно, производимые время от времени пересмотры оснований математики просто необходимы.
Наш рассказ о событиях, развернувшихся в основаниях математики в XX в., мы хотели бы закончить следующей притчей. На берегах Рейна в течение многих веков возвышался прекрасный замок. Пауки, обитавшие в подвалах замка, затянули паутиной все его проходы. Однажды сильный порыв ветра разрушил тончайшие нити паутины, и пауки принялись поспешно восстанавливать образовавшиеся бреши: они считали, что замок держится на их паутине!
XIII Математика в изоляции
Я решил отказаться от чисто абстрактной геометрии, т.е. от рассмотрения вопросов, служащих лишь для упражнения ума, чтобы заняться изучением геометрии иного рода, предмет которой составляет объяснение явлений природы.
Рене ДекартИстория математики знает не только величайшие взлеты, но и глубокие падения. Потеря истины, бесспорно, может считаться подлинной трагедией, ибо истины — драгоценнейшее из достояний человечества, и утрата даже одной из них — более чем основательная причина для огорчения. Осознание того, что сверкающая великолепием витрина человеческого разума далеко не совершенна по своей структуре, страдает множеством недостатков и подвержена чудовищным противоречиям, могущим вскрыться в любой момент, нанесло еще один удар по статусу математики. Но бедствия, обрушившиеся на математику, были вызваны и другими причинами. Тяжелые предчувствия и разногласия между математиками были обусловлены самим ходом развития математики за последние сто лет. Большинство математиков как бы отгородились от внешнего мира, сосредоточив усилия на проблемах, возникавших внутри самой математики, — по существу, они порвали с естествознанием. Это изменение в развитии математики нередко описывают как обращение к чистой математике, противопоставляемой прикладной математике (ср., например, [97]). Но оба термина — прикладная математика и чистая математика, — хотя мы также будем ими пользоваться, не вполне точно передают суть происходившего.
Что представляла собой математика? Для предыдущих поколений математика была прежде всего и главным образом тончайшим творением человеческого разума, предназначенным для исследования природы. Фундаментальные понятия, универсальные методы и почти все наиболее важные теоремы математики были разработаны и доказаны именно в процессе усовершенствования математики как инструмента познания мира. Естествознание было кровью и плотью математики и питало ее живительными соками. Математики охотно сотрудничали с физиками, астрономами, химиками и инженерами в решении различных научно-технических проблем, а часто и сами являлись выдающимися физиками и астрономами. В XVII-XVIII вв., а также на протяжении большей части XIX в. различие между математикой и теоретическим естествознанием отмечалось крайне редко.{150} Многие ведущие математики, работая в области астрономии, механики, гидродинамики, электромагнетизма и теории упругости, получили здесь несравненно более важные результаты, чем в собственно математике. Математика была царицей и одновременно служанкой естественных наук.
Мы уже рассказывали (гл. I-IV) о нескончаемых усилиях, которые с античных времен предпринимало человечество, чтобы выведать у природы ее «математические тайны». Столь высокая приверженность изучению природы отнюдь не ограничивала прикладную математику решением лишь физических проблем. Великие математики нередко выходили за рамки тех проблем, которые стояли перед естествознанием их времени. А поскольку они действительно были великими и полностью сознавали традиционную роль своей науки, им удавалось наметить направления исследований, которые оказывались немаловажными для теоретического естествознания или проливали свет на понятия, уже применявшиеся для исследования природы. Так, Пуанкаре, многие годы посвятивший астрономии (его перу принадлежит фундаментальный трехтомный труд «Новые методы небесной механики»), считал необходимым разрабатывать те вопросы теории дифференциальных уравнений, которые могли способствовать дальнейшему развитию астрономии.
Некоторые математические работы дополняли или завершали исследования, полезность которых была установлена ранее и ни у кого не вызывала сомнений. Так, совершенно очевидно, что если дифференциальные уравнения одного и того же типа неоднократно встречаются в приложениях, то разумно изучить дифференциальное уравнение общего вида, охватывающее все частные случаи. Это позволяет разработать более удобный или отличающийся большей общностью метод решения, а также получить наибольшее количество сведений о всем классе решений. Одна из отличительных особенностей математики, ее абстрактность, позволяет описывать на математическом языке самые различные физические явления. Так, волны на воде, звуковые и радиоволны математика описывает одним и тем же дифференциальным уравнением, известным под названием волнового уравнения. Те дополнительные сведения, которые математик обнаруживает, исследуя волновое уравнение (впервые выведенное при изучении звуковых волн), могли оказаться (и действительно оказывались) весьма полезными при решении, например, некоторых задач из теории радиоволн. Распознавание за внешне различными явлениями тождественных математических структур позволяет упрочить и понять многообразие теоретических построений, вызванных к жизни проблемами познания реального мира, и установить общую абстрактную основу описания таких явлений.
Доказательство теорем существования решений дифференциальных уравнений, впервые предпринятое Коши, должно было отмести все сомнения в том, что физические проблемы, сформулированные на языке математики, допускают решение, и тем самым вселить уверенность в том, что поиск этих решений будет не напрасным. Так чисто математические работы, посвященные доказательству теорем существования, облекались физической плотью. Стимулом для работ Кантора по теории бесконечных множеств, породивших обширную литературу, было стремление ответить на некоторые вопросы теории бесконечных рядов — так называемых рядов Фурье{151}, которые широко использовались в разного рода приложениях.
Развитие математики приводило к постановке и настоятельному поиску решения проблем, не связанных непосредственно с проблемами естествознания. Так, в XIX в. (гл. VIII) математики поняли, что определения многих понятий страдают расплывчатостью, а в математических рассуждениях и доказательствах немало пробелов. Движение за математическую строгость, принявшее необычайно широкий размах, не ставило целью решение каких бы то ни было естественнонаучных проблем, как не преследовали такой цели и позднее возникшие различные школы, пытавшиеся перестроить основания математики. И все же гигантская работа по перестройке оснований математики, производимая в интересах самой этой науки, несомненно, явилась откликом на насущные проблемы не только чистой, но и прикладной математики.
Многие чисто математические работы дополняют и подкрепляют своими результатами старые, хорошо разработанные области математики или способствуют открытию новых направлений, которые обещают стать важными для различных приложений. Такого рода работы можно рассматривать как прикладную математику в самом широком смысле.
Но разве сто лет назад и ранее, спросит читатель, не было математики, созданной лишь ради нее самой, безотносительно к каким бы то ни было приложениям? Разумеется, была. Великолепный примером чистой математики может служить теория чисел. Хотя пифагорейцы считали, что, изучая целые числа, они постигают сокровенные тайны внутреннего строения материальных объектов (гл. I), впоследствии теория чисел стала совершенно самостоятельной наукой. Одним из первых математиков, изучавших числа «сами по себе», был Ферма. Начало проективной геометрии положили художники эпохи Возрождения, стремившиеся к реализму в живописи, а Жирар Дезарг и Блез Паскаль превратили проективную геометрию в последовательный метод получения новых результатов евклидовой геометрии. Но в XVIII в. работы Дезарга и Паскаля были забыты, а когда в XIX в. математики вновь обратились к проективной геометрии, они занимались ей главным образом из чисто эстетических побуждений, хотя от внимания наиболее проницательных геометров не ускользнули важные связи между проективной и неевклидовой геометриями. Многие проблемы были решены сами по себе только потому, что они заинтересовали кого-то из математиков и тем захотелось испытать свои силы.
Чистая математика, полностью оторванная от запросов естествознания, никогда не находилась в центре забот и интересов математиков. Ей отводилась роль своего рода забавы, отдохновения от гораздо более важных и увлекательных проблем, выдвигаемых естественными науками. Так, создатель теории чисел Ферма большую часть своего времени отдавал разработке аналитической геометрии, решению различных задач математического анализа и оптики (гл. VI). Он попытался заинтересовать теорией чисел Паскаля и Гюйгенса, но потерпел неудачу.{152} В XVIII в. столь абстрактная наука, как теория чисел, привлекала лишь очень немногих математиков.
Эйлер, научные интересы которого были весьма разносторонними, не обошел вниманием и теорию чисел. Однако Эйлер был не только величайшим из математиков XVIII в., но и признанным авторитетом в области математической физики. Его работы поражают необычайной широтой: от глубоких математических методов решения физических проблем, например методов решения дифференциальных уравнений, до астрономии, гидродинамики, рационального конструирования судов и парусов, артиллерии, картографии, теории музыкальных инструментов и оптики.
Теорией чисел занимался и Лагранж, но основное время он уделял математическому анализу — области математики, жизненно важной для приложений (гл. III). Его шедевром по праву считается «Аналитическая механика» (Mécanique analitique), посвященная применению математических методов, в механике. В 1777 г. Лагранж пожаловался одному из друзей: «Исследования по теории чисел стоят мне наибольших усилий, но, должно быть, имеют наименьшую ценность». Гаусс также посвятил теории чисел одну из своих величайших работ «Арифметические исследования» (Disquisitiones arithmeticae, 1801), которая по праву считается классической. Тот, кто прочитал только этот труд Гаусса, мог бы подумать, что автор «Арифметических исследований» — чистый математик. Но главной областью его деятельности была прикладная математика (гл. VI). Феликс Клейн в «Лекциях о развитии математики в XIX в.» [98] называет «Арифметические исследования» юношеской работой Гаусса.
Хотя Гаусс в дальнейшем неоднократно возвращался к теории чисел, он явно не считал ее важнейшим разделом математики. Ему нередко предлагали заняться доказательством Великой теоремы Ферма, гласящей, что при n > 2 никакие целые числа x, y и z не удовлетворяют соотношению xn + yn = zn [99]. Но в письме Вильгельму Ольберсу от 21 марта 1816 г. Гаусс заметил, что гипотеза Ферма — это изолированная, ни с чем не связанная теорема и поэтому не представляет особого интереса. Имеется немало гипотез, добавил Гаусс, которые пока не удалось ни доказать, ни опровергнуть, но сильная занятость другими делами не оставляет времени для задач того типа, которые рассмотрены в «Арифметических исследованиях». Гаусс надеялся, что гипотезу Ферма удастся доказать на основе другой выполненной им работы, но и тогда теорема Ферма будет одним из наименее интересных следствий из более общих его результатов.
Обычно в подтверждение того, что Гаусс, якобы, отдавал предпочтение чистой математике, приводят его знаменитое высказывание: «Математика — царица всех наук, арифметика — царица математики. Она часто снисходит до оказания услуг астрономии и другим естественным наукам, но при всех обстоятельствах первое место, несомненно, останется за ней». Однако вся научная деятельность Гаусса свидетельствует об обратном, и, возможно, это нехарактерное для Гаусса высказывание, должно быть, вырвалось у него под влиянием минуты. Подлинный же девиз всей его деятельности такой: «Ты, природа, моя богиня, твоим законам я преданно служу». По иронии судьбы именно необычайно тщательный подход Гаусса ко всему, что касалось согласованности математики с природой, привел — через его работы по неевклидовой геометрии — к глубоким и драматическим последствиям, подорвав веру Гаусса в истинность математических законов. В целом же по поводу математики до начала XX в. можно сказать, что хотя чистая математика уже и существовала, не было ни одного чистого математика.
Несколько событий в корне изменили отношение математиков к их собственной науке. Первым в ряду таких событий стало осознание того, что математика не является более сводом незыблемых истин о природе (гл. IV). Гаусс отчетливо показал это на примере геометрии, а появление кватернионов и матриц с их некоммутативным умножением ускорило понимание того, что даже обычная арифметика целых чисел не может рассматриваться как априорное знание — обстоятельство, которое Гельмгольц довел до сведения всего математического мира. Хотя это открытие не поставило под сомнение приложимость математики к описанию реального мира, но все же оправданием усилий математиков более не могла считаться надежда на отыскание абсолютной истины или единого закона всего сущего.
Столь выдающиеся достижения математической мысли, как неевклидова геометрия и кватернионы, казалось, явно не согласуются с природой, хотя их создатели и исходили из физических соображений.{153} Тем не менее и неевклидова геометрия, и кватернионы, как выяснилось впоследствии, вполне применимы к описанию реального мира. Осознание того, что творения человеческого ума, равно как и все понятия, традиционно считавшиеся внутренне присущими «плану мироздания», весьма пригодны для описания природы, вскоре привело к развитию совершенно нового подхода к математике. Почему это не может случиться с творениями человеческого разума и в будущем? Многие математики пришли к выводу, что заниматься решением проблем, так или иначе связанных с реальным миром, совершенно не обязательно: ведь и математика как свод идей, зародившихся в человеческом разуме, рано или поздно непременно окажется полезной. Более того, чистое мышление, не стесняемое необходимостью следовать за физическими явлениями, обретает большую свободу и соответственно продвигается дальше. Человеческое воображение, не знающее оков, создает более мощные теории, которые способствуют более глубокому пониманию реального мира и овладению природой.
Были и другие причины, побудившие математиков отойти от изучения реального мира. Широкий размах математических и естественнонаучных исследований не позволял ученым чувствовать себя одинаково свободно и в математике, и в естественных науках. Стоящие перед естествознанием проблемы, подобные тем, в решении которых ранее неизменно принимали участие великие математики, ныне становились все более сложными. Так почему бы, решили математики, не ограничить свою деятельность рамками чистой математики и тем не облегчить себе работу?
Существовала еще одна причина, вынудившая многих математиков обратиться к проблемам чистой математики. Естественнонаучные проблемы редко удается решить окончательно раз и навсегда. Обычно ученые получают все лучшее приближение, но отнюдь не полное решение задачи. Основные научные проблемы, например проблема трех тел, т.е. описания движения трех тел (скажем, Солнца, Земли и Луны), каждое из которых притягивает два других тела, по-прежнему остаются нерешенными. Как заметил Фрэнсис Бэкон, изощренность природы неизмеримо превосходит человеческую мудрость. А чистая математика, напротив, дает нам примеры четко поставленных проблем, допускающих полное решение. Для человеческого разума такие четко поставленные и до конца решаемые проблемы обладают особой привлекательностью в отличие от проблем недосягаемой глубины и неисчерпаемой сложности. Немногие проблемы, устоявшие перед натиском математиков нескольких поколений (например, гипотеза Гольдбаха), формулируются подкупающе просто.
Говоря о мотивах, побуждающих обращаться к проблемам чистой математики, нельзя не упомянуть о давлении, оказываемом на математиков со стороны тех учреждений, где они работают, например университетов, — требовании публиковать результаты своих исследований. Поскольку для решения прикладных проблем необходимы обширные познания по крайней мере в одной из естественных наук и в математике, а нерешенные проблемы по трудности превосходят чисто математические, гораздо легче придумывать свои собственные задачи и решать то, что возможно решить. Профессора не только сами выбирают проблемы, поддающиеся решению, но и предлагают их своим ученикам в качестве тем для диссертаций. При этом профессора во многих случаях действительно могут помочь диссертантам преодолеть любые встречающиеся на их пути трудности.
Назовем несколько направлений, в которых развивается современная чистая математика, — это позволит читателю лучше понять различие между чисто математическими и прикладными проблемами. Одно из таких направлений — абстракция. После того как Гамильтон ввел кватернионы, которые он намеревался применить к решению физических проблем, другие математики поняли возможность существования не одной, а многих алгебр и занялись поиском всех возможных алгебр, не задумываясь над тем, насколько они применимы к описанию реального мира. Это направление математической деятельности процветает и поныне; оно является одним из направлений абстрактной алгебры.
Другое направление чистой математики — обобщение. Конические сечения (эллипс, парабола и гипербола) описываются алгебраическими уравнениями второй степени. В приложениях встречаются также кривые, описываемые уравнениями третьей степени. Обобщение позволяет перепрыгнуть сразу к кривым, описываемым алгебраическими уравнениями n-й степени, и подробно изучить их свойства, хотя такие кривые вряд ли могут помочь нам при описании явлений природы.
Обобщение и абстракция, предпринятые с единственной целью — написать очередную статью для «отчета», как правило, не представляют ценности с точки зрения приложений.{154} Подавляющее большинство работ такого рода посвящено переформулировке на более общем и более абстрактном языке с использованием новой терминологии того, что было известно и раньше, но излагалось на более простом и частном языке. Что же касается приложений математики, то здесь такая переформулировка не дает ни более мощного метода, ни более глубокого понимания. Распространение новомодной терминологии, как правило искусственной и не связанной с какими-либо физическими идеями, хотя и направленной якобы на модернизацию идей, заведомо не способствует более эффективному применению математики, а, наоборот, затрудняет его. Это новый язык, но не новая математика.
Третье направление, избираемое чистой математикой, — специализация. Еще Евклид ставил и решал вопрос о том, существует ли бесконечно много простых чисел. Теперь «естественно» спросить, существует ли простое число среди любых семи последовательных целых чисел. Пифагорейцы ввели понятие дружественных чисел. Два числа называются дружественными, если сумма делителей одного числа равна другому числу. Например, 284 и 220 — дружественные числа. Один из лучших специалистов по теории чисел Леонард Диксон предложил задачу о дружественных тройках чисел. «Мы будем говорить, что три числа образуют дружественную тройку, если сумма собственных делителей каждого числа равна сумме двух других чисел», — писал Диксон и поставил задачу об отыскании таких троек. Другой пример подобного рода относится к так называемым степенным числам. Условимся называть натуральное число n степенным, если из того, что n делится на простое число p, следует, что оно делится и на p2 (другими словами, если в «каноническом» разложении n = р1α1∙р2α2∙…∙pkαk числа n на простые множители все показатели степени α1, α2, …, αk ≥ 2). Существуют ли положительные целые числа (отличные от 1 и 4), представимые бесконечно многими способами в виде разности двух взаимно-простых степенных чисел?
Мы выбрали приведенные выше примеры специализации потому, что их нетрудно сформулировать и понять, хотя кажущаяся простота отнюдь не соответствует сложности и глубине таких проблем. Однако специализация распространилась настолько широко, а проблемы настолько сузились, что к большинству современных отраслей математики вполне применимо высказывание, некогда несправедливо адресованное теории относительности: во всем мире вряд ли найдется дюжина людей, понимающих эту теорию.
Распространение специализации приняло столь широкие масштабы, что группа выдающихся французских математиков, выступающих под коллективным псевдонимом Никола Бурбаки, группа, заведомо не занимающаяся прикладной математикой{155}, сочла необходимым выступить с критикой сложившегося положения:
Многие из математиков устраиваются в каком-нибудь закоулке математической науки, откуда они и не стремятся выйти, и не только почти полностью игнорируют все то, что не касается предмета их исследований, но не в силах даже понять язык и терминологию своих собратьев, специальность которых далека от них. Нет такого математика, даже среди обладающих самой обширной эрудицией, который бы не чувствовал себя чужеземцем в некоторых областях огромного математического мира; что же касается тех, кто, подобно Пуанкаре или Гильберту, оставляет печать своего гения почти во всех его областях, то они составляют даже среди наиболее великих редчайшее исключение.
([68], с. 245; [11]*.)За страсть к специализации математика платит бесплодием. Способствуя виртуозности, специализация редко приводит к значительным результатам.
Абстракция, обобщение и специализация — три направления деятельности, избираемых чистыми математиками. Четвертое направление — аксиоматизация. Развернувшееся в XIX в. движение за аксиоматизацию, несомненно, способствовало укреплению оснований математики, хотя последнее слово в решении проблем, связанных с основаниями математики, осталось не за аксиоматикой. Но вскоре многие математики принялись за тривиальную модификацию только что созданных аксиоматических систем. Одним удавалось показать, что некую аксиому можно сформулировать проще, если воспользоваться другой ее редакцией. Другие показывали, что если пожертвовать простотой формулировки, то три аксиомы можно свести всего лишь к двум аксиомам. Третьи вводили новые неопределяемые термины и, перекроив все аксиомы, приходили к тому же множеству теорем.
Не вся аксиоматизация, как мы уже говорили, была напрасной тратой сил. Но те небольшие модификации, которые удавалось внести в существующие аксиоматические системы, чаще всего не имели особого значения. В то время как решение проблем реального мира требует величайшего напряжения и полной отдачи сил, поскольку возникающие задачи обычно необходимо решить во что бы то ни стало, аксиоматика позволяет различного рода вольности. По существу аксиоматизация есть не что иное, как производимая человеком глубинная организация больших разделов науки; при этом, конечно, не имеет особого значения, какой именно системе аксиом из многих возможных будет отдано предпочтение и сколько аксиом (пять, пятнадцать, двадцать) содержит тот список аксиом, которого мы намерены придерживаться. Недаром поиск многочисленных вариантов систем аксиом, которому посвятили немало времени даже выдающиеся математики, получил название «игры с постулатами».
В первые десятилетия XX в. на аксиоматику тратилось столько времени и труда, что в 1935 г. Герман Вейль, полностью сознавая ценность аксиоматизации, посетовал на оскудение ее плодов и призвал математиков вновь заняться содержательными проблемами. По мнению Вейля, аксиоматика лишь придает содержательной математике точность и организует ее. Аксиоматика выполняет функцию каталогизации или классификации.
Разумеется, далеко не все абстракции, обобщения, специальные проблемы и аксиоматику можно отнести к чистой математике. О ценности такого рода работ и об исследованиях по основаниям математики мы уже говорили. Чтобы ответить на вопрос, с какой математикой — чистой или прикладной — мы имеем дело, необходимо выяснить мотивы исследования. Для чистой математики характерен полный отрыв от каких бы то ни было приложений, непосредственных или потенциальных. Дух чистой математики наиболее полно проявляется в ее непредвзятом отношении к проблемам: любая проблема есть проблема. Некоторые чистые математики ссылаются на то, что любое математическое исследование потенциально полезно, поскольку в будущем вполне может найти применение, которое трудно предвидеть заранее. Тема математического исследования — своего рода участок местности в районе, богатом залежами нефти. Темные лужи на поверхности земли свидетельствуют о целесообразности поискового бурения. Если из скважины пойдет нефть, то участок повышается в цене. После того как нефть на участке обнаружена, бурятся новые скважины в надежде, что и они дадут нефть, если места для бурения выбраны не слишком далеко от первой скважины. Разумеется, можно было бы заложить новую скважину и вдали от первой — там, где бурить легче, — и все же надеяться, что и из нее забьет фонтан нефти. Но силы и изобретательность человека не беспредельны, поэтому математикам приходится соразмерять затрачиваемые усилия со степенью риска. Как заметил один из создателей термодинамики и статистической физики Джозайя Уиллард Гиббс, чистый математик может делать все что ему вздумается, но математик-прикладник должен, по крайней мере отчасти, внимать здравому смыслу.
Критику чистой математики — математики ради математики — можно найти в сочинении Фрэнсиса Бэкона «О достоинстве и приумножении наук» (1620). Бэкон возражал против чистой, мистической и самодовольной математики, «полностью абстрагированной от материи и от физических аксиом» ([23], т. 1, с. 237), сетуя на то, что «таково уж свойство человеческого ума: не имея достаточно сил для решения важных проблем, он тратит себя на всякие пустяки» ([23], т. 1, с. 238). Значение прикладной математики Бэкон понимал следующим образом:
В природе существует много такого, что не может быть ни достаточно глубоко понято, ни достаточно убедительно доказано, ни достаточно умело и надежно использовано на практике без помощи и вмешательства математики. Это можно сказать о перспективе, музыке, астрономии, космографии, архитектуре, сооружении машин и некоторых других областях знания… По мере того как физика день ото дня будет приумножать свои достижения и выводить новые аксиомы, она будет во многих вопросах нуждаться все в большей помощи математики, и это приведет к созданию еще большего числа областей смешанной математики.
([23], т. 1, с. 238.)Во времена Бэкона математикам не нужно было напоминать о необходимости заниматься решением физических проблем. В наши дни математика отделилась от естествознания. За последние сто лет произошел раскол между теми, кто сохранил верность древним возвышенным мотивам математической деятельности, до сих пор питавшим математику глубокими и плодотворными темами исследований, и теми, кто плывет по воле ветра, изучая все, что подсказывает ему необузданное воображение. Ныне математика и естественные науки идут разными путями. Новые математические понятия вводятся без всякой попытки найти им приложения. Более того, математики и представители естественных наук перестали понимать друг друга, и нас вряд ли может утешить то, что вследствие чрезмерной специализации даже сами математики уже не понимают друг друга.
Отход от «реальности», занятия математикой ради самой математики с самого начала вызывали бурные споры. В своем классическом труде «Аналитическая теория тепла» (1822) Фурье с энтузиазмом повествует о математическом подходе к решению физических проблем:
Глубокое изучение природы — наиболее плодотворный источник математических открытий. Такое изучение не только обладает преимуществами хорошо намеченной цели, но и исключает возможность неясной постановки задач и бесполезных выкладок. Оно является надежным средством построения самого анализа и позволяет открывать наиболее значительные идеи, которым суждено навсегда сохраниться в науке. Фундаментальны те идеи, которые отражают явления природы…
Главная отличительная особенность [математического подхода] — его ясность; в нем нет символов, которые выражали бы смутные идеи. Он сводит вместе самые различные явления и обнаруживает объединяющие их скрытые аналогии. Даже если материя ускользает от нас, подобно воздуху и свету, по причине своей крайней тонкости, даже если мы хотим понять, как выглядят небеса на протяжении последовательных периодов, разделяемых многими столетиями, даже если сила тяжести и тепло действуют внутри земного шара на глубинах, которые навсегда останутся недоступными, математический анализ позволяет постичь законы всех этих явлений, Он делает их как бы видимыми и измеримыми и, должно быть, является способностью человеческого разума, призванной возместить кратковременность жизни и несовершенство наших чувств. Но еще более замечательно, что при изучении всех явлений математический анализ следует одному и тому же методу: он переводит все эти явления на один и тот же язык, как бы подчеркивая единство и простоту структуры окружающего нас мира и делая еще более заметным незыблемый порядок, правящий в природе всей материей.{156}
Карлу Густаву Якобу Якоби принадлежат первоклассные результаты в области механики и астрономии. Тем не менее он счел необходимым выступить против высказанного Фурье мнения с критическими замечаниями, которые, однако, в лучшем случае можно назвать односторонними. В письме Адриену Мари Лежандру от 2 июля 1834 г. Якоби писал:
Фурье усматривает главное назначение математики в общественной пользе и объяснении явлений природы, но такому ученому, как он, следовало бы знать, что единственная цель науки состоит в прославлении человеческого разума, поэтому любая задача теории чисел заслуживает ничуть не меньшего внимания, чем любой вопрос о нашей планетной системе.
Разумеется, специалисты по математической физике не разделяли взглядов Якоби. Лорд Кельвин (Уильям Томсон, 1824-1907) и Питер Гутри Тэйт (1831-1901) провозгласили в 1867 г., что лучшая математика — та, которую подсказывают приложения. Именно приложения приводят к «наиболее удивительным теоремам чистой математики, редко выпадающим на долю тех математиков, которые ограничивают себя рамками чистого анализа и геометрии, вместо того чтобы обращаться к богатой и прекрасной области математической истины, лежащей в русле физических исследований».
Многие математики также с осуждением относились к тяге своих коллег к чистой математике. Так, в 1888 г. Кронекер писал Гельмгольцу, внесшему значительный вклад в развитие математики, физики и медицины: «Ваш богатый практический опыт работы с разумными и интересными проблемами укажет математикам новое направление и придаст им новый импульс… Односторонние и интроспективные математические умозаключения приводят к областям, от которых нельзя ожидать сколько-нибудь ценных плодов».
В 1895 г. Феликс Клейн, бывший в то время признанным главой математического мира, также счел необходимым выразить протест против тяги к абстрактной, чистой математике:
Трудно отделаться от ощущения, что быстрое развитие современной мысли таит для нашей науки опасность все более усиливающейся изоляции. Тесная взаимосвязь между математикой и теоретическим естествознанием, существовавшая к вящей выгоде для обеих сторон, с возникновением современного анализа грозит прерваться.
К этой же теме Клейн возвращается в «Математической теории волчка» (1897):
В математической науке назрела насущная необходимость восстановить тесную взаимосвязь между чистой наукой и теми разделами естественных наук, где математика находит наиболее важные приложения, ту взаимосвязь, которая столь плодотворно проявила себя в трудах Лагранжа и Гаусса.
Пуанкаре в «Науке и методе», несмотря на язвительные замечания по поводу некоторых чисто логических построений математиков конца XIX в. (гл. VIII), признает полезность математических исследований о постулатах, о воображаемых геометриях, о функциях со странным ходом. Чем более эти размышления уклоняются от наиболее общепринятых представлений, а следовательно, и от природы и прикладных вопросов, тем яснее они «показывают нам, на что способен человеческий ум, когда он постепенно освобождается от тирании внешнего мира, тем лучше мы познаем ум в его внутренней сущности». Но все же «главные силы нашей армии приходится направлять в сторону противоположную, в сторону изучения природы» ([1], с. 302). В «Ценности науки» Пуанкаре писал:
Нужно было бы окончательно забыть историю науки, чтобы не помнить, что стремление познать природу имело самое постоянное и самое счастливое влияние на развитие математики… Если бы чистый математик забыл о существовании внешнего мира, то он уподобился бы художнику, который умеет гармонически сочетать краски и формы, но у которого нет моделей. Его творческая сила скоро иссякла бы.
([1], с. 223.)Несколько позже, в 1908 г., ту же тему подхватил Феликс Клейн. Его беспокоило, как бы математики не стали злоупотреблять чрезмерной свободой в создании произвольных математических структур. Произвольные структуры, предостерегал Клейн, — «смерть всякой науки». Аксиомы геометрии «не произвольные, а вполне разумные утверждения, как правило опирающиеся на наше восприятие пространства. Точное содержание геометрических аксиом определяется их целесообразностью». Занимаясь обоснованием аксиом неевклидовой геометрии, Клейн подчеркивал, что аксиома Евклида о параллельных, как того требуют наглядные представления, выполняется лишь с точностью, не превышающей определенные пределы. По другому случаю Клейн заметил, что «тот, кто пользуется привилегией свободы, должен нести и бремя ответственности». Под ответственностью Клейн понимал служение интересам познания природы.
К концу жизни Клейн, возглавлявший математический факультет Гёттингенского университета и созданный при нем институт математики — в то время признанный центр математического мира, — счел необходимым еще раз выразить свой протест против чрезмерного увлечения чистой математикой. В книге «Лекции о развитии математики в XIX в.» (1925) он напомнил об интересе, который Фурье питал к решению практических задач самыми лучшими из существовавших в начале XIX в. математических методов, и противопоставил прикладную направленность интересов основателей математической физики чисто математической утонченности методов и абстрактности идей математики XX в. Далее в «Лекциях» говорится следующее:
Если мне позволено будет пояснить свою мысль примером, я сказал бы, что математика в наши дни напоминает крупное оружейное производство в мирное время. Витрина заполнена образцами, которые своим остроумием, искусным и пленяющим глаз выполнением восхищают знатока. Собственно происхождение и назначение этих вещей, их способность стрелять и поражать врага отходят в сознании людей на задний план и даже совершенно забываются.
([98], с. 104.)Рихард Курант, сменивший Клейна на посту главы Гёттингенского математического института, а позднее возглавивший Курантовский институт математических наук при Нью-Йоркском университете, также неодобрительно относился к увлечению чистой математикой. Так, предисловие к первому изданию «Методов математической физики» Куранта и Гильберта (1924) Курант начал следующими словами:
Испокон века математика черпала мощные импульсы из тесных взаимоотношений, существующих между проблемами и методами анализа и наглядными представлениями физики. Лишь последние десятилетия принесли с собой ослабление этой связи, математическое исследование стало часто отрываться от своих наглядных истоков и (особенно в анализе) занялось слишком исключительно уточнением своих методов и уточнением своих понятий. Это привело к тому, что у многих представителей анализа исчезло сознание взаимной связи их науки с физикой и другими дисциплинами, а физики, с другой стороны, часто утрачивали понимание проблем и методов математики и даже ее языка и всей сферы ее интересов. Без сомнения, в этой тенденции таится угроза для науки вообще: потоку научного развития грозит опасность все большего разветвления, оскудения и высыхания. Чтобы избежать этой участи, необходимо значительную часть наших усилий направить к тому, чтобы вновь соединить разделенное, выясняя внутренние связи разнородных фактов и объединяющих точек зрения. Только таким путем изучающему открывается возможность действительного овладения предметом, а исследователю подготовляется почва для органического дальнейшего развития.
([104], с. X.)В 1939 г. Курант писал:
Серьезная угроза самой жизни науки проистекает из утверждения о том, будто математика представляет собой не что иное, как систему заключений, выводимых из определений и постулатов, которые должны быть непротиворечивыми, а в остальном произвольными порождениями свободной воли математиков. Если бы подобное описание соответствовало действительности, то в глазах любого сколько-нибудь разумного человека математика не обладала бы никакой привлекательностью. Она была бы ничем не мотивированной бесцельной игрой с определениями, правилами и силлогизмами. Представление о том, будто разум по своему произволу может создавать осмысленные аксиоматические системы, — полуправда, способная лишь вводить неискушенных людей в заблуждение. Только сдерживаемый дисциплиной ответственности перед органическим целым свободный разум, руководствуясь внутренней необходимостью, может создавать результаты, имеющие научную ценность.
Аналогичное мнение выразил в 1943 г. на страницах журнала American Scientist ведущий американский математик того времени Джордж Дэвид Биркгоф (1884-1944);
Я надеюсь, что в будущем все больше физиков-теоретиков будут обретать глубокие познания математических принципов, а математики не станут ограничиваться чисто эстетическим развитием математических абстракций.
Ситуацию, сложившуюся к 1944 г., Джон Л. Синдж, признанный специалист по математической физике, описал (в духе Бернарда Шоу) в пространном предисловии к одной весьма специальной статье, доступной пониманию лишь профессиональных математиков:
Большинство математиков имеют дело с идеями, которые, по всеобщему мнению, принято относить к математике. Математики образуют замкнутую гильдию. Всякий вступающий в нее дает обет оставить все мирское и обычно сдерживает свою клятву. Лишь немногие математики странствуют «на чужбине» в поисках математического пропитания в проблемах, заимствованных непосредственно из других областей науки. В 1744 или в 1844 г. такими странниками было подавляющее большинство математиков. В 1944 г. они составляют столь небольшую часть математиков, что большинству необходимо напоминать о существовании меньшинства и объяснять точку зрения тех, кто его составляет.
Представители меньшинства не желают, чтобы их называли «физиками» или «инженерами», ибо они следуют математической традиции, существующей более двадцати веков и связанной с именами Евклида, Архимеда, Ньютона, Лагранжа, Гамильтона, Гаусса, Пуанкаре. Меньшинство отнюдь не желает умалять работу большинства, но опасается, что если математика будет питаться только собственными соками, то со временем движущие ею стимулы исчерпают себя.
Помимо влияния на будущее собственно математики изоляция математиков лишила остальные науки поддержки, на которую в прежние времена они неизменно рассчитывали… Изучение природы породило (и, по-видимому, продолжает порождать) несравненно более трудные проблемы, чем те, которые математики придумали, находясь в кругу своих собственных идей. Ученые, занимавшиеся изучением естественных наук, полагались на математиков в надежде, что те обратят свою энергию на решение этих трудных проблем. Ученым-естественникам известно, что математики искусно используют готовые средства, но этим их не удивишь — ученые и сами владеют готовыми, средствами едва ли не с меньшим искусством. В математиках их привлекают некие особые черты — присущие математикам логическая изощренность и умение видеть общее в частном и частное в общем…
При все том математики выступают в роли направляющей и дисциплинирующей силы. Именно математики дали естествознанию методы вычислений: логарифмы, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения и т.д. Но этим вклад математиков в естествознание далеко не исчерпывается. Математики наделили естествознание общим планом, неотступно следили за логичностью естественнонаучного мышления. По мере возникновения каждой новой науки математики подводили (или по крайней мере пытались подводить) под нее надежное логическое основание — подобное тому, что Евклид подвел под египетское землемерие. В руки математиков попадал необработанный камень с множеством посторонних вкраплений. Из рук математиков выходил великолепно ограненный и отполированный бриллиант.
Здание современной науки гудит от кипучей деятельности, какой наука не знала в прежние времена. Нет никаких видимых признаков упадка. И только самые наблюдательные смогли заметить, что часовой покинул свой пост. Он не отправился на покой — работает, как всегда, не покладая рук, но работает только для себя…
Итак, окончен бал. Сколько радости было, пока он длился!.. Природа по-прежнему продолжает подкидывать глубокие проблемы, но они уже не доходят до математиков. В ожидании противника они сидят в своей башне из слоновой кости, вооруженные до зубов, но противник так и не появляется. Природа не ставит перед математиками четко сформулированных проблем. Добыть ясно поставленную задачу можно, лишь вооружившись киркой и лопатой, и тот, кто боится испачкать руки, никогда ни одной сколько-нибудь стоящей задачи не найдет.
Изменения и смерть в мире идей столь же неизбежны, как и в делах человеческих, и любящему истину математику не пристало делать вид, будто их нет, когда в действительности они имеют место. Невозможно искусственно стимулировать глубокие источники интеллектуальной деятельности. Что-то либо захватывает наше воображение, либо не затрагивает его, и в последнем случае никакими усилиями не удастся раздуть пламя. Если математики действительно утратили издавна присущую им особенность и видят перст божий не в движении звезд, а в доведении до пределов мыслимого совершенства и без того точной логики, то все попытки вернуть их в старое убежище обречены на провал, не говоря уже о том, что такие попытки означали бы по существу отрицание права человека на свободу разума. Но каждый начинающий математик, формулирующий свою собственную философию (а этот этап наступает в жизни каждого математика), должен принимать решение, располагая всей полнотой фактов. Он должен понимать, что, следуя тенденциям современной математики, становится наследником великой традиции, но наследует не все ее состояние. Часть наследства перешло в другие руки и навсегда потеряна для него…
Наша наука началась с математики и, несомненно, недолго протянет после того, как из нее изымут математику (если такое изъятие вообще возможно). В нашем столетии множится число лабораторий для массового производства фактов. Останутся ли добываемые факты просто фактами или обратятся в науку, зависит от того, в какой степени они войдут в соприкосновение с духом математики.
Джон фон Нейман был обеспокоен судьбами математики настолько, что счел нужным предостеречь своих коллег. Свою позицию он изложил в очерке «Математик» (1947), часто цитируемом, но все же не привлекшем должного внимания:
На достаточно большом удалении от своего эмпирического источника и тем более во втором и в третьем поколении, когда математическая дисциплина лишь косвенно черпает вдохновение из идей, идущих от «реальности», над ней нависает смертельная опасность. Ее развитие все более и более определяется чисто эстетическими соображениями; она все более и более становится искусством для искусства. Само по себе это неплохо, если она взаимодействует с примыкающими математическими дисциплинами, обладающими более тесными эмпирическими связями, или если данная математическая дисциплина находится под влиянием людей с исключительно развитым вкусом. Но существует серьезная угроза, что математическая дисциплина будет развиваться по линии наименьшего сопротивления, что вдали от источника поток разветвится на множество ручейков и дисциплина превратится в хаотическое нагромождение деталей и сложностей. Иначе говоря, при большом отделении от эмпирического источника или после основательного абстрактного «инбридинга» математической дисциплине грозит опасность вырождения. При зарождении новой математической дисциплины ей обычно свойствен классический стиль. Когда же она начинает обретать черты барокко, то это сигнал опасности…
Во всяком случае, когда достигается стадия барокко, единственное спасительное средство я вижу в том, чтобы снова вернуться к источнику, произвести омолаживающую инъекцию идей более или менее прямого эмпирического происхождения. Я убежден, что такая эмпирическая «подпитка» была необходимым условием сохранения неувядаемой молодости и жизнеспособности математики в прошлом и что аналогичное утверждение остается в силе и в будущем.
([105], с. 95.)Однако тенденция к превращению математики в своего рода искусство для искусства не была приостановлена. Математики продолжали все дальше отходить от естествознания и следовать своим собственным курсом. Чистые математики имеют обыкновение посматривать сверху вниз, как на презренных ремесленников, на тех, кто занимается прикладной математикой, видимо, стараясь заглушить таким образом муки совести. Трубный глас техники, жалуются они, заглушает сладкие звуки чистой математики. В то же время чистые математики чувствуют, что необходимо дать ответ на критику, подобную той, которую мы воспроизвели выше. Однако, давая такой ответ, они — возможно, по незнанию, а может быть, и умышленно искажая историю — утверждают, что многие из величайших достижений прошлого обязаны своим появлением чисто математическим интересам и тем не менее впоследствии нашли себе применение. Но присмотримся внимательнее к тем примерам, которые чистые математики заимствуют из истории. Так ли чиста та математика, которую они называют чистой?
Чаще всего в качестве подходящего примера чистые математики ссылаются на греческие работы о конических сечениях: параболе, эллипсе и гиперболе. По мнению чистых — математиков, эти кривые были исследованы греками, в первую очередь Аполлонием, ради удовлетворения чисто математического интереса. Тем не менее восемнадцать столетий спустя Кеплер доказал, что именно по коническим сечениям движутся вокруг Солнца планеты. Однако хотя ранняя история конических сечений доподлинно и неизвестна, но все же по свидетельству такого авторитетного историка, как Отто Нейгебауэр (р. 1899), параболы, эллипсы и гиперболы впервые возникли в работах, посвященных конструкции солнечных часов. Известно, что древние действительно использовали в солнечных часах эти кривые. Задолго до того, как Аполлоний посвятил коническим сечениям свой классический труд (гл. I), было известно, что параболы позволяют фокусировать падающий на них солнечный свет. Следовательно, физические приложения конических сечений в оптике — области науки, которой греки уделяли немало внимания, — несомненно, послужили толчком к некоторым из исследований по геометрии конических сечений.
Коническими сечениями греки занимались задолго до Аполлония в связи с решением знаменитой задачи об удвоении куба — построении ребра куба вдвое большего объема, чем данный куб. Для греческой геометрии, в которой единственный способ доказать существование того или иного объекта сводился к его построению, такого рода задачи имели первостепенное значение.
Разумеется, Аполлоний доказал сотни теорем о конических сечениях, не имеющих не только непосредственных приложений, но даже потенциально неприменимых. В этом отношении он мало чем отличался от современных математиков, которые, напав на благодатную тему, начинают разрабатывать ее либо по причинам, о которых говорилось выше, — из желания побольше узнать о чем-то важном либо из стремления ответить, так сказать, на интеллектуальный вызов.
Второй, наиболее часто приводимый пример чистой математики, впоследствии нашедшей, однако, немаловажные приложения, — неевклидова геометрия. По словам тех, кто ссылается на этот пример, получается, будто математики создали неевклидову геометрию, размышляя на досуге над тем, что произойдет, если изменить евклидову аксиому о параллельных. Но утверждать подобное — значит игнорировать более чем двухтысячелетнюю историю науки. Аксиомы Евклида считались самоочевидными истинами о реальном физическом пространстве (гл. I). Аксиома о параллельных, весьма произвольно и своеобразно сформулированная Евклидом, стремившимся избежать исходного предположения о существовании параллельной, по сравнению с остальными аксиомами была куда как менее очевидной. Многие усилия, затраченные на поиск более приемлемого варианта аксиомы, привели в конце концов к открытию: аксиома о параллельных не обязательно должна быть истинной — другая аксиома о параллельных, отличающаяся от евклидовой (и, следовательно, неевклидова геометрия), может так же хорошо описывать физическое пространство. Итак, подчеркнем главное: попытки доказать истинность аксиомы Евклида о параллельных предпринимались не для «услаждения мозгов, поднаторевших в умозрительных рассуждениях», а для того, чтобы удостовериться в истинности геометрии, лежащей в основе тысяч и тысяч теорем чистой и прикладной математики.
Чистые математики нередко ссылаются также на работы Римана, который обобщил известную в его время неевклидову геометрию и указал на существование целого семейства неевклидовых геометрий, получивших впоследствии название римановых геометрий (или геометрий римановых пространств). И в этом случае чистые математики полагают, будто Риман создал свои геометрии лишь с той целью, чтобы «посмотреть, что можно сделать». Думающие так глубоко заблуждаются. Как мы уже говорили, усилия математиков, направленные на устранение малейших сомнений в адекватности евклидовой геометрии окружающему нас миру, увенчались созданием неевклидовой геометрии, оказавшейся столь же пригодной для описания свойств физического пространства, как и евклидова геометрия. Существование двух различных геометрий заставило математиков задуматься над вопросом о том, что, собственно, нам достоверно известно о физическом пространстве? Этот вопрос послужил для Римана отправным пунктом для размышлений. Отвечая на него, Риман в своей лекции [106] 1854 г., которая была опубликована лишь после его смерти, развил общую теорию, включающую классическую геометрию Евклида и неевклидову геометрию Лобачевского — Бойаи в качестве частных случаев. Вследствие ограниченности наших физических знаний римановы геометрии могли оказаться столь же полезными для описания физического пространства, как и евклидова геометрия. Риман предвидел, что пространство и материю нужно рассматривать в неразрывной связи.{157} Следует ли удивляться после этого, что Эйнштейн счел риманову геометрию полезной? Предвидение Римана относительно физичности предложенной им геометрии отнюдь не умаляет остроумного применения, которое нашел римановой геометрии Эйнштейн. Применимость римановой геометрии явилась следствием работы над решением наиболее фундаментальной из физических проблем, которыми когда-либо занимались математики, — выяснением природы физического пространства.
Нельзя не упомянуть еще об одном примере. Одно из интенсивно развивающихся направлений современной математики — теория групп. По мнению чистых математиков, теория групп также была создана «из любви к искусству». Понятие группы ввел в математику Эварист Галуа (1811-1832), хотя неявно оно встречалось в работах Лагранжа, норвежца Абеля и итальянца Паоло Руффини (1765-1822). Внимание Галуа привлекла по существу самая простая и практически важная задача всей математики — разрешимость простых алгебраических уравнений, таких, как квадратное уравнение
3x2 + 5x + 7 = 0,
кубическое уравнение
4x3 + 6x2 − 5x + 9 = 0
и уравнения более высоких степеней. Уравнения такого типа встречаются в тысячах физических задач. К тому времени, когда эта задача привлекла внимание Галуа, математики научились решать в радикалах общие алгебраические уравнения от первой до четвертой степени (т.е. выражать корни таких уравнений через их коэффициенты с помощью конечного числа алгебраических операций), а Нильс Хенрик Абель (1802-1829) доказал неразрешимость в радикалах общего алгебраического уравнения пятой степени
ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f = 0,
где a, b, c, d, e и f — любые вещественные (или комплексные) числа, а также и уравнений более высоких степеней. Галуа задался целью выяснить, почему общие уравнения пятой и выше степени неразрешимы в радикалах и почему частные уравнения сколь угодно высокой степени могут оказаться разрешимыми. Решая эту задачу, Галуа создал теорию групп. Нужно ли удивляться, что понятие, возникшее из решения столь фундаментальной проблемы, как решение алгебраических уравнений, оказалось применимым ко многим другим математическим и физическим задачам? Можно с уверенностью сказать, что теория групп не была «придумана», а родилась на прочной и вполне реальной физико-математической основе.
Кроме того, теория групп была вызвана к жизни не только работами Галуа. Возможно, от внимания чистых математиков ускользнула работа французского кристаллографа Огюста Браве (1811-1863) по структуре кристаллов типа кварца, алмаза и горного хрусталя. Эти вещества состоят из различных атомов, расположенных по определенной схеме, многократно повторяющейся в объеме кристалла. Атомы в кристаллах таких веществ, как поваренная соль и обычные минералы, расположены особым образом. В простейшем случае (поваренной соли) можно считать, что соседние атомы расположены в вершинах куба. С 1848 г. Браве занялся изучением преобразований (поворотов кристалла вокруг какой-либо оси), трансляций (параллельных переносов, или сдвигов) или отражений, переводящих кристалл в себя. Такие преобразования образуют различные группы. Камил Жордан (1833-1922), обративший внимание на работу Браве, дополнил и обобщил ее в своей работе 1868 г. и в своем труде «Трактат о подстановках» (Traité des substitutiones, 1870), сыгравшем существенную роль в распространении понятия группы в среде математиков, использовал заимствованные из кристаллографии соображения наряду с другими аргументами, подтверждающими важность изучения теории групп.
Работа Браве навела Жордана на мысль об изучении бесконечных групп — групп вращений и параллельных переносов. Бесконечные (непрерывные) группы обрели известность после знаменитой лекции [107] Феликса Клейна, прочитанной в Эрлангенском университете в 1872 г. и тогда же опубликованной, где он предложил различать все известные в то время геометрии по допускаемым ими группами «движений» и по инвариантам этих «движений». Так, евклидова геометрия занимается изучением тех свойств фигур, которые остаются инвариантными при поворотах, параллельных переносах и преобразованиях подобия (см., например, [108]). Занимавшую в 1872 г. умы математиков проблему, чем отличаются известные и столь непохожие друг на друга геометрии и какая из них соответствует физическому пространству, вряд ли можно отнести к чистой математике. Немало работ по применению дискретных и непрерывных групп к классификации методов решений дифференциальных уравнений{158} вошло в математику, прежде чем в 90-х годах XIX в. было сформулировано современное понятие группы.{159}
К аналогичному выводу приводит изучение и всех других понятий и теорий, якобы являющихся продуктом чистой математики: матриц тензорного исчисления, топологии. Например, вся современная алгебра обязана своим происхождением кватернионам Гамильтона (гл. IV). Мотивы создания абстрактной алгебры прямо или косвенно были связаны с физическими соображениями, и ее творцы неусыпно заботились о приложениях, которые могут иметь вводимые ими понятия. Следовательно, история неоспоримо свидетельствует, что любая математическая дисциплина, намеренно создаваемая как область чистой математики и лишь впоследствии нашедшая различные применения, как правило, возникала при исследовании реальных физических проблем или проблем, имеющих непосредственное отношение к изучению природы. Часто случается, что «хорошая математика», создание которой первоначально было стимулирование потребностями физики, находит новые приложения, которых не предвидели творцы теории. Так математика возвращает свой долг естествознанию. Новых, непредвиденных приложений следует ожидать заранее. Не удивляемся же мы, что молотком, который был изобретен для того, чтобы крушить горные породы, можно также и забивать гвозди. Неожиданные естественнонаучные приложения математики возникают по той простой причине, что математические теории с самого начала имеют физическую подоплеку а отнюдь не обязаны своим происхождением пророческому прозрению всеведущих математиков, сражающихся разве лишь с собственным духом. Неизменный успех абстрактных математических теорий отнюдь не случаен.
Рассказывают, что один из выдающихся английских математиков — Годфри Гарольд Харди (1877-1947) — однажды провозгласил тост: «За чистую математику! Да не найдет она никаких приложений!».{160} Леонард Юджин Диксон (1874-1954), пользовавшийся непререкаемым авторитетом в Чикагском университете, говаривал: «Слава богу, теория чисел не запятнана никакими приложениями».
В статье о математике, написанной во время второй мировой войны (1940), Харди утверждал:
Считаю своим долгом заявить с самого начала, что под математикой я понимаю настоящую математику, математику Ферма и Эйлера, Гаусса и Абеля, а не то, что выдают за математику в инженерной лаборатории. Я имею в виду не только «чистую» математику (хотя именно она интересует меня в первую очередь) — Максвелла и Эйнштейна, Эддингтона и Дирака я также причисляю к «чистым» математикам.
Прочитав эти строки, повторенные в книге Xарди «Апология математика», можно было бы подумать, что он, по крайней мере частично, приемлет прикладную математику. Но далее у Харди говорится следующее:
В понятие чистой математики я включаю всю совокупность математических знаний, обладающих непреходящей эстетической ценностью, какой обладает, например, греческая математика, которая вечна потому, что лучшая ее часть, подобно лучшим произведениям литературы, и через тысячи лет продолжает приносить тысячам людей эмоциональное удовлетворение.
Харди и Диксон могут покоиться с миром, ибо история подтвердила правильность их высказываний. Их чистая математика, как и всякая математика, созданная ради самой себя, почти заведомо не найдет никаких приложений.{161} Тем не менее полностью исключить всякую применимость чистой математики «по Харди и Диксону» мы не можем. Ребенок, наугад наносящий мазки краски на холст, может создать шедевр, соперничающий с картинами Микеланджело (скорее с произведениями современного искусства!), а обезьяна, нажимающая как попало клавиши пишущей машинки, может, как заметил Артур Эддингтон, создать пьесу, сравнимую по своим художественным достоинствам с пьесами Шекспира. Когда работают тысячи чистых математиков, вряд ли можно поручиться, что хотя бы один из полученных результатов случайно не окажется полезным для каких-либо приложений. Тот, кто ищет на улице золотые монеты, может найти мелкие медные монетки. Но интеллектуальные усилия, не соотнесенные с реальностью, почти заведомо оказываются бесплодными. Как заметил Джордж Биркгоф, «по-видимому, новые математические открытия, совершаемые по подсказке физики, всегда будут наиболее важными, ибо природа проложила путь и установила каноны, которым должна следовать математика, являющаяся языком природы». Но природа не сообщает свои секреты громогласно, а шепчет еле слышно — и математик должен чутко прислушиваться, усиливать слабый голос природы и доносить услышанное до всеобщего сведения.
Несмотря на убедительные свидетельства истории, некоторые математики продолжают утверждать, что чистая математика в будущем непременно найдет приложения и что независимость математики от естественных наук якобы расширяет ее перспективы. Этот тезис недавно (1961) был повторен профессором Гарвардского, Йельского и Чикагского университетов Маршаллом Стоуном. В статье «Революция в математике» Стоун, воздав должное значению математики для естественных наук, далее говорит;
Хотя в нашей концепции математики и в наших взглядах на нее по сравнению с началом XX в. произошло несколько важных изменений, лишь одно из них вызвало подлинный переворот в наших представлениях о математике — открытие полной независимости математики от физического мира… Математика, как мы сейчас понимаем, не имеет ни одной обязательной связи с физическим миром, помимо той смутной и несколько загадочной, что неявно содержится в утверждении о том, что процесс мышления происходит в мозгу. Без преувеличения можно сказать, что открытие независимости математики от внешнего мира знаменует собой одно из самых значительных интеллектуальных достижений в истории математики…
Сравнивая современную математику с той, какой она была в конце XIX в., нельзя не удивляться, как быстро выросла наша математика и количественно, и качественно. Вместе с тем нельзя не отметить, как быстро она развивалась, как все больше места в ней отводилось абстракции и все больше внимания уделялось введению и анализу емких математических структур. Как показывает более внимательное рассмотрение, именно новая ориентация математики, ставшая возможной лишь благодаря ее отходу от приложений, и была подлинным источником необычайной жизнеспособности и роста математики за последнее столетие…
Современный математик предпочитает определять предмет своей науки как изучение общих абстрактных схем, каждая из которых представляет собой здание, построенное из вполне определенных абстрактных элементов, скрепленных произвольными, но однозначно определенными соотношениями… По мнению математика, ни сами системы, ни предоставляемые логикой средства для изучения их структурных свойств не имеют прямой или необходимой связи с физическим миром… Лишь в той степени, в какой математика освободилась от уз, связывающих ее в прошлом с теми или иными конкретными аспектами реальности, она может стать гибким и мощным инструментом, столь необходимым для вторжения в области, лежащие за пределами известного. Уже сейчас можно было бы привести многочисленные примеры, подтверждающие сказанное…
Далее Стоун приводит в качестве примеров генетику, теорию игр и математическую теорию связи. В действительности же эти примеры вряд ли могут служить подтверждением его тезиса. Все названные им науки возникли в результате применения классической математики, стоявшей на прочном физическом основании.{162}
С резкими возражениями против отстаиваемого Стоуном тезиса выступил в 1962 г. Курант{163}:
В статье [Стоуна] утверждается, что мы живем в эпоху великих успехов математики, превосходящих все когда-либо достигнутое в прошлом со времен античности. Причину триумфа «современной математики» автор статьи усматривает в одном фундаментальном принципе: абстракции и сознательном отрыве математики от физического и прочего содержания. По его мнению, математический ум, освобожденный от балласта, может воспарить до высот, откуда можно прекрасно наблюдать и исследовать лежащую глубоко внизу реальность.
Я отнюдь не склонен извращать или приуменьшать высказывания или педагогические выводы знаменитого автора. Но как призывный клич, как попытка указать направление, в котором должны развиваться исследования, и прежде всего образование, статья Стоуна в действительности представляет собой сигнал опасности и зов о помощи. Опасность преисполненного энтузиазмом абстракционизма усугубляется тем, что абстракционизм не отстаивает бессмыслицы, а выдвигает полуистину. Разумеется, совершенно недопустимо, чтобы односторонние полуистины мирно сосуществовали с жизненно важными аспектами сбалансированной полной истины.
Никто не станет отрицать, что абстракция является действенным инструментом математического мышления. Математические идеи нуждаются в непрестанной «доводке», придающей им все более абстрактный характер, в аксиоматизации и кристаллизации. Правда, существенного упрощения в понимании структурных связей и зависимостей удается достичь лишь после выхода на более высокое плато. Верно и то, что, как неоднократно подчеркивалось, основные трудности в математике исчезают, если отказаться от метафизических предрассудков и перестать рассматривать математические понятия как описания некой реальности.
Я отнюдь не отрицаю, что наша наука питается живительными соками, идущими от корней. Эти корни, бесконечно ветвясь, глубоко уходят в то, что можно назвать «реальностью» — будет ли это механика, физика, биологическая форма, экономическая структура, геодезия или (в данном контексте) другая математическая теория, лежащая в рамках известного, Абстракция и обобщение для математики имеют не более важное значение, чем индивидуальность явлений, и прежде всего индуктивная интуиция. Только взаимодействие этих сил и их синтез способны поддерживать в математике жизнь, не давая нашей науке иссохнуть и превратиться в скелет. Мы должны решительно пресекать всякие попытки придать одностороннее направление развитию, сдвинуть его к одному полюсу антиномии бытия.
Нам ни в коем случае не следует принимать старую кощунственную чушь о том, будто математика существует к «вящей славе человеческого разума». Мы не должны допускать раскола и разделения математики на «чистую» и «прикладную». Математика должна сохраниться и еще более укрепиться как единая живая струя в бескрайнем потоке науки. Нельзя допустить, чтобы она превратилась в ручеек, уходящий в сторону от основного потока и теряющийся в песках.
Центробежные силы внутренне присущи математике и все же непрестанно угрожают ее существованию. Фанатики изоляционистского абстракционизма представляют для математики реальную опасность. Но не меньшую опасность представляют консервативные реакционеры, не умеющие проводить различия между пустыми претензиями и подлинным вдохновением.
Не отрицая ценности абстракции, Курант утверждал в 1964 г., что математика должна черпать побудительные мотивы из вполне конкретных проблем и должна быть нацелена на некий слой реальности. Если математике необходимо воспарить в абстракцию, то полет в горные выси должен быть не просто бегством от реальности — неоценимое значение имеет возвращение на землю, даже если один и тот же пилот не в состоянии взять на себя управление полетом от начала и до конца.
Математику часто сравнивают с деревом, корни которого прочно и глубоко вросли в плодородную естественную почву. Ствол дерева — число и геометрическая фигура. От ствола отходит множество ветвей, символизирующих различные понятия и разделы математики, которые возникли в ходе ее развития. Одни ветви прочны и питают множество молодых побегов, другие дали несколько чахлых отростков, не увеличивающих особо ни размеры, ни прочность всего дерева. Есть на дереве и засохшие, мертвые ветви. Но самое важное, пожалуй, то, что дерево математики уходит своими корнями в надежную земную твердь, а через ствол и ветви с реальностью связаны и все математические теории. Предпринятые в последнее время попытки полностью удалить почву, оставив в неприкосновенности дерево, корни, ствол и все пышную крону, не могли увенчаться успехом. Многие ветви смогут расцвести лишь после того, как корни еще глубже проникнут в плодородную землю. От черенков, привитых на новые ветви, но не подпитываемых живительными соками реальности, рождались вялые побеги, которым так и не суждено было обрести жизнь. При тщательном уходе таким побегам можно придать видимость живых: они также отходят от ствола и переплетаются с зелеными ветвями, но все же они мертвы, и их можно отсечь, не нанеся ни малейшего ущерба всему живому.
Другие аргументы, казалось бы, подкрепляют утверждение Стоуна о том, что возможность свободно заниматься чистой математикой благоприятно скажется на укреплении всей математики и будет способствовать возникновению новых подходов к прикладной математике. Но тот, кто занимается чистой математикой, сколь бы изощрен ни был его разум и сколь бы громкое имя он ни носил, затрачивает на это значительную часть своих сил и, следовательно, может с меньшей эффективностью применять математические построения к практическим ситуациям. Отдавая свое время и энергию абстрактной математике, он неизбежно проникается ее атмосферой, и у него остается меньше времени для того, чтобы узнать о потребностях прикладной математики и разработать средства, отвечающие ее нуждам. Прикладные математики могут с пользой для себя осведомляться о достижениях чистых математиков, однако чрезмерное внимание к чистой математике приводит к пагубному для судеб математики распылению ресурсов. Невнимание к приложениям чревато изоляцией и, возможно, атрофией всей математики в целом.
Как показала история, Стоун заведомо заблуждался. В своем очерке «Математик» (1947) фон Нейман отметил:
Не подлежит сомнению, что определенная часть движущих идей в математике (причем именно в тех ее разделах, к которым как нельзя лучше применимо название «чистая математика») берет свое начало в естественных науках… На мой взгляд, наиболее характерная отличительная черта математики состоит в ее особом отношении к естественным наукам и вообще к любой науке, интерпретирующей факты на уровне более высоком, чем чисто описательный.
([105], с. 88-89.)Выдающийся французский математик Лоран Шварц, не колеблясь, заявил, что наиболее бурно развивающиеся области современной математики — абстрактная алгебра и алгебраическая топология — не имеют приложений.{161} Некоторые работы облекают конкретные темы в терминологию и понятия, характерные для этих областей, но подобный камуфляж не способствует решению прикладных проблем.
Однако сторонники чистой, абстрактной математики не думают сдаваться. Один из ведущих аналистов нашего времени профессор Жан Дьедонне в 1964 г. отверг, как ошибочное, утверждение о том, что если математике предоставить вариться в собственном соку, то она погибнет от истощения:
Напоследок я хотел бы подчеркнуть, сколь мало новейшая история оправдывает благочестивые пошлости прорицателей краха, регулярно предупреждающих нас о гибельных последствиях, которые математика неминуемо навлечет на себя, если откажется от применений к другим наукам. Я не собираюсь утверждать, что тесный контакт с иными областями, такими, как теоретическая физика, невыгоден для обеих сторон. Однако совершенно ясно, что из всех поразительных достижений, о которых я рассказывал, ни одно, за возможным исключением теории распределений, ни в малейшей степени не пригодно для физических применений. Даже в теории уравнений с частными производными сейчас упор больше делается на «внутренние» и структурные проблемы, чем на вопросы, имеющие прямое физическое значение. Даже если бы математика насильно была отрезана от всех прочих каналов человеческой деятельности, в ней достало бы на столетия пищи для размышлений над большими проблемами, которые мы должны еще решить в нашей собственной науке.
([115], с. 11.)Хотя Дьедонне отчетливо представлял себе нескончаемую вереницу проблем чистой математики, он — надо отдать ему должное — не обошел молчанием тезис о том, что всякое творение чистой математики в конечном счете находит применение. Приведя внушительный перечень исследований по чистой математике, и в частности по теории чисел, Дьедонне заметил: «Трудно представить, что подобные результаты окажутся применимыми к какой-нибудь физической проблеме». Выступая в защиту чистой математики в целом, Дьедонне вместе с тем не мог не заметить, что хвастливые заявления математиков о ценности чистой математики для естественных наук представляют собой своего рода «мелкое жульничество». По словам Дьедонне, чистые математики не пожалеют сил, чтобы доказать единственность решения какой-нибудь проблемы, но не ударят палец о палец, чтобы попытаться найти это решение. Физик же знает, что решение существует и единственно (Земля не обращается вокруг Солнца по двум различным орбитам), но ему необходимо знать истинную орбиту.
Более реалистических взглядов на значимость той математики, которой следовало бы заниматься, придерживался человек, который по своим заслугам в области чистой математики не уступал Дьедонне, — швед Ларе Гординг. Свои взгляды он изложил в докладе на Международном конгрессе математиков в 1958 г.:
Я не могу здесь вдаваться во многие важные части интересующего нас предмета, например в теорию разностных уравнений, теорию систем, приложения к квантовой механике и дифференциальной геометрии. Мой предмет — общая теория дифференциальных операторов с частными производными. Он вырос из классической физики, но не имеет сколько-нибудь существенных применений к ней. Тем не менее физика по-прежнему остается для него основным источником интересных проблем. У меня сложилось убеждение, что общие доклады, подобные тому, с которым я сейчас выступаю, менее полезны, чем периодические обзоры нерешенных физических проблем, требующих новых математических методов. Такие обзоры вряд ли сообщали что-либо новое специалистам, но могли бы указать многим математикам задачи, заслуживающие внимания. Усилия, направленные на более тесное взаимодействие между физикой и математикой, редко планировались заранее. Но именно они должны стать главной заботой международных математических конгрессов.
Тех, кто гордится созданием математики, не опороченной связью с физическим миром, а под давлением начинает утверждать, что в один прекрасный день другие найдут применение их ныне бесцельным работам, можно было бы оставить в покое. Но их действия противоречат всему ходу истории. Их уверенность в том, что математика, освобожденная от связей с естественными науками, принесет более весомые, разнообразные и плодотворные результаты, применимые к более широкому кругу явлений, чем старая, традиционная математика, не подкрепляется ничем, кроме их же собственного голословного утверждения.
Сторонники чистой математики могут выдвигать (и действительно выдвигают) и другие аргументы в защиту ценности своей работы, ссылаясь на внутреннюю красоту таких исследований и интеллектуальный вызов, который они бросают ученому. В существовании подобных ценностей вряд ли кто-нибудь сомневается. Но позволительно усомниться в том, что они могут служить достаточным основанием для огромного количества работ по чистой математике. Какого бы мнения мы ни придерживались, ясно одно: эти ценности не вносят никакого вклада в то, что придает математике наибольшую значимость, — в изучение природы. Красота и интеллектуальный вызов — атрибуты математики ради математики. Но эти проблемы, безусловно, заслуживают особого разговора, который выходит далеко за рамки нашего рассказа об изоляции математики.
Защитники и критики чистой математики по вполне понятным причинам находятся в довольно натянутых отношениях друг с другом. Все споры между ними тотчас рождают юмористические или саркастические замечания. Прикладные математики, язвят приверженцы чистой математики, не заботятся о строгих доказательствах — единственно, что их интересует, это соответствие полученных ими результатов физическим явлениям. Типичным представителем прикладной математики был один из основоположников современной «теоретической электротехники» англичанин Оливер Хевисайд (1856-1925). Применяемые им методы решений, с точки зрения чистых математиков, были сомнительны в силу полной своей необоснованности, за что Хевисайда не раз резко критиковали. В свою очередь Хевисайд относился к своим критикам, которых он называл «логическими контролерами», с высокомерным пренебрежением. «Логике нетрудно быть терпеливой, ведь она вечна», — говорил он. Ему доводилось не раз приводить чистых математиков в замешательство. В те времена, когда так называемые расходящиеся ряды считались полностью «незаконными», Хевисайд заявил по поводу одного из таких рядов: «Подумаешь, ряд расходится! Ведь можем же мы что-нибудь с ним сделать!» Впоследствии все «экстравагантные» методы Хевисайда были строго обоснованы и даже породили новые направления математических исследований. Дабы уязвить пуристов, прикладные математики имеют обыкновение утверждать, что чистые математики способны лишь находить трудности в любом решении, тогда как прикладные математики могут разрешить любую трудность. Популярно также высказывание, что чистые математики решают «то, что можно, так как нужно», а прикладные — «то, что нужно, так как можно».
Прикладные математики любят поддразнивать пуристов и по-другому. Математикам, работающим в приложениях, приходится решать те задачи, которые ставит природа, тогда как чистые математики сами придумывают себе задачи. Поэтому прикладные математики и говорят, что чистые математики ведут себя подобно человеку, который ищет потерянный на темной улице ключ под фонарем только потому, что там светлее.
А чтобы еще больше унизить своих извечных противников, прикладные математики рассказывают, и такую историю. У одного человека скопилось грязное белье, и он отправился на поиски прачечной. Увидев вывеску «Прием белья в стирку», он заходит в помещение и кладет узел с бельем на прилавок. Владелец заведения, глядя на посетителя с некоторым удивлением, спрашивает: «Что вам угодно?» «Я хочу отдать белье в стирку», — говорит посетитель. «Но мы не принимаем белье в стирку», — отвечает хозяин заведения. На этот раз удивляется посетитель. «А для чего же эта вывеска в витрине?» — спрашивает он. «Не обращайте на нее внимания, — отвечает хозяин, — мы ее сделали просто так».
Спор между прикладными и чистыми математиками продолжается, а поскольку в современной математике тон задают чистые математики, они могут позволить себе смотреть сверху вниз на своих «заблудших собратьев» и даже выговаривать им. Как заметил профессор Клиффорд Э. Трусделл, "«прикладная математика» — это оскорбление, наносимое теми, кто считает себя «чистыми» математиками, тем, кого они считают нечистыми… но «чистая» математика — самоубийственное отрицание своего происхождения от воспринимаемых человеком ощущений или тайный пароль, позволяющий «чистых» отличать от «нечистых», — не более чем болезнь, изобретенная в прошлом веке…". Она стала самоцелью, и никому из чистых математиков не приходит в голову задуматься над тем, для чего нужна их наука. Само по себе такое положение не слишком завидно. Цель математики — открывать нечто достойное познания. Ныне же одно математическое исследование порождает другое, то в свою очередь порождает третье и т.д. В храме математики никто более не осмеливается спрашивать что-либо о цели и смысле. Математика утратила связь с реальностью. Стены башни из слоновой кости стали настолько толстыми, что находящиеся внутри ее исследователи перестали видеть то, что происходит снаружи. Попавшие в башню умы оказались в изоляции.
Математики могут расходиться во мнениях, но физикам и представителям других наук не остается ничего другого, как оплакивать то горестное положение, в котором они оказались. Вот что говорит, например, профессор Массачусетского технологического института Джон Кларк Слэтер:
Физик получает очень мало помощи от математика. На каждого математика, способного понять прикладные проблемы, как фон Нейман, и внести реальный вклад в их решение, приходится двадцать математиков, не проявляющих к прикладным проблемам ни малейшего интереса, работающих либо в областях, далеких от физики, либо уделяющих основное внимание более старым и знакомым разделам математической физики. Неудивительно, что при взгляде на математиков физик испытывает такое чувство, будто они сошли с пути, который в прошлом привел к величию математики, и вряд ли ступят на него до тех пор, пока решительно не войдут в основной поток развития математической физики, потому что именно ей мы обязаны наиболее плодотворными достижениями математики в прошлом… Это единственный путь, способный привести современного математика к величию.
Забвение интересов физики было избрано темой большой лекции [116], с которой в 1972 г. выступил перед математиками известный американский физик Фримен Джон Дайсон. И прежде, и теперь, отметил Дайсон, математикам неоднократно предоставлялась возможность внести свой вклад в решение физических проблем первостепенной важности, но математики неизменно упускали свей шанс. Некоторые из этих проблем, полностью или частично, каким-то образом все же проникли в математику, но математикам не известно ни их происхождение, ни физическая значимость. Математики следуют в произвольном направлении и не пытаются даже осмысливать собственные достижения. По словам Дайсона, брак между математикой и физикой закончился разводом.
В XX в. разрыв между математикой и физикой ускорился. В наше время нередко приходится слышать и читать заявления математиков о том, что их наука не зависит от естественных наук. Математики теперь, не колеблясь, открыто признают, что их интересы сосредоточены на чистой математике, а физика им безразлична. Хотя точная статистика неизвестна, но можно полагать, что основная часть работающих сегодня математиков не сведущи в физике и спокойно пребывают в этом благословенном состоянии. Несмотря на опыт истории и на критику, тенденция к абстракции, к обобщению ради обобщения и к изучению произвольно выбранных проблем сохраняется в математике и поныне. Разумная потребность в изучении целого класса проблем с целью более глубокого понимания частных случаев и в абстракции с целью выявления сущности проблемы стала не более чем предлогом для обобщений ради обобщений и абстракций ради абстракций.
За много веков человек создал такие великие построения, как евклидова геометрия, птолемеева система мира, гелиоцентрическая система мира, механика Ньютона, теория электромагнитного поля, а позднее — теория относительности и квантовая теория. Математика, как известно, является неотъемлемой частью всех этих и многих других важных и мощных теорий, их основой и их сущностью. Математические теории позволили нам многое узнать о природе и охватить в понятных теоретических схемах множество внешне различных явлений. Математические теории дали человечеству возможность обнаружить порядок и план повсюду в природе, где только их можно было найти; они помогли нам частично или полностью овладеть обширными областями знания.
Но большинство математиков предало забвению древние традиции математики и наследие ее прошлого. Наполненные глубоким содержанием сигналы, которые посылает нам природа, достигают лишь закрытых глаз и нечутко прислушивающихся ушей. Математики продолжают жить на проценты от репутации, заработанной их предшественниками, и жаждут при этом шумного одобрения и такой же поддержки, какую математика имела в прошлом. Чистые математики пошли еще дальше — они изгнали прикладных математиков из своего братства в надежде, что им одним достанется вся слава, которую снискали их предшественники. Они выбросили за борт богатейший источник идей и беспечно транжирят накопленное ранее богатство. В погоне за блуждающим огоньком они покинули пределы реального мира. Правда, некоторые чистые математики, памятуя о благородной традиции, стимулировавшей в прошлом математические исследования и приведшей Ньютона и Гаусса к выпавшим на их долю почестям, продолжают твердить о потенциальной ценности своих математических работ для естественных наук. Они утверждают, что создают модели для теоретического естествознания. Но в действительности подобная цель их нисколько не занимает. Более того, поскольку большинство математиков абсолютно не сведущи в естественных науках, они просто не в состоянии создавать такие модели. Они считают, что лучше хранить целомудрие, чем делить брачное ложе с естествознанием. Современная математика в целом обращена внутрь, она питается своими собственными соками. Судя по опыту прошлого, маловероятно, что многие из современных математических исследований внесут хоть какой-нибудь вклад в развитие естественных наук. Возможно, математике суждено еще долго брести в кромешной тьме, отыскивая свой путь на ощупь, ведь современная математика автономна. Развиваясь в направлениях, которые по ее собственным критериям определяются как имеющие отношение к делу и предпочтительные перед другими, современная математика даже гордится своей независимостью от диктуемых внешним миром проблем, мотивировок, побудительных стимулов. В отличие от математики прошлого современная математика не обладает более ни единством, ни целью.
Изоляция большинства современных математиков достойна сожаления по многим причинам. Сфера приложений математики в науке и технике расширяется необычайно быстро. Вплоть до недавнего времени казалось, что близко к осуществлению пророчество Декарта, видевшего в математике высшее достижение человеческого разума, триумф логики над эмпиризмом и предсказавшего проникновение математических методов во все науки. Но именно в тот момент, когда математический подход распространился на многие области знания, математики отошли в сторону. Сто лет назад и ранее математика и физика были тесно связаны между собой. С тех пор между ними произошел разрыв, и ныне брешь между математикой и физикой достигла весьма ощутимых размеров. Современные математики упускают из виду, что ценность их науки определяется прежде всего тем вкладом, который она вносит в познание законов природы и в овладение природой. Большинство современных математиков хотят полностью изолировать свою науку и заниматься лишь исследованиями, лежащими в стороне от насущных проблем естествознания. Между теми, кто считает необходимым при выборе направления своих исследований придерживаться древней благородной традиции, и теми, кто предпочитает плыть по течению и расследовать все, что подсказывает их неуемная фантазия, произошел раскол. Утратив за последние сто лет развития математики — становившейся все более чистой — остроту зрения, математики разучились читать книгу природы и потеряли всякую охоту к подобному чтению. Они обратились к таким областям математики как абстрактная алгебра и топология, к таким абстракциям и обобщениям, как функциональный анализ, к такой далекой от приложений деятельности, как доказательство теорем существования решений дифференциальных уравнений, к аксиоматизации различных наук и к бесплодной игре разума. Лишь немногие современные математики все еще пытаются решать более конкретные проблемы, главным образом в теории дифференциальных уравнений и близких к ней областях.
Означает ли отход большинства математиков от естественных наук, что современное естествознание может лишиться математики? Не совсем. Как заметили некоторые наиболее проницательные математики, новые Ньютоны, Лапласы и Гамильтоны создадут в будущем нужную им математику, подобно тому как их предшественники создали ее в прошлом. Ньютон, Лаплас и Гамильтон были физиками, хотя и снискали всеобщее признание как первоклассные математики. Рихард Курант писал в 1957 г. в некрологе по случаю кончины Франца Реллиха: «Если существующая ныне тенденция сохранится, то не исключена опасность, что развитие «прикладной» математики в будущем станет уделом физиков и инженеров, а профессиональные математики сколько-нибудь высокого ранга не будут иметь к этому никакого отношения». Слово «прикладная» Курант взял в кавычки, потому что он имел при этом в виду всю содержательную и наполненную смыслом математику. Сам он не проводил различия между чистой и прикладной математикой.
Пророчество Куранта сбылось. Поскольку система ценностей, принятая в математическом сообществе, отдает предпочтение чистой математике, лучшие работы в области прикладной математики выполняют инженеры-электрики, вычислители, биологи, физики, химики и астрономы. Подобно тем математикам, которых Гулливер встретил во время путешествия в Лапуту, пуристы живут на острове, висящем над Землей. Решать проблемы, связанные с жизнью общества на Земле, они предоставляют другим. Еще какое-то время такие математики будут жить в атмосфере, созданной для их науки усилиями математиков прошлого, но по исчерпании запасов живительного воздуха они обречены на гибель от удушья.
Талейран заметил однажды, что идеалист не может долго оставаться идеалистом, если он не реалист, и реалист не может долго оставаться реалистом, если он не идеалист. Применительно к математике высказывание Талейрана можно истолковать так, что реальные проблемы необходимо идеализировать и изучать абстрактно, но деятельность идеалиста, игнорирующего реальность, не жизнеспособна. Математика должна прочно стоять на земле и уходить головой в облака. Подлинную, живую, содержательную математику рождает сочетание абстракции и конкретных проблем. Математики могут воспарять в облака абстрактного мышления, но, подобно птицам, за пищей должны возвращаться на землю. Чистую математику можно сравнить с тортом, подаваемым на десерт. Он приятен на вкус и даже способен в какой-то мере насытить нас, но организм не может существовать только на тортах — без «мяса и картошки» реальных проблем, составляющих основу его питания.
Чрезмерное внимание к искусственным проблемам чревато опасностью. Если и впредь математики будут направлять свои усилия главным образом на чистую математику, то математика перестанет быть той наукой, которую так ценили в прошлом, хотя и будет носить то же название. Математика — чудесное изобретение, но чудо кроется в способности человеческого разума конструировать модели сложных и, казалось бы, не поддающихся описанию явлений природы. Именно эта способность позволяет человеку постигать глубинную сущность явлений и обретать власть над природой.
Но чтобы выбрать свой путь, человек должен быть свободен. Как сказано в «Одиссее» Гомера, «различное людям различным». Гомеру вторит живший веком позже поэт Архилох: «Каждый по-своему радует сердце». Ту же мысль мы находим у Гете: «У человека остается свобода заняться тем, что более всего привлекает его, что доставляет ему наслаждение, что кажется ему наиболее полезным». Но подлинным предметом исследования для человечества, добавляет Гете, является сам человек. Перефразируя высказывание Гете, мы можем сказать, что подлинным предметом исследования для математиков является природа. Как сказано в «Новом органоне» Фрэнсиса Бэкона, «подлинная же и надлежащая мета [конический столбик, устанавливавшийся в начальном и конечном пунктах конского ристалища в Древнем Риме] наук не может быть другой, чем наделение человеческой жизни новыми открытиями и благами» ([23], т. 2, с. 43).
В конечном счете здравый смысл должен подсказать, какое направление исследований стоит того, чтобы им заниматься. Математический мир должен проводить различие не между чистой и прикладной математикой, а между математикой, ставящей своей целью решение разумных проблем, и математикой, потакающей лишь чьим-то личным вкусам и прихотям, математикой целенаправленной и математикой бесцельной, математикой содержательной и бессодержательной, живой и бескровной.
XIV Куда идет математика?
Смири гордыню, бессильный разум.
Блез ПаскальРассказывая о все возрастающих трудностях, с которыми приходилось сталкиваться математикам при поисках ответа на вопрос, что такое математика и что следует принять за основу при ее построении, мы обнаружили в итоге неприглядную картину. Главное утешение, которое получали математики от своей работы, — необыкновенная эффективность математики в приложениях к другим наукам — частично утратило свою силу, поскольку большинство математиков перестало заниматься приложениями. Как же воспринимают математики стоящую перед ними дилемму — вновь обратиться к приложениям или продолжить занятие чистой математикой — и что они могут ожидать от будущего? В чем сущность математики?
Попытаемся сначала проанализировать, как математика дошла до ее нынешнего бедственного положения и к чему это привело. Математики Древнего Египта и Вавилона, заложившие первые камни в фундамент своей науки, не имели ни малейшего представления о том, какое здание они возводят. Поэтому они не стали рыть глубокий котлован под фундамент, а начали закладывать его прямо на поверхности земли. В те давние времена земля казалась им достаточно прочным основанием, и материал, с которым они начали строительство, — факты о числах и геометрических фигурах — был взят из повседневного, земного опыта. Чисто земное происхождение математики нашло отражение в постоянно используемом нами термине «геометрия», что означает землемерие.
Однако когда здание математики начало расти, выяснилось, что все сооружение достаточно шатко и что, надстраивая новые этажи, можно превратить в руины и то, что было создано раньше. Греки классического периода не только заметили грозящую опасность, но и произвели необходимую реконструкцию. С этой целью они приняли две меры. Во-первых, выбрали на поверхности земли узкие полосы прочного грунта, на которых, как им казалось, не страшно возводить стены. Такими опорными полосами стали самоочевидные истины о пространстве и о целых числах. Во-вторых, греки укрепили каркас здания стальной арматурой — роль «стали» здесь играло дедуктивное доказательство каждого нового факта.
Здание античной математики — структуры, состоящей в основном из евклидовой геометрии, — оказалось вполне устойчивым. Правда, в нем обнаружился один досадный дефект. Дело в том, что длины некоторых отрезков выражаются иррациональными числами: например, длина гипотенузы равнобедренного прямоугольного треугольника с единичными катетами равна иррациональному числу √2. Ho греки признавали только обычные целые числа и их отношения; поэтому они не могли допустить существование таких величин, как √2. Греки решили возникшую проблему, попросту изгнав иррациональные числа: они отказались считать √2 «числом», а следовательно, отказались и от идеи сопоставлять любым длинам, площадям и объемам численные значения. Тем самым греки не внесли никаких дополнений в арифметику и алгебру целых чисел, которые можно было бы включить и в структуру геометрии. Правда, некоторые ученые александрийского периода (в первую очередь Архимед) производили арифметические действия над иррациональными числами, но эти результаты не были включены в канонический свод знаний, составляющих логическую структуру математики.
Индийцы и арабы возвели новые этажи здания математики, нимало не заботясь о его устойчивости. Прежде всего примерно в VI в. индийцы ввели отрицательные числа. Затем индийцы и арабы — менее привередливые, чем греки, — не только приняли иррациональные числа, но и разработали правила действий над ними.
Европейцы эпохи Возрождения, унаследовавшие математику греков, индийцев и арабов, поначалу с недоверием отнеслись к этим чужеродным элементам. Но вскоре потребности естествознания возобладали над осторожностью — европейцы поступились заботами о логической обоснованности математики.
Расширяя математику чисел, индийцы, арабы, а позднее европейцы возводили этаж за этажом: так появились комплексные числа, новые разделы алгебры, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, дифференциальная геометрия и т.д. Однако вместо «стали» древнегреческих мыслителей европейцы использовали «деревянные колонны и балки» — смесь интуитивных рассуждений и физических построений. Но деревянные опоры не выдержали нагрузки — в стенах величественного здания математики стали появляться трещины. К началу XIX в. здание математики снова оказалось в аварийном состоянии, и математики в спешном порядке принялись заменять дерево сталью.
Пока укрепляли верхние этажи, выяснялось, что в казавшемся столь твердом грунте (выбранных греками аксиомах), на котором покоилась вся постройка, имеются не замеченные ранее дыры. Создание неевклидовой геометрии показало, что аксиомы евклидовой геометрии не были, как считалось прежде, полосками прочного грунта, а лишь казались таковыми. Не могли служить прочной основой и аксиомы неевклидовой геометрии. То, что математики принимали за абсолютную реальность, уповая на способность своего разума познавать и безошибочно анализировать природу, на поверку оказалось ненадежными данными чувственного опыта. Но беда никогда не приходит одна: создание новых алгебр заставило математиков осознать, что и казавшиеся столь надежными свойства чисел имеют в действительности не более прочное основание, чем геометрия. Так над всем зданием математики — над геометрией и арифметикой с их продолжениями в алгебру и анализ — нависла смертельная угроза. Поднявшееся уже высоко здание могло в любой момент рухнуть или провалиться в трясину.
Чтобы спасти здание от разрушения, необходимы были экстренные меры — и математики приняли вызов. Они наконец поняли, что прочного грунта, на котором можно было бы возвести фундамент здания математики, не существует. То, что кажется прочным, в действительности обманчиво и зыбко. Но, быть может, здание математики удастся возвести на прочном основании иного рода? В качестве такого основания математики решили выбрать четко сформулированные определения, полные перечни используемых аксиом и явное доказательство всех результатов, сколь бы очевидными они ни выглядели интуитивно. Кроме того, вместо поиска истины математики устремились теперь на поиск логической непротиворечивости. Доказываемые теоремы должны быть строго взаимосвязаны, придавая зданию математики желанную прочность (гл. VII). Движение за аксиоматизацию, развернувшееся в конце XIX в., позволило придать прочность зданию математики. Так, несмотря на то что математика как будто бы утратила опору в реальности, очередной кризис в истории математики удалось преодолеть.
К сожалению, цемент, скрепляющий фундамент нового здания, не затвердевал. Строители не могли гарантировать непротиворечивость, и, когда возникли противоречия в теории множеств, математики поняли, что над их творением нависла еще более серьезная угроза. Разумеется, они не собирались безучастно наблюдать, как обращаются в прах плоды многовековых усилий. Непротиворечивость зависит от того, что положено в основу рассуждений. Следовательно, спасти положение может лишь полная перестройка оснований математики. Необходимо было укрепить сам фундамент реконструируемой математики — ее логические и математические аксиомы, и строители решили копать еще глубже. К сожалению, они так и не смогли прийти к единому мнению относительно того, где и как надлежит укреплять основания, и каждый, считая, что именно ему суждено обеспечить надлежащую прочность здания математики, приступал к перестройке так, как считал нужным. Построенное совместными усилиями здание не отличалось ни изяществом пропорций, ни особой устойчивостью. Оно расползалось во все стороны и было весьма шатким. Каждое крыло здания претендовало на роль единственно истинного храма математики, где хранятся жемчужины математической мысли.
Вероятно, всем известна притча о семи слепцах и слоне. Наткнувшись на слона, слепцы принялись ощупывать его и спорить, на что он похож. Тот, кто ощупывал хвост, заявил, что слон похож на веревку; его товарищ по несчастью, ощупывавший ногу слона, сравнил слона с колонной; третий слепец, ощупывавший хобот, утверждал, что слон подобен змее и т.д. Слепцы не могли прийти к согласию, так как все они представляли себе слона по-разному. Хотя математика по своей структуре, возможно, намного изящнее слона, тем, кто занимается основаниями математики и рассматривает ее с различных точек зрения, так же трудно согласовать свои позиции, как и несчастным слепцам.
Математика достигла ныне той стадии развития, когда вопрос о том, что, собственно, надлежит считать математикой — логицизм, интуиционизм, формализм или теорию множеств, — вызывает, ожесточенные споры. Каждое течение в основаниях математики обладает тонкой структурой: разделяется на отдельные русла, состоящие в свою очередь из множества протоков. Так, интуиционисты не сходятся между собой во мнениях относительно того, что следует считать фундаментальными, интуитивно воспринимаемыми понятиями: только целые или также и некоторые иррациональные числа, закон исключенного третьего, распространяемый только на конечные или и на счетные множества, по-разному трактуемые конструктивные методы. Логицисты полагаются только на логику, но и они не избавлены от сомнений по поводу аксиом сводимости, выбора и бесконечности. Представители теоретико-множественного течения могут двигаться в любом из нескольких различных направлений в зависимости от того, принимают они аксиому выбора и гипотезу континуума или отвергают одну из этих аксиом (ибо гипотеза континуума также имеет ныне статус аксиомы!) или даже отказываются от них обеих. Даже формалисты могут выбирать путь по своему усмотрению. Выбор принципов математики для доказательства непротиворечивости не вполне однозначен. Финитистских принципов, отстаиваемых Гильбертом, оказалось недостаточно даже для доказательства исчисления предикатов (первой ступени), не говоря уже об установлении непротиворечивости формальных математических систем Гильберта. Формалистам не оставалось ничего другого, как воспользоваться нефинитистскими методами (гл. XII). Кроме того, как показал Гёдель, в рамках наложенных Гильбертом ограничений любая достаточно мощная формальная система содержит неразрешимые утверждения, т.е. утверждения, которые, базируясь на аксиомах нельзя ни доказать, ни опровергнуть; но это значит, что подобные утверждения (или их отрицания) можно принять в качестве дополнительных аксиом. Однако и после присоединения новой аксиомы расширенная система, согласно теореме Гёделя, все еще должна содержать неразрешимые утверждения. Приняв их за новые дополнительные аксиомы, мы могли бы вторично расширить формальную систему и т.д. Процесс последовательного расширения исходной формальной системы можно было бы продолжать бесконечно.
Логицисты, формалисты и представители теоретико-множественного направления полагаются на аксиоматические основания. В первые десятилетия XX в. именно аксиоматика превозносилась как наиболее подходящий фундамент для построения математики. Но теорема Гёделя утверждает, что ни одна система аксиом не охватывает всех истин, содержащихся в любой математической структуре, а теорема Левенгейма — Сколема показывает, что каждая система аксиом включает больше, чем предполагалось. Только интуиционисты могут позволить себе безразличие к проблемам, возникшим в связи с аксиоматическим подходом.
В довершение всех разногласий и неясностей по поводу того, какие основания математики считать наилучшими, над головами математиков, подобно дамоклову мечу, висит нерешенная проблема доказательства непротиворечивости всей математики. Какую бы философию ни исповедовал тот или иной математик, в своей работе он рискует натолкнуться на противоречие.
Основной вывод, который можно сделать из существования нескольких противоборствующих подходов к математике, состоит в следующем: имеется не одна, а много математик. О математике в целом, по-видимому, правильнее говорить во множественном числе (как о многих математиках), оставив единственное число для обозначения любого из подходов. Философ Джордж Сантаяна как-то сказал: «Не существует бога, и дева Мария — матерь его». Перефразируя эти слова, можно сказать: «Не существует единой, общепринятой математики, и греки — создатели ее». Широкий выбор подходов, открывающийся перед математиками, вызывает у них ощущение, близкое к тому, которое отлично передано в следующих строках Шелли:
Пред роем нескончаемым Бесчисленных миров Фантазии крылатой Кружится голова.Насколько можно судить, в ближайшем будущем нам придется обходиться без критерия, который позволял бы выбрать предпочтительный подход к собственно математике.
Примирить разные взгляды на то, что такое истинная математика (или по крайней мере в каком направлении она должна развиваться), можно надеяться лишь основываясь на прогрессе в решении тех спорных вопросов, по которым расходятся во мнениях математики разных школ. Больше всего разногласий вызывает вопрос о том, что такое математическое доказательство.
Во все времена — начиная с древнейших ионийской и пифагорейской школ (гл. I) — предполагалось, что математическое доказательство — это ясный и бесспорный процесс; формализации этого процесса Аристотель посвятил десять лет жизни. Правда, долгое время им пренебрегали (гл. V-VIII), но в целом математики никогда о нем не забывали. Само понятие математического доказательства всегда существовало; оно и служило парадигмой и образцом, которому в той или иной степени стремились следовать ученые.
Что же заставило математиков изменить отношение к доказательству и даже разбиться на враждующие группировки, каждая из которых придерживается своей версии этого важнейшего понятия? На протяжении более чем двух тысячелетий математики разделяли старые взгляды на логику, согласно которым логические принципы в том виде, как их кодифицировал Аристотель, являются абсолютными истинами. Уверенность в непогрешимости логических принципов подкреплялась их длительным и, казалось бы, безотказным использованием. Но впоследствии математики поняли, что основы логики — такие же продукты человеческого опыта, как и аксиомы евклидовой геометрии. Возникло легкое беспокойство по поводу того, какие же логические аксиомы можно считать надежными. Так, интуиционисты не без основания ограничили область применения закона исключенного третьего. И кто знает, стали бы мы считать, что приемлемые ныне логические принципы останутся таковыми и впредь, не будь их репутация столь безупречной в прошлом?
Второй связанный с понятием доказательства спорный вопрос, возникший с появлением логистической школы, можно сформулировать так: что входит и что не входит в («исходные») логические принципы? Хотя Рассел и Уайтхед без каких-либо колебаний в первом издании «Оснований математики» включили в свой список аксиом аксиомы бесконечности и выбора, позднее они отступили от этой позиции, не только признав, что первоначальные логические принципы не были абсолютными истинами, но уяснив, что аксиомы выбора и бесконечности аксиомами логики не являются. Во втором издании «Оснований математики» эти аксиомы не были включены в исходный список аксиом и их использование при доказательстве некоторых теорем каждый раз оговаривалось особо.
Помимо разногласий относительно того, какие логические принципы можно считать приемлемыми, существуют разногласия и по поводу того, сколь далеко простираются сферы действия логики. Как известно, логицисты были убеждены, что логики достаточно для обоснования всей математики, хотя впоследствии им приходилось всячески изворачиваться, когда дело касалось проблем, связанных с аксиомами бесконечности и выбора. По мнению формалистов, одной лишь логики недостаточно и для обоснования математики; логические аксиомы необходимо дополнить чисто математическими. Представители теоретико-множественного направления обращались с логическими принципами довольно небрежно, и кое-кто из них даже не удосуживался указывать используемые логические принципы в явном виде. Интуиционисты из принципиальных соображений считали нужным не вдаваться в логику.
Еще один спорный вопрос — понятие существования. Например, установив, что каждый многочлен имеет по крайней мере один корень, мы доказываем чистую теорему существования (Existenzbewies. — нем.). Любое доказательство, если оно непротиворечиво, приемлемо с точки зрения логицистов, формалистов и представителей теоретико-множественного направления. Но доказательство, даже не использующее закона исключенного третьего, может не указывать метода, позволяющего найти (или вычислить) тот объект, существование которого мы установили. Для интуиционистов доказательства существования такого рода неприемлемы. Нежелание интуиционистов допустить трансфинитные кардинальные и ординальные числа (поскольку эти числа интуитивно не очевидны и конструктивно не достижимы в интуиционистском понимании конструктивности, или вычислимости) — еще один пример различных стандартов понимания «существования». Спорный вопрос, в каком смысле существуют не только отдельные математические объекты, например корни многочленов, но и вся математика в целом, имеет первостепенное значение, и мы еще вернемся к нему в этой главе.
Интерес к тому, что такое истинная математика, подогревается еще одним обстоятельством. Какие математические аксиомы можно считать приемлемыми? Блестящий пример вопросов такого рода — вопрос о том, допустимо ли использование аксиомы выбора. Пытаясь ответить на него, математики встали перед дилеммой: не использовать аксиому выбора или отвергнуть ее означало отказаться от больших и важных разделов математики, а применение аксиомы выбора приводило если не к противоречиям, то к интуитивно неразумным выводам (гл. XII).
Неспособность математиков доказать непротиворечивость своей науки бросает тень на весь идеал математики. Противоречия обнаруживались в самых неожиданных местах. И хотя их удавалось разрешить более или менее приемлемым образом, опасность возникновения новых противоречий, несомненно, заставила многих математиков скептически относиться к чрезмерным усилиям, которые их собратья прилагали для достижения строгости.
Что же такое математика, если она перестала быть однозначной, строгой логической конструкцией? Это серия интуитивных прозрений, тщательно отсеянных, очищенных и организованных с помощью той логики, которую занимавшиеся ее отбором люди хотели и могли применять, когда им заблагорассудится. Чем больше усилий прилагалось к уточнению понятий и систематизации дедуктивной системы математики, тем более изощренными становились интуитивные представления. Но опирается ли математика на какие-либо фундаментальные интуитивные представления, которые могут косвенно отражать структуру наших органов чувств, мозга и внешнего мира? Математика — творение человеческого разума, и любая попытка подвести под нее некую абсолютную базу обречена на провал.
Прогресс математики представляет собой цепочку великих интуитивных озарений, впоследствии получавших обоснования, которые возникают не за один прием, а путем последовательных поправок, долженствующих исправить различного рода ошибки и упущения, вводимых до тех пор, пока доказательство не достигнет приемлемого для своего времени уровня строгости.{164} Ни одно доказательство не является окончательным. Новые контрпримеры подрывают старые доказательства, лишая их силы. Доказательства пересматриваются, и новые варианты ошибочно считаются окончательными. Но, как учит история, это означает лишь, что для критического пересмотра доказательства еще не настало время. Иногда математики сознательно откладывают пересмотр доказательства на будущее. Промедление объясняется не только тем, что обнаружение ошибки в чужом доказательстве не приносит славы открывателю, но и другой причиной: математик, которому хватило ума усомниться в правильности ранее известного доказательства теоремы, обычно стремится самостоятельно доказать ее, связав тем самым старый факт со своим именем. Математики гораздо больше озабочены доказательством собственных теорем, нежели поиском ошибок в чужих доказательствах.
Некоторые школы пытались заточить математику в стенах логики. Но интуиция не терпит никаких посягательств на свою свободу. Представление о математике как о своде абсолютно надежных, бесспорных и неопровержимых истин, имеющих под собой прочное основание, разумеется, восходит к классическому периоду, воплощенному в «Началах» Евклида. Греческий идеал довлел над мышлением математиков более двадцати столетий. Но «злой гений» Евклид явно сбил математиков с истинного пути.
В действительности математик не полагается на строгое доказательство до такой степени, как обычно считают. Его творения обретают для него смысл до всякой формализации, и именно этот смысл сам по себе придает реальность. Попытки установить точные границы результата путем вывода его из системы аксиом могут оказаться в известной степени полезными, но, по существу, они довольно слабо влияют на значение результата.
Интуиция может оказаться более удовлетворительной и вселять большую уверенность, чем логика. Когда математик спрашивает себя, почему верен тот или иной результат, он ищет ответа в интуитивном понимании. Строгое доказательство ничего не значит для математика, если результат ему непонятен интуитивно. Обнаружив непонимание, математик подвергает доказательство тщательнейшему критическому пересмотру. Если доказательство покажется ему правильным, то он приложит все силы, чтобы понять, почему интуиция подвела его. Математик жаждет понять внутреннюю причину, по которой успешно срабатывает цепочка силлогизмов. Пуанкаре сказал однажды: «Когда довольно длинное рассуждение приводит нас к простому и неожиданному результату, мы не успокаиваемся до тех пор, пока нам не удается показать, что полученный результат — если не целиком, то по крайней мере в общих чертах — можно было предвидеть заранее».
Многие математики предпочитали полагаться на интуицию. Артур Шопенгауэр объяснил это так: «Чтобы усовершенствовать метод в математике, необходимо прежде всего решительно отказаться от предрассудка — веры в то, будто доказанная истина превыше интуитивного знания». Паскалю принадлежат два выражения — esprit de géométrie [дух геометрии] и esprit de finesse [дух проницательности]. Под первым Паскаль понимал силу и прямоту ума, проявляющиеся в железной логике рассуждений.{165} Под вторым — широту ума, способность видеть глубже и прозревать истину как бы в озарении. Для Паскаля даже в науке esprit de finesse был уровнем мышления, стоящим неизмеримо выше (и вне) логики и несоизмеримым с ней. То, что непостижимо для разума, считал Паскаль, может тем не менее быть истиной.
Задолго до Паскаля другие математики также утверждали, что интуитивное убеждение превосходит логику подобно тому, как ослепительный блеск Солнца затмевает бледное сияние Луны. Декарт полагался на врожденные интуитивные представления. По поводу логики Декарт заметил: «Я обнаружил, что силлогизмы и большинство посылок логики более пригодны, когда речь идет о вещах уже известных, или о вещах, в которых говорящий несведущ». Тем не менее Декарт охотно дополнял интуицию дедуктивными рассуждениями (гл. II).
Великие математики заранее, еще до того, как им удавалось найти логическое доказательство, знали, что какая-то теорема верна, и иногда ограничивались всего лишь беглым наброском доказательства. Более того, Ферма в своей обширной классической работе по теории чисел и Ньютон в работе по кривым третьего порядка не привели даже набросков доказательств. Прогрессу математики, несомненно, способствовали главным образом люди, наделенные не столько способностью проводить строгие доказательства, сколько необычайно сильной интуицией.
Итак, понятие доказательства, сколь ни преувеличивали его значение общественное мнение и публикации математиков, не играло той роли, которая ему обычно отводилась. Возникновение противоборствующих философий математики, каждая из которых отстаивала свои мерки строгости доказательства, вызывало скептическую переоценку важности доказательства. Критические нападки на понятие доказательства начались еще до того, как успели сформироваться различные течения в основаниях математики и их взаимно исключающие точки зрения получили сколько-нибудь широкое распространение. Еще в 1928 г. Годфри Гарольд Харди утверждал с присущей ему прямотой:
Строго говоря, того, что принято называть математическим доказательством, не существует… В конечном счете мы можем лишь указывать… Любое доказательство представляет собой то, что мы с Литтлвудом называем газом, — риторические завитушки, предназначенные для психологического воздействия, картинки, рисуемые на доске во время лекции, средство для стимуляции воображения учащихся.
Харди считал доказательства скорее фасадом, чем несущими опорами здания математики.
В 1944 г. выдающийся американский математик Рэймонд Луис Уайлдер выступил с вполне обоснованной статьей [98]*, в которой низвел доказательство на еще более низкую ступень. Доказательство, утверждал Уайлдер, есть не что иное, как
проверка продуктов нашей интуиции… Совершенно ясно, что мы не обладали и, по-видимому, никогда не будем обладать критерием доказательства, не зависящим ни от времени, ни от того, что требуется доказать, ни от тех, кто использует критерий, будь то отдельное лицо или школа мышления, в этих условиях самое разумное, пожалуй, призвать, что, как правило, в математике не существует абсолютно истинного доказательства, хотя широкая публика убеждена в обратном.
Ценность доказательства, как такового, подверг критике Уайтхед в своей лекции под названием «Бессмертие»:
Резюмируя, можно сказать, что логика, понимаемая как адекватный анализ процесса человеческого мышления, есть не более чем — обман. Логика — превосходный инструмент, но ей необходим в качестве основы здравый смысл… По моему убеждению, окончательный вид, принимаемый философской мыслью, не может опираться на точные утверждения, составляющие основу специальных наук. Точность иллюзорна.
Доказательство, абсолютная строгость и тому подобные понятия — блуждающие огоньки, химеры, «не имеющие пристанища в математическом мире». Строгого определения строгости не существует. Доказательство считается приемлемым, если оно получает одобрение ведущих специалистов своего времени или строится на принципах, которые модно использовать в данный момент.{166} Никакого общепризнанного критерия строгости в современной математике не существует. Математическая строгость переживает сейчас не лучшее время. То, что некогда считалось неотъемлемой особенностью математики — неоспоримый вывод из явно сформулированных аксиом, — навсегда отошло в прошлое. Неопределенность и способность впадать в ошибку присущи логике в той мере, в какой они ограничивают возможности человеческого разума. Приходится лишь удивляться, сколько фундаментальных допущений мы обычно принимаем в математике, даже не сознавая этого.
Философ Ницше как-то раз назвал шутки «эпитафиями эмоциям». Чтобы хоть как-то скрыть охватившее их уныние, математики принялись подшучивать над логикой своей науки: «Достоинство логического доказательства состоит не в том, что оно вселяет веру, а в том, что оно заставляет сомневаться относительно того, какое место в рассуждениях должно вызывать у нас особенно сильные сомнения… К математическому доказательству относись не только с почтением, но и с подозрением!.. Мы не можем более надеяться, что нам удастся быть логичными. Будем же по крайней мере надеяться, что нам удастся не быть нелогичными… Больше страстности — меньше ясности». Математик Анри Леон Лебег, стоявший на позициях интуиционизма, заявил в 1928 г.: «Логика может заставить нас отвергнуть некоторые доказательства, но она не в силах заставить нас поверить ни в одно доказательство». В статье 1941 г. Лебег добавил, что логика служит не для того, чтобы убеждать, создавать уверенность. Мы верим в то, что согласуется с нашей интуицией. Лебег утверждал, что, по мере того как мы становимся все более сведущими в математике, наша интуиция становится все более изощренной.
Даже Бертран Рассел с его сугубо логистической программой не мог удержаться от язвительных замечаний в адрес логики. В «Принципах математики» (1903) Рассел писал: «Одно из главных достоинств присущих доказательствам, состоит в том, что они пробуждают определенный скептицизм по отношению к доказанному результату». В том же издании «Принципов» он утверждал, что, как явствует из самой попытки положить в основу математики систему неопределяемых понятий и исходных утверждений, любой результат вполне может быть опровергнут (для этого достаточно, чтобы кому-нибудь удалось обнаружить противоречие в нашей формально-логической системе), но никогда не может быть доказан. Все в конечном счете зависит от непосредственного восприятия. Чуть позже (1906) Рассел, встревоженный обнаруженными тогда парадоксами, высказался более откровенно, чем имел обыкновение высказываться в последующие годы. Когда антиномии показали, что логическое доказательство на существовавшем тогда уровне строгости небезупречно, Рассел заявил: «Элемент неопределенности должен оставаться всегда, подобно тому как он неизбежно остается в астрономии. Со временем он может существенно уменьшиться, но смертным свойственно ошибаться».
Говоря о насмешках, которым подвергалась логика, нельзя не вспомнить слова одного из видных современных философов и специалистов по основаниям математики австрийца Карла Поппера (р. 1902){167}:
Существуют три уровня понимания доказательства. На самом низком уровне у вас появляется приятное ощущение, что вы поняли ход рассуждений. Средний уровень достигается, когда вы можете воспроизвести доказательство. На верхнем, или высшем, уровне вы обретаете способность опровергнуть доказательство.
Оливер Хевисайд, весьма пренебрежительно относившийся к постоянным заботам математиков о строгости, иронически заявил: «Логика непобедима, потому что одолеть ее можно только с помощью логики».
Феликс Клейн, бывший на протяжении первой четверти XX в. признанным главой мирового центра математики — математического института Гёттингенского университета, — не занимался специально проблемами оснований математики, однако из истории развития этой науки он извлек кое-какие выводы. В своей книге «Элементарная математика с точки зрения высшей»{168} (1908) Клейн так описывал развитие математики:
Математика развивалась подобно дереву, которое разрастается не путем тончайших разветвлений, идущих от корней, а разбрасывает свои ветки и листья вширь, распространяя их зачастую вниз, к корням. В основных исследованиях в области математики не может быть окончательного завершения, а вместе с тем и окончательно установленного первого начала…
[117]Аналогичное мнение, хотя и несколько по иному поводу, выразил Пуанкаре: не существует решенных проблем, существуют только проблемы более или менее решенные.
Математики поклонялись золотому тельцу — строгому, одинаково приемлемому для всех доказательству, истинному во всех возможных мирах, искренне веря, что это и есть бог. Теперь наступило прозрение: математики поняли, что их бог — ложный. Но истинный бог так и не открылся, и теперь им не оставалось ничего другого, как гадать, существует ли он вообще. «Пророк Моисей», который мог бы пролить на них свет истины, так и не появился. Математикам оставалось лишь терзаться не находящими ответа вопросами.
У некоторых вполне разумных критиков оснований математики сильное раздражение вызывали нюансы, по поводу которых спорили те, кто занимался основаниями. Если математика в конечном счете основана на интуиции, спрашивал один из таких критиков Имре Лакатош (или Лакатос; 1922-1974), то почему мы должны идти все дальше и дальше?
Почему бы нам не остановиться раньше и не заявить, что «окончательным критерием допустимости того или иного метода должен служить вопрос, является ли он интуитивно убедительным»… Почему честно не признать потенциальную возможность ошибки в математическом доказательстве и не попытаться защитить достоинство знания, возможно в чем-то и ошибочного, от циничного скептицизма, вместо того чтобы обманывать себя тем, будто мы всегда можем искусно заштопать последнюю прореху на ткани нашей «первичной» интуиции?
(Ср. также [52]*.)По поводу относительной ценности интуиции и доказательства уместно привести следующую притчу. В кабинете одного врача над дверью висела подкова. Уходя после приема, пациент спросил врача, принесла ли ему подкова удачу в жизни и в работе. «Нет, — ответил врач, — я не верю в подобные предрассудки. Но все же подкова помогает».
Артур Стэнли Эддингтон заметил однажды: «Доказательство — это идол, во имя которого математики терзают себя». Почему же математики идут на такие муки ради строгого доказательства? Уместно спросить: чем, собственно, занимаются математики, ставящие превыше всего железную логику, если они не знают, непротиворечива ли их наука, и, в частности, не могут прийти к единому мне-иию относительно того, что такое правильное доказательство? Не следует ли им стать полностью безразличными к строгости, поднять руки вверх и заявить, что математика как свод твердо установленных истин не более чем иллюзия? Не должны ли они оставить дедуктивное доказательство и прибегать лишь к убедительным, интуитивно здравым аргументам? Ведь используют же интуитивные соображения физические науки, которые даже там, где они применяют математику, не придают особого значения пристрастию математиков к строгости. Но отказ от строгости вряд ли показан математике. Всякий, кто знает, какой вклад внесла математика в сокровищницу человеческого мышления, не станет жертвовать понятием доказательства.
Нельзя не признать важного значения логики для математики. Если интуиция — господин, а логика — всего лишь слуга, то это тот случай, когда слуга обладает определенной властью над своим господином. Логика сдерживает необузданную интуицию. Хотя, как мы и признали, интуиция играет в математике главную роль, все же сама по себе она может приводить к чрезмерно общим утверждениям. Надлежащие ограничения устанавливает логика. Интуиция отбрасывает всякую осторожность — логика учит сдержанности. Правда, приверженность логике приводит к длинным утверждениям со множеством оговорок и допущений и обычно требует множества теорем и доказательств, мелкими шажками преодолевая то расстояние, которое мощная интуиция перемахивает одним прыжком. Но на помощь интуиции, отважно захватившей расположенное перед мостом укрепление, необходимо выслать боевое охранение, иначе неприятель может окружить захваченную территорию, заставив нас отступить на исходные позиции.
Интуиция может и обмануть нас. На протяжении большей части XIX в. математики — в том числе Коши, одним из первых ставший насаждать математическую строгость, — считали, что любая непрерывная функция имеет производную. Но Вейерштрасс поразил математический мир, продемонстрировав непрерывную функцию, ни в одной точке не имеющую производной.{169} Такая функция недоступна интуиции. Математическое рассуждение не только дополняет интуицию, но и подтверждает, исправляет, а в иных случаях и превосходит ее.
То, что дают математикам логические рассуждения, можно пояснить с помощью аналогии. Предположим, фермер купил участок непроходимого леса, намереваясь расчистить его и заняться земледелием. Вырубив лес на небольшом пятачке, он заметил рыскавших в лесу диких зверей. Опасаясь их нападения, фермер вырубил лес, примыкавший к уже расчищенному участку, и звери отступили вместе с лесом. Теперь их можно было видеть чуть дальше — там, где на границе расчищенного участка стеной поднимался девственный лес. Фермер снова взялся за топор и т.д. до бесконечности. Каждый раз он расчищал все новый участок земли — звери отступали к кромке нетронутого леса. Спросим себя: чего же достиг фермер? По мере того как увеличивался свободный от леса участок земли, фермер обретал все большую безопасность, по крайней мере если он работал в центре расчищенного участка. Но звери не исчезли, они лишь отступили и когда-нибудь смогут неожиданно наброситься на фермера и растерзать его, хотя по мере увеличения размеров расчищенного участка фермер обретал все большую относительную безопасность. Аналогичным образом степень уверенности, с какой мы можем пользоваться центральным ядром математических знаний, возрастает по мере того, как логика применяется для выяснения то одной, то другой проблемы в основаниях математики. Иначе говоря, доказательство гарантирует нам относительную уверенность в правоте. Мы окончательно убеждаемся в правильности той или иной теоремы, если нам удастся доказать ее на основе разумных утверждений о числах и геометрических фигурах, которые интуитивно более приемлемы, чем доказываемая теорема. По словам Реймонда Луиса Уайлдера, доказательство — это проверка идей, подсказанных интуицией.
К сожалению, доказательства одного поколения воспринимаются другим поколением как ворох логических ошибок. Один из основоположников современной математики в США, Элиаким Гастингс Мур (1862-1932), выразил (1903) эту мысль так: «Любая наука, включая логику и математику, есть продукт своей эпохи. Наука воплощена в своих идеалах не в меньшей мере, чем в результатах». Век строгости короток — это всего лишь один день. В наше время понятие строгости зависит и от того, к какой школе принадлежит математик. Насколько можно судить, самого Уайлдера вполне устроило бы доказательство, не содержащее явных противоречий и к тому же полезное для математики. Например, он не стал бы возражать против понятия гипотезы континуума в качеству аксиомы. Не придавая особого значения доказательству, Уайлдер критиковал различные школы мышления за разобщенность. Разве не напоминает приверженность догматам одной школы в ущерб всем остальным фанатизм религиозных сектантов, провозглашающих своего бога истинным и отвергающих все остальные секты как заблудшие?
Мы не можем отрицать, что не существует ни абсолютного доказательства, ни даже доказательства, одинаково приемлемого для всех. Мы знаем, что если усомнимся в истинности утверждений, принятых на интуитивной основе, то сможем доказать их, лишь приняв на интуитивной же основе некие другие утверждения. Проверяя истинность утверждений, непосредственно воспринимаемых интуицией, мы не можем заходить слишком далеко, не рискуя столкнуться с парадоксами или другими неразрешенными трудностями, часть которых лежит в сфере логики. В начале XX в. знаменитый французский математик Жак Адамар высказал следующую мысль: «Цель математической строгости состоит в том, чтобы санкционировать и узаконить завоевания интуиции». Мы не можем теперь согласиться с Адамаром. Более уместно повторить вслед за Германом Вейлем: «Логика — это своего рода гигиена, позволяющая математику сохранять свои идеи здоровыми и сильными». Неверно утверждать, что доказательство не играет никакой роли: оно сводит к минимуму риск противоречий.
Нельзя не признать, что абсолютное доказательство не реальность, а цель. К ней следует стремиться, но скорее всего она так никогда и не будет достигнута. Абсолютное доказательство не более чем призрак, вечно преследуемый и неизменно ускользающий. Мы должны неустанно укреплять то доказательство, которым располагаем, не надеясь на то, что нам удастся довести его до совершенства. Мораль всей истории развития математического доказательства сводится к следующему: хотя мы и стремимся к недостижимой цели, нам, возможно, удастся произвести чудесные ценности, которые математике случалось дарить миру в прошлом. Если мы изменим свое отношение к математике, то сможем более эффективно заниматься ею, несмотря на постигшее нас разочарование.
Осознание того, что в обосновании математических истин главную роль играет интуиция, а доказательству отводится лишь вспомогательная роль, означает, что математика в своем развитии описала полный круг. Математика начиналась на интуитивной и эмпирической основе. Начиная с древних греков доказательство стало целью математической деятельности, и, хотя до XIX в. эта цель пребывала в почетной отставке, в конце XIX в. математикам показалось, что они сумели достичь ее. Но попытки довести математическую строгость до пределов возможного завели математиков в тупик: логика нанесла поражение логике, подобно собаке, кусающей себя за хвост. В «Мыслях» Паскаля мы находим следующее признание: «Сила разума в том, что он признает существование множества явлений, ему непостижимых»{170} ([119], с. 157).
Кант также признавал ограниченность человеческого разума. В его «Критике чистого разума» есть такие строки:
На долю человеческого разума в одном из видов его познания выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему собственной природой; но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможности человеческого разума.
([18], т. 3, с. 73.)Близкую мысль высказал знаменитый испанский писатель и философ Мигель де Унамуно (1864-1936) в «Трагическом смысле жизни»: «Высшего триумфа разум достигает, когда ему удается заронить сомнение в собственной годности».
Более пессимистических взглядов на роль логики придерживался Герман Вейль. В 1940 г. он утверждал: «Несмотря на наше критическое озарение (а может быть, благодаря ему), мы сегодня менее, чем когда-либо раньше, уверены в основаниях, на которых зиждется математика». В 1944 г. Вейль развил свою мысль подробнее:
Вопрос об основаниях математики и о том, что представляет собой в конечном счете математика, остается открытым. Мы не знаем какого-то направления, которое позволит в конце концов найти окончательный ответ на этот вопрос, и можно ли вообще ожидать, что подобный окончательный ответ будет когда-нибудь получен и признан всеми математиками. «Математизирование» может остаться одним из проявлений творческой деятельности человека, подобно музицированию или литературному творчеству, ярким и самобытным, но прогнозирование его исторических судеб не поддается рационализации и не может быть объективным.
Как сказал Вейль, математика — это вид умственной деятельности, а не свод точных знаний. Математику лучше всего рассматривать в исторической перспективе. Рациональные конструкции и реконструкции оснований при таком подходе предстают перед нами лишь как попытки исказить историческую правду.
Наиболее крайние взгляды выразил в своей книге «Логика научного исследования» [120] Карл Поппер. Математическое рассуждение никогда не бывает верным, оно может быть только ошибочным. Было бы опрометчивым поручиться и за истинность математических теорем. Существующей математической теорией можно продолжать пользоваться за неимением лучшей, подобно тому как пользовались ньютоновской механикой в течение двух столетий до появления специальной теории относительности или как пользовались евклидовой геометрией до того, как была создана риманова геометрия. Уверенность в правильности математической теории недостижима.
Как свидетельствует история, не существует раз и навсегда заданного, обоснованного единого свода математических знаний. Кроме того, если история позволяет делать какие-то прогнозы, то можно сказать, что любые дополнения к существующей математике потребуют новых оснований. В этом отношении математика схожа с любой из физических наук. Физические теории приходится модернизировать и перестраивать всякий раз, когда новые наблюдения или новые экспериментальные данные вступают в противоречие с ранее установленными теориями и вынуждают формулировать новые. Математическую истину невозможно описать безотносительно ко времени. Все попытки построить математику на незыблемом основании заканчивались неудачей. Непрекращающиеся попытки — от Евклида через Вейерштрасса до современных школ в основаниях — подвести под математику прочный фундамент не дают ни малейшего повода надеяться на эволюционный прогресс, сулящий конечный успех.
Изложенные выше взгляды на роль интуиции и доказательства отражают точку зрения на современную математику, но не учитывают всех мнений о будущем. Взгляд на логику был подтвержден группой французских математиков, выступающих под коллективным псевдонимом Никола Бурбаки. В предисловии к первому тому «Элементов математики» Бурбаки пишет:
Как показывает анализ исторического развития математики, было бы неверно утверждать, что математика свободна от противоречий; непротиворечивость предстает как цель, к которой следует стремиться, как некое данное богом качество, ниспосланное нам раз и навсегда. С древнейших времен все критические пересмотры принципов математики в целом или любой из ее областей почти неизменно сменялись периодами неопределенности, когда появлялись противоречия и их приходилось решать… Вот уже двадцать пять веков математики имеют обыкновение исправлять свои ошибки и видеть в этом обогащение, а не обеднение своей науки; это дает им право смотреть в будущее спокойно.
([2], с. 30.)Обращение к истории, возможно, в какой-то степени утешает, но та же история учит, что новые кризисы непременно возникнут. Однако столь мрачная перспектива не охлаждает оптимизма Бурбаки.
Один из ведущих французских математиков, бурбакист, Жан Дьедонне, выразил уверенность в том, что проблемы логики, коль скоро они возникнут, непременно будут разрешены:
Если когда-нибудь будет доказано, что математика противоречива, то скорее всего станет известно, какому правилу следует приписать полученный результат. Отбросив это правило или надлежащим образом видоизменив его, мы избавимся от противоречия. Иначе говоря, математика изменит направление своего развития, но не перестанет быть наукой. Сказанное не просто умозаключение: нечто подобное произошло после открытия иррациональных чисел. Мы далеки от мысли оплакивать это открытие, потому что оно вскрыло противоречие в пифагорейской математике, а, напротив, сегодня мы считаем его одной из великих побед человеческого духа.
Дьедонне мог бы привести еще один пример: лейбницевский подход к дифференциальному и интегральному исчислению (гл. VII). После всех критических замечаний, выпавших на долю понятия бесконечно малой величины в XVIII в., новая формулировка (нестандартный анализ, гл. XII) придала ему строгий смысл, согласующийся с логистическим, формалистским и теоретико-множественным вариантами оснований математики.
Помимо тех, кто, подробно бурбакистам, преисполнен оптимизма и считает устранимым любое противоречие, могущее возникнуть в основаниях математики, среди математиков есть и такие, кто верит в существование единого непротиворечивого, вечного ядра математики, которое может быть применимым или неприменимым к физическому миру. По мнению этих математиков, не все идеи, образующие вечное ядро математики, могут быть известны человеку, тем не менее эти идеи существуют, — так и несогласованность и неопределенность доказательства обусловлены только ограниченностью человеческого разума. Имеющиеся ныне разногласия между математиками не более чем временное препятствие, которое постепенно будет преодолено.
Некоторые из мыслителей считают, что математика настолько глубоко внедрилась в человеческий разум (в этом отношении их можно считать кантианцами), что вопрос о ее непротиворечивости отпадает сам собой. Так, Уильям Роуан Гамильтон, хотя он и ввел объекты (кватернионы), которые породили сомнение в соответствии арифметики физическому миру, в 1836 г. высказался вполне в духе Декарта:
Такие чисто математические науки, как алгебра и геометрия, являются науками чистого разума, не подкрепляемыми опытом и не получающими от него помощи, изолированными или могущими быть изолированными от всех внешних и случайных явлений… Вместе с тем это идеи, рожденные внутри нас, обладание которыми в сколько-нибудь ощутимой степени есть следствие нашей врожденной способности, проявление человеческого начала.
В докладе, прочитанном в 1883 г. на заседании Британской ассоциации поощрения науки, один из крупнейших алгебраистов XIX в. Артур Кэли заявил: «Мы обладаем априорными знаниями, не зависящими не только от того или иного опыта, но и от всякого опыта вообще… Эти знания составляют вклад нашего разума в интерпретацию опыта».
В то время как одни (например, Гамильтон и Кэли) представляли математику как «внедрившуюся» в человеческий разум, другие считали, что она существует в мире, лежащем вне человека. Трудно понять, как могли просуществовать до начала XX в. представления о математике как о едином реальном мире математических идей. Корни таких представлений восходят к Платону (гл. I). Эти представления неоднократно возрождали, в особенности Лейбниц, проводивший различия между истинами разума и истинами факта (последние остаются истинными во всех возможных мирах). Даже Гаусс, первым по достоинству оценивший неевклидову геометрию, был убежден в абсолютной истинности арифметики (числа) и анализа (гл. IV).
Веру в существование объективного реального мира математики разделял один из искуснейших аналитиков XIX в. Шарль Эрмит (1822-1901). В письме математику Томасу Яну Стильтьесу Эрмит утверждал:
Я убежден в том, что числа и функции анализа не являются произвольным продуктом нашего духа. Я верю, что они лежат вне нас с той же необходимостью, как предметы объективной реальности, а мы обнаруживаем или открываем и исследуем их так же, как это делают физики, химики и зоологи.{171}
По другому случаю Эрмит сказал: «В математике мы больше слуги, чем господа».
Многие из математиков XX в., несмотря на споры по поводу оснований, заняли ту же позицию. Создатель теории множеств и трансфинитных чисел Георг Кантор считал, что математики не изобретают понятия и теоремы, а открывают их. Математические понятия и теоремы существуют независимо от человеческого мышления. Себя самого Кантор считал репортером и секретарем, записывающим эти понятия и теоремы. Годфри Гарольд Харди, скептически относившийся к предлагаемым человеком доказательствам, утверждал в 1929 г.:
Мне кажется, что ни одна философия не может вызвать сочувствие у математика, если она так или иначе не признает незыблемости и безусловной годности математической истины. Математические теоремы истинны или ложны, и их истинность или ложность абсолютно не зависит от того, известны ли нам эти теоремы. В некотором смысле математическая истина является частью объективной реальности.
Аналогичные взгляды Харди выразил и в своей книге «Апология математика» [39]*:
Свою позицию я сформулирую догматически во избежание малейшей неясности. Я считаю, что математическая реальность лежит вне нас, что наша функция заключается в открытии и наблюдении ее и что теоремы, которые мы доказываем и высокопарно называем своими «творениями», в действительности являются не более чем записями наших наблюдений.
Выдающийся французский математик XX в. Жак Адамар (1865-1963) утверждал в работе «Исследование психологии процесса изобретения в области математики», что, «хотя истина еще не известна нам, она предсуществует и неизбежно подсказывает нам путь, которым мы должны следовать» [70].
Гёдель также разделял мнение о существовании трансцендентального мира математики. Что касается теории множеств, то он считал вполне допустимым рассматривать все множества как реальные объекты:
Мне кажется, что допущение о существовании таких объектов столь же законно, как и допущение о существовании физических объектов, и что имеется не меньше оснований верить в их существование. Они необходимы для получения удовлетворительной теории математики в том же смысле, в каком физические тела необходимы для удовлетворительной теории наших чувственных восприятий, и в обоих случаях невозможно интерпретировать утверждения, которые мы хотим высказать об этих сущностях, как утверждения о «данных», т.е., в последнем случае, о реальных чувственных восприятиях.
Некоторые из приведенных выше высказываний принадлежат ученым двадцатого столетия, которых не очень беспокоили основания математики. Еще более удивительно, что и кое-кто из лидеров различных школ в основаниях математики, например Гильберт, Алонзо Черч и члены группы Бурбаки, утверждали, что математические понятия и свойства существуют в некотором объективном смысле и могут быть постигнуты человеческим разумом. Таким образом, математическую истину открывают, а не изобретают, и в результате открытия возникает не математика, а человеческое знание математики.
Людей, разделяющих подобные взгляды, часто называют платонистами. Хотя Платон и верил в то, что математика существует в некотором идеальном мире независимо от людей, его учение содержит много несовместимого с современными воззрениями; поэтому здесь апелляция к платонизму не столько помогает, сколько вводит в заблуждение.
Все утверждения о существовании объективного, единого ядра математики ничего не говорят о том, где же находится математика. Они указывают лишь, что математика существует в некотором «потустороннем» мире, своего рода воздушном замке, а человек лишь открывает ее. Аксиомы и теоремы отнюдь не только творения человеческого разума — их скорее можно сравнить с сокровищами, скрытыми в недрах, которые можно извлечь на поверхность, если запастись терпением и копать все глубже и глубже. Но существование аксиом и теорем не зависит от человека, как не зависит от него, например, существование планет.
Является ли математика коллекцией алмазов, спрятанных в недрах Вселенной и постепенно извлекаемых на поверхность, или коллекцией искусственных драгоценных камней, созданных человеком и сверкающих так ярко, что они ослепили тех математиков, кто уже отчасти был ослеплен гордостью за свои творения?
Если существует мир сверхчувственных и трансцендентально абсолютных объектов и если наши логические и математические утверждения представляют собой всего лишь записи наблюдений этих объектов, то не существуют ли противоречия и ложные утверждения в том же смысле, в каком существуют истинные утверждения? Сорные семена ложности и противоречивости могут давать столь же пышные всходы, как и семена истинные и прекрасные. Дьявол сеет свои семена и собирает жатву наряду с богом истины. Разумеется, платонисты могли бы возразить, что ложные утверждения и противоречия возникают только из-за неадекватности усилий, прилагаемых человеком для достижения истины.
Иной точки зрения (согласно которой математика — это только продукт человеческого мышления) придерживаются интуиционисты. Эта точка зрения восходит к Аристотелю. Однако если одни интуиционисты считают, что истина гарантируется разумом, то другие утверждают, что математика представляет собой не незыблемый свод непреложных знаний, а творение человеческого разума, которому свойственно ошибаться. Классическое высказывание на эту тему, появившееся задолго до современных споров, мы находим в «Мыслях» Паскаля: «Истина — слишком тонкая материя, а наши инструменты слишком тупы, чтобы ими можно было прикоснуться к истине, не повредив ее. Достигнув истины, они сминают ее и отклоняются в сторону, скорее ложную, нежели истинную».{172} По утверждению главы интуиционистов Аренда Рейтинга, в наше время никто не может говорить об истинной математике, т.е. о математике как едином своде правильных знаний.
Герман Ганкель, Рихард Дедекинд и Карл Вейерштрасс считали математику творением человека. В письме Генриху Веберу Дедекинд утверждал: «По-моему, то, что мы понимаем под числом, само по себе есть не класс, а нечто новое…. созданное нашим разумом. Мы божественная раса и обладаем… способностью творить». Ту же мысль Вейерштрасс выразил такими словами: «Истинный математик всегда поэт». Ученик Рассела философ Людвиг Виттгенштейн (1889-1951) считал, что математик — изобретатель, а не открыватель. Все эти и многие другие мыслители рассматривали математику как нечто далеко выходящее за пределы эмпирических данных или рациональных дедуктивных умозаключений. В пользу их мнения свидетельствует хотя бы тот факт, что такие элементарные понятия, как иррациональные и отрицательные числа, не являются ни дедукциями из эмпирических данных, ни объектами, заведомо существующими в некотором внешнем мире.
Герман Вейль с большой иронией относился к вечным истинам. В книге «Философия математики и естественных наук»[93]* он писал:
Гёделю с его истовой верой в трансцендентальную логику хочется думать, что наша логическая оптика лишь немного не в фокусе, и надеяться, что после небольших коррекций мы будем видеть четко, и тогда всякий согласится, что мы видим верно. Но того, кто не разделяет этой веры, смущает высокая степень произвола в системе Z [Цермело] или даже в системе Гильберта… Никакой Гильберт не сможет убедить нас в непротиворечивости на вечные времена. Мы должны быть довольны, если какая-нибудь простая аксиоматическая система математики пока выдерживает проверку наших сложных математических экспериментов. Если на более поздней стадии появятся расхождения, то мы еще успеем изменить основания.
Лауреат Нобелевской премии американский физик и философ Перси Уильямс Бриджмен в своей книге «Логика современной физики» (1946) решительно отвергает существование объективного мира математики: «Это общеизвестная истина, очевидная с первого взгляда, что математика — изобретение человека». Теоретическая наука — игра математического воображения. Все, кто считал математику творением человека, утверждали также, что математика испытала на себе сильное влияние тех культур, в рамках которых она развивалась. Математические «истины» в такой же мере зависимы от людей, как восприятие цвета или английский язык. Лишь относительно широкое принятие математических доктрин — по сравнению с политическими, экономическими и религиозными — создает иллюзию, будто математика представляет собой свод истин, объективно существующих вне человека. Математика может существовать независимо от любого человека, но не от культуры, которая его окружает. Перефразируя Германа Вейля, можно сказать, что математика не отдельное техническое достижение, а неотъемлемая часть человеческого существования во всей его общности — и в этом она находит свое обоснование.
Тех, кто разделяет взгляд на математику как на творение человека, по существу, можно было бы назвать кантианцами, ибо они усматривают источник математики в организующей силе человеческого разума. Но эти современные кантианцы подчеркивают, что математика связана не с морфологией или физиологией мозга, а с его деятельностью. Разум организует, используя эволюционные методы. Творческая деятельность разума постоянно порождает все более новые, высшие формы мышления. В математике человеческий разум отчетливо видит, что он способен создать совокупность знаний, которые ему интересны или полезны. Область его созидательной деятельности не замкнута. Формулируемые разумом понятия применимы как к существующим, так и к вновь возникающим областям знания. Разум обладает способностью возводить структуры, охватывающие опытные данные и упорядочивающие их. Источник математики лежит в прогрессивном развитии самого разума.
Острые споры о природе математики и потере ею прежнего статуса свода общепринятых незыблемых истин, бесспорно, свидетельствует в пользу концепции математики, созданной человеком. Как сказал Эйнштейн, «каждый, кто осмеливается взять на себя роль судьи во всем, что касается Истины и Знания, терпит крушение под смех богов».
По иронии судьбы, мыслители Века разума, рассматривая математику как пример способности человека мыслить и получать истины, без тени сомнения утверждали, что разум разрешит все человеческие проблемы. Современные мыслители, даже если некоторые из них разделяют веру в могущество разума, заведомо не считают математику эталоном или парадигмой. Такой поворот событий не так далек от интеллектуальной катастрофы. Математика по-прежнему остается самой длительной и последовательной попыткой человека создать точное и эффективное мышление, а достижения математики по-прежнему служат мерилом того, на что способен человеческий разум. Математика устанавливает верхний предел, которого мы можем лишь надеяться достичь во всех рациональных областях. К сожалению, споры относительно того, что такое «настоящая» математика, не прекращаются. Именно поэтому Гильберт так страстно стремился восстановить истинность в смысле объективных, достоверных умозаключений. В его статье 1925 г. «О бесконечном» говорится: «Где же еще искать надежность и истинность, если даже само математическое мышление дает осечки?» ([50], с. 349.)
Озабоченность Гильберта судьбами математики явственно слышится в его докладе «Проблемы обоснования математики» на Международном математическом конгрессе в Болонье (1928):
Что было бы с истинностью наших знаний вообще и как обстояло бы дело с существованием и прогрессом науки, если бы в математике не было достоверной истины? В наше время нередко даже в специальных изданиях и в открытых докладах высказывается сомнение и уныние по поводу науки; это есть в некотором роде оккультизм, который я считаю вредным.
([50], с. 399.)Непрестанные, нескончаемые поиски абсолюта могут показаться менее привлекательными, чем реальное достижение абсолюта, но Гете уже давно усмотрел в этих поисках спасение человеческого рода:
Wer immer strebend sich bemüht Den können wir erlösen. [Спасти можно лишь того, Кто неустанно борется за свое спасение.]Не будучи столь уверенным в существовании абсолютных истин, один из выдающихся математиков современности Андре Вейль утверждает, что занятия математикой необходимо продолжать, хотя математика теперь уже не то прежнее величественное творение человеческой мысли. Вот что он говорит:
Для нас, чьи плечи ноют под тяжестью наследия греческой мысли, кто идет по стопам героев эпохи Возрождения, цивилизация немыслима без математики. Подобно постулату о параллельности, постулат о том, что математика выживет, утратил свою «очевидность». Но если первый постулат перестал быть необходимостью, то без второго мы жить бы не смогли.
Будущее математики никогда не внушало особых надежд. Природа математики никогда не была вполне понятной. Тонкий анализ очевидного привел к нескончаемой цепи осложнений. Но математика продолжает бороться с проблемами, возникающими в ее основаниях. Как сказал Декарт, «я буду продолжать до тех пор, пока не установлю нечто несомненно истинное или по крайней мере не устраню все сомнения в том, что ничего несомненно истинного не существует».
Если верить Гомеру, боги обрекли царя Коринфа Сизифа на тяжкое наказание после смерти: он должен вкатывать на гору огромный камень; но как только камень почти достигает вершины, он начинает скатываться вниз, к подножию горы. Сизиф не мог питать никаких иллюзий, что его напрасный труд когда-нибудь завершится. Математики почти инстинктивно мобилизуют всю свою волю и мужество, чтобы дополнить и укрепить основания своей науки. Их борьба также может оказаться нескончаемой, а труд — напрасным. Но современные Сизифы не сдаются.
XV Авторитет природы
Я возношу молитву, твердо зная,
Что не предаст Природа никогда
Ее так верно любящего сердца.
УордсвортДля получения новых результатов математики могут избрать любое из множества соперничающих направлений. Поскольку внутренних критериев, позволяющих отдать предпочтение одному направлению перед другим или как-то обосновать принятое решение, не существует, математик вынужден при выборе направления руководствоваться внешними соображениями. Наиболее важным из них по-прежнему остается традиционный и наиболее объяснимый довод в пользу создания новой и развития уже существующей математики — ее ценность для других наук. Ставшую ныне очевидной неопределенность в вопросах, связанных с истинными основаниями математики, и зыбкость ее логики можно в какой-то мере игнорировать (хотя и не исключить полностью), если акцентировать внимание на внешних приложениях математики. Последуем же завету Эмерсона и «построим в материи дом для ума». Из априорных соображений невозможно установить, будут ли получаемые математические теоремы непосредственно применимы, или же они, что тоже неплохо, в сочетании с разумными физическими принципами приведут к физически значимым результатам. Приложения служат своего рода практическим критерием, которым мы проверяем математику. Теоремы, приводящие к правильным результатам, с каждым разом можно применять все увереннее. Например, если мы, постоянно используя аксиому выбора, получаем подтверждаемые физическим экспериментом результаты, то сомнения в приемлемости этой аксиомы если и не рассеятся полностью, то по крайней мере уменьшатся.
С исторической точки зрения апелляция к приложениям не означает радикального изменения сути математики, как это может показаться современным блюстителям математической строгости. Математические понятия и аксиомы берут свое начало из наблюдений реального мира. Даже законы логики, как теперь стало ясно, являются не более чем продуктом опыта. Проблематика, обдумывая которую математик приходит к своим теоремам, и даже наводящие соображения, касающиеся методов доказательства теорем, черпаются из того же источника. О ценности, или значимости, результатов, полученных из аксиом, лет семьдесят пять назад судили по пригодности этих результатов для описания реального мира. Почему бы и теперь не судить о правильности математики в целом по тому, насколько хорошо она продолжает описывать и предсказывать природные феномены? Если правильность математики оценивать по ее приложимости к реальному миру, то никакого абсолютного критерия истинности нет и быть не может. Теорема может великолепно сработать в n случаях и дать осечку в (n+1)-м случае. Одно-единственное расхождение с опытом полностью дисквалифицирует теорему. Видоизменяя формулировку теоремы, математики могут прийти (и неоднократно приходили) к поправкам, делающим новый вариант вполне применимым — а значит, «истинным».
Среди тех, кто отстаивал наличие у математики эмпирических оснований и критериев, видное место занимал Джон Стюарт Милль (1806-1873). Он допускал, что математика обладает большей общностью, чем некоторые физические науки, но видел «оправдание» математики лишь в том, что ее утверждения проверены и подтверждены шире и основательнее, чем утверждения физических наук. Следовательно, заключал Милль, глубоко заблуждаются те, кто считает, что математические теоремы качественно отличаются от подтвержденных гипотез и теорий других наук. Причина подобного заблуждения заключается в том, что эти люди считают математические теоремы вполне достоверными, а физические теории — весьма вероятными или всего лишь подкрепляемыми опытом.
Милль обосновал свои взгляды философскими соображениями задолго до того, как возникла современная дискуссия по основаниям математики. Тем больше оснований быть прагматиками у тех, кто работал и работает в основаниях математики. Как заметил Гильберт, «и познаешь их по плодам их». Еще одно высказывание Гильберта по этому поводу — «Успех здесь [в математике] необходим; он является высшей инстанцией, перед которой все преклоняются» ([50], с. 340) — относится к 1925 г.
Мнение Гильберта разделяет один из выдающихся специалистов по основаниям математики поляк Анджей Мостовский. На конгрессе, состоявшемся в Польше в 1953 г., он заявил:
Единственная непротиворечивая точка зрения, согласующаяся не только со здравым смыслом, но и с математической традицией, сводится по существу к допущению того, что источник и высший смысл понятия числа (не только натурального, но и вещественного) лежит в опыте и практической применимости. То же относится и к понятиям теории множеств в том объеме, в каком они необходимы для классических областей математики.
Мостовский идет дальше. Он утверждает, что математика — естественная наука. Ее понятия и методы восходят к опыту, и любые попытки обосновать математику безотносительно к ее естественнонаучному происхождению, приложениям и даже истории обречены на провал.
Более удивительно другое: с тезисом, провозглашающим, что о «правильности» математики можно судить по степени ее применимости к физическому миру, согласился интуиционист Вейль. Вейль внес огромный вклад в математическую физику{173}, поэтому, сколь ни твердо он отстаивал интуиционистские принципы, ему, разумеется, не хотелось жертвовать полезными результатами из-за чрезмерной приверженности этим принципам. В своей «Философии математики и естественных наук» (1949) Вейль сделал такое признание:
Насколько более убедительны и ближе к фактам эвристические аргументы и последующие систематические построения в общей теории относительности Эйнштейна или в квантовой механике Гейзенберга — Шредингера. Подлинно реалистическая математика наряду с физикой должна восприниматься как часть теоретического описания единого реального мира и по отношению к гипотетическим обобщениям своих оснований занять такую же трезвую и осторожную позицию, какую занимает физика.
Вейль открыто выступает за то, чтобы рассматривать математику как одну из естественных наук. Математические теоремы, подобно физическим утверждениям, могут быть формально не обоснованными, но экспериментально проверяемыми гипотезами. Иногда они подлежат переделке, но надежным критерием их правильности служит их соответствие реальности.
Еще дальше пошел выдающийся представитель формалистской школы Хаскелл Б. Карри. В его «Основаниях математической логики»{174} (1963) мы читаем:
Нужна ли математике для своего оправдания абсолютная надежность? Зачем, скажем, нам так уж нужно быть уверенными в непротиворечивости теории или в том, что ее можно вывести с помощью абсолютно определенной интуиции чистого времени, прежде чем использовать эту теорию? Ведь ни к какой другой науке мы не предъявляем таких требований. В физике, например, теории всегда гипотетичны; мы принимаем теорию, коль скоро на ее основе можно делать полезные предсказания, и видоизменяем или отвергаем ее, коль скоро этого сделать нельзя. Именно так случалось и с математическими теориями, когда в связи с обнаружением в них противоречий приходилось модифицировать не оспариваемые до того времени доктрины. Так почему мы не можем поступать так же и в будущем?
([125], с. 38-39.)Выдающийся математический логик Уиллард Ван Орман Куайн, предпринявший много безуспешных попыток упростить «Основания математики» Рассела и Уайтхеда, также выразил желание (по крайней мере, заявил о нем сравнительно недавно) воспользоваться как критерием математических результатов физической истинностью следующих из них выводов. В работе 1958 г., опубликованной в серии «Философское значение современной логики» Куайн утверждал:
Теорию множеств и всю математику разумнее представлять себе так, как мы представляем теоретические разделы естественных наук, — состоящими из истин, или гипотез, правильность которых подтверждается не столько сиянием безупречной логики, сколько косвенным систематическим вкладом, который они вносят в организацию эмпирических данных в естественных науках.
Джон фон Нейман, внесший весомый вклад в развитие формализма и теории множеств, охотно воспользовался тем же выходом из тупика, в котором оказалась современная математика. В знаменитой статье «Математик» (1947) фон Нейман, в частности, попытался объяснить, почему большинство математиков продолжают пользоваться классической математикой, хотя ни одной из нескольких школ в основаниях математики не удалось убедительно обосновать ее:
В конце концов именно классическая математика позволяет получать результаты, которые как полезны, так и красивы, и хотя прежней уверенности в ее надежности не стало, классическая математика все же покоится на столь же прочном основании, как, например, существование электрона. Следовательно, тот, кто принимает естественные науки, не может не принять классическую систему математики.
([105], с. 92.)Итак, статус математики ничем не лучше статуса физики.
Даже Рассел, провозгласивший в 1901 г., что здание математической истины — логической и одновременно физической — останется незыблемым навеки, в работе 1914 г. был вынужден признать, что «наше знание геометрии физического мира носит синтетический, а не априорный характер». Иначе говоря, геометрия не следует из одной лишь логики. Во втором издании «Оснований математики» (1926) Рассел пошел на еще большие уступки. По его словам, в правильность логики и математики так же, как и в правильность уравнений Максвелла, мы «верим потому, что из наблюдений убеждаемся в правильности некоторых логических следствий, к которым они приводят».
Еще более удивительное утверждение высказал в 1950 г. Гёдель:
Роль пресловутых «оснований» сравнима с той функцией, которую в физических теориях выполняют поясняющие что-либо гипотезы… Так называемые логические или теоретико-множественные основания теории чисел или любой другой вполне сформировавшейся математической теории по существу объясняют, а не обосновывают их, так же, как в физике, где истинное предназначение аксиом состоит в объяснении явлений, описываемых физическими теоремами, а не в обосновании этих теорем.
Итак, все эти ведущие ученые, работающие в основаниях математики, сходятся на том, что попытка создать приемлемую для всех, логически безупречную математику провалилась. Математика — одна из разновидностей человеческой деятельности, и она подвержена всем слабостям и порокам, присущим всему человеческому. Любая формальная псевдологическая система не более чем псевдоматематика, фикция, даже легенда, хотя и не лишенная оснований.
Тот же критерий «правильности» математики приняли как рабочую гипотезу и многие другие выдающиеся математики, логики и философы, занятые вопросами оснований математики. Правильность математики достаточно твердо (хотя, возможно, и не абсолютно надежно) гарантируется ее применимостью; даже если время от времени в здание математики приходится вносить кое-какие поправки, то и это ничего не меняет по существу дела. Как сказал Уордсворт, «природной тверди верит ум, что строит навсегда».
Может показаться, что, принимая прагматический критерий применимости математики к естественным наукам, логицисты, формалисты, интуиционисты и представители теоретико-множественного направления в основаниях математики отказались тем самым от своих собственных принципов и убеждений. Но хотели они того или не хотели, принятый ими критерий являлся критерием истинности математики во все времена. Что заставляло верить в свою науку математиков, работавших в длившееся не одно столетие смутное время ее нелогичного развития (гл. V-VIII)? Не подозревая, что предлагаемые доказательства страдают дефектами, они считали, что им удалось получить некие результаты. Им было известно, что ни отрицательные, ни иррациональные, ни комплексные числа, как и покоящиеся на этом шатком основании алгебра и анализ, не имели под собой никакого логического фундамента. Но математики продолжали работать, считая, что применимость полученных ими результатов сама по себе является гарантией их правильности.
Надежда на применимость математики к естественным наукам (можно сказать, к эмпирическим данным) привела к результату, о котором стоит рассказать. Евклидов идеал предполагал, что, начав с аксиом, истинность которых не вызывает сомнений, мы затем станем выводить из них теоремы по раз и навсегда установленным логическим правилам, исключающим любую ошибку в рассуждениях. Полагаясь на применимость к физике, мы обращаем вспять всю концепцию математики. Если полученные на завершающем этапе заключения истинны в силу их применимости, то аксиомы по крайней мере разумны, хотя, возможно, и не единственны (могут существовать другие аксиомы, приводящие к тем же заключениям). Истинность, понимаемая как полезность (или применимость) математики, против течения не поплывет.
Лидерам различных школ в основаниях математики случалось иногда надолго отходить от собственных убеждений. Так, один из основателей интуиционизма Леопольд Кронекер получил превосходные результаты в области алгебры, никак не согласующиеся с его собственными стандартами строгости. Как заметил Пуанкаре, Кронекер предал забвению собственную философию. Брауэр, провозгласив философию интуиционизма в своей диссертации 1907 г., следующее десятилетие посвятил плодотворным исследованиям в области топологии, в которых полностью игнорировал интуиционистские доктрины.
Итогом всей этой бурной и разнообразной деятельности стал вывод о том, что правильная математика должна определяться не основаниями (каковыми бы те ни были), безошибочность которых можно и оспаривать, — о «правильности» математики следует судить по ее применимости к реальному миру. Математика — такая же эмпирическая наука, как и ньютоновская механика. Математика правильна, лишь покуда она действует, а если что-то не срабатывает, то в нее необходимо вводить надлежащие поправки. Математика не свод априорных знаний, каковой ее считали в течение более чем двух тысячелетий; она не абсолютна и не неизменна.
Но коль скоро математику надлежит рассматривать как одну из естественных наук, важно досконально представить себе, как устроены и как работают естественные науки. В любой такой науке производят наблюдения над природными явлениями или ставят специально организованные эксперименты, а затем на основании полученных результатов строят теории — движения, света, звука, теплоты, электричества, химического строения вещества и т.д. Все эти теории созданы человеком, и правильность их оценивается по соответствию сделанных на их основе предсказаний с последующими наблюдениями и экспериментами. Если предсказания подтверждаются (во всяком случае, в пределах ошибки эксперимента), то теория считается верной. Тем не менее впоследствии такая теория может быть опровергнута; поэтому ее всегда надлежит рассматривать как «полуэвристическую» теорию (где, впрочем, доли «теоретичности» и «эвристичности» могут варьироваться в весьма широких пределах), а не как абсолютную истину, входящую неотъемлемой составной частью в структуру физического мира. Мы привыкли к подобному взгляду на естественнонаучные теории, поскольку нам неоднократно приходилось быть свидетелями того, как одни естественнонаучные теории (корпускулярная теория света, флогистон, эфир, в какой-то степени даже ньютонова механика и волновая теория света Гюйгенса) опровергались и уступали место новым теориям.{175} Единственная причина, по которой подобный взгляд не распространялся на математику, состояла, как отметил Милль, в том, что элементарная арифметика и евклидова геометрия сохраняли эффективность на протяжении многих веков и люди ошибочно приняли эту эффективность за абсолютную истинность.{176} Однако не следует упускать из виду, что любая область математики предлагает только такую теорию, которая дееспособна. Покуда она эффективна, мы можем следовать ей, но впоследствии нам, возможно, понадобится более усовершенствованный вариант теории. Математика выполняет миссию посредника между человеком и природой, между внутренним миром человека и тем, что его окружает. Математика — это отличающийся необычайной смелостью линий грандиозный мост между нами и внешним миром. Горько сознавать, что концы его не закреплены ни в реальности, ни в умах людей.
Разум обладает способностью прозревать истину только в том, что строит по собственному плану и, хотя начать построение он может, руководствуясь своими идеями, на более позднем этапе ему необходимо с помощью эксперимента выведать у природы, насколько удачны предложенные им идеи. Вот тогда и наступает время для теории и для проверки ее соответствия реальному миру. В основном математика отличается от естественных наук одной особенностью: в то время как в физике на смену одним теориям приходили другие, радикально новые, в математике значительная часть логики, теории чисел и классического анализа успешно функционировали на протяжении многих веков. Более того, они применимы и поныне. Независимо от того, являются ли названные выше составные части математики абсолютно надежными или нет, они отлично нам служат — у нас нет ни оснований, ни права усомниться в них. Все эти разделы математики можно было бы назвать «квазиэмпирическими», ибо эмпирические их истоки потонули в глубине веков и для нас почти неразличимы.
В подтверждение сказанного приведем пример из истории дифференциального и интегрального исчисления. Несмотря на несмолкавшие споры о логических основах исчисления, как методология оно оказалось вполне успешным. По иронии судьбы именно теория бесконечно малых Лейбница (а не весь аппарат математического анализа) во второй половине нашего столетия неожиданно получила строгое обоснование (так называемый нестандартный анализ; см. гл. XII).
Критерием применимости к внешнему миру можно воспользоваться даже для проверки аксиомы выбора. Сам Цермело в работе 1908 г. утверждал: «Каким образом Пеано приходит к своим основополагающим принципам… если в конечном счете он не может их доказать? Ясно, что он получает их, анализируя способы логического вывода, признанные правильными в ходе исторического развития, и отмечая, что эти принципы интуитивно очевидны и необходимы для науки…» Отстаивая правомерность использования аксиомы выбора, Цермело ссылался на успехи, достигнутые с помощью этой аксиомы. В работе 1908 г. он отметил, сколь полезной оказалась (даже тогда) аксиома выбора в теории трансфинитных чисел, в теории вещественного числа Дедекинда (см. [46] и [47]) и в решении более специальных проблем анализа.
Лидеры различных математических школ и направлений, рекомендуя использовать приложения к естественным наукам как путеводную нить и критерий доброкачественности математики, руководствуются не только желанием выбрать одно из течений в основаниях математики. Все они сознают, что силы математики в решении физических проблем неизмеримо возросли, и считают недопустимым игнорировать услуги, оказываемые математикой человечеству в познании мира, только потому, что сохранились разногласия в основаниях математики. Хотя многие математики на протяжении без малого последних ста лет и перестали заниматься естественнонаучными приложениями, величайшие из математиков XX в. — Пуанкаре, Гильберт, фон Нейман и Вейль — внесли существенный вклад в современную физику.
К сожалению, большинство математиков — в силу указанных ранее (гл. XIII) причин, которые следует считать скорее предосудительными, чем похвальными, — и поныне не работают в области приложений своей науки; вместо этого они продолжают во все возрастающем темпе создавать все новые теоремы чистой математики. Некоторое представление о размахе современных исследований по (чистой и прикладной) математике можно получить по журналу Mathematical Review{177}, печатающему краткие рефераты наиболее значительных новых работ, — ежемесячно в этом журнале публикуется около 2500 рефератов, т.е. около 30 000 рефератов в год.
Можно было бы думать, что тупик, в который зашел нескончаемый спор о том, какую именно математику можно считать «правильной» и какая школа математической мысли является наиболее последовательной, а также множество направлений, по которым математика может далее развиваться (даже оставаясь в рамках одного и того же течения в области оснований), позволит чистым математикам воспользоваться «паузой» и переключиться на решение проблем, связанных с основаниями математики, вместо того чтобы достраивать в разных направлениях здание математической науки, игнорируя шаткость фундамента и рискуя тем, что новые теоремы могут оказаться логически неверными. Но этого не происходит, так что математики пренебрегают как философскими вопросами оснований, так и критерием практической приложимости. Почему же они так охотно работают в областях математики, далеких от приложений?
Это объясняется несколькими причинами. Многие математики ничего не знают о работах по основаниям математики. Стиль деятельности, выработавшийся у математиков XX в., типичен для подхода наших современников ко многим проблемам. Почти каждый математик работает в своем уголке на каком-то этаже огромного здания математики. Покуда те, кто занимается основаниями математики, копают все глубже и глубже, дабы придать зданию устойчивость, обитатели верхних этажей продолжают оставаться на своих рабочих местах и выполнять свои функции. Специалисты по основаниям математики зарылись в землю так глубоко, что их просто не видно. Работающие в здании даже не знают, что кто-то заботится о его устойчивости, и не подозревают, что оно может рухнуть. Без тени сомнения они спокойно продолжают пользоваться традиционной математикой. Пребывая в счастливом неведении о вызовах, бросаемых господствующей доктрине, они трудятся в рамках этой доктрины, не интересуясь ни ее обоснованием, ни дополнительными подкреплениями, коими может служить критерий практики. Другие математики прекрасно осведомлены о разногласиях и пробелах в основаниях математики, но предпочитают держаться в стороне от этих, как они называют, философских (в отличие от чисто математических) проблем. Таким математикам трудно поверить в существование сколько-нибудь серьезных проблем, связанных с основаниями математики, по крайней мере таких, которые касались бы их собственной деятельности. Они предпочитают оставаться верными обветшалому символу веры. Их неписаный девиз гласит: будем действовать так, словно за последние семьдесят пять лет ничего не произошло. Они говорят о доказательстве в некотором общепринятом смысле, хотя этот «зверь» не то что занесен в «Красную книгу», но просто давно вывелся, пишут и публикуют работы, словно никаких разногласий по поводу оснований математики не было и в помине. Единственное, что их интересует, — это число новых публикаций. Чем больше, тем лучше. Если «прагматики» и заботятся о надежных основаниях, то исключительно по воскресеньям, и даже в эти дни они либо возносят молитвы об отпущении грехов, либо воздерживаются от писания новых статей только для того, чтобы почитать, чем занимаются их соперники. Личное преуспевание — превыше всего, а будут ли основания математики надежными, не так уж важно.
Но разве нет власти, способной наложить запрет на массовое производство новых результатов на том основании, что, прежде чем продвигаться дальше, необходимо навести порядок в основаниях математики? Редакторы математических журналов могли бы отказаться печатать новые работы. Но редакторы и рецензенты — такие же математики и находятся в таком же положении, как и большинство их коллег — и работы, хотя бы отдаленно отвечающие требованиям строгости, т.е. требованиям начала XX в., охотно принимаются к печати и публикуются. Если король голый и придворным также нечем прикрыть наготу, то появление голого человека никого уже не удивляет и не приводит в замешательство. Как сказал однажды Лаплас, прогресс стоит человеческому разуму меньших усилий, чем познание самого себя.
Как бы то ни было, проблемы оснований отступили для многих математиков на задний план. Правда, те, кто занимается математической логикой, уделяют основаниям математики значительное внимание, но математическую логику нередко считают лежащей за пределами собственно математики.
Не следует думать, будто все математики, игнорирующие проблемы оснований и действующие так, словно этих проблем никогда не было, достойны осуждения. Некоторые из них серьезно озабочены применением математики и в подтверждение своего modus vivendi [образа жизни] ссылаются на примеры из истории математики. Как мы уже видели (гл. V-VI), несмотря на отсутствие логических обоснований системы чисел и правил действий над ними, а также дифференциального и интегрального исчисления, по поводу чего на протяжении почти ста лет велись жаркие споры, математики продолжали использовать материал и получать новые результаты, эффективность которых не вызывала никаких сомнений. Приводимые доказательства были грубыми и даже содержали прямые ошибки. Когда обнаруживались противоречия, математики пересматривали свои рассуждения и вносили в них надлежащие изменения. Часто и исправленный вариант доказательства не был строгим даже по тем критериям, которые предъявлялись к строгости в конце XIX в. Если бы математики вздумали ждать до тех пор, пока им удастся достичь уровня строгости, они не смогли бы продвинуться ни на шаг.{178} Как заметил Эмиль Пикар, если бы Ньютон и Лейбниц знали, что непрерывные функции не обязательно должны быть дифференцируемыми, математический анализ никогда не был бы создан. В прошлом смелость и разумная осторожность приводили к наилучшим результатам.
Философ Джордж Сантаяна отметил в своей книге «Скептицизм и слепая вера», что скептицизм и сомнения важны для мышления, тогда как слепая вера важна для поведения. Значительная часть математических работ отличается высокими достоинствами, и, если мы хотим, чтобы эти достоинства приумножались, математические исследования необходимо продолжать. Слепая вера позволяет действовать без колебаний.
Лишь немногие математики проявили озабоченность по поводу спорных вопросов в основаниях математики, обесценивающих их работу. Эмиль Борель, Рене Бэр и Анри Лебег открыто выразили сомнения в пригодности теоретико-множественных методов, но продолжали пользоваться этими методами с некоторыми оговорками относительно надежности получаемых с их помощью результатов. Борель заявил в 1905 г., что охотно допускает всякого рода рассуждения о канторовских трансфинитных числах, поскольку эти числа оказываются весьма полезными в важных математических исследованиях. Но курс, избранный Борелем и некоторыми другими математиками, не следует расценивать как проявление своего рода математического легкомыслия. Прислушаемся, что сказал по этому поводу Герман Вейль, один из наиболее глубоких математиков современности и, несомненно, наиболее эрудированный из них:
Сейчас мы менее, чем когда-либо, уверены в первичных основаниях математики и логики. Мы переживаем свой «кризис» подобно тому, как переживают его все и вся в современном мире. Кризис этот продолжается вот уже пятьдесят лет [Вейль написал эти строки в 1946 г.]. На первый взгляд кажется, будто нашей повседневной работе он особенно не мешает. Тем не менее я должен сразу же признаться, что на мою математическую работу этот кризис оказал заметное практическое влияние: он направил мои интересы в области, которые я считал относительно «безопасными», и постоянно подтачивал энтузиазм и решимость, с которой я занимался своими исследованиями. Мой опыт, вероятно, разделили и другие математики, небезразличные к тому, какое место их собственная научная деятельность занимает в этом мире в общем контексте бытия человека, интересующего, страдающего и созидающего.
Коль скоро о степени обоснованности математики мы намереваемся судить по ее приложениям, сразу же возникает вопрос: насколько эффективна математика в этом отношении? Рассказывая о математике, созданной и применявшейся до XIX в., мы привели несколько примеров, доказывающих, сколь хорошо математика описывает и предсказывает явления реального мира (гл. III). Но в XIX в. математики, руководствуясь, несомненно, вескими доводами, ввели ряд понятий и теорий, не заимствованных непосредственно из природы и даже, казалось, противоречивших ей, например бесконечные ряды и неевклидовы геометрии, комплексные числа и кватернионы, необычные алгебры и бесконечные множества различной мощности, а также другие не менее странные объекты, которых мы не касались. Никаких оснований ожидать априори, что эти понятия и теории окажутся применимыми, разумеется, не было. Итак, прежде всего убедимся, что вся современная математика работает в приложениях, причем делает это великолепно.
Все величайшие достижения физики за последние сто лет — теория электромагнитного поля, теория относительности и квантовая механика — широко используют современную математику. Мы рассмотрим лишь теорию электромагнитного поля, наиболее знакомую неспециалистам. В первой половине XIX в. физики и математики провели многочисленные исследования электричества и магнетизма. Им удалось получить небольшое число математических законов, описывающих различные электрические и магнитные явления. В 60-е годы XIX в. Джеймс Клерк Максвелл поставил перед собой задачу собрать все эти разрозненные законы и выяснить, насколько они совместимы. Максвелл обнаружил, что для математической совместимости необходимо ввести в уравнения еще один член, который он назвал током смещения. Единственный физический смысл, который Максвелл мог придать току смещения, состоял в утверждении, что источник электричества (грубо говоря, проводник с током) должен быть источником электромагнитного поля (т.е. от него исходит — и распространяется в пространстве — электромагнитная, волна). Испускаемые источником электромагнитные волны имеют различные частоты. Это могут быть радиоволны, улавливаемые антеннами наших радиоприемников и телевизоров, гамма-лучи, видимый свет, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Так, из чисто математических соображений Максвелл предсказал существование огромного класса ранее не известных явлений и пришел к правильному выводу об электромагнитной природе света.
Электромагнитные волны, как и гравитация (гл. III), обладают одной замечательной особенностью: мы не имеем ни малейших представлений о том, какова их физическая природа. Существование этих волн подтверждается только математикой — и только математика позволила инженерам создать радио и телевидение, которые нашим предкам показались бы поистине сказочными чудесами.
То же самое можно сказать и о всевозможных явлениях атомной и ядерной физики. Математики и физики-теоретики говорят о полях (гравитационном, электромагнитном, поле электрона и других частиц) так, словно все эти поля — «материальные» волны, которые распространяются в пространстве и вызывают различные наблюдаемые эффекты, подобно, скажем, волнам на воде, бьющим о борт судна или разбивающимся о скалы. Но все эти поля не более чем фикции. Их физическая природа нам неизвестна. Они лишь отдаленно связаны с наблюдаемыми явлениями, например c ощущениями света, звука, движения материальных тел, с радио и телевидением. Беркли некогда назвал производную призраком навсегда ушедших величин. Современная физическая теория имеет дело с призраком материи.{179} Но, формулируя математические законы, которым подчиняются фиктивные поля, не имеющие наглядных аналогов в реальности, и выводя из этих законов логические следствия, мы приходим к выводам, допускающим при надлежащем переводе на язык физики проверку c помощью чувственных восприятий.
Фиктивный характер современной науки подчеркивал еще в 1931 г. Альберт Эйнштейн:
Согласно ньютоновской системе, физическая реальность характеризуется понятиями пространства, времени, материальной точки и силы (взаимодействия материальных точек)…
После Максвелла физическая реальность мыслилась в виде непрерывных, не поддающихся механическому объяснению полей, описываемых дифференциальными уравнениями в частных производных. Это изменение понятия реальности является наиболее глубоким и плодотворным из тех, которое испытала физика со времен Ньютона…
Нарисованной мною картине чисто фиктивного характера основных представлений научной теории не придавалось особого значения в XVIII и XIX вв. Но сейчас она приобретает все большее значение, по мере того как увеличивается в нашем мышлении расстояние между фундаментальными понятиями и законами, с одной стороны, и выводами, к которым они приводят в отношении нашего опыта, с другой стороны, по мере того как упрощается логическая структура, уменьшается число логически независимых концептуальных элементов, необходимых для поддержания структуры.
([126], т. 4, с. 136-139.)Современную науку неоднократно восхваляли за то, что, дав рациональные объяснения явлений природы, она исключила духов, дьяволов, ангелов, демонов, мистические силы и анимизм. К этому необходимо добавить теперь, что, постепенно изгоняя физическое и интуитивное содержание, апеллирующее к нашему чувственному восприятию, наука исключила и материю. Теперь она имеет дело только с синтетическими, и идеальными понятиями, такими, как поля и электроны, о которых единственно, что нам известно, это управляющие ими математические законы. После длинных цепочек дедуктивных умозаключений наука сохраняет лишь небольшой, но жизненно важный контакт с чувственными восприятиями. Наука — это рационализованная фикция, и рационализована она математикой.
Выдающийся физик Генрих Герц (1857-1894), первым экспериментально подтвердивший предсказание Максвелла о том, что электромагнитные волны могут распространяться в пространстве, был настолько восхищен могуществом математики, что воскликнул: «Трудно отделаться от ощущения, что эти математические формулы существуют независимо от нас и обладают своим собственным разумом, что они умнее нас, умнее тех, кто открыл их, и что мы извлекаем из них больше, чем было в них первоначально заложено».
Роль математики в изучении природы подчеркивал Джеймс Джинс (1877-1946). В книге «Загадочная Вселенная» он утверждал: «Самый важный факт состоит в том, что все картины природы, рисуемые наукой, которые только могут находиться в согласии с данными наблюдений, — картины математические… За пределы математических формул мы выходим на свой страх и риск». Физические понятия и механизмы подсказывают, как построить математическое описание явлений, после чего, как ни парадоксально, становится ясно, что вспомогательные физические средства не более чем фантазии и что только математические уравнения надежно следуют явлениям.
Аналогичную мысль Джинс высказал и в книге «Между физикой и философией». С помощью моделей или картин, доступных нашим органам чувств, человеческий разум не в силах постичь, как функционирует природа. Нам не дано понять, что представляют собой явления, и приходится ограничиваться описанием схем явлений на математическом языке. Урожай, пожинаемый физикой, всегда состоит из набора математических формул. Подлинная сущность материальной субстанции непознаваема.
Итак, как мы видим, роль математики в современной науке отнюдь не сводится к почетным обязанностям главного инструмента познания. О математике нередко говорят, что она резюмирует и систематизирует в символах и формулах данные физических наблюдений или экспериментов, извлекая из формул дополнительную информацию, недоступную прямому наблюдению и эксперименту. Такое описание умалчивает о многом из того, что делает математика в естественных науках. Математика выражает саму суть естественнонаучных теорий, и приложения чисто математических понятий позволили в XIX-XX вв. получить гораздо более сильные и неожиданные результаты, чем это удавалось сделать в предшествующие столетия математикам, оперировавшим с математическими понятиями, непосредственно связанными с физическими явлениями. Хотя достижениями современной науки — радио, телевидением, авиацией, телефоном, телеграфом, высококачественной звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, гамма-лучами, транзисторами, атомной энергией (и, к сожалению, атомными бомбами!), если говорить только о некоторых наиболее известных достижениях, — мы обязаны не только математике, роль математики намного больше и оценить ее гораздо труднее, чем вклад экспериментальной науки.
Френсис Бэкон в XVII в. скептически относился к таким теориям, как астрономические теории Коперника и Кеплера. Бэкон опасался, что философские убеждения или религиозные верования (например, тезисы о том, что господь бог стремится к простоте или что природа построена богом по плану, основанному на математических принципах) сказываются на формировании этих теорий в большей степени, чем согласие с наблюдениями или экспериментом. Отношение Бэкона к теориям, несомненно, имеет некие разумные основания, но современные математические теории доминируют в физике только потому, что они эффективны. Разумеется, согласие с наблюдениями является непременным условием принятия любой математической теории в физике.
Итак, на любой вопрос о том, работает ли математика, мы можем с уверенностью дать положительный ответ. Гораздо труднее ответить на вопрос, почему она столь эффективна. Во времена античности и много столетий спустя математики считали, что знают верные приметы того, где следует искать «золото» (математика была сводом истин о физическом мире, и заложенные в ее основу логические принципы также были абсолютными истинами), и поэтому копали энергично, с размахом и настойчиво. Им удалось добиться замечательных успехов. Но теперь-то мы знаем, что они принимали за золото какой-то совсем другой, пусть даже и не менее драгоценный, металл. Этот «металл» позволял с замечательной точностью описывать явления природы. Вопрос о том, почему он служил так хорошо, требует особого рассмотрения. Действительно, почему некая независимая, абстрактная конструкция, плод «точной» мысли, должна соответствовать физическому миру человека?
Один из возможных ответов состоит в том, что математические понятия и аксиомы подсказаны человеку опытом. Даже законы логики человек заимствовал из опыта; поэтому они и согласуются с опытом. Но такой ответ чрезмерно упрощает суть дела. Разумеется, он позволяет объяснить, почему, прибавив к пятидесяти коровам еще пятьдесят, мы получим сто коров. В арифметике и в элементарной геометрии повседневный опыт может подсказать правильные аксиомы, и используемая здесь логика не выходит за рамки обычного здравого смысла. Но в алгебре, дифференциальном и интегральном исчислении, в теории дифференциальных уравнений и в других более «высших» областях математики были созданы математические понятия и методы, далеко выходящие за рамки повседневного опыта.
Помимо этих примеров «неэмпирической» математики необходимо также иметь в виду, что математическая прямая состоит из несчетного множества точек. В математическом анализе используется понятие времени, состоящего из мгновений, «спрессованных», как числа на вещественной прямой. Понятие производной (гл. VI) было навеяно физическим представлением о скорости за некоторый «бесконечно малый» промежуток времени; однако описывающая скорость производная соответствует мгновенной скорости, т.е. понятию, которое трудно признать интуитивно ясным. Разнообразие типов бесконечных множеств вовсе не подсказано повседневным опытом, тем не менее оно используется в математических рассуждениях, и так же необходимо для удовлетворительной математической теории, как физические тела для чувственного восприятия. Математика ввела в научный обиход такие понятия, как, скажем, электромагнитное поле, физическая природа которого полностью не ясна и по сей день.
Даже если законы логики и некоторые основные физические принципы выведены из опыта, в процессе длинного математического доказательства, требующегося для получения физически значимого заключения, эти законы используются однократно — и все наше доказательство опирается только на логику. Чисто математические рассуждения позволяют предсказывать некоторые явления. Так, на основе математического предсказания была открыта планета Нептун. Означает ли это, что природа подтверждает логические принципы? Иначе говоря, существуют ли (как угодно открытые) законы логики, которые говорили бы, как должна вести себя природа в тех или иных случаях? То, что целые теория, состоящие из сотен теорем и тысяч дедуктивных умозаключений об абстрактных понятиях, все же отклоняются от реальности не более, чем исходные аксиомы, убедительно свидетельствуют о способности математики описывать и предсказывать реальные явления с поразительной точностью. Почему длинные цепочки, чисто умозрительных заключений должны приводить к выводам, столь хорошо согласующимся с природой? В этом — величайший парадокс математики.
Итак, перед человеком стоит загадка двоякого рода. Почему математика безотказно, срабатывает даже там, где заключение, требующее сотен дедуктивных выводов, оказывается столь же применимым, как и исходные аксиомы, хотя физические явления описываются не на математическом, а на физическом языке? И почему математика эффективна там, где мы располагаем лишь непроверенными гипотезами о сущности физических явлений и где при описании этих явлений вынуждены почти целиком полагаться на одну математику? От этих вопросов нельзя бездумно отмахнуться: слишком уж многое в нашей науке и технике зависит от математики. Может быть, эта наука, хотя ее и используют как непобедимое знамя истины, одерживает свои победы с помощью какой-то таинственной внутренней силы и действительно наделена какими-то волшебными чарами?
Этот вопрос интересовал и продолжает интересовать многих. Неоднократно задавал его себе и Альберт Эйнштейн в книге «Вокруг теории относительности» (1921):
В этой связи возникает вопрос, который волновал исследователей всех времен. Почему возможно такое превосходное соответствие математики с реальными предметами, если сама она является произведением только человеческой мысли, не связанной ни о каким опытом? Может ли человеческий разум без всякого опыта, путем только одного размышления понять свойства реальных вещей?
…Если теоремы математики прилагаются к отражению реального мира, они не точны; они точны до тех пор, пока они не ссылаются на действительность.
([126], т. 2, с. 83.)Далее Эйнштейн поясняет, что аксиоматизация математики сделала это различие очевидным. Хотя Эйнштейн понимал, что аксиомы математики и принципы логики выведены из опыта, его интересовало, почему длинная и сложная цепь чисто логических рассуждений, которые не зависят от опыта и используют понятия, созданные человеческим разумом без всякой апелляции к эксперименту и природным феноменам, может приводить к выводам, находящим столь широкие применения.
Современное объяснение необычайной эффективности математики восходит к Иммануилу Канту. Кант утверждал (гл. IV), что мы не знаем и не можем знать природы. Мы располагаем лишь чувственными восприятиями. Наш разум, обладая врожденными интуитивными представлениями о пространстве и времени, организует чувственные восприятия в соответствии с тем, что диктуют эти врожденные представления. Так, наши пространственные восприятия мы организуем в соответствии с законами евклидовой геометрии, потому что этого требует наш разум. Упорядоченные разумом, пространственные восприятия продолжают подчиняться законам евклидовой геометрии. Разумеется, Кант заблуждался, считая евклидову геометрию единственно возможной, но главное в его учении заключалось в другом: человеческий разум определяет, как ведет себя природа при неполном (частичном) объяснении. Разум формирует наши концепции пространства и времени. Мы видим в природе то, что предопределено нам видеть нашим разумом.
Взглядов, близких к воззрениям Канта, но выходящих далеко за их пределы, придерживался один из выдающихся физиков нашего времени — Артур Стэнли Эддингтон (1882-1944). По мнению Эддингтона, — человеческий разум решает, как должна себя вести природа:
…там, где наука ушла особенно далеко в своем развитии, разум лишь получил от природы то, что им было заложено в природу. На берегах неизвестного мы обнаружили странный отпечаток. Чтобы объяснить его происхождение, мы выдвигали одну за другой остроумнейшие теории. Наконец нам все же удалось восстановить происхождение отпечатка. Увы! Оказалось, что это наш собственный след.
В XX в. предложенное Кантом объяснение эффективности математики было подробно разработано Уайтхедом и поддержано Брауэром в работе 1923 г. Основная идея неокантианского объяснения состоит в том, что математика является не чем-то независимым от явлений, происходящих во внешнем мире, и применимым к ним, а элементом нашего способа восприятия явлений. Физический мир не дан нам объективно. Он является лишь нашей интерпретацией ощущений, конструкцией из них, и математика — основной инструмент, позволяющий упорядочивать ощущения. Из сказанного почти автоматически следует, что математика описывает внешний мир в той мере, в какой он известен человеку. То, что математическая организация ощущений оказывается одинаковой у многих людей, неокантианцы объясняют, ссылаясь на сходство в функционировании человеческого разума или на общность языка и культуры, вынуждающую различных людей принимать одну и ту же математическую схему. В пользу такого объяснения свидетельствует, например, господствующее положение, занимаемое евклидовой геометрией, хотя она не является последним словом в вопросах, связанных со структурой физического пространства. То же можно сказать и о гелиоцентрической системе мира. Своим происхождением она обязана отнюдь не расхождениями между птолемеевой теорией и наблюдениями. Кроме того, если бы теория Птолемея была сохранена и усовершенствована в соответствии с новыми наблюдениями, то, несмотря на несколько большую математическую сложность, она могла бы служить потребностям астрономов и мореплавателей с не меньшим успехом, чем теория Коперника.
Суть изложенных выше взглядов сводится к следующему. Мы пытаемся абстрагировать из сложного переплетения явлений какие-то простые системы, свойства которых допускают математическое описание. Поразительно точным математическим описанием природы мы обязаны силе этой абстракции. Более того, мы видим лишь то, что позволяет нам видеть наша математическая «оптика». Ту же мысль мы находим, в частности, в «Прагматизме» философа Уильяма Джеймса: «Все грандиозные достижения математики и естественных наук… проистекают из нашего неутомимого желания придать миру в наших умах более рациональную форму, чем та, которую придал ему грубый порядок нашего опыта».
Один из современных авторов выразил эту мысль более «поэтически»: «Реальность — самая очаровательная из куртизанок, ибо делает то, что вы ожидаете от нее в данный момент, но она отнюдь не скала, на которой может утвердиться ваш дух, ибо соткана из призрачных видений. Реальность не существует вне ваших мечтаний, и зачастую это не более чем блик, отбрасываемый вашими мыслями на лицо — природы».
Однако кантовское объяснение, согласно которому мы видим в природе лишь то, что разрешает нам видеть наш разум, не дает полного ответа на вопрос, почему математика эффективна. Такие достижения науки послекантовского периода, как создание теории электромагнитного поля, вряд ли можно отнести к порождениям чистого разума или способности разума упорядочивать ощущения. Ведь, скажем, радио и телевидение существуют вовсе не потому, что разум организовал какие-то ощущения в соответствии с некоторой «внутренней структурой», позволившей нам заняться разработкой радио и телевидения как следствий врожденных представлений разума о том, как природа должна себя вести.
Некоторые математики полагают, что математика автономна (гл. XIV), т.е. что ее аксиомы рождены чистым разумом или подсказаны опытом, а вся остальная математика построена на них уже независимо от опыта. Если встать на эту точку зрения, то как объяснить, почему математика применима к реальному миру, и особенно к физическим явлениям. На этот вопрос существует несколько ответов. Один из них состоит в том, что в математические аксиомы входят неопределяемые понятия, и, по-разному интерпретируя эти понятия, можно достичь согласия о описываемой физической ситуацией. Так, например, эллиптическая неевклидова геометрия применима и к обычным прямым на эллиптической плоскости, под которой можно — понимать и обычные «физические» плоскости (ведь «в пределе» при очень большой длине каждой прямой эллиптическая геометрия переходит в евклидову!), и к геометрии на сфере, где «прямыми» служат дуги больших окружностей сферы, высекаемых из нее плоскостями, проходящими через центр сферы.
Объяснение такого рода предложил Пуанкаре. Ему хотелось, чтобы математика была чисто дедуктивной наукой, которая лишь шаг за шагом выводит следствия из исходных аксиом. Используя правдоподобные аксиомы, возможно подсказанные его чувственными восприятиями, человек создает евклидову или неевклидову геометрии. Аксиомы и теоремы этих геометрий не являются ни эмпирическими, ни априорными истинами. Они истинны или ложны ничуть не больше, чем правильно или неправильно использование полярных координат по сравнению с прямоугольными. Пуанкаре назвал эти геометрии соглашениями для упорядочения и измерения тел или замаскированными определениями понятий. Мы используем ту геометрию, которая наиболее удобна. Тем не менее, подчеркивал Пуанкаре, мы всегда используем евклидову геометрию c прямыми, понимаемыми в обычном смысле, т.е. как натянутые нити или край линейки, потому что евклидова геометрия самая простая. Почему же теоремы геометрии должны быть применимы к физическому миру? Ответ, данный Пуанкаре, гласил: потому что мы изменяем физические законы, стремясь привести их в соответствие с математикой, «подогнать» под нее.
Чтобы проиллюстрировать выдвинутый Пуанкаре тезис, рассмотрим, как геодезисты определяют расстояния. Сначала они выбирают удобный базис — отрезок AB (рис. 15.1), длина которого измеряется мерной лентой. Чтобы определить расстояние AC, геодезист измеряет угол CAB, визируя в специальную трубу, установленную в точке A, направление на точку C, а затем наводя трубу на точку B. По лимбу на теодолите геодезист узнает, на какой угол была повернута труба, и тем самым измеряет угол CAB. Аналогичным образом геодезист измеряет угол ABC. Предполагается, что лучи света, идущие из C в A и из B в A, совпадают с отрезками прямых (натянутыми нитями), соединяющими точки C и B с точкой A.
Рис 15.1. Измерение расстояний методом триангуляции.
Но мы знаем, что аксиомы евклидовой геометрии согласуются с представлением о прямой как о натянутой нити, поэтому геодезист при вычислении расстояний AC и BC смело использует евклидову геометрию. Предположим теперь, что полученные геодезистом расстояния все же оказались неверными. Как это могло произойти? Луч света, идущий из точки C в точку A, мог распространяться по траектории, показанной на рис. 15.1 пунктиром; при этом, чтобы поймать световой «зайчик», геодезисту приходилось наводить теодолит в точке A по касательной к описываемой лучом света траектории. Следовательно, теодолит мог быть наведен на точку C', хотя геодезист видел точку C, и вместо угла CAB он измерил угол C'AB. В этом случае применение евклидовой геометрии могло бы дать неверные значения расстояний AC и BC.
Итак, возникает вопрос: по какому пути распространяются лучи света? Иногда они распространяются по «настоящим» (обычным) прямым, иногда изгибаются вследствие рефракции в атмосфере. Предположим, что геодезист определил расстояния AC и BC неверно. Не имея никаких оснований считать лучи света искривленными, он тем не менее счел их таковыми и в своих вычислениях обращался с отрезками AC и BC как с криволинейными. Введя надлежащие поправки в измерения углов в пунктах A и B, геодезист мог бы воспользоваться евклидовой геометрией и получить правильные значения расстояний AC и BC.
Приведем еще один пример, поясняющий тезис Пуанкаре о том, что математику можно подогнать под физическую реальность; этот пример касается вращения Земли. По мнению Пуанкаре, вращение Земли необходимо принять как физический факт, так как в астрономии это допущение приводит к более простой математической теории рассматриваемых явлений. Действительно, простота математической теории была единственным аргументом, который Коперник и Кеплер смогли привести в пользу гелиоцентрической системы по сравнению со старой геоцентрической системой Птолемея.
Развитая Пуанкаре философия науки обладает несомненным достоинством. Мы действительно пытаемся обходиться возможно более простой математикой и изменять в случае необходимости физические законы так, чтобы наши умозаключения находились в согласии с физическими фактами. Но современные физики и математики используют в качестве критерия простоту математической и физической теории в целом. И если для получения простейшей комбинированной [физико-математической] теории нам придется воспользоваться неевклидовой геометрией, как это сделал Эйнштейн в своей теории относительности{180}, то мы пойдем на это.
Хотя объяснение эффективности математики, предложенное Пуанкаре, было более подробным, в определенных пределах он считал верным и кантовское объяснение, а именно ту его часть, где говорится, что согласие между математикой и природой создается человеческим разумом. Так, в «Ценности науки» Пуанкаре утверждает:
Но та гармония, которую человеческий разум полагает открыть в природе, существует ли она вне человеческого разума? Без сомнения — нет; невозможна реальность, которая была бы полностью независима от ума, постигающего ее, видящего, чувствующего ее. Такой внешний мир, если бы даже он и существовал, никогда не был бы нам доступен. Но то, что мы называем объективной реальностью, в конечном счете есть то, что общо нескольким мыслящим существам и могло бы быть общо всем. Этой общей стороной, как мы увидим, может быть только гармония, выражающаяся математическими законами.
([1], с. 158.)Есть и другое, несколько туманное, возможно, чрезмерно упрощенное объяснение эффективности математики. Согласно этому объяснению, существует объективный физический мир и человек стремится согласовать с ним свою математику. Мы вносим необходимые коррективы, когда приложения обнаруживают неточности математического описания или прямые ошибки в нашей математике. Подобную точку зрения Гильберт высказал в докладе на II Международном математическом конгрессе в 1900 г.:
А между тем во время действия созидательной силы чистого мышления внешний мир снова настаивает на своих правах: он навязывает нам своими реальными фактами новые вопросы и открывает нам новые области математического знания. И в процессе включения этих новых областей знания в царство чистой мысли мы часто находим ответы на старые нерешенные проблемы и таким путем наилучшим образом продвигаем вперед новые теории. На этой постоянно повторяющейся и сменяющейся игре между мышлением и опытом, мне кажется, и основаны те многочисленные и поражающие аналогии и та кажущаяся предустановленной гармония, которые математик так часто обнаруживает в задачах, методах и понятиях различных областей знания.
([51], с. 16-17.)В более простых (и в наше время менее правдоподобных) объяснениях эффективности математики повторяются тезисы, которые математики выдвигали с античных времен и примерно до середины XIX в. И сейчас находятся люди, продолжающие верить в то, что природа устроена на математических началах. Скрепя сердце им приходится признать несовершенство прежних математических теорий, созданных для объяснения физических явлений. В то же время такие люди полагают, что при непрерывном усовершенствовании математические теории могут не только охватить более широкий круг явлений, но и достигнуть более тонкого согласия с наблюдениями. Так, механика Ньютона пришла на смену механике Аристотеля, а специальная теория относительности внесла поправки в ньютоновскую механику. Разве из исторического развития науки не следует, что окружающий нас мир основан на неких определенных принципах и что человеческий разум все более приближается к их познанию? Именно такое объяснение взаимосвязи между математикой и естествознанием дал Шарль Эрмит:
Если я не ошибаюсь, существует мир, представляющий собой собрание математических истин и доступный нам только через наш разум, — точно так же существует мир физической реальности. Как один, так и другой не зависят от нас, они оба — творение господа бога и различимы лишь по слабости нашего разума, тогда как на более высокой ступени мышления они суть одно и то же. Синтез этих двух миров отчасти проявляется в чудесном соответствии между абстрактной математикой, с одной стороны, и всеми отраслями физики — с другой.
В письме к Лео Кёнигсбергеру Эрмит добавил, что «эти понятия анализа существуют самостоятельно вне нас, образуя единое целое, лишь часть которого беспрепятственно, хотя и несколько загадочно, открывается нам; это целое ассоциируется с другой совокупностью объектов, которые мы воспринимаем органами чувств».
Джеймс Джинс в «Загадочной Вселенной» также разделяет неоднократно высказывавшиеся ранее взгляды: «…судя по некоторым специфическим особенностям своего творения, великий создатель Вселенной начинает представать перед нами как чистый математик». Однако до этого Джинс счел необходимым заявить, что «математика, созданная человеком, пока еще не вошла в контакт с первозданной реальностью». На последующих страницах книги Джинс становится более догматичным в своих высказываниях:
Природа, по-видимому, великолепно осведомлена о правилах чистой математики в том виде, в каком их сформулировали в своих исследованиях ученые, руководствуясь внутренним сознанием и не полагаясь особо на свой опыт общения с внешним миром… Во всяком случае не подлежит сомнению, что природа и наши сознательные математические умы действуют по одним и тем же законам.
Впоследствии Эддингтон изменил свои взгляды и стал считать, что природа основана на математических началах и что наш разум способен построить чистую науку из априорного знания («Фундаментальная теория», 1946). Эта наука — единственно возможная, любая другая содержала бы логические противоречия. Разум не может познать все детали науки, но создать общие законы — в его силах. Так, чистый разум говорит нам, что свет должен распространяться с конечной скоростью. Даже природные константы, такие, как отношение массы протона к массе электрона, могут быть определены из априорных соображений. Априорное знание не зависит от фактически произведенных наблюдений и более достоверно, чем экспериментальное знание.
Джордж Дэвид Биркгоф (первый выдающийся математик американского происхождения) в 1941 г. без колебаний повторил и поддержал мысль Эддингтона:
…Во всей системе законов физики не существует ничего, что нельзя было бы однозначно вывести из теоретико-познавательных соображений. Разум, не знающий ничего о нашей Вселенной, но знакомый с нашей системой мышления, с помощью которой человеческий разум интерпретирует для себя содержание чувственного опыта, смог бы достичь всего знания физики, которого мы достигли с помощью эксперимента… Например, он мог бы путем умозаключений прийти к выводу о существовании и свойствах радия, но не смог бы определить размеры Земли.
Не вполне адекватное, но разумное объяснение эффективности математики предложил в 1918 г. молодой Эйнштейн:
…История показала, что из всех мыслимых построений в данный момент только одно оказывается преобладающим. Никто из тех, кто действительно углублялся в предмет, не станет отрицать, что теоретическая система практически однозначно определяется миром наблюдений, хотя никакой логический путь не ведет от наблюдений к логическим принципам теории. В этом суть того, что Лейбниц удачно назвал «предустановленной гармонией».
([126], т. 4, с. 41.)Позиция Эйнштейна в зрелые годы отражена в его книге «Мир, каким я вижу его» (1934), в которой он, в частности, утверждал следующее:
Весь предшествующий опыт убеждает нас в том, что природа представляет собой реализацию простейших математически мыслимых элементов. Я убежден, что посредством чисто математических конструкций мы можем найти те понятия и закономерные связи между ними, которые дадут нам ключ к пониманию явлений природы. Опыт может подсказать нам соответствующие математические понятия, но они ни в коем случае не могут быть выведены из него. Конечно, опыт остается единственным критерием пригодности математических конструкций физики. Но настоящее творческое начало присуще именно математике. Поэтому я считаю в известном смысле оправданной веру древних в то, что чистое мышление в состоянии постигнуть реальность.
([126], т. 4, с. 184.)Свое убеждение Эйнштейн подтверждает и в следующем известном высказывании о боге: «Я не верю, что бог играет в кости».{181} Если же бог и играет в кости, то, как сказал Ральф Вальдо Эмерсон, «кости господа бога налиты свинцом». В приведенном выше высказывании Эйнштейн не утверждает, что выведенные нами математические законы верны. Он лишь констатирует, что какие-то математические законы существуют вне нас — и мы надеемся приблизиться к ним возможно более. По словам самого Эйнштейна, «господь бог изощрен, но не злобен».
Один из крупнейших историков и философов науки, Пьер Дюгем, в своей книге «Цель и структура физической теории», подобно Эйнштейну, проходит эволюцию от сомнений к положительным утверждениям. Дюгем первым описал физическую теорию как «абстрактную систему, предназначенную для суммирования и логической классификации определенной группы экспериментальных законов и не претендующую на их объяснение». По Дюгему, теории носят приближенный, временный характер и «лишены ссылок на объективную реальность». Физика имеет дело лишь с данными чувственного опыта, и нам необходимо избавиться от иллюзии, будто теоретизируя, мы «срываем покров с данных чувственного опыта». Когда гениальный ученый привносит математический порядок и ясность в хаотическое нагромождение чувственных восприятий, он достигает своей цели лишь ценой замены сравнительно доступных разуму понятий символическими абстракциями, не открывающими истинной природы окружающего нас мира. Тем не менее Дюгем заканчивает утверждением: «Невозможно поверить, что этот порядок и эта организация [вносимые математической теорией] не являются отражением реального порядка и реальной организации». Мир построен великим архитектором по математическому плану. Бог вечно геометризует, и человеческая математика описывает математические начала, на которых зиждется мир.
Герман Вейль был уверен в том, что математика отражает порядок, существующий в природе. В одном из выступлений Вейль сказал:
В природе существует внутренне присущая ей скрытая гармония, отражающаяся в наших умах в виде простых математических законов. Именно этим объясняется, почему природные явления удается предсказывать с помощью комбинации наблюдений и математического анализа. Сверх всяких ожиданий убеждение (я бы лучше сказал, мечта!) в существовании гармонии в природе находит все новые и новые подтверждения в истории физики.
Вейль считает, что, возможно, именно мечта о гармонии Вселенной вдохнула жизнь в научное мышление, и в книге «Философия математики и естественных наук» он добавляет:
Наука погибла бы без поддержки трансцендентальной веры в истинность и реальность и без непрерывного взаимодействия между научными фактами и построениями, с одной стороны, и образным мышлением — с другой.
Хотя от высказываний Джинса, Вейля, Эддингтона и Эйнштейна невозможно просто отмахнуться, большинство современных математиков и физиков не разделяют их взглядов на взаимосвязь математики и природы. Математическое описание природы достигло столь поразительных успехов, что предлагаемые Джинсом, Вейлем, Эддингтоном и Эйнштейном объяснения представляются вполне разумными, подобно тому как евклидова геометрия на протяжении многих столетий казалась математикам неоспоримой истиной. Но в наше время вера в единый, основанный на математических принципах «план», лежащий в основе всей природы, давно угасла.
Существует еще один подход к объяснению взаимосвязи математики и природы. Он также наводит на мысль о некой соответствии, но соответствии особого рода, которое обычно упускают из виду. За последние сто лет возник статистический подход к описанию природы. По иронии судьбы его родоначальником стал Лаплас, твердо веривший в то, что явления природы строго детерминированы в соответствии с математическими законами. Однако причины, вызывающие то или иное явление, как считал Лаплас, не всегда известны, и наблюдения обладают лишь ограниченной точностью. Чтобы определить наиболее вероятные причины и наиболее вероятные результаты, следует воспользоваться теорией вероятностей. «Аналитическая теория вероятностей» (3-е изд — 1820) Лапласа по праву считается классическим трудом по этому разделу математики. История теории вероятностей и математической статистики весьма обширна, и нам нет необходимости входить здесь в излишние подробности (см., например, [130] и — по поводу позиции Лапласа — [131]). Но менее чем за сто лет вероятностно-статистические представления привели к возникновению новых взглядов, согласно которым явления природы не детерминированы, а носят случайный характер, но существует некий наиболее вероятный, средний, режим. Именно его мы и наблюдаем, утверждая, что он детерминирован математическими законами. Поясним сказанное на примере. Продолжительность человеческой жизни колеблется в довольно широких пределах: одни умирают в младенческом возрасте, другие доживают почти до ста лет. Поэтому для всех мужчин и женщин существует не только средняя продолжительность жизни, но и средняя продолжительность жизни по достижении определенного возраста. Строя свою деятельность с учетом этих данных, страховые компании извлекают солидные прибыли. Статистический подход к описанию природы особенно существенное распространение получил в последнее время в связи с развитием квантовой механики, которая утверждает, что не существует «твердых», дискретных, строго локализованных частиц. Каждая частица распределена с определенной вероятностью по всему пространству, но с наибольшей вероятностью она сосредоточена («локализована») в каком-то одном месте.
Согласно статистическим представлениям, математические законы природы описывают в лучшем случае наиболее вероятный режим протекания того или иного явления; однако они не исключают полностью, например, возможности того, что Земля может неожиданно сойти со своей орбиты и отправиться странствовать в глубины космического пространства. Статистический подход как бы оставляет за природой возможность «передумать» и не делать того, что наиболее вероятно. Некоторые философы, занимающиеся проблемами естествознания, пришли к заключению, что необъяснимая эффективность математики остается необъяснимой. Впервые эту точку зрения выразил американский математик, естествоиспытатель и философ Чарлз Сандерс Пирс (1839-1914): «По-видимому, в этом есть какая-то тайна, которую еще предстоит раскрыть».
Эрвин Шредингер в своей книге «Что такое жизнь с точки зрения физики» [132] (1945) признавал, что суть открытия человеком законов природы вполне может быть недоступна человеческому разуму. Другой физик, Фримен Дайсон, также считает, что «мы, по-видимому, еще не приблизились к пониманию взаимосвязи между физическим и математическим мирами». К словам названных ученых остается только добавить высказывание Эйнштейна: «Самое непостижимое в этом мире то, что он постижим» (ср. также [129]).
Лауреат Нобелевской премии по физике Юджин Пол Вигнер, обсуждая в 1960 г. непостижимую эффективность математики в естественных науках в статье под тем же названием, не дал никакого объяснения и ограничился лишь констатацией спорного вопроса:
Математический язык удивительно хорошо приспособлен для формулировки физических законов. Это чудесный дар, который мы не понимаем и которого не заслуживаем. Нам остается лишь благодарить за него судьбу и надеяться, что и в будущих своих исследованиях мы сможем по-прежнему пользоваться им. Мы думаем, что сфера его применимости (хорошо это или плохо) будет непрерывно возрастать, принося нам не только радость, но и новые головоломные проблемы.
([96]*; см. [133], с. 197.)
Последние из приведенных здесь «объяснений» носят скорее характер апологий. Они мало что говорят по существу, но их выразительный язык наводит на мысль, что авторы «объяснений» пребывают в неведении относительно причин непостижимой эффективности математики.
Сколь бы удовлетворительным или неудовлетворительным ни было любое объяснение эффективности математики, важно отчетливо сознавать, что природа и математическое описание природы не одно и то же, причем различие обусловлено не только тем, что математика представляет собой идеализацию (ср. [4] или [134]). Математический треугольник, несомненно, отличается от физического треугольника. Но математика отходит от природы еще дальше. В V в. до н.э. Зенон Элейский сформулировал несколько апорий, или парадоксов. Каковы бы ни были его мотивы, первая же из апорий Зенона великолепно иллюстрирует различие между математической концептуализацией и опытом. Первая апория Зенона утверждает, что бегун никогда не сможет добежать до конца дистанции, так как для этого ему необходимо сначала преодолеть 1/2 дистанции, затем 1/2 оставшейся половины, затем 1/2 половины оставшейся половины и т.д. Следовательно, всего бегуну необходимо преодолеть
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + …
дистанции. Но чтобы преодолеть бесконечно большое число отрезков, бегуну, по мнению Зенона, необходимо затратить бесконечно большое время.
Одно из физических решений, причем наиболее очевидное, этого парадокса состоит в том, что бегун преодолеет всю дистанцию за конечное число шагов. Но если принять математический анализ апории, проделанный Зеноном, то окажется, что на преодоление дистанции бегун должен затратить 1/2 мин плюс 1/4 мин плюс 1/8 мин и т.д., а сумма всех этих промежутков времени в точности равна одной минуте. Такой анализ расходится с физическим процессом, но тем не менее приводит к тому же результату.
Возможно, человек ввел ограниченные и даже искусственные понятия и только таким способом сумел навести порядок в природе. Созданная человеком математика не более чем рабочая схема. Сама природа, возможно, отличается несравненно большей сложностью, или структура ее не обладает особой правильностью.{182} Тем не менее математика остается непревзойденным методом исследования и описания природы, позволяющим овладеть ею. В тех областях, где математика эффективна, она представляет собой все, чем мы владеем; если это и не сама реальность, то самое лучшее приближение к ней, какое только доступно для нас.
Хотя математика — творение чисто человеческое, тот путь, который она открывает нам к различным явлениям природы, приводит к результатам, превосходящим самые смелые ожидания. Как ни парадоксально, но именно абстракции, столь далекие от реальности, позволяют достичь столь многого. Возможно, что искусственное математическое описание не более чем сказка для взрослых, но сказка с моралью: человеческий разум обладает огромной силой, даже если эту силу не так-то легко объяснить.
За успехи математики заплачено определенной ценой, и эта цена — количественный подход к миру: мы рассматриваем его с точки зрения меры, веса, продолжительности и тому подобных понятий. Такое описание может давать о богатом и разнообразном опыте не более полное представление, чем рост человека о человеке. В лучшем случае математика описывает некоторые явления природы, но математические символы передают далеко не все.
Не следует забывать, что математика рассматривает простейшие понятия и явления физического мира. Она имеет дело не с человеком, а с неодушевленной природой. Явления неодушевленной природы обладают повторяемостью, и математика может описывать их. Но в экономике, политике, психологии, а также в биологии математика пока приносит существенно меньшую пользу… Даже в физике математика имеет дело с упрощениями, лишь касающимися реальности, подобно тому как касательная лишь соприкасается с кривой и приближенно ее передает. Имеет ли орбита Земли, обращающейся вокруг Солнца, форму эллипса? Нет. Земную орбиту можно считать эллиптической только в том случае, если Землю и Солнце считать точками и пренебречь влиянием всех остальных тел во Вселенной. Повторяется ли из года в год продолжительность зимы, весны, лета и осени? Вряд ли. Они повторяются, лишь если их продолжительность оценивать приближенно, т.е. так, как только и может их оценить человек.
Станем ли мы отказываться от математики лишь по той причине, что не понимаем, почему она так эффективна в описании природы? Хевисайд как-то заметил: «Стану ли я отказываться от обеда только потому, что не до конца понимаю процесс пищеварения?» Опыт опровергает сомневающихся. Самоуверенные отвергают рациональные объяснения. При всем нашем почтении к социологии и философии, прекрасно понимая, что математика затрагивает далеко не все аспекты нашей жизни, мы, однако, не можем не признать одной простой истины: успехи математики как источника знания затмевают ее неудачи. И знания, даваемые математикой, основаны не просто на голословных утверждениях о ее правильности — они ежедневно и ежечасно подвергаются проверке в каждом работающем радиоприемнике или атомной электростанции, в предсказании солнечных и лунных затмений, в тысячах других явлений, происходящих в лабораториях или в повседневной жизни.
Математике доступны лишь наиболее простые проблемы физического мира, но именно в ней эти проблемы находят полное решение. Вера в могущество человека отчасти зиждется на той силе, которой наделяет его математика — она помогает человеку покорять природу и тем облегчает его ношу. Одержанными математикой победами человек может по праву гордиться.
Вопрос о том, почему математика столь эффективна, представляет не только чисто академический интерес. Если мы используем математику в технике, то в какой степени можно полагаться на нее в расчетах и проектах? Можно ли спроектировать мост с помощью теории, опирающейся на бесконечные множества или аксиому выбора? Не обрушится ли такой мост? К счастью, инженерные проекты обычно основаны на применении теорем, столь надежно подкрепленных накопленным ранее опытом, что их использование не вызывает сомнений. Многие инженерные проекты умышленно предусматривают большой запас прочности. Например, при строительстве мостов используются такие материалы, как сталь, хотя прочность материалов нам не известна досконально. Чтобы компенсировать возможные неточности, инженеры вводят «коэффициент незнания» — используют более прочные кабели и балки, чем того требует теория. Но в тех случаях, когда речь идет о проекте сооружения, не возводившегося никогда ранее, необходимо учитывать и надежность применяемой математики.{183} В таких случаях разумная осторожность подсказывает не приступать к строительству сооружения прежде, чем все расчеты не будут проверены на модели, выполненной в уменьшенном масштабе.
В этой главе мы поставили перед собой задачу попытаться наметить какой-то выход из того затруднительного положения, в котором оказались математика и ее «жрецы». Единой, общепринятой математики не существует, поэтому мы не стали бы рекомендовать в качестве возможного выхода перебор множества различных путей, отстаиваемых теми или иными группами: избрать такой «лобовой» подход к решению проблемы означало бы воспрепятствовать достижению главной цели математики — способствовать прогрессу науки. Именно этой высокой целью мы и рекомендовали бы воспользоваться как эталоном. Здесь мы достаточно подробно обсудили связанные с этим проблемы и спорные вопросы.
Но хотя акцент на приложениях к естественным наукам представляется наиболее разумным курсом дальнейшего развития математики, эта программа отнюдь не исключает и другие заслуживающие внимания и вполне разумные цели в рамках самой математики. Мы отмечали (гл. XIII), что развитие прикладной математики требует основательной и разнообразной поддержки: абстракции, обобщения, строгого обоснования и усовершенствования существующих методов. Кроме того, вполне оправдана деятельность в области оснований математики, не дающая прямого выхода в математику, но доказавшая свою полезность в процессе естественнонаучных исследований. Конструктивистская программа интуиционистов, хотя те исходили из намерения заменить лишенные смысла чистые теоремы существования, приводит к методам вычисления величин, о которых чистые теоремы существования сообщают нам лишь то, что эти теоремы существуют. Приведем один старый пример. Евклид доказал, что отношение площади круга к квадрату его радиуса одинаково для всех кругов (это отношение обычно обозначается греческой буквой π). Тем самым Евклид доказал чистую теорему существования. Но если мы хотим вычислить площадь какого-нибудь круга, то для этого нам необходимо знать, чему равно π. К счастью, приближенный метод вычисления π, предложенный Архимедом, и некоторые разложения в ряды, полученные впоследствии, позволили найти π задолго до того, как интуиционисты бросили вызов чистым теоремам существования. Разумеется, возможность вычисления числа π необычайно важна. Аналогично возникает необходимость и в вычислении других величин, относительно которых пока доказано лишь то, что они существуют. Следовательно, конструктивистская программа вполне заслуживает внимания.
Однако исследования в области оснований математики ценны и тем, что открывают потенциальную возможность прийти к какому-нибудь противоречию. Непротиворечивость математики не доказана, и открытие противоречия или заведомо абсурдной теоремы позволило бы по крайней мере раз и навсегда разрешить эту проблему, которая поглощает сегодня немало времени и энергии некоторых математиков.
Наш обзор современного состояния математики вряд ли может пробудить чувство успокоенности. Математика лишилась своей истинности. Ныне она уже не является независимой, абсолютно надежной и прочно обоснованной областью знаний. Большинство математиков заявили о своей преданности естествознанию — акт похвальный в любой период истории, но особенно в тот момент, когда естественнонаучные приложения могут сыграть роль путеводной нити в поиске разумного направления в развитии математики. Замечательная точность и эффективность математики в описании реального мира по-прежнему ждут своего объяснения.
Несмотря на все свои недостатки и ограниченные возможности, математике есть чем гордиться. Она была и остается высшим интеллектуальным достижением и наиболее оригинальным творением человеческого духа. Музыка может возвышать или умиротворять душу, живопись — радовать глаз, поэзия — пробуждать чувства, философия — удовлетворять потребности разума, инженерное дело — совершенствовать материальную сторону жизни людей. Но математика способна достичь всех этих целей. Если же говорить о возможностях человеческого разума, то математики немало потрудились, чтобы доказать, сколь высокую надежность результатов способен обеспечить человеческий разум. Не случайно математическая точность вошла в поговорку. Математика по-прежнему остается эталоном самого надежного и точного знания, которого мы только в состоянии достичь.
Все свершения математики — это свершения человеческого разума. Показав, на что способен человек, математика вселила в людей смелость и уверенность, позволившие им вплотную взяться за разгадку ранее, казалось бы, неприступных тайн космоса, лечение страшных болезней, количественный анализ проблем, относящихся к экономике и устройству человеческого общества, что позволяет надеяться на дальнейший прогресс человечества. В решении этих проблем математика может оказаться более эффективной или менее, но с ней мы связываем определение надежды на успех.
Математика таит в себе ценности не меньше, чем любое другое творение человеческого духа. Ценности эти нелегко воспринимаются, им не всегда воздают должное, но, к счастью, ими пользуются. Познать их труднее, чем, скажем, ценности музыки, однако того, кто сумеет преодолеть нелегкий путь познания, ждет богатое вознаграждение; в этих ценностях сосредоточено все, что отличает лучшие творения человеческого духа. Ценности, воплощенные в математике, поистине неисчерпаемы; единственный вопрос, который может здесь возникнуть, — это вопрос о степени их важности. На этот вопрос каждый сам должен найти ответ, так как многое зависит от индивидуальных суждений, мнений и вкусов.
Математика — это высокий образец достоверного знания, идеал определенности, к которому мы будем стремиться и впредь, даже если он и недостижим. Достоверность вполне может оказаться не более чем призраком, манящим и все время ускользающим. Но идеалы, даже недостижимые, обладают притягательной силой и ценностью. Справедливость, равноправие или бог — идеалы. Правда, во имя бога люди убивали себе подобных, а справедливость далеко не всегда торжествует. И все же эти идеалы представляют собой главный итог многовекового развития цивилизации. Так обстоит дело и с математикой, даже если она всего лишь остается идеалом. Возможно, созерцание идеала позволяет нам с большей уверенностью выбирать направление, которым необходимо следовать для достижения истины.
Человек — песчинка в мироздании. Мы странники в бескрайних просторах Вселенной, беспомощные перед разгулом природных стихий, зависящие от них и в получении пищи, и в удовлетворении других потребностей. Человек взирает на загадочную, быстро меняющуюся, бесконечную Вселенную смущенный, озадаченный и даже испуганный собственной незначительностью. Как сказал Паскаль{184},
…ибо что такое человек во Вселенной? Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, среднее между всем и ничем. Он не в силах даже приблизиться к пониманию этих крайностей — конца мироздания и его начала, неприступных, скрытых от людского взора непроницаемой тайной, и равно не может постичь небытие, из которого возник, и бесконечность, в которой растворяется.
([119], с. 123.)Монтень и Гоббс, по существу, утверждали то же, только иными словами. Человек одинок и слаб, а век его короток. Он жертва непредвиденного стечения обстоятельств.
Наделенный органами чувств, возможности которых весьма ограниченны, и рассудком, позволяющим анализировать воспринимаемую органами чувств информацию, человек начал проникать в окружающие его тайны природы. Используя данные непосредственного наблюдения или результаты специально поставленных экспериментов, он сформулировал определенные аксиомы и воспользовался своей способностью мыслить. Он стремился во всем найти порядок. Целью человека было построить систему знаний, способную противостоять мимолетной смене ощущений и послужить основой для познания — и покорения — окружающего мира. Один из значительных итогов его деятельности, продукт его разума — математика. Наша наука не идеальный алмаз — возможно, даже постоянная полировка не позволит ей избавиться от всех изъянов, Тем не менее математика была и остается самой надежной нашей связью с миром чувственного восприятия, и, хотя мы знаем, что она лишена прочных оснований (что не может не вселять в нас тревогу), она тем не менее по-прежнему является драгоценнейшим украшением нашей интеллектуальной жизни, которое следует беречь. Математика по праву занимает свое высокое место в сокровищнице человеческого разума и, несомненно, останется там, даже если более детальные исследования обнаружат в ней новые изъяны.{185} Алфред Норт Уайтхед некогда сказал: «Нельзя не признать, что занятие математикой — ниспосланное богами безумие человеческого духа». Безумие? Вполне возможно — но, несомненно, ниспосланное богами.
Избранная литература
1. Barker S.F. Philosophy of Mathematics. — Engelwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964.
2. Baum R.J. Philosophy and Mathematics from Plato to the Present. — San Francisco: Freeman, Cooper & Co., 1973.
3. Bell E.T. The Place of Rigor in Mathematics. — Amer. Math. Month., 1934, 41, p. 599-607.
4. Benacerraf P., Putnam H. Philosophy of Mathematics, Selected Readings. — Engelwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964.
5. Beth E.W. The Foundations of Mathematics. — New York: North-Holland Publishing Co., 1959; New York: Harper and Row, 1966.
6. Beth E.W. Mathematical Thought: An Introduction to the Philosophy of Mathematics. — Dordrecht, Holland: D. Reidel, 1965; New York: Gordon and Breach, 1965.
7. Bishop E. et al. The Crisis in Contemporary Mathematics. — Hictoria Mathematica, 1975, 2, p. 505-533.
8. Black M. The Nature of Mathematics. — New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1935; London: Routledge & Kegan Paul, 1933.
9. Blumenthal L.M. A Paradox, A Paradox, A Most Ingenious Paradox. — Amer. Math. Month., 1940, 47, p. 346-353.
10. Bochenski I.M. A History of Formal Logic. — New York: Chelsea переиздание, 1970.
11. Bourbaki N. The Architecture of Mathematics. — Amer. Math. Month, 1950, 57, p. 221-232; также в [54], т. I, p. 23-26. [Русский перевод: Бурбаки Н. Архитектура математики. — В кн. Очерки по истории математики. — M.: ИЛ, 1963, с. 245-259; в кн.: Математическое просвещение (новая серия), вып. 5. — М.: Физматгиз, 1960, с. 99-112; в кн. Архитектура математики, — М.: Знание, 1972, с. 4-18.]
12. Brouwer L.E.J. Intuitionism and Formalism. — Amer. Math. Soc. Bulletin, 1913-1914, 20, p. 81-96.
13. Burington A.S. On the Nature of Applied Mathematics. — Amer. Math. Month., 1949, 56, p. 221-241.
14. Calder A. Constructive Mathematics. — Scientific American, Oct, 1979, p. 146-171.
15. Cantor G. Contributions to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers. — New York: Dover Inc., 1955. [Немецкий оригинал в кн.: Cantor G. Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts. — Heidelberg Springer, 1980; русский перевод (неполный): Кантор Г. Теория ансамблей. — Спб.: Образование, 1914 («Новые идеи в математике», вып. 6).]
16. Cohen M.R. A Preface to Logic. — New York: Holt, Rinehart and Winston. 1944; New York: Dover Inc., 1977.
17. Cohen P.J., Reuben Hersh. Non-Cantorian Set Theory. — Scientific American, Dec. 1967, p. 104-116. [Русский перевод: Коэн П., Херш Р. Неканторовская теория множеств. — Природа, 1969, №4, с. 43-51; в кн, Математика в современном мире. — М.: Знание, 1969, с. 20-32.]
18. Courant R. Mathematics in the Modern World. — Scientific American, Sept, 1964, p. 40-49. [Русский перевод: Курант Р. Математика в современном мире. — В кн. [137], с. 13-27.]
19. Dauben J.W. Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite. — Cambridge: Harvard University Press, 1978.
20. Davis M., Hersh R. Nonstandard Analysis. — Scientific American, June 1972. p. 78-86. [Вошло также в книгу: Davis M., Hersh R. The Mathematical Experience. Boston: Birkhauser, 1981.]
21. Davis P.J. Fidelity in Mathematical Discourse: Is One and One Really Two? — Amer. Math. Month., 1972, 79, p. 252-263.
22. De Long H. A Profile of Mathematical Logic. — Reading, Mass, Addison-Wesley, 1970.
23. De Long H. Unsolved Problems in Arithmetic. — Scientific American. March 1971, p. 50-60.
24. Desua F. Consistency and Completeness — A Résumé. — Amer. Math. Month., 1956, 63, p. 293-305.
25. Dieudonné J. Modern Axiomatic Methods and the Foundations of Mathematics. [Французский оригинал статьи — в оригинальном издании собрания математических статей, составленного Ле Лионне — см. [54]. vol. I, p. 251-266.]
26. Dieudonné J. The Work of Nicolas Bourbaki. — Amer. Math. Month., 1970, 77, p. 134-145. [Русский перевод: Дьедонне Ж. О деятельности Бурбаки. — Успехи математических, наук, т. 28, вып. 3(171), 1973, с. 205-216; Дело Никола Бурбаки. В кн.: Очерки о математике. М.: Знание, 1973, с. 44-56.]
27. Dresden A. Brouwer's Contributions to the Foundations of Mathematics. — Amer. Math. Soc. Bulletin, 1924, 30, p. 31-40.
28. Dresden A. Some Philosophical Aspects of Mathematics. — Amer. Math. Soc. Bulletin, 1928, 34, p. 438-452.
29. Eves H., Carroll V.N. An Introduction to the Foundations and Fundamental Concepts of Mathematics, rev. ed. — New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965.
30. Fraenkel A.A. On the Crisis of the Principle of the Excluded Middle. — Scripta Mathematica, 1951, 17, p. 5-16.
31. Fraenkel A.A. The Recent Controversies about the Foundations of Mathematics. — Scripta Mathematica, 1947, 13, p. 17-36,
32. Fraenkel A.A., Bar-Hillel Y., Levy A. Foundations of Set Theory, 2nd rev, ed. — New York: North-Holland, 1973. [Имеется русский перевод 1-го изд «книги: Френкель А., Бар-Хилел И. Основания теории множеств. — М.: Мир, 1966]
33. Gödel K. What is Cantor's Continuum Problem? — Amer. Math. Month., 1947, 54, p. 515-525; с дополнением вошло в кн. [4], р. 258-273.
34. Goodman N.D. Mathematics as an Objective Science. — Amer. Math. Month., 1979, 86, p. 540-551.
35. Goodstein R.L. Essays in the Philosophy of Mathematics. — Leicester: The University Press, 1965.
36. Hahn H. The Crisis in Intuition. — B [65], vol. III, p. 1956-1976. [Русский перевод: Хан. Г. Кризис интуиции. — В кн.: Математики о математике. — М.: Знание, 1972, с. 25-42.]
37. Halmos P.R. The Basic Concepts of Algebraic Logic. — Amer. Math. Month., 1956, 63, p. 363-387.
38. Hardy G.H. Mathematical Proof. — Mind, 1928, 38, p. 1-25; Collected Papers, vol. VII, 58, p. 1-606.
39. Hardy G.H. A Mathematician's Apology. — Cambridge: University Press, 1981. [Русский перевод отрывков из книги: Харди Г.Г. Исповедь математика. — В кн.: Математики о математике. — М.: Знание, 1967, с. 4-15.]
40. Heijenoort J. van, ed. From Frege to Gödel, A Source Book in Mathematical Logic, 1879-1931. — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967.
41. Hempel C.G. Geometry and Empirical Science. — Amer. Math. Month., 1945, 52, p. 7-17.
42. Hempel C.G. On the Nature of Mathematical Truth. — Amer. Math. Month., 1945, 52, p. 543-556; также вошло в кн. [4].
43. Hersh R. Some Proposals For Reviving the Philosophy of Mathematics. — Advances in Mathematics, 1979, 31, p. 31-50.
44. Hilbert D. Über das Unendliche. — Mathematische Annalen, 1925, 95, 161-190; англ. переводы On the Infinite в кн. [4], p. 131-151 и в кн. [40], с. 367-392. [Русский перевод сокращенного варианта статьи: Гильберт Д. О бесконечном. В кн.: Гильберт. Основания геометрии. — М. — Л.: Гостехиздат, 1948, 338-364.]
45. Kline M. Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. — New York: Oxford University Press, 1972.
46. Kline M. Mathematics in Western Culture. — New York: Oxford University Press, 1958.
47. Kneale W., Kneale M. The Development of Logic. — New York: Oxford University Press, 1962.
48. Kneeborn G.T. Mathematical Logic and the Foundations of Mathematics. — New York: D. Van Nostrand, 1963.
49. Körner S. The Philosophy of Mathematics. — London: Hutchinson University Library, 1960.
50. Lakatos I. Mathematics, Science and Epistemology, 2 vols. — New York: Cambridge University Press, 1978.
61. Lakatos I., ed. Problems in the Philosophy of Mathematics, vol. I. — New York: North-Holland, 1972.
62. Lakatos I. Proofs and Refutations. — New York: Cambridge University Press., 1976. [Русский перевод более краткого варианта книги: Лакатос И. Доказательства и опровержения. — М.: Наука, 1967.]
63. Langer S.K. An Introduction to Symbolic Logic, 2nd ed. — New York: Dover, 1953.
64. Le Lionnais F. ed. Great Currents of Mathematical Thoughts, 2 vols. — New York: Dover, 1971. [Французский оригинал: La Lionnais F. Les grands courants de la pensée mathématiques. — Cahiers du Sud, 1948.]
65. Lewis C.I. A Survey of Symbolic Logic. — New York: Dover, 1960.
66. Luchins E. and A. Logicism. — Scripta Mathematics, 1965, 27, p. 223-243.
57. Luxemburg W.A.J. What is Non-Standard Analysis? — Amer. Math. Month., 1973, 80, p. 11, p. 38-67.
58. Mackie G.L. Truth, Probability and Paradox. — New York: Oxford University Press, 1973.
59. Mendelson E. Introduction to Mathematical Logic. — New York: Van Nostrand, 1979, (2nd ed.) [Русский перевод 1-го изд. книги: Мендельсон Э. Введение в математическую логику. — М.: Наука, 1971.]
60. Monk J.D. On the Foundation of Set Theory. — Amer. Math. Month., 1970, 77, p. 703-711.
61. Myhill J. What is a Real Number? — Amer. Math. Month., 1972, p. 748-754.
62. Nagel E., Newman J.R. Gödel's Proof. — Scientific American, June 1956, p. 71-86.
63. Nagel E., Newman J.R. Gödel's Proof. — New York: New York University Press, 1958. [Сокращенный русский перевод: Нагель Э., Ньюмен Д. Теорема Гёделя. — М.: Знание, 1970.]
64. Neumann J. von. The Mathematician. In: Heiwood R.B. The Works of the Mind. — Chicago: University of Chicago Press, 1947; 180-196; также в кн.: [65], vol, IV, p. 2053-2068; Neumann J. von, Collected Works, vol. I, 1961, p. 1-9. [Русский перевод: Нейман Дж. фон. Математик. — Природа, 1983, №2, с. 88-95.]
65. Newman J.R. The World of Mathematics, 4 vols. — New York: Simon and Schuster, 1956,
66. Pierpont J. Mathematical Rigor Past and Present. — Amer. Math. Soc. Bulletin, 1928, 34, p. 23-52.
67. Poincaré H. The Foundations of Science. — Lancaster, Pa.; The Science Press, 1946,
68. Poincaré H. Last Thoughts. — New York: Dover Publications, 1963. [Неполный русский перевод (с французского) книг [67], [68] — см. книгу [1] в списке Дополнительной литературы]
69. Putman H. Is Logic Empirical? — Boston Studies in Philosophy of Science. 1969, p. 216-241.
70. Putnam H. Mathematics, Matter and Method, Philosophical Papers, vol. 1. — New York: Cambridge University Press, 1975.
71. Quine W.V. The Foundations of Mathematics. — Scientific American, Sept, 1964, p, 112-127.
72. Quîne W.V. From a Logical Point of View, 2nd ed. — Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1961.
73. Quine W.V. Paradox. — Scientific American, April 1962, p. 84-96.
74. Quine W.V. The Ways of Paradox and Other Essays. — New York: Random House, 1966.
75. Richmond D.E. The Theory of the Cheshire Cat. — Amer. Math. Month., 1934, 41, p. 361-368.
76. Robison A. Non-Standard Analysis, 2nd ed. — New York: North-Holland, 1974.
77. Rotman B., Kneebone G.T. The Theory of Sets and Transfinite Numbers. — London: Oldbourne, 1966.
78. Russell B. The Autobiography of Bertrand Russell: 1872 to World War I. — New York: Bantam Books, 1965.
79. Russell B. Introduction to Mathematical Philosophy. — London: George Allen & Unwin, 1919.
80. Russell B. Mysticism and Logic. — London: Longmans, Green, 1925.
81. Russell B. The Principles of Mathematics, 2nd ed. — London: George Allen & Unwin, 1937.
82. Schrodinger E. Nature and the Greeks. — New York: Cambridge University Press, 1954.
83. Sentilles D. A Bridge to Advanced Mathematics. — Baltimore: Williams & Wilkins, 1975.
84. Snapper E. What is Mathematics? — Amer. Math. Month., 1979, 86, p. 551-557.
85. Stone M. The Revolution in Mathematics. — Amer. Math. Month., 1961, 68, p. 715-734.
86. Tarski A. Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences, 2nd ed. — New York: Oxford University Press, 1946. [Русский перевод 1-го изд.: Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. — М.: ИЛ, 1948.]
87. Tarski A. Truth and Proof. — Scientific American, June 1969, p. 63-77.
88. Waisman F. Introduction to Mathematical Thinking. — New York: Harper & Row, 1959.
89. Wavre R. Is There a Crisis in Mathematics? — Amer. Math. Month., 1934, 41, p. 488-499.
90. Weil A. The Future of Mathematics. — Amer. Math. Month., 1950, 57, p. 295-306.
91. Weyl H. A Half-Century of Mathematics. — Amer. Math. Month., 1951, 58, 523-553. [Русский перевод: Вейль Г. Полвека математики. — M.: Знание, 1969.]
92. Weyl H. Mathematics and Logic. — Amer. Math. Month, 1946, 53, p. 2-13,
93. Weyl H. Philosophy of Mathematics and Natural Sciences. — Princeton: University Press, 1949. [Немецкий оригинал: Weyl H. Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaften. — München: Oldenberg, 1922; русский перевод (частичный): Вейль Г. О философии математики. — М.: Гостехиздат, 1934, с. 34-91; 2-е изд. доп. и перераб. München: Leibniz Verlag, 1950; русский перевод отрывков — в кн.: Прикладная математика (под ред. Э. Беккенбах). — М.: Мир, 1968, с. 309-361.]
94. White L.A., The Locus of Mathematical Reality: An Anthropological Footnote. — Philosophy of Science, 1947, 14, p. 289-303; vol. IV, p. 2348-2364.
95. Whitehead A.N., Russell В. Principia Mathematica, 3 vols. — New York: Cambridge University Press., 1st ed., 1910-1913; 2nd ed., 1925-1927.
96. Wigner E.P. The Unreasonable Effectiveness of Mathematics. — Corn. Pure and Appl. Math., 1960, 13, 1-14. [Русский перевод: Вигнер Е. Непостижимая эффективность математики в естественных науках. — В кн.: Вигнер Е. Этюды о симметрии. — М.: Мир, 1971, 182-198; также: УФН, т. 94, вып. 3. 1968, с. 535-546; в кн.: Проблемы современной математики. — М.: Знание, 1971, с. 22-33.]
97. Wilder R.L. Introduction to the Roundations of Mathematics, 2nd ed. — New York: John Wiley, 1965.
98. Wilder R.L. The Nature of Mathematical Proof. — Amer. Math., 1944, 51, p. 309-323.
99. Wilder R.L. The role of Axiomatic Method. — Amer. Math. Month., 1967, 74, p. 115-127.
100. Wilder R.L. The Role of Intuition. — Science, 1967, 156, p. 605-610.
Дополнительная литература
1. Пуанкаре А. О науке. — M.: Наука, 1983.
2. Бурбаки H. Теория множеств. — М.: Мир, 1965.
3. Лейбниц Г.В. Переписка с Кларком. — В кн.: Сочинения, т. 1. — М.: Мысль, 1982, с. 430-528.
4. Манин Ю.И. Математика и физика. — М.: Знание, 1979.
5. Ван дер Варден Б.Л. Пифагорейское учение о гармонии. — В кн.: Пробуждающаяся наука. — М.: Физматгиз, 1959.
6. Аристотель. Сочинения в 4-х томах. — М.: Мысль, 1976 (т. 1), 1981 (т. 3).
7. Платон. Сочинения в 3-х томах. Т. 3, ч. 1. — М.: Мысль, 1971.
8. Аристотель. Аналитики первая и вторая. — М.: Госполитиздат, 1952.
9. Юшкевич А.П. История математики в средние века. — М.: Физматгиз, 1961.
10. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. — М.: Наука, 1978.
11. Коперник Н. О вращениях небесных сфер. Серия «Классики науки». — М.: Наука, 1964.
12. Данилов Ю.А., Смородинский Я.А. Иоганн Кеплер: от «Мистерии» до «Гармонии». — УФН, 109, 1973, вып. 1, 175-209.
13. Паскаль Б. Письма к провинциалу, или Письма Людовика Монтальта к другу в провинцию и отцам иезуитам о морали и политике иезуитов. — Спб., 1898.
14. Декарт Р. Рассуждение о методе с приложениями. Серия «Классики науки». — М.: Наука, 1953.
15. Декарт Р. Правила для руководства ума. — М. — Л.: Соцэкгиз, 1936.
16. Декарт Р. Избранные произведения. — М.: Госполитиздат, 1950.
17. Галилей Г. Избранные труды в 2-х томах. Т. 2. — М.: Наука, 1964.
18. Кант И. Сочинения в 6-ти томах. — М.: Мысль, 1964 (т. 3), 1965 (т. 4), 1966 (т. 6).
19. Гюйгенс X. Трактат о свете. — М. — Л.: ОГИЗ, 1935.
20. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. Собрание трудов академика А.Н. Крылова. Т. 7. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1936.
21. Беркли Дж. Сочинения. — М.: Мысль, 1978.
22. Ньютон И. Оптика, или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света. — М.: Гостехиздат, 1954.
23. Бэкон Ф. Сочинения в 2-х томах. — М.: Мысль, 1977 (т. 1); 1978 (т. 2).
24. Об основаниях геометрии. Сб. классических работ по геометрии Лобачевского и развитию ее идей. — М. — Л.: Гостехиздат, 1956.
25. Начала Евклида. — М. — Л.: Гостехиздат, 1948 (книги 1—VI), 1949 (книги VII-X).
26. Бонола Р. Неевклидова геометрия. — Спб.: Общественная польза, 1910.
27. Каган В.Ф. Лобачевский. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
28. Каган В.Ф. Лобачевский и его геометрия. — М.: Гостехиздат, 1956, с. 193-194.
29. Больяи (Бойаи) Я. Appendix. Приложение, содержащее науку о пространстве, абсолютно истинную, не зависящую от истинности или ложности XI аксиомы Евклида, что a priori никогда решено быть не может, с прибавлением, к случаю ложности, геометрической квадратуры круга. — М. — Л.: Гостехиздат, 1950, 235 с.
30. Рашевский П.К. О догмате натурального ряда. — Успехи математических наук, 28, вып, 4 (172), 1973, с. 243-246.
31. Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 2. — М.; Наука, 1966.
32. Фейнберг Е.Л. Кибернетика, логика, искусство. — М.: Радио и связь, 1981.
33. Архимед. Сочинения. — М.: Физматгиз, 1962.
34. Диофант Александрийский. Арифметика и Книга о многоугольных числах. — М.: Наука, 1974; Башмакова И.Г. Диофант и диофантовы уравнения. — М.: Наука, 1972; Башмакова И.Г., Славутин И. История диофантова анализа от Диофанта до Ферма. — М.: Наука, 1984.
35. Бируни Абу Рейхан. Избранные произведения. Т. 2. — Ташкент: Фан, 1963.
36. Аль-Хорезми. Математические трактаты. — Ташкент: Фан, 1983.
37. Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми. — М.: Наука, 1983.
38. Кавальери Б. Геометрия, изложенная новым способом при помощи неделимых непрерывного, с приложением «опыта IV» о применении неделимых к алгебраическим степеням. — М. — Л.: Гостехиздат, 1940.
39. Кеплер И. Новая стереометрия винных бочек, преимущественно австрийских, как имеющих самую выгодную форму, и исключительно удобное употребление для них кубической линейки с присоединением дополнения к архимедовой стереометрии. — М. — Л.: Гостехиздат, 1935.
40. Eleckenstein S.О. Der Prioritätsstreit zwischen Leibnitz und Newton. — Basel: Birkhäuser, 1976.
41. Boyer C.B. The History of the Calculus and Its Conceptual Development. — N.Y.: Dover, 1959.
42. Baron M.E. The Origins of the Infinitesimal Calculus. — Oxford: Pergamon, 1969.
43. Priestley W.M. Calculus: An Historical Approach. — N.Y.: Springer, 1979.
44. Edwards C.H. The Historical Development of the Calculus. — N.Y.: Springer, 1979.
45. Карно Л. Размышления о метафизике исчисления бесконечно малых. — М. — Л.: Гостехиздат, 1933.
46. Дедекинд Р. Непрерывность и иррациональные числа. — Одесса: Матезис, 1923.
47. Дедекинд Р. Что такое числа и для. чего они служат. — Казань: Изд-во Императорского университета, 1905.
48. Делоне Б.Н. Элементарное доказательство непротиворечивости геометрии Лобачевского. — М.: Гостехиздат, 1956.
49. Яглом И.М. Аксиоматические обоснования евклидовой геометрии. В кн.: Новое в школьной математике. — М.: Знание, 1972, с. 40-63.
50. Гильберт Д. Основания геометрии. — М. — Л.: Гостехиздат, 1948.
51. Проблемы Гильберта. — М.: Наука, 1969.
52. Маркушевич А.И. Очерки по истории теории аналитических функций. — М. — Л.: Гостехиздат, 1951.
53. Даубен Д.-У. Георг Кантор и рождение теории трансфинитных множеств. — В мире науки, 1983, №8, с. 76-78.
54. Хаусдорф Ф. Теория множеств. — М. — Л.: Гостехиздат, 1937.
55. Alexandroff P.S., Hopf H. Topologie. — Berlin: Springer, 1935.
56. Медведев Φ.А. Ранняя история аксиомы выбора. — М.: Наука, 1982.
57. Уайтхед А.Н. Введение в математику. — Пгд.: Физика, 1916.
58. Калбертсон Дж.Т. Математика и логика цифровых устройств. — М.: Просвещение, 1965 (гл. V).
59. Лукасевич А. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. — М.: ИЛ, 1959.
60. Янг Ч. Эйнштейны и физика второй половины XX века. — Успехи физических наук, 132, вып. 1, 1980, с. 169-175.
61. Гейзенберг В. Смысл и значение красоты в точных науках. — Вопросы философии, 1979, №12, с. 49-60.
62. Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике. — М.: Мысль, 1965.
63. Новые идеи в математике. Сб. 10. — Пгд.: Образование, 1915.
64. Вейль Г. О философии математики. — М. — Л.: Гостехиздат, 1934.
65. Марков А.А. О логике конструктивной математики. — М.: Знание, 1974.
66. Тростников В.Н. Конструктивные процессы в математике. — М.: Наука.
67. Рейтинг А. Интуиционизм (введение). — М.: Мир, 1965.
68. Бурбаки Н. Очерки по истории математики. — М.: ИЛ, 1963.
69. Mandelbrot В. The Fractal Geometry of Nature. — San Francisco: Freeman, 1982.
70. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. — М.: Советское радио, 1970.
71. Драгалин А.Г. Математический интуиционизм (введение в теорию доказательств). — М.: Наука, 1979.
72. Генкин Л. О математической индукции. — М.: Физматгиз, 1962.
73. Клини С.К. Введение в математику. — М.: ИЛ, 1957.
74. Расева В., Сикорский Р. Математика метаматематики. — М.: Наука, 1972.
75. Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики. Т. I. Логические исчисления и формализация арифметики; т. II. Теория доказательств. — М.: Наука, 1979, 1982.
76. Halmos P.R. Naive Set Theory. — Ν.Υ.: Springer, 1977.
77. Ньютон И. Замечания на книгу пророка Даниила и апокалипсис св. Иоанна. — Пгр.: изд. Суворина, 1915.
78. Fraenkel Α.. Bernays P. Axiomatic set theory. — Amsterdam: North-Holland, 1958.
79. Куратовский К., Мостовский А. Теория множеств. — M.: Мир, 1970.
80. Mostowski A. Constructible Sets with Applications. — Amsterdam: North-Holland, Warszawa: PWN, 1969.
61. Манин Ю.И. Доказуемое и недоказуемое. — M.: Советское радио, 1979; Вычислимое и невычислимое. — М.: Советское радио, 1980.
82. Манин Ю.И. Теорема Гёделя. — Природа, 1975, №12, с. 80-87.
83. Успенский В.А. Теорема Гёделя о неполноте. — М.: Наука, 1981.
84. Линдон Р. Заметки по логике. — М.: Мир, 1968.
85. Успенский В.А. Нестандартный, или неархимедов, анализ. — М.: Знание, 1983.
86. Девис М. Прикладной нестандартный анализ. — М.: Мир, 1980.
87. Lutz R., Goze M. Nonstandard Analysis: A Practucal Guide with Applications. — N.Y.: Springer, 1981.
88. Варпаховский Ф.Л., Колмогоров А.Н. О решении десятой проблемы Гильберта. — Квант, 1970, №7, с. 38-44.
89. Mathematical Development Arising from Hubert. Problems. — Providence (R.I.): American Mathematical Society, 1976.
90. Коэн П.Дж. Теория множеств и континуум-гипотеза. — М.: Мир, 1969.
91. Манин Ю.И. Проблема континуума. — В кн.: Современные проблемы математики, т. 5. — М.: ВИНИТИ, с. 5-72.
92. Дьедонне Ж. Линейная алгебра и элементарная геометрия. — М.: Наука, 1972.
93. Фесрерман С. Числовые системы. — М.: Наука, 1971.
94. Берс Л. Математический анализ, т. I. — М.: Высшая школа, 1975.
95. Keister H.J. Elementary Calculus. — Boston: Weber and Schmidt (Prindle), 1976.
96. Sullivan K. The Teaching of Elementary Calculus Using the Nonstandard Analysis Approach. — American Mathematical Monthly, 1976, vol. 83, №5, с. 370-375.
97. Блехман И.И., Мышкис А.Д., Пановко Я.Г. Прикладная математика: предмет, логика, особенности подходов. — Киев: Наукова думка, 1976; Механика и прикладная математика (логика и особенности приложений математики). — М.: Наука, 1983.
98. Клейн Ф. Лекции о развитии математики в XIX в. — М. — Л.: Гостехиздат, 1937.
99. Хинчин А.Я. Великая теорема Ферма. — М. — Л.: Гостехиздат, 1932; Постников М.М. Теорема Ферма. — М.: Наука, 1978; Эдварде Г. Последняя теорема Ферма. — М.: Мир, 1980.
100. Полиа Г., Сегё Г. Задачи и теоремы из анализа, т. 1. — М.: Гостехиздат, 1956.
101. Thom R. Stabilité structurelle et morphogenèse. — N.Y.: Benjamin, 1972; Thom K. Die Katastrophen Theorie: Gegenwätiger Standard Aussichten. — In: Mathematiker über Mathematik (heransgegeben von M. Otte). — Heidelberg: Springer, 1974, S. 124-134; Арнольд В.И. Теория катастроф. — M.: изд-во МГУ, 1983; Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и ее применение. — М.: Мир, 1980; Гилмер Р. Прикладная теория катастроф, тт. 1, 2. — М.: Мир, 1984.
102. Том Р. Топология и лингвистика. — Успехи мат. наук, т. 30, 1975, №1(181), с. 199-221; Thom R. Topological models in biology. — Topology, №8, 1969, p. 313-335.
103. Яглом И.М. Математические структуры и математическое моделирование. — М.: Советское радио, 1980.
104. Курант Р., Гильберт Д. Методы математической физики, т. 1. — М. — Л.: Гостехиздат, 1933.
105. Нейман фон Дж. Математик. — Природа, 1983, №2, 88-95.
106. Риман Б. О гипотезах, лежащих в основании математики. В кн.: Сочинения. — М. — Л.: Гостехиздат, 1948, с. 279-293; 500-526 или в кн.: Об основаниях геометрии. — М.: Гостехиздат, 1956, с. 309-341.
107. Клейн Ф. Сравнительное обозрение новейших геометрических учений (Эрлангенская программа). — В кн.: Об основаниях геометрии. — М.: Гостехиздат, 1956, с. 399-434.
108. Яглом И.М. Геометрические преобразования I-II. — М.: Гостехиздат, 3955-1956; Введения к чч. 1, 2 и 3; Принцип относительности Галилея и неевклидова геометрия. — М.: Наука, 1969, § 1.
109. Овсянников Л.В. Групповой анализ дифференциальных уравнений, — М.: Наука, 1978.
110. Харди Г.X. Курс чистой математики. — М.: ИЛ, 1949.
111. Ли Ч. Введение в популяционную генетику. — М.: Мир, 1978.
112. Бэрликэмп Э. Алгебраическая теория кодирования. — М.: Мир, 1971; Касами Т. и др. Теория кодирования. — М.: Мир, 1978; Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. — М.: Мир, 1976; Мак Вильямс Ф., Слоэн Н.Дж. Теория кодов, исправляющих ошибки. — М.: Связь, 1979.
113. Livinson N. Coding theory: a counter-example to G.H. Hardy's conception of applied mathematics. — American Math. Monthly, v. 77, 1970, №3, p. 249-258.
114. Минеев В.П. Топологические объекты в нематических жидких кристаллах. Приложение к кн.: Болтянский В.Г., Ефремович В.А. Наглядная топология. — М.: Наука, 1982, с. 148-158; Воловик Г.Е., Минеев В.П. Физика и топология. — М.: Знание, 1980.
115. Дьедонне Ж. Современное развитие математики. — Сб. переводов «Математика», 1966, т. 10, №3, с. 3-11.
116. Дайсон Ф. Дж. Упущенные возможности. — Успехи математических наук, 1980, т. 35, №1 (211), с. 171-183 (и комментарии переводчика: с. 183-191).
117. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. т. 1. — M. — Л.: ОНТИ, 1935.
118. Курант Р., Робинсон Г. Что таксе математика? — М.: Просвещение, 1967.
119. Ларошфуко Ф. де. Максимы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. де. Характеры. — М.: Художественная литература, 1974.
120. Popper K.R. The Logic of Scientific Discovery. — London, 1959. (Неполный русский перевод в кн.: Попер К. Логика и рост научного знания. — M.: Прогресс, 1983, с. 33-235.
121. Weyl H. Gruppentheorie und Quantenmechanik. — Leipzig: Leubner, 1928. (Существуют более поздние издания и переводы на другие языки.)
122. Weyl H. Raut, Zeit, Materie. — Berlin: Springer, 1918. (Существуют более поздние издания и переводы на другие языки.)
123. Бергман П. Единые теории поля. — УФН, т. 132, вып. 1, 1980, с. 177-190.
124. Яглом И.М. Герман Вейль. — М.: Знание, 1967.
125. Карри X.Б. Основания математической логики. — М.: Мир, 1969.
126. Эйнштейн А. Собрание научных трудов. — М.: Наука, 1965 (т. 1), 1966 (т. 2), 1967 (т. 4).
127. Борн М. Эйнштейновская теория относительности. — М.: Мир, 1964.
128. Эйнштейн А. Основы общей теории относительности. — В кн.: [126], т. 1 с. 452-504. [См. также: Лоренц Г. и др. Принцип Л.: ОНТИ, 1935, с. 231-305.]
129. Дайсон Ф. Будущее воли и будущее судьбы. — Природа, 1982, №8, с. 60-70.
130. Майстров Л.Е. Развитие понятия вероятности. — М.: Наука, 1980.
131. Тутубалин В.Н. Границы применимости (вероятностно-статистические методы и их возможности). — М.: Знание, 1977.
132. Шредингер Э. Что такое жизнь с точки зрения физики? — М.: ИЛ, 1947.
133. Вигнер Ю. Этюды о симметрии. — М.: Мир, 1971.
134. Дайсон Ф. Математика и физика. — УФН, т. 85, вып. 2, 1965, с. 351-364; Математика в физических науках. — В кн. [137], с. 110-127.
135. Вайнберг С. Первые три минуты. — М.: Энергоиздат, 1981; Силк Дж. Большой взрыв. — М.: Мир, 1982; Фундаментальная структура материи (под ред. Дж. Малви). — М.: Мир, 1984.
136. Долгов А.Д., Зельдович Я.Б. Вещество и антивещество во Вселенной. — Природа, 1982, №8, с. 33-45.
137. Математика в современном мире. — М.: Мир, 1967.
138. Клайн М. Логика против педагогики. — В кн.: Математика (проблемы преподавания математики в вузах), вып. 3. — М.: Высшая школа, 1973.
139. Ньютон И. Всеобщая арифметика. — М. — Л.: Ростехиздат, 1948.
140. Ньютон И. Математические работы. — М. — Л.: ОНТИ, 1934.
141. Лейбниц Г.В. Избранные отрывки из математических сочинений. — УФН. 1948, т. 3, вып. 1(23), с. 165-204.
Примечания
1
Ныне этот журнал переводится на русский язык и публикуется издательством «Мир» под названием «В мире науки».
(обратно)2
Здесь и далее ссылки на литературу, помеченные звездочкой, относятся к авторскому списку «Избранная литература».
(обратно)3
Перечисляя книги Клайна, я обхожу здесь вниманием пользующиеся (возможно, даже чрезмерно громкой) известностью его недавние сочинения «Как складывает Джонни» и «Как учит учитель», содержащие острую критику современной реформы преподавания математики в средней школе и написанные с присущими этому автору темпераментом и полемическим задором (см. также переведенную ранее на русский язык интересную, но, пожалуй, чрезмерно заостренную статью [138]).
(обратно)4
Трудно не процитировать здесь столь почитаемого Клайном Германа Вейля: «…Процесс познания начинается, так сказать, с середины и далее развивается не только по восходящей, но и по нисходящей линии, теряясь в неизвестности. Наша задача заключается в том, чтобы постараться в обоих направлениях пробиться сквозь туман неведомого, хотя, конечно, представление о том, что колоссальный слон науки, несущий на себе груз истины, стоит на каком-то абсолютном фундаменте, до которого человек может докопаться, является не более чем легендой» (из статьи «Феликс Клейн и его место в математической современности»; Felix Klein. Stellung in der mathematischen Gegenwart. Die Naturwissenschaften, Bd 18, 1930, S. 4-11; Gesammelte Abhandlungen, Bd, 3. — Berlin: Springer-Verlag, 1968, S. 292-299).
(обратно)5
Пуанкаре А. О науке. — М.: Наука, 1983, с. 294.
(обратно)6
Относящийся к нашему времени выразительный пример подобного отношения к математике приводит в своей статье «Эйнштейн и физика второй половины XX века» [60] выдающийся современный физик, лауреат Нобелевской премии Ч. Янг (Ян Чжэиьнин). Он рассказывает, как, придя к своему старому учителю Чжень Шеншеню, ныне профессору Калифорнийского университета в Беркли и одному из крупнейших современных геометров, он выразил удивление тем, как быстро понадобились физикам идущие в значительной степени от Чженя так называемые связности на расслоениях, придуманные математиками вне всякой связи с физической реальностью. На это Чжень ответил ему: «Но ведь никак нельзя сказать, что это мы, математики, выдумали связности на расслоениях — ясно, что они существовали и до нас».
(обратно)7
С этой точки зрения характерно, что Предложение 1 евклидовых «Начал» содержит построение равностороннего треугольника, что единственно оправдывает данное несколько ранее определение такого треугольника (ср. [25], с. 13, 15-16).
(обратно)8
Так, например, еще Платон весьма высоко ценил логический метод «доказательства от противного», при котором установление истинности предложения p начинается с предпосылки «пусть p неверно», и из этой предпосылки выводится противоречие [так, пифагорейское доказательство иррациональности √2 (в наших обозначениях) начинается с утверждения: «Пусть √2 = m/n — рационально…»]. Общую форму этому методу придал, как будто, основатель так называемой элейской школы в древнегреческой философии Парменид (V в. до н.э.), глубоко почитавшийся Платоном (ему посвящен диалог Платона «Парменид»).
(обратно)9
Укажем, однако, что статут «временно поселившихся лиц», или метеков, имели в Афинах периода их расцвета и многие выдающиеся ученые — назовем хотя бы имена Аристотеля из Стагира, Евдокса Родосского, Демокрита Абдерского, Гиппократа Хиосского (математик) или Гиппократа Косского (врач).
(обратно)10
Во всяком случае, Архимед был тесно связан с александрийскими учеными, в частности, хорошо известна его дружба (и переписка) с Эратосфеном.
(обратно)11
От греческого слова μεγιση — величайший; это название хорошо характеризует отношение арабских ученых к замечательному произведению Птолемея.
(обратно)12
Возможно, что вариант «Катоптрики», которым мы располагаем сегодня, в действительности представляет собой компиляцию работ нескольких авторов, в том числе и Евклида.
(обратно)13
В 529 г. византийский император Юстиниан приказал закрыть, как языческую, платоновскую Академию, существовавшую около 800 лет.
(обратно)14
Подробнее о достижениях арабских и индийских математиков рассказывается в гл. V.
(обратно)15
Аристотель, c его чисто умозрительным подходом к физическим задачам, склонен был считать, что тяжелое тело, брошенное под углом к земной поверхности, движется по «простейшим линиям», т.е. описывает отрезок прямой, переходящий затем в дугу окружности; ясно, что столь грубое приближение к реальности никак не могло быть достаточным для артиллерийской практики.
(обратно)16
Позицию Аристарха в этом вопросе разделял и столь глубоко ценимый всеми учеными эпохи Возрождения Архимед Сиракузский.
(обратно)17
Имеются в виду так называемые платоновы тела — правильные тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр, икосаэдр и додекаэдр. — Ред.
(обратно)18
В то время как математика и философия древних греков были метафизичны — они ограничивались рассмотрением застывших состояний и игнорировали (текущие) процессы, — картезианская философия (этот термин идет от латинизированной формы фамилии Декарта — Картезий) была диалектична, что и сделало возможным возникновение дифференциального и интегрального исчислений.
(обратно)19
Рационалисты Декарт и Лейбниц были глубоко верующими людьми, но в их философских и научных системах богу отводилось весьма ограниченное место. В частности, Декарт (а вслед за ним в еще более отчетливой форме Лейбниц) считал бога «гарантом истинности логики», так как ее аксиомы (как и любые другие математические аксиомы!) не доказываются, а принимаются на веру.
(обратно)20
Католический монах Марен Мерсенн (1588-1648) не был особенно крупным ученым (хоть его имя сохранилось в современной теории чисел); однако организующая роль его в науке XVII в. была огромной: в эту эпоху отсутствия научных журналов Мерсенн был своего рода центром оживленной переписки ученых и у него всегда можно было получить информацию о текущих успехах математиков разных стран.
(обратно)21
В этом отношении позиции рационалистов Декарта и Лейбница, с одной стороны, и мистика Ньютона, с другой, были принципиально различными (ср. гл. III).
(обратно)22
Заметим, что древнегреческие ученые классического и эллинистического периодов, следуя метафизическим установкам элейской школы и Аристотеля стремились полностью изгнать из геометрии движение: если сам перечень доказанных Фалесом (или его последователями) теорем, приводимый последующими авторами, свидетельствует об определяющей роли соображений симметрии и движений в дедуктивной геометрической системе ионийцев, то у Евклида использование движений в геометрии было старательно сведено к возможному минимуму.
(обратно)23
Слово «геометрия» служило в античный период синонимом слова «математика» еще и в силу специфических условий развития науки в Древней Греции: ведь, не имея рациональной системы счисления и правил записи чисел (не говоря уж об алгебраической символике!), греки даже алгебраические теоремы и понятия часто вынуждены были излагать на геометрическом языке. Величайший авторитет греческой науки привел к тому, что в течение тысячелетий, когда первоначальные причины отождествления геометрии со всей математикой уже отпали, люди по-прежнему зачастую именовали математику геометрией (ср. также ниже прим. {26}).
(обратно)24
Декарт также преобразовал и модернизировал алгебраическую символику, придав математическому языку ту форму, которой придерживались элементарные учебники чуть ли не до самых последних десятилетий; это демократизировало всю математическую науку и облегчило приобщение к ней большего количества людей.
(обратно)25
Характерно, что в последние годы своей жизни Паскаль (как позже и Ньютон) полностью оставил науку, целиком обратившись к теологии и моральной философии. Нам кажется, что равный вклад, внесенный в науку XVII в. рационалистами (Галилей, Декарт, Гюйгенс, Лейбниц), верящими во всемогущество человеческого разума, и мистиками (Кеплер, Паскаль, Ньютон), более полагающимися на озарение, чем на строгую логику, напоминает об ограниченности формально-логического подхода к природе и о существовании двух взаимно-дополнительных путей постижения истины: дискурсивного и интуитивного (по этому поводу см. например, [32]).
(обратно)26
Сегодня нас может удивить, что Галилей считал «буквами» того языка, на котором записаны все законы природы, «треугольники, окружности и другие геометрические фигуры». Но ведь единственной математикой, доступной Галилею, была геометрия древних греков, а до открытия дифференциального и интегрального исчисления (в значительной степени стимулированного трудами Галилея) и возникновения концепции дифференциального уравнения оставалось еще больше с полвека.
(обратно)27
В XIII в. решающее значение эксперимента для точного знания постулировал английский монах-францисканец Роджер Бэкон (ок. 1214-1299), взгляды которого, однако, полностью противоречили мировоззрению его времени, что определило трагический характер жизни Р. Бэкона.
(обратно)28
Кант И. Сочинения в 6-ти томах, т. 6. — М.: Мысль, 1966, с. 59.
(обратно)29
Резкая полемика между Ньютоном и Гуком по поводу приоритета в открытии закона (1) всемирного тяготения оставляет столь тягостное впечатление еще потому, что целиком относящийся по своей научной идеологии к «доньютоновскому» периоду великий ученый Гук так, видимо, и не понял, что его претензии на это выдающееся открытие были неосновательными. Гук выписал формулу (1), исходя из чисто умозрительных соображений: «ясно», что гравитационная сила, создаваемая массой M, должна быть пропорциональна M; с другой стороны, поскольку на расстоянии r от массы эта сила равномерно распространяется по сфере площади 4πr2, то сила в каждой точке этой сферы должна быть обратно пропорциональна r2. То, что эти чисто эвристические соображения могут лишь подсказать ответ, но никак не доказать его, Гуку понять было не дано.
(обратно)30
Надо иметь в виду, что под «натуральной философией природы» во времена Ньютона понимали физику, так что латинское название великого труда Ньютона можно перевести как «Математические основы физики».
(обратно)31
Напомним, что М. Фарадей (1791-1867) и даже Д.К. Максвелл (1831-1879) в аналогичной ситуации, а именно в своем истолковании электромагнитных явлений, исходили из механистических объяснений сил притяжения и отталкивания заряженных тел, опирающихся на фиктивные «силовые трубки» в (несуществующем) эфире, что исключало необходимость апелляция к дальнодействию. [Впрочем, эти ошибочные объяснения физической природы явлений не помешали названым великим ученым пройти к правильным выводам, в частности к знаменитым уравнениям Максвелла, дающим исчерпывающее количественное описание рассматриваемых феноменов.]
(обратно)32
Классик английской литературы С. Джонсон (1709-1784) более всего прославился как составитель первого научного «Словаря английского языка» (1755), ввиду чего его часто называют «великим лексикографом».
(обратно)33
В «Оптике» [22] Ньютон все же обратился к физическим объяснениям; однако, как мы знаем теперь, они не были адекватны реальным процессам и, кроме того, не охватывали весь комплекс оптических явлений.
(обратно)34
Оживленная дискуссия между Д. Бернулли, Эйлером и Д'Аламбером по поводу исследования колебаний струны (в которой каждый из этих трех выдающихся ученых был несогласен с двумя другими) связана с тем, что в XVIII в. не было еще полной ясности относительно определения понятия функции: дискуссия весьма способствовала внесению ясности в этот важный вопрос.
(обратно)35
Ясно, что создатели гидродинамики Эйлер и Д'Аламбер ничего не знали о так называемых турбулентных течениях с нерегулярным, случайным характером движения отдельных частиц жидкости (для создания теории таких течений тогда еще не существовало подходящего математического аппарата); игнорирование этого обстоятельства приводило их даже к некоторым парадоксам, в то время неразрешимым.
(обратно)36
В расчетах, относящихся к большим областям земном поверхности (каковой можно считать и княжество Ганновер), приходится учитывать отличие поверхности Земля от плоскости; и обдумывая это обстоятельство, Гаусс пришел к глубокой концепции внутренней геометрии поверхности, задаваемой ее метрикой, т.е. измеряемым по поверхности расстояниям. Соответствующая теория была изложена Гауссом в обширном труде «Общие исследования о кривых поверхностях» [Disquesitiones générales circa superficies curvas, 1828; русский перевод см. ([24], с. 123-161)], давно считающемся математической классикой.
(обратно)37
Следует сказать, что наряду с определенным сходством между Гауссом и Коши существовало и резкое различие, определившее психологическое «отталкивание» этих выдающихся ученых. Бесконечно требовательный к себе, Гаусс публиковал сравнительно мало работ. Напротив, Коши публиковал свои работы, порой не отделывая их достаточно тщательно, так что в его книгах и статьях нередко встречались ошибки (обычно легко исправимые, но иногда и более серьезные), крайне раздражавшие Гаусса.
(обратно)38
Андроник Родосский, выпустивший в I в. до н.э. собрание сочинений Аристотеля, назвал «Органоном» свод работ последнего по логике и строению наук, написанных независимо одна от другой и, видимо, в разное время; названием «Новый органон» Бэкон подчеркивал и близость свою к Аристотелю (по теме), и резкое различие (по установкам).
(обратно)39
Мистик Ньютон был уверен (без всяких оснований, разумеется, — ср. сказанное выше о так называемой «проблеме трех тел») в неустойчивости Солнечной системы, тогда как в XVIII в. атеист и крайний рационалист Лаплас столь же безосновательно утверждал, что он может доказать ее устойчивость.
(обратно)40
Это принадлежащее (или приписываемое) Лапласу высказывание выразительно демонстрирует успехи, которые к тому времени сделал «галилеев подход» к естественнонаучным проблемам (математическая формула, а не физическое описание). Ньютону бог был необходим для того, чтобы объяснить гравитационное «дальнодействие» (можно полагать, что паскалевское «определение» бога: «сфера, центр которой находится всюду, а периферия нигде», полностью снимающее вопрос об «агенте», передающем гравитационное воздействие, было достаточно близко Ньютону); именно этот «теологический» характер теории Ньютона делал ее неприемлемой для рационалистов Лейбница и Гюйгенса. Лаплас же полностью принял завет Галилея; никогда не спрашивать «как?», если мы можем ответить на вопрос «на сколько?»; поэтому для него бог в ньютоновской системе мира оказался уже вовсе ненужным.
(обратно)41
Здесь имеется в веду, что в более полной (и совершенной) трактовке принципа наименьшего действия и иных вариационных принципов механики и физики речь идет не о наименьшем, а об «экстремальном» (т.е., наименьшем или наибольшем) значении рассматриваемой величины.
(обратно)42
Не особенно эрудированному в области геометрии, но глубоко мыслящему Канту были впрочем, свойственны и глубоко нетривиальные прозрения. Так, в 1846 г. он писал, что трехмерность нашего пространства вытекает из характера закона всемирного тяготения Ньютона; это совершенно верно, но было строго доказано лишь много позже. Далее Кант утверждал, что из другого закона притяжения сил вытекала бы иная структура пространства, иное число измерений, причем если иные пространства возможны, то весьма вероятно, что бог их где-то действительно разместил.
(обратно)43
Понятия пространства, времени и геометрии Кант считал априорными, заранее вложенными в наш разум и не подлежащими критике или замене какими-либо иными представлениями; высокий авторитет Канта закрепил эти ложные установки. Весьма вероятно, что именно нежелание вступать в конфликт с позицией столь высокочтимого в Германии философа побудили Гаусса не только воздержаться от публикация своих открытий в области неевклидовой геометрии, но и категорически запретить знающим об этом друзьям рассказывать кому-либо об его истинных воззрениях.
(обратно)44
Истории проблематики, связанной с пятым постулатом Евклида, посвящена, в частности, книга Роберто Бонолы «Неевклидова геометрия», впервые вышедшая в 1906 г. на итальянском языке. Английский перевод: Bonola R. Non-euclidean geometry. — N.Y. Dover Publ., 1955 ([26]; см. также [27]).
(обратно)45
Приводимое ниже описание воспроизводит схему рассуждений Саккери с небольшими изменениями. [В частности, за исходный пункт своих рассуждений Саккери — как позже и Ламберт — принял не аксиому Плейфера, а предположение, равносильное утверждению о равенстве суммы углов треугольника 180°; в опровержение этого предположения утверждалось, что сумма углов треугольника меньше (соответственно больше) 180°. — Ред.]
(обратно)46
Аналогичную мысль в свое время высказывал, правда мимоходом, и Ньютон, но на нее не обратили внимания.
(обратно)47
Окончательного признания возможности неевклидовой геометрии у Ламберта все же не было; по-видимому, впервые решились на этот шаг упоминаемые ниже Ф.К. Швейкарт и его племянник Ф.А. Тауринус. Однако Ламберт высказал провидческую мысль о том, что неевклидова геометрия должна была бы выполняться на сфере мнимого радиуса, если бы такая сфера существовала; впоследствии эта, в то время казавшаяся бессодержательной, идея была реализована даже несколькими различными путями.
(обратно)48
Книга Tentamen вышла в свет в 1832 г., однако уже в 1831 г. Я. Бойаи имел на руках оттиски своего Приложения (Appendix) к книге, один из которых он сразу же отправил Гауссу. Впрочем, Гаусс не получил этой работы и ознакомился с ней, лишь прочитав экземпляр книги своего друга Фаркаша Бойаи.
(обратно)49
Саккери твердо считал, что доказал 5-й постулат Евклида; поэтому его никак нельзя считать создателем неевклидовой геометрии. Клюгеля и Ламберта в том контексте, в каком упоминает их автор, уместнее заменить Швейкартом и Тауринусом (ср. прим. {47}); однако малочисленность их публикаций на эту тему, которую они вскоре оставили (Ф.К. Швейкарт вообще был по специальности юристом, а не математиком), делает сомнительным их приоритет в создании неевклидовой геометрии. Более основательна стандартная точка зрения, приписывающая это выдающееся открытие Лобачевскому [первый публичный доклад на эту тему (1826); первая публикация (1829-1830)], Бойаи (явно независимая от Лобачевского публикация 1831-1832 гг.) и Гауссу.
(обратно)50
И даже никакими экспериментами тоже; утверждение о существовании одной или многих прямых, проходящих через точку P и не пересекающих AB, апеллирует к представлению о всем (бесконечном!) пространстве и потому непроверяемо; опыты же с измерением суммы углов треугольника в принципе могут помочь установить отличие этой суммы от 180°, но никогда — равенство 180°; ведь всегда можно опасаться, что полученное нами значение столь близко к 180° лишь потому, что выбранный треугольник слишком мал.
(обратно)51
Лобачевский и Гаусс независимо осознали, что геометрия реального (физического) пространства может быть как евклидовой, так и неевклидовой. (Бойаи, заинтересованного в первую очередь в, так сказать, «логическом статусе» новой геометрии, эта постановка вопроса занимала меньше.)
(обратно)52
Ее чаще называют сферической — трехмерную сферическую (или удвоенную эллиптическую) геометрию можно трактовать как геометрию (трехмерной) сферической поверхности шара четырехмерного евклидова пространства.
(обратно)53
Впоследствии Феликс Клейн рассмотрел еще одну простую неевклидову геометрию, родственную удвоенной эллиптической геометрии, но отличающуюся от нее тем, что здесь уже любые две прямые пересекаются в одной точке. Клейн назвал такую геометрию просто эллиптической. [Риман, который рассматривал строение геометрий лишь в «малом», в окрестности одной точки пространства, не ставил вопроса о глобальной структуре введенных им пространств; именно это и позволяет — как весьма часто делают — считать его создателем и эллиптической геометрии. — Ред.]
(обратно)54
Хорошо известно, как страдал Лобачевский от непризнания его работ в официальных кругах, в частности в Российской академии наук; не получил никакого признания и Appendix Я. Бойаи. Характерно также, что еще в 1869-1870 гг. видный французский математик, академик Жозеф Бертран (1822-1900) печатал в «Докладах» Парижской академии наук свои «опровержения» неевклидовой геометрии, к которым он относился с полной серьезностью.
(обратно)55
Типичная для 2-й половины XX в. «арифметизация математики», попытка построить все математические дисциплины на, казалось бы, незыблемом фундаменте арифметики, обычно связывается с главой берлинской математической школы Карлом Вейерштрассом (1815-1897) и другими берлинскими математиками [Леопольдом Кронекером (1823-1891), Георгом Фробениусом (1849-1917), Эрнстом Куммером (1810-1893) и др.].
(обратно)56
И даже ранее: векторный характер перемещений, скоростей, сил был по существу знаком еще античным ученым; само это представление, как и «правило параллелограмма» сложения векторов, сложилось еще в школе Аристотеля; широко использовал это представление и Архимед.
(обратно)57
В наши дни термин «гиперкомплексные числа» все более вытесняется (странным) термином алгебра: под этим словом понимают как целую ветвь математики, так и, в более узком смысле, совокупность гиперкомплексных чисел определенного рода.
(обратно)58
Проективная геометрия занимается изучением свойств, общих для всех фигур, получающихся при проектировании одной фигуры на различные плоскости. Так, если держать круг перед ярким фонарем, то он будет отбрасывать тень на экран или на стену. Форма тени будет изменяться в зависимости от наклона круга. Тем не менее окружность и контуры теней (эллипсы, гиперболы, параболы) обладают общими геометрическими свойствами.
(обратно)59
Математический вариант теории электромагнитного поля был создан Дж.К. Максвеллом, который, по выражению Р. Милликена, «облек плебейски обнаженные представления Фарадея в аристократические одежды математики». [Создатель описательной теории электромагнетизма, самоучка М. Фарадей, весьма далекий от математики, был, кстати сказать, одним из немногих физиков, кто сразу же высоко оценил первые публикации Максвелла.]
(обратно)60
Платон делил Вселенную на «мир видимый», куда относится все реально существующее и «мир умопостижимый», но не видимый и не осязаемый, к которому он относил, в частности, математику и искусство [см., например, «Государство» Платона ([7], с. 317 и далее)].
(обратно)61
Как мы уже отмечали, Евклид, следуя математическим установкам Аристотеля, пытался обойтись в геометрии без всякого использования движений (что ему, кстати сказать, полностью так и не удалось).
(обратно)62
Любое нечетное число представимо в виде 2n + 1, где n — некоторое целое число. Квадрат нечетного числа (2n + 1)2 = 4n2 + 4n + 1 = 2(2n2 + 2n) + 1 — нечетное число.
(обратно)63
Своеобразным отражением этого является, в частности, тот факт, что в «Началах» так называемый алгоритм Евклида в одинаковых выражениях описывается два раза: один раз — для чисел и второй раз — для отрезков.
(обратно)64
Возможно, эту формулу знал еще Архимед. — Ред.
(обратно)65
За единицу площади здесь принимается квадрат со стороной, равной единице длины. — Ред.
(обратно)66
Формулы для решения в целых числах «пифагорова уравнения» x2 + y2 = z2 обычно приписываются Платону, но реально они, безусловно, были известны ранее, скажем в школе пифагорейцев. Выдающийся знаток вавилонской математики, ученик Д. Гильберта Отто Нейгебауэр (р. 1899) предположил даже, что эти формулы (разумеется, без строго логического их обоснования) были известны еще в древнем Вавилоне, ибо иначе становится совершенно загадочной обнаруженная Нейгебауэром древневавилонская клинописная глиняная табличка, содержащая список ряда первых решений этого уравнения.
(обратно)67
Диофантовым анализом (см. по этому поводу: Башмакова и Славутин [34]) обычно называют теорию решений неопределенных уравнений (т.е. уравнений, содержащих более одного переменного) в целых числах, тогда как Диофанта интересовала родственная проблема отыскания рациональных решений подобных уравнений.
(обратно)68
Почти одновременно с шотландцем Джоном Непером и независимо от него к идее логарифмов пришел швейцарский часовщик Иобст Бюрги (1552-1632).
(обратно)69
Теория Евдокса — Евклида содержала почти безупречное определение иррациональных чисел (которым придавалось обличие отношений отрезков) и условий их равенства — но, разумеется, проблемы логического обоснования действий над иррациональными числами здесь не были доведены до того уровня, который приобрели они в математике 2-й половины XIX в.
(обратно)70
Любопытно, что открытая Декартом и по сей день сохранившая его имя кривая, описываемая уравнением x3 + y3 − 3xy = 0, ныне рисуется вовсе не так, как это делал Декарт, считавший, что x и y должны быть только положительными; при этом мы по-прежнему называем эту кривую «декартов лист», хотя, если не ограничиваться одними лишь положительными значениями абсциссы и ординаты, рассматриваемая кривая утрачивает форму листа, какую она имела на чертежах Декарта.
(обратно)71
В этой связи уместно вспомнить строки из У.Г. Одена:
Минус на минус — всегда только плюс. Отчего так бывает, сказать не берусь. (обратно)72
Так называемая формула Кардано для корня (точнее, для трех корней) кубического уравнения x3 + px + q = 0 (найдена она была несколько раньше, но опубликована впервые в «Великом искусстве» Кардано, который, впрочем, и не претендовал здесь на приоритет) имеет вид:
при этом если все три корня уравнения являются вещественными (неприводимый случай решения рассматриваемого уравнения), то (q/2)2 + (p/3)3 < 0 — и правильный ответ можно получить из этой формулы лишь при умении извлекать кубические корни из комплексных чисел (как это сделать, впервые объяснил Р. Бомбелли).
(обратно)73
Характерно, что при всей глубине и тонкости мысли, отражением которых явились статьи «Предел» и «Дифференциал» в знаменитой «Энциклопедии» (по существу впервые обосновавшие математический анализ почти на уровне построений Огюстена Коши) или статья «Размерность» (впервые провозгласившая, что мы живем в четырехмерном мире: три измерения — пространственные, четвертое — временное), к вопросу о введении в математику отрицательных чисел Д'Аламбер подходил с большой робостью, а комплексные числа вообще полностью игнорировал.
(обратно)74
Эйлер использует здесь так называемую тригонометрическую, или полярную, форму комплексного числа; здесь ρ = √(x2 + y2), φ — угол, образуемый с положительным направлением оси x отрезком, проведенным из начала координат в точку x + iy (при y = 0, угол φ также равен 0). При этом x + iy = ρ(cos φ + ί sin φ) = ρeiφ.
(обратно)75
Впрочем, многие современные математики, скажем Жан Дьедонне (род. в 1906 г.), возражают и против традиционного употребления термина аналитическая геометрия, придавая ему смысл, логически вытекающий из современного понимания термина алгебраическая геометрия (алгебраическая и аналитическая геометрия по Дьедонне — это учение об алгебраических, соответственно аналитических многообразиях в многомерном пространстве); поэтому созданную Декартом и Ферма область математики следовало бы, пожалуй, называть координатной геометрией.
(обратно)76
Недворянин Жиль Персон называл себя «де Роберваль» по названию деревни, из которой он был родом, и вошел в историю науки именно под последним именем.
(обратно)77
Идущее от Ферма понятие дифференциала функции, равно как и утверждение о том, что в точках максимума или минимума функции ее дифференциал (а, значит, и производная) обращается в нуль (это утверждение сегодня часто называют теоремой Ферма), были даны им лишь для конкретных примеров функций.
(обратно)78
Обзор этих работ см. в кн.: Cajori F. A History of the Conceptions of Limits and Fluxions in Great Britain from Newton to Woodhouse. — Chicago: The Open Court Publishing Co., 1915. См. кроме того: Boyer С. The Concepts of the Calculus. — N.Y.: Columbia University Press, 1939, а также (переиздание): Dover Publications, 1949. [Из более поздних работ можно указать, например, брошюру [40] и более обстоятельные книги [41], [42], [43] и особенно [44] — Прим. ред.]
(обратно)79
В этой книге излагался курс, который Лагранж читал студентам знаменитой парижской Политехнической школы; продолжение и дальнейшее развитие идей Лагранжа содержат учебники еще одного профессора Политехнической школы — О. Коши, о которых пойдет речь в следующей главе.
(обратно)80
Деятельность молодых кембриджских математиков (Пикок — Бэббедж — Гершель) имела еще один аспект, не связанный с проблемами обоснования математики, но чрезвычайно важный в тот период для английской науки. Дело в том, что крайне неприятные приоритетные споры об открытии математического анализа, развернувшиеся в XVII в. между Ньютоном и Лейбницем, формально окончилась как будто бы полной победой Ньютона, не потерпевшего в результате их ни малейшего материального или морального ущерба, тогда как Лейбниц из-за этих споров умер буквально в нищете. Однако исторически победителем здесь оказался именно Лейбниц, а научным наследникам Ньютона эти беспредметные дискуссии о первенстве принесли вполне ощутимый вред. Вся континентальная Европа восприняла дифференциальное и интегральное исчисление в том обличье, которое ему придал Лейбниц — с более удобной лейбницевской символикой и терминологией (производная и интеграл, а не флюксия и флюэнта; исчисление дифференциалов, а не моментов). Существенную роль здесь сыграла отмеченная в книге темпераментная защита Лейбницем своих позиций, а также выдающаяся научная школа Лейбница, возглавляемая братьями Якобом и Иоганном Бернулли. Напротив, в Англии из-за приоритетных соображений на систему обозначений и терминов Лейбница был буквально наложен запрет, что лишало возможности молодых английских ученых следить за достижениями своих континентальных коллег и привело к резкому отставанию английской науки. Даже возрождение английской математики в середине XIX столетия (!), предвестником которого явились названные молодые кембриджцы, было первоначально встречено на континенте с большим недоверием. И деятельность Пикока и его друзей, в частности перевод ими на английский язык «лейбницианского» по форме учебника Лакруа, ставила своей целью приблизить английскую математику к континентальной.
(обратно)81
В следующей главе мы узнаем, как решил проблему комплексных чисел сам Гамильтон.
(обратно)82
Современное определение функции как любого правила или закона, сопоставляющего каждому значению x из области X (определения функции) единственное число y — значение функции в «точке» x, было еще в 1817 г. предложено чешским математиком Бернардом Больцано (1781-1848), однако замечено оно было только после повторения его в 40-х годах XIX в. авторитетным немецким математикой Петером Густавом Дирихле (1805-1859). Раньше Дирихле определение «по Больцано» использовал в своих работах по математическому анализу Н.И. Лобачевский, что, однако, тоже никем не было замечено.
(обратно)83
Из числа создателей неевклидовой геометрии ее аксиоматически-логический статут больше всего беспокоил Яноша Бойаи, который подходил к развитой им науке с чисто аристотелевских позиций («дедуктивная», или «выводная», наука) и одно время даже полагал, что доказал противоречивость новой геометрии. Лобачевский и Гаусс воспринимали новую геометрическую систему более «физично» — как возможную систему описания свойств окружающего нас реального пространства. В частности, Лобачевский, дальше всех продвинувшийся в области «гиперболической» геометрии, был весьма близок к строгому доказательству ее непротиворечивости, поскольку он владел тем, что мы сегодня называем «бельтрамиевыми координатами» точек гиперболической плоскости, которые послужили основой для создания «модели Бельтрами» (или «модели Бельтрами — Клейна»), доказывающей непротиворечивость геометрии Лобачевского. Однако Лобачевский не сделал здесь последнего шага, ибо, будучи твердо уверенным в «истинности», или непротиворечивости, своей геометрии, не чувствовал необходимости этого.
(обратно)84
Французская школа давно имела традиции «антиевклидовского» изложения курса геометрии, где широко использовались наглядность, соображения симметрии и движения, которых старался избегать Евклид, и ставились во главу угла наиболее важные для практики вопросы измерения геометрических величин. Первый подобный учебник составил страстный борец против схоластики и метафизики Аристотеля (а заодно и против идущих от Аристотеля методологических установок Евклида) Питер Рамус (или Пьер де ла Раме, 1515-1572), поплатившийся жизнью за эту свою деятельность: он был убит в Варфоломеевскую ночь, причем убийство Рамуса было организовано враждебными ему профессорами Парижского университета (Сорбонны). Позиции Рамуса целиком разделял Д'Аламбер, который глубоко развил их в статье «Геометрия», напечатанной в «Энциклопедии». Той же линии придерживался в своем учебнике «Элементы геометрии» и один из крупнейших аналитиков XVII в. А.К. Клеро.
(обратно)85
Пуанкаре А. О науке. — М.: Наука, 1983, с. 164.
(обратно)86
Концепцию предела как исходного пункта математического анализа иногда связывают также и с Ньютоном, различавшим «первое число» (с которого переменная начинает изменение) и «последнее число» (предел (!) — значение, к которому она приходит) и придававшим особое значение «последним числам». Однако увлеченный физической интерпретацией анализа (производная как скорость), Ньютон не потрудился даже дать понятию «последнего числа» сколько-нибудь отчетливое определение, что лишало основанные на этом понятии конструкции доказательной силы.
(обратно)87
В данном Д'Аламбером определении предела ныне вызывает сомнение лишь замечание о том, что стремящаяся к a величина не может a превзойти; Д'Аламбер требовал, чтобы из x→a следовало постоянство знака разности x − a, в то время как Коши это последнее условие отбросил.
(обратно)88
Вряд ли было бы уместно входить здесь в технические детали приводимых Коши определений и доказательств. Для нас важно лишь подчеркнуть, что именно Коши приступил к планомерному обоснованию математического анализа.
(обратно)89
Функция y = f(x) называется непрерывной, скажем на интервале а < x < b, если для каждой точки x этого интервала и каждого (сколь угодно малого!) числа ε > 0 существует такое δ, что |y(x) − у(x0)| < ε коль скоро |x − x0| < δ, и равномерно непрерывной на этом интервале, если соответствующее значение δ можно считать не зависящим от x0 (а только от ε); тонкое (и важное) различие между непрерывностью и равномерной непрерывностью было осознано лишь Кантором и Вейерштрассом.
(обратно)90
Неверность этого утверждения Коши следует из рассмотрения простейшей функции Z = Z(x, у), где Z = 0, при xy = 0 и Z = 1 при xy ≠ 0.
(обратно)91
Другими словами, Гамильтон полагал (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d); (a, b)∙(c, d) = (ac − bd, ad + bc). Подобное же построение теории комплексных чисел ранее (около 1840 г.) было дано одним из создателей неевклидовой геометрии Я. Бойаи в работе, представленной на конкурс, объявленный Лейпцигским научным обществом. Но, к сожалению, эта работа не была должным образом оценена жюри конкурса и потому осталась неопубликованной.
(обратно)92
Систему аксиом, описывающую натуральные числа, несколько раньше (1888) Дж. Пеано указал Р. Дедекинд.
(обратно)93
Первым автором, полностью решившим задачу обоснования евклидовой геометрии, был, по-видимому, итальянец М. Пиери, ученик Дж. Пеано. Несколько позже в том же 1899 г. появились в значительной степени основанные на более ранних исследованиях Паша «Основания геометрии» Д. Гильберта, где производилось тщательное выделение отдельных групп аксиом, описывающих то или иное из неопределяемых отношений между основными элементами (точками, прямыми и плоскостями): принадлежность (точки, прямой или плоскости); понятие «между» и т.д. В настоящее время имеется много разных систем обоснования евклидовой геометрии (см., например, [49]).
(обратно)94
Принадлежащие Лейбницу фрагменты «логического исчисления» были разработаны достаточно глубоко; однако они не удовлетворяли Лейбница, поскольку были весьма далеки от поставленной им (и, видимо, неразрешимой) задачи «свести любое рассуждение к вычислению», создать такое положение, при котором, по утопическим мечтам Лейбница, один из спорящих всегда смог бы сказать другому: «Вы утверждаете одно, я — другое; ну что же, проверим, кто из нас прав: вычислим, милостивый государь».
(обратно)95
Дж. Буль родился в очень бедной семье мелкого торговца, в силу чего он сумел окончить лишь несколько начальных классов школы для бедных, которые, разумеется, ничего не дали ему в области математики. Все свои знания Буль приобрел путем самообразования. Стремясь разобраться в математике глубже, Буль обратился к трудам классиков науки; тогда и родились у него первые самостоятельные идеи, которые он изложил в статьях, направленных в «Кембриджский математический журнал». К счастью, редактору журнала, представителю «кембриджской группы» математиков Д. Грегори, поиски Буля оказались достаточно близкими. Именно с помощью «кембриджцев» Булю удалось в конце жизни стать профессором математики во вновь открытом католическом колледже (университете) в Корке. Характерно, что первая развернутая система формальной (символической) логики принадлежит самоучке Булю — не закончив даже средней школы, он тем самым не был связан путами традиционных взглядов и установок, смог взглянуть на математику свежим взглядом и оценить ее логический статут с той ясностью и полнотой, которая позволила Б. Расселу позже сказать: «Чистую математику открыл Буль в сочинении, которое называлось «Законы мысли».
(обратно)96
У самого Буля сумма x + y обозначала класс объектов, принадлежащих либо x, либо y, но не x и y одновременно; сегодня в этом случае говорят не о сумме, а о «симметричной разности» x и y и пишут xΔy.
(обратно)97
Выше уже указывалось, что логические сочинения Аристотеля (аристотелева силлогистика) формализовали в основном логическое отношение (не операцию, а именно отношение) следования; у Аристотеля можно найти также отчетливые фрагменты учения о кванторах. Полагают, что элементы логического исчисления — разумеется, не без влияния Аристотеля — были созданы в несколько более поздних стоической и мегарской школах, от которых до нас, однако, не дошли сколько-нибудь существенные письменные памятники мысли.
(обратно)98
По мнению некоторых логиков, чтобы охватить все типы рассуждений, используемых в математике, потребовалось бы ввести так называемое исчисление предикатов второй ступени, в котором кванторы применяются к предикатам. Так, чтобы выразить отношение равенства x = y, мы должны были бы утверждать дополнительно применимость к y всех предикатов, применимых к x, и для этого ввести квантор предикатов либо словесно («для всех предикатов»), либо с помощью символов x = y ↔ (F)(F(x) ↔ F(y)).
(обратно)99
Впрочем, еще Галилей, исходя из сходных соображений, утверждал, что квадратов начальных чисел имеется столько же, сколько и самих натуральных чисел.
(обратно)100
Фундаментом идущей от Кантора «иерархии бесконечностей» является (ныне широкоизвестная и в ряде стран включаемая даже в школьные учебники математики) теорема Кантора — Бернштейна, согласно которой если два множества A и B таковы, что существует взаимно-однозначное соответствие между A и частью (подмножеством) B и между B и частью A, то можно установить также и взаимно-однозначное соответствие между A и B; таким образом, любые два множества либо «одинаковы» (эквивалентны, равномощны), либо одно из них «больше» другого. Кантор хорошо понимал важность этой теоремы, но доказательство ее долго ему не давалось. О своих затруднениях он сообщил Р. Дедекинду, который познакомил с поставленной Кантором задачей своих студентов, после чего (в первой половине 90-х годов XIX в.) соответствующая теорема была очень быстро доказана совсем еще юным учеником Дедекинда, студентом Гёттингенского университета Феликсом Бернштейном.
(обратно)101
Являясь в соответствии с семейной традицией ревностным христианином (лютеранином), Кантор охотно использовал в своих высказываниях религиозные аргументы; но значение соображений такого рода для его научного творчества не было существенным (в литературе оно нередко преувеличивается). Однако с течением времени, когда творческая сила Кантора-математика пошла на убыль, его обращения к теологии стали более частыми.
(обратно)102
Автор первого в мировой литературе учебника теории множеств Феликс Хаусдорф (1868-1942) долгие годы был одним из признанных лидеров берлинской математической школы. Его учебник по теории множеств имел два варианта, настолько резко различающиеся между собой, что их вполне можно считать самостоятельными книгами: «Основы теории множеств» (Grundzüge der Mengenlehre. Leipzig, Teubner, 1914) и «Теория множеств» (Mengenlehre. Leipzig, Teubner, 1927). Совершенно самостоятельным произведением мировой математической литературы является русский вариант той же книги [54], в которой редакторы П.С. Александров и А.Н. Колмогоров предприняли (весьма удачную) попытку совместить все достоинства и первого и второго вариантов книги Хаусдорфа, одновременно доработав отдельные части книги, с тем чтобы привести их в соответствие с новейшими достижениями науки. При этом устаревшие разделы «Основ теории множеств» были заменены новым текстом, заимствованным из написанных П.С. Александровым разделов книги [55], которые пришлось несколько переработать, с тем чтобы сохранить стиль Хаусдорфа.
(обратно)103
Обычно считают, что русский алфавит содержит 33 буквы (при этом буквы е и ё отождествляются, считаются за одну); поэтому общее число «100-буквенных последовательностей», где каждая буква имеет одно из указанных 33 «значений», равно 10033. (Разумеется, большинство из составленных таким образом «фраз», разбиение которых на отдельные «слова», если только оно возможно, производится «по смыслу», не будут выражать ничего или не будут описывать никакого числа.)
(обратно)104
Сомнения по этому поводу подогревались рядом полностью противоречащих нашей интуиции (или очень сильных и «слишком просто» доказываемых) результатов, получаемых с использованием аксиомы выбора Цермело. Наиболее известна здесь, пожалуй, эффектная работа Ф. Хаусдорфа, результат которой, несколько огрубляя, можно описать так: пусть Ш — обыкновенный шар трехмерного евклидова пространства; Хаусдорф разбивает этот шар на четыре множества I, II, III и IV так, что сложив по-другому множества I и II, мы получим из них шар Ш1, равный Ш; из множеств III и IV также можно сложить равный Ш шар Ш2. (Ср. гл. XII).
(обратно)105
Можно взять множество с кардинальным числом N1 и рассмотреть множество всех его подмножеств, кардинальное число которого обозначается через 2N1. Как доказал Кантор, 2N1 > N1. Можно предположить, что 2N1 = N2 и что 2Nn = Nn+1. Такое предположение называется обобщенной гипотезой континуума.
(обратно)106
Вариант гипотезы континуума, приведенный в скобках, не требует обращения к аксиоме выбора.
(обратно)107
Сегодня это различие отражается в существовании двух разных символов: (например, x A) и (B A), используемых уже и в школьных учебниках математики.
(обратно)108
Пуанкаре А. О науке. — М.: Наука, 1983, c. 400.
(обратно)109
Мы уже указывали на своеобразный характер религиозности Лейбница, для которого бог играл роль гаранта истинности логики, но, «создав однажды» Вселенную, далее никак не вмешивался в ее функционирование. (Разумеется, Лейбниц и не подозревал, что возможных логических систем существует много; осознание этого обстоятельства заставило бы его полностью пересмотреть всю свою религиозно-философскую систему.)
(обратно)110
Рассчитанное на самого широкого читателя изложение взглядов А. Уайтхеда (а частично и Б. Рассела) на математику можно найти в (к сожалению, сейчас уже труднодоступной) книге [57].
(обратно)111
Создатель современной алгебраической структуры математической логики Дж. Буль в качестве основных операций над высказываниями использовал конъюнкцию и исключающую дизъюнкцию (которую сегодня чаще называют «симметрической разностью» высказываний p и q).
(обратно)112
Здесь терминология (и символика) авторов «Оснований математики» несколько расходится с принятой в нашей литературе. Следует различать (бинарное) отношение следования между высказываниями, которое может иметь или не иметь место (в абстрактной форме — подмножество декартова квадрата Ρ×Ρ, где Ρ — множество высказываний; отношение «из p следует q» записывают как p q, но иногда и наоборот — как p q), и импликацию — (бинарную) операцию алгебры высказываний, сопоставляющую двум высказываниям p и q третье высказывание p q, которое, как и любое, высказывание, может быть истинным или ложным; при этом истинность импликации p q равносильна тому, что (в обозначениях Рассела — Уайтхеда) p q.
(обратно)113
Под «истинным элементарным высказыванием» здесь понимается то, что у нас часто называют «тождественно истинным высказыванием», т.е. такое высказывание, которое ни в каком случае не может быть ложным.
(обратно)114
По этому поводу см. статьи выдающихся физиков, лауреатов Нобелевской премии Е.П. Вигнера [96]*, Ч. Янга [60] и В. Гейзенберга [61]; цитируемые в гл. XV высказывания А. Эйнштейна и названные там его статьи, а также [4].
(обратно)115
Разумеется, из (ложной!) «аксиомы» 2×2 = 100 следует (истинная!) теорема «2×2 — четное число» (как, впрочем, и теорема «2×2 — нечетное число», если только следование предложений понимать в соответствии с определением материальной импликации).
(обратно)116
По поводу современных взглядов на роль интуиции и дедукции в понимании мира см., например [32], а также [62].
(обратно)117
Предложенное (почти одновременно и, по видимому, независимо) Р. Дедекиндом и Дж. Пеано аксиоматическое описание целых (или целых положительных — натуральных) чисел хронологически почти совпало со смертью Кронекера (основополагающая работа Пеано вышла в свет в год смерти Кронекера); поэтому он уже не мог высказать свое мнение по поводу этой новой теории.
(обратно)118
Предшествующее Кантору доказательство существования трансцендентных чисел принадлежит французскому математику Жозефу Лиувиллю (1809-1882), построившему конкретные примеры таких чисел (1851); Кантор же доказал, что в определенном смысле «почти все» вещественные числа являются трансцендентными (причем его доказательство было существенно «неконструктивным», т.е. не позволяло указать ни одного такого числа).
(обратно)119
По поводу полемики между Пуанкаре и Кутюра см. [63].
(обратно)120
Интуиционистскую платформу Вейля достаточно выразительно характеризует сборник его более ранних статей [64].
(обратно)121
Нам нет необходимости вдаваться в технические детали этих теорем. Мы упоминаем их лишь для того, чтобы привести конкретные примеры. [Отметим также, что отказ интуиционистов от закона исключенного третьего не означал еще полного отказа от какого бы то ни было логического аппарата — речь шла лишь о пересмотре фундаментальных законов логики, из числа которых отбрасывался закон исключенного третьего (ср. ниже). — Прим. ред.]
(обратно)122
Несколько иначе подходил к понятию «существования» математического объекта Пуанкаре. Для него, как для формалистов (гл. XI), понятие было приемлемым, если оно не приводило к противоречиям.
(обратно)123
В настоящей, не рассчитанной на математиков, книге автор иногда позволяет себе пренебречь точностью ради большей выразительности. В частности, приведенный в книге пример «истинные интуиционисты», пожалуй, и не приняли бы [менее яркий, но более корректный пример: задача об отыскании максимума функции переменных]. Дело в том, что множество всевозможных четверок (x, y, z, n) целых (или натуральных) чисел счетно, т.е. его можно упорядочить наподобие ряда натуральных чисел (где n > 2). Поэтому доказательство существования решения уравнения Ферма одновременно устанавливает, что решение может быть найдено в процессе, конечного (хоть и неопределенно длинного — это неважно!) перебора четверок (x, y, z, n) и проверки выполнимости равенства xn + yn = zn для каждой из них, а такой конечный перебор, разумеется, является вполне эффективной процедурой.
(обратно)124
Ср. с обсуждением в гл. XII современного положения с канторовской проблемой континуума.
(обратно)125
Дальнейшее развитие идей интуиционизма привело к созданию так называемого конструкционизма (или даже нескольких различных конструктивистских школ), признававшего только те математические объекты, которые допускают прямое построение; в частности, большое развитие получала ленинградская (а позднее московская) конструктивистская группа, возглавляемая А.А. Марковым-мл. (1903-1980); по этому поводу см. [65] и [66], а также примечания А.А. Маркова к русскому переводу книги [67].
(обратно)126
Критику интуиционизма главой советской конструктивистской школы математиков А.А. Марковым см. на с. 5 книги [67].
(обратно)127
Не останавливаясь подробно, упомянем лишь о методологических установках яркой и пользующейся известностью книги Б. Мандельброта [69], которые кратко (и не совсем точно) можно охарактеризовать как утверждение о том, что в реальном мире мы чаще всего встречаемся именно с нигде не дифференцируемыми («изломанными») функциями, а «гладкие» функции представляют собой не более чем идеализированное описание негладких.
(обратно)128
В разработке интуиционистской логики приняли участие также московские математики В.И. Главенко (1897-1940; работы 1928-1929) и особенно А.Н. Колмогоров (р. 1903; работы 1925, 1932). Ср. также [71].
(обратно)129
Гильберт Д. Основания математики. — В кн.: Основания геометрии. — М. — Л.: Гостехиздат, 1948, с. 383.
(обратно)130
Здесь хочется вспомнить древних греков с их отказом от принятия актуальной бесконечности и стремлением избежать каких бы то ни было бесконечных процедур, что, например, нашло свое выражение в глубоком методе исчерпывания Евдокса — Архимеда, позволявшем дать сугубо конечные («финитные») доказательства результатам, которые ныне получают с помощью интегрального исчисления, связанного с предельным переходом при n→∞ (где n, скажем, число частей, на которые разбивается область интегрирования).
(обратно)131
См., например, весьма популярный на Западе учебник [76] элементарной теории множеств, принадлежащий крупному математику и замечательному педагогу П. Халмошу, известному у нас по переводам ряда его книг и статей.
(обратно)132
Впоследствии Гёдель (1940) и Бернайс (1937) модифицировали систему Цермело — Френкеля, введя различие между множествами и классами. В 1925 г, Гёдель и Бернайс упростили вариант аксиоматики теории множеств, предложенный фон Нейманом. Множества могут принадлежать другим множествам. Все множества — классы, но не все классы — множества. Классы не могут принадлежать большим классам. Различие между множествами и классами означает, что чудовищно большим совокупностям элементов не разрешается принадлежать другим классам. Тем самым исключаются канторовские множества, приводящие к парадоксам. Любая теорема в системе Цермело — Френкеля является теоремой в системе Гёделя — Бернайса, и наоборот.
Известно много вариантов аксиоматики теории множеств, но не существует критерия, который позволил бы отдать одному варианту предпочтение перед другим. [По поводу аксиоматики теории множеств см., например, [32]* и [78]-[80]. — Ред.]
(обратно)133
Французские оригиналы обширного трактата Н. Бурбаки Eléments de mathématique выходили в выпускаемой парижским издательством «Герман» серии «Новости науки и техники» (Actualités scientifique et industrielle), состоящей из книг небольшого объема; русский перевод этого, пока еще не законченного сочинения состоит из меньшего (хотя все равно очень большого) числа объемистых томов. [Некоторые неувязки, допущенные при переводе сочинения Бурбаки на русский язык, выпускавшегося двумя разными издательствами (ИЛ — «Мир» и Гостехиздат — Физматгиз — «Наука») в течение длительного времени, привели к тому, что на русском языке отдельные книги этого трактата выходили под тремя разными названиями: «Элементы математики» (чаще всего), «Основы математики» и «Начала математики» (а выпущенные отдельным изданием исторические вставки в разные части сочинения (в оригинале — Eléments d'histoire des mathématiques) получили титул «Очерки по истории математики»). На наш взгляд, наиболее точным было бы название «Начала математики», ибо бесспорна связь наименования, данного группой Бурбаки своему сочинению, с «Началами» Евклида (по-французски L'Eléments).]
(обратно)134
Шекспир В. Избранные произведения. — М. — Л.: ГИХЛ, 1950, с. 581 (перевод М.Л. Лозинского).
(обратно)135
Огюст Конт (1798-1857) — видный французский философ, один из основоположников и бесспорный лидер позитивизма, утверждающего, что целью науки являются наблюдение и эксперимент, а также формулировка тех выводов, которые прямо отсюда следуют. Конту принадлежит идея о естественной иерархии наук в направлении уменьшения их абстрактности; при этом при построении любой науки должны быть известны основные факты всех предшествующих ей наук. Эта «лестница Конта» начиналась с математики (являющейся, таким образом, фундаментом любого знания) и заканчивалась социологией (термин, впервые введенный Контом).
(обратно)136
Исчисление предикатов первой ступени, как доказали Гильберт и другие, непротиворечиво, и аксиомы его независимы.
(обратно)137
Теорема Гёделя о неполноте применима и в случае обращения к исчислению предикатов второй ступени (гл. VIII). [По поводу теорем Гёделя см., например, [81], а также обращенные к более широкому кругу читателей статью [82] и брошюру [83]. — Ред.]
(обратно)138
Доступное изложение теоремы Гёделя и некоторых других упомянутых ниже понятий и результатов имеется в небольшой по объему и требующей минимальной предварительной подготовки книге [84].
(обратно)139
Разумеется, это утверждение автора не означает, что ранее Гёделя математики не знали неполных аксиоматических систем, в которых вполне осмысленное в рамках этой системы утверждение не может быть ни опровергнуто, ни доказано «подобно тому как, скажем, дополнив стандартную аксиоматику теории групп требованием (аксиомой) о конечности группы, мы все равно не сможем ответить на вопрос о том, четен или нечетен порядок (число элементов) группы. [Н. Бурбаки — см., например, [68] — считает даже, что единственным принципиальным отличием современной математики от античной является признание равноправности неполных аксиоматических систем с полными, в то время как древние греки признавали лишь полные аксиоматические «системы вроде (до конца ими не аксиоматизированных) евклидовой геометрии или системы вещественных чисел. Возможно, первой сознательно рассмотренной математиками неполной аксиоматической системой была абсолютная геометрия Я. Бойаи, получающаяся из обычной аксиоматики евклидовой геометрии отбрасыванием аксиомы параллельных; в рамках этой аксиоматической системы, описывающей, так сказать, «общую часть» евклидовой и гиперболической геометрии, нельзя было ответить, скажем, на вопрос, проходит ли через внешнюю по отношению к прямой a точку А одна или много не пересекающих a прямых.] Однако ранее математики, впрочем, обычно не формулируя этого утверждения явно, полагали, что любую неполную аксиоматику можно дополнить какими-то новыми аксиомами, с тем чтобы она стала полной; работы же Гёделя совсем по-новому поставили вопрос о том, что есть в математике истина.
(обратно)140
Обычная математическая индукция доказывает, что теорема верна для всех конечных положительных целых чисел. Трансфинитная индукция использует тот же метод, но распространяет его на вполне упорядоченные множества трансфинитных ординальных чисел.
(обратно)141
Доступен и начинающему рассказ [88] о работе Ю. Матиясевича; несколько больших знаний требуют комментарии к 10-й проблеме Гильберта в [51] (освещение ситуации, какой она представлялась до решения проблемы) и в [89], где статья о 10-й проблеме Гильберта, принадлежит основным участникам ее решения М. Девису, Ю. Матиясевичу и Дж. Робинсон. (Видный логик Джулия Робинсон, заложившая первые камни в основание построенного Матиясевичем здания, является сестрой создателя нестандартного анализа Абрахама Робинсона (см. далее), Мартин Девис — автор одного из лучших учебников нестандартного анализа [86].
(обратно)142
Обобщенная гипотеза континуума утверждает, что кардинальное число множества всех подмножеств некоторого множества, обладающего кардинальным числом Nn, равно Nn+1 (т.е. 2Nn = Nn+1). Кантор доказал, что 2Nn > Nn.
(обратно)143
Помимо статьи [17]*, рассчитанной на самую широкую аудиторию, можно назвать обстоятельную книгу [90] и обзор [91].
(обратно)144
В теории групп аксиома коммутативности умножения не зависит от остальных аксиом группы. Существуют модели группы, удовлетворяющие аксиоме коммутативности (например, обычные положительные и отрицательные числа); другие же модели (скажем, кватернионы) аксиоме коммутативности не удовлетворяют.
(обратно)145
В некоторых более ранних работах «доказывалось», что аксиоматические системы, положенные в основу той или иной области математики, категоричны, т.е. что все интерпретации любой из таких аксиоматических систем изоморфны — совпадают по существу и отличаются лишь терминологией. Но такого рода «доказательства» были нестрогими, поскольку строились на логических принципах, недопустимых в метаматематике Гильберта, и, кроме того, прежде аксиоматические основы не формулировались столь тщательно, как теперь. Ни одна система аксиом, несмотря на «доказательства» Гильберта и других авторов, не является категоричной.
(обратно)146
Грубо говоря, аксиоматика «гипервещественных» чисел R* получается из аксиоматики вещественных чисел R («укороченный» вариант последней, включающей все необходимое для построения аналитической геометрии, содержится в книге [92], а более полные ее варианты — во многих учебных пособиях, например, [93] или [94]) прибавлением «отрицания аксиомы Архимеда», которому можно придать следующую форму: существует такое число ε («бесконечно малое число»), что ε > 0 и ε < 1/n при любом натуральном n. Следствием этой аксиомы и других аксиом, постулирующих свойства действий (сложение, умножение) над числами, являет довольно сложная структура «гипервещественной прямой» R*; впрочем, для использования бесконечно малых в (поставленных А. Робинсоном на твердую почву) рассуждениях детальное значение структуры R* вовсе не обязательно.
(обратно)147
Доказательства Кантора и Пеано корректны, если использовать, обычное аксиоматические свойства вещественных чисел. Единственное свойство, которые необходимо изменить, чтобы гипервещественные числа стали возможными, — это аксиома Архимеда, о которой мы уже неоднократно упоминали. Система гипервещественных чисел R* неархимедова в обычном смысле слова. Но она становится архимедовой, если включить в систему гипервещественных чисел бесконечные кратные гипервещественного числа a*.
(обратно)148
Например, в нестандартном анализе отношение бесконечно малых dy/dx существует в системе R* и для y = x2 отношение dy/dx равно 2x + dx, где dx — бесконечно малая, т.е. dy/dx — гипервещественное число. Производная функции y = x2 — это обычная вещественная часть гипервещественного числа dy/dx, т.е. (вещественное) число 2x. Аналогично определенный интеграл в нестандартном анализе есть сумма бесконечно большого числа бесконечно малых (число слагаемых — гипервещественное натуральное число).
(обратно)149
Сегодня уже существуют задачи, которые удалось решить лишь с использованием нестандартного анализа; правда, видимо, все эти задачи можно было бы решить и традиционными методами, но в таком случае решения были бы, вероятно, значительно более сложными. Вообще, нестандартный анализ надо рассматривать не как новую область математики, а скорее лишь как еще один математический «язык», идущий от Лейбница, но лишь в наши дни ставший равноправным, скажем, с «ε-δ-языком» Коши. При этом язык нестандартного анализа оказывается весьма удобным и естественным в ряде прикладных задач (см., например, [87]; ср. со сказанным в тексте об использовании «бесконечно малых величин» физиками и техниками); ряд преподавателей высшей школы (например, в нашей стране Μ.Μ. Постников) высказывает убеждение в педагогических достоинствах этой модификации лейбницевского «исчисления дифференциалов» при изложении основ «высшей математики» начинающим (ср. [95], [96]).
(обратно)150
Различие между математикой и «теоретическим» естествознанием полностью осознавал Лейбниц. «Универсальная математика, — писал он, — это, так сказать, логика воображения»; предметом ее является «все, что в области воображения поддается точному определению». В XIX в. специфику математики, отличие ее от естественных (и гуманитарных) наук отчетливо понимали, скажем, замечательный немецкий математик Герман Грассман, говоривший, что «чистая математика есть наука особого бытия, поскольку она рождена в мышлении», или один из создателей математической логики англичанин Джордж Буль, еще четче сформулировавший ту же мысль: «Математика изучает операции, рассматриваемые сами по себе, независимо от различных материй, к которым они могут быть приложены». Я. Бойаи (в отличие от Лобачевского или Гаусса) при создании неевклидовой геометрии подходил к ней не как к возможной системе устройства физической Вселенной, а как к чисто логической схеме, «аксиоматизированной структуре», как сказали бы мы сегодня. При этом любопытно отметить, что Лейбниц (в отличие от Ньютона), Грассман, Буль или Я. Бойаи не получили специального математического образования и были полностью свободны от давления сложившихся традиций, что в чем-то, конечно, ограничивало их возможности, но в то же время придавало их мышлению особую свежесть и остроту.
(обратно)151
В применениях математики широко используются степенные ряды вида a0 + a1x + a2x2 + a3x3 + … и тригонометрические ряды, или ряды Фурье (скажем, a0 + a1cos x + b1sin x + a2cos 2x + b2sin 2x + …).
(обратно)152
В противоположность этому попытки Паскаля заинтересовать Ферма и Гюйгенса теорией вероятностей, в значительной степени созданной этими тремя учеными, оказалась полностью удачными; частично, видимо, это объяснялось тем,что теория вероятностей возникла сразу же как «прикладная» наука (со столь, впрочем, малопочтенной областью применения, как теория азартных игр), а частично, может быть, прозорливой интуицией гениев, «предчувствующих» будущие глубочайшие прикладные возможности создаваемой ими области математической науки.
(обратно)153
В частности, законы умножения гамильтоновых «кватернионных единиц» i, j и k прояснило идущее от Гамильтона отождествление этих «единиц» с (физическими) вращениями пространства на 90° вокруг трех взаимно перпендикулярный осей: 0x, 0y и 0z.
(обратно)154
Здесь трудно удержаться от соблазна процитировать одно место из предисловия к книге [100] замечательных математиков и педагогов Д. Пойа (Полиа) и Г. Сегё: «Не нужно забывать, что существуют обобщения двух родов: малоценные и полноценные. Первые — обобщения путем разрежения, другие — путем сгущения. Разредить — значит, наболтав воды, изготовить жиденькую похлебку, сгустить — значит составить полезный, питательный экстракт. Соединение понятий, мало связанных друг с другом для обычного представления, в одно объемлющее есть сгущение; так сгущает, например, теория групп рассуждения, которые прежде, будучи рассеянными… выглядели совершенно различными. Привести примеры обобщения путем разрежения было бы еще легче, но мы не хотим наживать себе врагов».
(обратно)155
Вожди группы Бурбаки охотно декларировали «антиприкладной» характер своего творчества (ср., например, цитируемую ниже статью [115] Ж. Дьедонне), но к этому их тезису, как и к некоторым другим высказываниям, следует относиться с осторожностью. Известно, что один из основателей (и наиболее влиятельных членов) группы Бурбаки Андре Вейль по просьбе знаменитого антрополога и философа Клода Леви-Стросса написал математическое приложение «Математическая теория брачных союзов» к диссертации Леви-Стросса «Элементарные системы родства» (1949). С другой стороны, весьма близкий группе Бурбаки Рене Том является создателем имеющей огромное прикладное значение так называемой теории катастроф (см. [101]) и отличается поразительной широтой внематематических интересов (см., например, [102]). Кроме того, несмотря на неоднократно декларировавшуюся вождями группы Бурбаки антиприкладную направленность их группы, в целом свойственное этой группе стремление рассматривать математику как науку о математических структурах (см. [11]*) идет навстречу определенным устремлениям в современной прикладной математике, выражающимся в росте значения математического моделирования внематематических феноменов (ср. [103]).
(обратно)156
Поразительна близость этой позиции Фурье к воззрениям пифагорейцев (гл. I).
(обратно)157
В последней части «Применение к пространству» замечательной лекции [106] Риман сам подробно обсуждает приложимость к (будущей) физике предложенных им геометрических схем.
(обратно)158
Классификация дифференциальных уравнений по свойственным им группам симметрии была произведена великим норвежским математиком Софусом Ли (1842-1899), который построил своеобразную «теорию Галуа для дифференциальных уравнений», где вопрос о решимости алгебраического уравнения в радикалах заменялся вопросом о решимости дифференциального уравнения «в квадратурах» (т.е. с применением операции интегрирования). В свое время эта теория пользовалась очень большой популярностью, но затем в связи с наступлением века ЭВМ, поставившего совсем по-другому вопрос о решении дифференциальных уравнений, была почти забыта. Взрывоподобный рост интереса к учению Ли о «группах симметрии дифференциальных уравнений», выразившийся, в частности, в появлении большого числа посвященных этой теме книг (см., например, [109]) и диссертаций, относится к последним десятилетиям; это связано с той большой ролью, которую играют соображения симметрии в современной физике.
(обратно)159
Артур Кали дал общее (абстрактное) определение группы еще в работах 1849-1854 гг. [у Э. Галуа фигурировали только группы подстановок. — Ред.], но значение этого понятия было оценено по достоинству лишь после того, как оно стало широко применяться в математике и естественных науках (о некоторых применениях мы упоминали выше).
(обратно)160
Характерно даже название, которое дал Харди своему учебнику [110] (классического) математического анализа. [Заметим, что, вероятно, не меньше 90% всех упоминаний имени воинственного адепта «чистой» математики Харди в современной научной, научно-популярной и учебной литературе связано не с его на самом деле выдающимися достижениями в теории чисел, а с единственным «греком» — с выполненной в молодости несложной работой прикладного характера (так называемый закон Харди — Вейнберга популяционной генетики — см., например, [111]).]
(обратно)161
Этот тезис можно и оспаривать: так, например, в теории кодирования, имеющей огромное прикладное значение в условиях современной недостаточности пропускной способности большинства линий связи, большую роль играет абстрактная алгебра (в частности, так называемые конечные поля Галуа), конечные геометрии (геометрии в плоскостях или пространствах, содержащих всего конечное число точек) и прочие разделы «абстрактной» математики, созданные вне всякой связи с возможными их приложениями (ср., например, [112] или статью [113]). Также и такие области математики, как топология или алгебраическая геометрия, (не говоря уже о функциональном анализе), совсем еще недавно считавшиеся чисто абстрактными, в последнее время стали активно изучаться (и применяться) физиками (см., например, [114]; ср. [103]).
(обратно)162
Стоун, видимо, имел в виду совершенно новые разделы математической науки (математическую теорию связи, или теорию информации; теорию кодирования; теорию игр), возникшие сравнительно недавно в связи с их применениями, в далее развивавшиеся как чисто абстрактные области знания, бурный прогресс которых, безусловно, стимулировался возможностями немедленного использования полученных в этих направлениях результатов (осуществляющегося, однако, чаще всего, не математиками, а техниками, экономистами или биологами).
(обратно)163
SIAM [Society for Industrial and Applied Mathematics] Review, October 1962, pp. 297-320.
(обратно)164
Классический пример, подкрепляющий высказанную мысль, доставляет нам хотя бы теория пределов, начавшаяся с принадлежащей Ньютону «чисто физической» концепции предела; также и первое определение предела, данное Д'Аламбером в одноименной статье знаменитой «Энциклопедии», с нашей сегодняшней точки зрения было дефектным (так, например, Д'Аламбер настаивал на монотонном приближении переменной величины к своему пределу). Ныне же мы имеем много разных определений этого понятия с разными областями применимости. (О другом примере такого рода — лейбницевском исчислении дифференциалов — ниже говорит сам автор.)
(обратно)165
Напомним, что в те времена под словом «геометрия» часто понималась вся математика.
(обратно)166
Довольно распространенным ныне является такое «определение» (математического) доказательства: доказательство — это рассуждение, которое убеждает нас в справедливости теоремы. При этом вполне допустимо (и даже неизбежно) сосуществование в одной стране и в одно время совершенно разных уровней строгости допустимых доказательств в зависимости от научных школ или даже математических дисциплин (скажем, математическая логика и дифференциальная геометрия).
(обратно)167
Карл Раймунд Поппер выдвинул также так называемый принцип фальсификации (опровержимости), согласно которому критерий научности теории задается возможностью опытного ее опровержения.
(обратно)168
Название книги Клейна (Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus) точнее было бы перевести как «Элементарная математика с высшей точки зрения». — Прим. ред.
(обратно)169
Ср. со сказанным в гл. VIII.
(обратно)170
Противоположной точки зрения придерживался Гильберт — см. приведенную выше цитату из его статьи «О бесконечном» или с. 22 книги [51]. Популярно также известное высказывание А. Эйнштейна: «Самое непостижимое во Вселенной — это то, что она все-таки постижима».
(обратно)171
Ср. с примечанием {6} к Введению.
(обратно)172
Здесь естественно вспомнить о знаменитом физическом принципе неопределенности Гейзенберга, одна из распространенных интерпретаций которого говорит о неизбежном изменении физической интуиции при попытке ее наблюдения, скажем, об отклонении частицы от первоначального положения при падении на нее фотона света, без чего частицу нельзя увидеть. Аналогично этому филологи иногда говорят об определенной деформации природного явления при описании его на том или ином языке (Аристотель говорил о бесконечности природных явлений и конечности числа слов любого языка) и т.д.
(обратно)173
Так, от Вейля идет, в частности, важная идея классификации физических объектов по свойственным им группам симметрии [121] (независимо от Вейля эту идею выдвинул в 1963 г. американский физик венгерского происхождения Юджин (Эуген) Вигнер (1963), уже после смерти Вейля удостоенный за нее Нобелевской премий по физике); Вейлю же принадлежит первый, притом выдающийся, учебник [122] общей теории относительности, содержащий свежие физические идеи, сыгравшие большую роль в дальнейшем прогрессе физической науки (ср., например, [123], а также [124]).
(обратно)174
Учебник математической логики [125] отличается от многих других пособий широким обсуждением (гл. 1-4, с. 17-244) общих вопросов (смежных между математической логикой и философией математики) обоснования математической науки; с этой точки зрения вдумчивому читателю, желающему глубже ознакомиться с затронутыми в настоящей книге вопросами, вполне можно порекомендовать книгу [125] наряду, скажем, с классическим сочинением [86]* и довольно сложными, но высокосодержательными книгами [81].
(обратно)175
При этом, разумеется, следует различать, скажем, опровержения теорий флогистона или эфира, полностью отброшенные современной наукой, и уточнения ньютоновской механики и гюйгенсовской оптики, не отменяющие, а лишь дополняющие эти выдающиеся достижения науки XVII в.
(обратно)176
По поводу возможных вариантов геометрической структуры физического пространства, отличных от классической геометрии Евклида, см. гл. IV. Что касается случаев, в которых может оказаться неприемлемой обычная арифметика, то здесь можно, например, порекомендовать читателю неконкретную, но весьма выразительно написанную заметку [30].
(обратно)177
Сходные результаты может дать анализ русского РЖ «Математика» или немецкого (ГДР / ФРГ) журнала Zentralblaft für Mathematik.
(обратно)178
Здесь естественно вспомнить призыв Д'Аламбера, хорошо понимавшего шаткость оснований, на которых зиждилась математика его времени: «Работайте, работайте — понимание придет потом».
(обратно)179
Сложность трактовки материи в квантовой механике (упомянутые в этой книге «размазанность» элементарных частиц в задание их исключительно с помощью абстрактных математических конструкций) не отменяет, скажем, понятия массы, играющего основную роль как в физике макромира, так и в описании колоссальных объектов современной астрофизики и в физике микромира.
(обратно)180
Здесь имеются в виду описывающая пространство-время специальной теории относительности (СТО) так называемая псевдоевклидова геометрия Минковского (см. по этому поводу, например, классическую книгу [127]) и риманова (точнее, псевдориманова) геометрия, являющаяся базисом общей теории относительности (см., скажем, основополагающую статью [128] или ту же книгу [127]).
(обратно)181
Последовательное (и в ряде отношений расходящееся с современными физическими концепциями) убеждение Эйнштейна в принципиальной прогнозируемости всех физических явлений (ср., например, [129]) обусловило непринятие им квантовой механики (отчасти базирующейся на его же классических работах по теории фотоэффекта) — в связи со статистической трактовкой мира этой наукой.
(обратно)182
См. примечание {115} к гл. X и книгу [69].
(обратно)183
Разумеется, ненадежность здесь может быть связана, скажем, с неполным знанием начальных условий фигурирующего в решении задачи дифференциального уравнения или в неопределенности коэффициентов уравнения (связанных с физическими характеристиками сооружения), но никак не с теми относящимися и основам математики полуфилософскими трудностями, которым посвящены гл. IX-XII.
(обратно)184
Паскаль писал эти слова в XVII в. В настоящее время физика смело излагает свои позиций в вопросе о поведении Вселенной в ближайшей окрестности (во времени превышающей всего лишь величину порядка 10−33 с) так называемого Большого взрыва, от которого астрофизики датируют существование Вселенной с привычным нам «пространством-временем» (ср., например, книги [135] или статью [136]); будущее Вселенной астрофизики также прогнозируют в очень больших пределах времени — почти до ее (гипотетического) «конца».
(обратно)185
Ср. с принадлежащей Г. Вейлю (в статье «Место Феликгеа Клейна в математической современности», 1930) характеризацией той роли, какую играет математика в человеческой культуре ([124], с. 11). [Названная статья намечена к публикации в подготавливаемом издательством «Наука» сборнике научных статей Вейля и в сборнике его научно-популярных статей.]
(обратно)Морис Клайн Математика. Утрата определенности
Научный редактор А.Н. Кондрашова
Мл. научный редактор М.В. Суровова
Художники Д.А. Аникеев, Ю.А. Ващенко
Художественный редактор В.Б. Прищепа
Технический редактор Л.П. Бирюкова
Корректор В.И. Постнова
ИБ 3589
Сдано в набор 02.04.84 Подписано к печати 24.08.84. Формат 60 X 901/16. Бумага типографская №2. Гарнитура литератур. Печать высокая. Объем 14,0 бум. л. Усл. печ. л. 28,0. Усл. кр.-отт. 28, 0. Уч.-изд. л. 32,67. Изд. №12/2649. Тираж 50 000 экз. Заказ №341. Цена 1 р. 90 к.
Издательство «Мир» 129820, Москва, И-110, ГСП, 1-й Рижский: пер., 2
Отпечатано в Ленинградской типографии №2 головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29 с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А.А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28


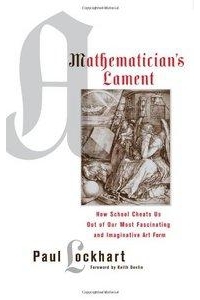
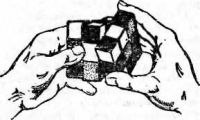


Комментарии к книге «Математика. Утрата определенности.», Морис Клайн
Всего 0 комментариев