Вячеслав Недошивин Адреса любви: Москва, Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской литературы
Елене, дочери
Автор и издательство выражают глубокую благодарность Государственному Литературному музею, его директору Д.П.Баку, сотрудникам и лично Е.Д.Михайловой за помощь в подборе фотографий из фондов музея и любезное разрешение на использование их в данном издании
Предисловие
«За мной, читатель! – позвал нас за год до смерти великий Булгаков. – Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? За мной, и я покажу тебе такую любовь!..» Позвал и – умер, так и не узнав, что еще через год его верная «любовь» будет с другим, потом – с третьим мужчиной.
Кто-то скажет, это – жизнь. Кто-то сошлется на разность любви у мужчин и женщин, ведь говорила же Цветаева, что «женщины играют во всё, кроме любви, а мужчины – наоборот»; кто-то вообще пожмет плечами: любви нет, сказано же наукой, что она – лишь феромоны, игра гормонов. А кто-то, вчитываясь в книги великих, будет сам искать ответы, может, на главные вопросы: что есть жизнь, что есть любовь и смерть? И – почему именно поэты и писатели видят в них то, что неведомо, недопонято нами, простыми людьми?
Эта книга – о необычной любви, о том, как ее проживали самые талантливые и даже гениальные люди. Книга о жизни тех, кто сначала выстрадал, а затем и выразил в слове свои необычные чувства о самом, порой, «запретном» меж людьми, о том, о чем, по выражению поэта, и «говорить нельзя». О любви в жизни Зинаиды Гиппиус и Цветаевой, Брюсова и Блока, Ахматовой и Мандельштама, Хлебникова и Пастернака, Тютчева и Куприна, Бальмонта и Булгакова.
Очерки, эссе, новеллы о них Вячеслава Недошивина на протяжении трех последних лет публиковались в журнале “STORY”, чьим девизом являются слова: «Обыкновенные судьбы необыкновенных людей». Теперь, собранные под одной обложкой, эти рассказы-версии – перед вами. И ныне уже автор их, как и Булгаков, может подстегнуть вас великим кличем его: «За мной, читатель!» И за классиком вслед – добавить: «Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?..»
Как непрочтенные тома В пронумерованном порядке, Стоят на улице дома И ждут прочтенья и разгадки… Вадим ШефнерМногие поступки великих людей удивляют и возмущают нас, но биограф не имеет права отмахнуться от них: ему приходится брать героя, каким его рисуют документы и свидетельства современников, и такое изображение оказывается хорошим уроком человечеству.
Андре Моруа«Черный Капитан», или Жизнь и смерть Дениса Давыдова
Я каюсь! Я гусар давно, всегда гусар, И с проседью усов – всё раб младой привычки. Люблю разгульный шум, умов, речей пожар И громогласные шампанского оттычки. От юности моей враг чопорных утех — Мне душно на пирах без воли и распашки. Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех, И дым столбом от трубочной затяжки!.. Денис ДавыдовДавыдов Денис Васильевич (1784–1839) – поэт, писатель, гусар, генерал-лейтенант, партизан Отечественной войны 1812 года. Давыдов, друг Пушкина и декабристов, остался в истории русской литературы не только как автор военно-исторических работ и теоретических трудов о партизанской войне, но – главное! – как редкого таланта лирик, создавший новый тип героя – воина-патриота, человека деятельного, свободолюбивого, открытого.
Жребий был брошен. Лошади – любовь Дениса, – в седлах которых он сидел с пяти лет, с которыми за полвека провел больше дней, чем с самыми дорогими ему женщинами, чем с женой и детьми, друзьями и поэтами, – так вот, лошади на этот раз не спасли его. Он, якобинец и фрондер, франт и повеса, забияка и бретер, умрет отрезанным, запертым от мира, окруженным в глухом селе не французами, шведами или турками – паводком, непролазной грязью, непроезжими дорогами, непересекаемыми реками, всеми теми «не», которые еще вчера легко преодолевал и в России, и на Кавказе, и в разоренной Наполеоном Европе.
Пятьдесят пять лет. Умер от инсульта. Это случилось на рассвете в сызранском сельце. В Верхней Мазе – имении своей жены. Как умирал – неизвестно. Видимо, можно было спасти. Но жена Давыдова, мать его шестерых сыновей, сначала поскупилась гнать лошадей двадцать пять верст в распутицу за врачом, а потом, когда поэт умер, полтора месяца не давала их – берегла! – отвезти его уже в Москву на Новодевичье, к родовым могилам. Такие вот дела!..
Впрочем, он, чьим девизом была фраза Вольтера «Моя жизнь – сражение», и после смерти выиграет последний бой: постоит за Багратиона – за командира, генерала, героя 1812 года. История мистическая, почти детектив, я еще расскажу о ней. И, может, мы поймем тогда, почему его, корнета, потом поручика, штаб-ротмистра, полковника, генерал-майора, а затем и генерал-лейтенанта, называли всего лишь капитаном. «Черным Капитаном»…
Ночной визит
Это имя – «Черный Капитан» – одна из загадок его. Что это? Такого звания не было у гусар. Капитанов вообще не было в русской кавалерии. И почему – «черный»? Страшный? Таинственный? Или – промышлявший ночью, под покровом темноты? Ответ на этот вопрос знают ныне единицы даже среди исследователей. Это я проверял! И – убедился, в который раз уже: мы мало знаем поэта – не школьного, не хрестоматийного. И мало знаем о времени его – веселой эпохе серебряных шпор, звона ледяных бокалов, дымящихся чубуков, грохота старых, почти игрушечных пушек и шепота флирта и с прекрасными тихонями, и со стихийными бунтарками света… Того уже света! Но ночь и впрямь всю жизнь была для Давыдова временем действия – не сна.
Именно глухой осенней ночью 1806 года в центре Петербурга, на углу Невского и нынешней улицы Восстания, едва не случилось, как сказали бы теперь, – «громкое» убийство. Не дуэль, не перестрелка. Просто наутро столица Российской империи полнилась слухами: то ли какой-то поручик лейб-гвардии гусарского полка застрелил фельдмаршала русской армии графа Каменского, то ли Каменский, только что назначенный командовать армадой против Наполеона, пристрелил в темном коридоре гостиницы «Северная» какого-то молодого человека. Шептались: поручику двадцать два года, он был исключен из кавалергардов за стихи, был сослан в провинциальный полк, потом, по милости государя, вернулся в Петербург, вновь был взят в гвардию и… надо же, опять попал в историю. Слухи были и правдой, и – неправдой. Поручику и впрямь было двадцать два, и он – это точно! – был известен как дерзкий поэт, написавший несколько безумных стихов, в том числе – и в адрес царя. Но всё остальное тут – нет, извините.
Из воспоминаний Дениса Давыдова: «Отчаяние решило меня: 16-го ноября, в четвертом часу пополуночи, я надел мундир, сел в дрожки и приехал прямо к фельдмаршалу… Всё спало на дворе и в гостинице. Нумер 9-й, к коему вела крутая, тесная и едва освещенная лестница, находился в третьем этаже. У входа… маленький коридор, в коем теплился фонарь… Я завернулся в шинель и прислонился к стене в ожидании… Слышу, отворяется дверь, и маленький старичок, свежий и бодрый, является… в халате, с повязанною белой тряпицею головою и с незажженным в руке огарком. Это был фельдмаршал… Он озабоченно, хотя и бодро зашаркал в сторону отхожего места. Увидя меня… остановился. “Кто вы таковы? – спросил он. – Что вам надо?” Я объявил желание мое служить на войне. Он вспыхнул, начал ходить скорыми шагами взад и вперед… и почти в исступлении говорить: “Да что это за мученье! Всякий молокосос лезет проситься в армию! Замучили меня просьбами. Да кто вы таковы? Какой Давыдов?..” – “Сын Василия Денисовича… Полтавским легкоконным командовал”. – “Знавал твоего отца, – смягчился Каменский, – да и деда помню…”»
Фельдмаршал Каменский вообще-то был крут. Он, например, только что приказал высечь арапником публично собственного сына, дослужившегося до полковника. Ужас! Да и Наполеона грозил привезти в клетке – «ровно Емельку Пугачева». Но к Давыдову, исстрадавшемуся, что в дальнем гарнизоне он уже пропустил половину войны, отнесся почему-то более чем хорошо. «Право, – сказал мальчишке-поручику, – я думал, ты хочешь застрелить меня». Денис начал было извиняться, но граф перебил: «Напротив, это приятно, это я люблю, это значит ревность… горячая; тут душа, тут сердце…» И хоть фельдмаршал помочь ему не смог («По лицу государя, – признался потом Денису, – я увидел невозможность выпросить тебя туда, где тебе быть хотелось»), упрямый поручик всё равно окажется на фронте. Причем станет адъютантом самого Багратиона. Как? – спросите. Да времена были такие. И то, что порой не под силу было фельдмаршалам, легко достигалось хорошенькими женщинами. Давыдову поможет попасть на фронт «княгиня-полячка», черноокая Аспазия, как звали ее в свете, всесильная фаворитка Александра I, а в миру – премиленькая двадцативосьмилетняя Маша Нарышкина, сестра друга Дениса, тоже гусара и к тому же князя – Бориса Четвертинского.
Она жила в доме, который и ныне стоит на Фонтанке (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 21). Дом – это, конечно, слабо сказано. Дворец (где с утра до вечера толпились вельможи, послы, генералы), принадлежавший мужу Аспазии, обер-егермейстеру Нарышкину. «Храмом красоты» назовет его будущий тайный советник Филипп Вигель. Тот Вигель, который оставит нам «Записки» и который, кажется, не столько за архитектуру назвал этот дом «храмом», сколько из-за преклонения перед прелестью Маши Нарышкиной. В «Записках» выведет: «Разиня рот, стоял я… и преглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною… В Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех…» Так вот, эта Маша, которая через год родит царю дочь, сама, и не раз, разливала чай юному Денису; тот запросто заваливался в ее дворец с другом-гусаром. А узнав о ночном переполохе, о визите его к фельдмаршалу, шепнула ему, как бы укоряя: «Вы бы меня, меня избрали вашим адвокатом». И через несколько дней, когда он, уже при декабрьских свечах, обедал здесь, вдруг громко сказала брату, что тот едет на фронт. Четвертинский, кивнув на Давыдова, спросил сестру: «А он?» «Нет, – сникла Маша, – опять отказ…» Но, заметив, как побледнел Денис, крикнула: «Я хотела пошутить… Вы едете!»
Вот это был подарок к новому, 1807 году! Правда, узнав, что служить будет адъютантом Багратиона – предел мечтаний! – Денис, напротив, сник. Он ведь недавно в сатире «Сон» высмеял длинный багратионовский нос. Более того, знал – стихи эти известны генералу. Позже, на фронте, тот при Давыдове расскажет о них Ермолову, и наш пиит, оправдываясь, улыбнется: «При всех свидетельствую, что затронул столь известную часть вашего лица единственно из зависти, поскольку сам оной части почти не имею». И укажет на свой нос – пуговкой. Все посмеются. А через несколько дней, когда Денис прискачет к Багратиону со спешным донесением и, запыхавшись, крикнет: «Главнокомандующий приказал доложить, что неприятель у нас на носу, и просит вас немедленно отступить!» – Багратион невозмутимо заметит: «На чьем носу неприятель? Ежели на вашем, так близко; а коли на моем, так мы успеем отобедать еще…» Эта шутка станет известна всей армии, а потом и вовсе превратится в анекдот; ее даже Пушкин внесет в свои «Застольные беседы»…
Впрочем, это будет еще. А тогда из дворца Нарышкиных Денис кинется к дому Гагарина, где жил Багратион (С.-Петербург, Дворцовая наб., 10). «Когда я приехал, – пишет, – кибитка была уже подвезена к его крыльцу…» Вот с этого дня он и будет пять лет при Багратионе, «близ стремя блистательного полководца». А с первого боя будет при нем в роскошной бурке, подаренной князем «с плеча». Вообще-то – с дурацкой драки, едва не ставшей для него последней. Его спасла трофейная лошадь, которую денщик его звал «хранцуженка», и – оловянная пуговица, плохо пришитая пуговица на шинели.
Из воспоминаний Дениса Давыдова: «Я выпросился… в первую цепь, будто бы для наблюдения за движением неприятеля, но, собственно, для того, чтобы погарцевать на коне, пострелять из пистолетов, помахать саблею и – если представится случай – порубиться». Схватки не намечалось, лишь в отдалении приплясывал на коне какой-то француз. «Мне… захотелось… его… взять в плен. Я стал уговаривать казаков; но они только что не смеялись… Я как бешеный толкнул лошадь вперед, подскакал к офицеру довольно близко и выстрелил…» Француз выстрелом ответил, его товарищи стали палить из карабинов. «То были первые пули, которые просвистали мимо моих ушей… Твердо уверенный в удальстве моего коня и притом увлеченный вдруг злобой – бог знает за что! – на человека мне неизвестного… я подвинулся к нему ближе, замахал саблею и принялся ругать его на французском… Приглашал его… сразиться. Он… предлагал то же; но оба мы оставались на местах… В это… время подскакал ко мне казачий урядник и сказал: “Что вы ругаетесь!.. Грех! Сражение – святое дело”».
Урядника этого он увидит вечером еще раз и таки уговорит его ударить по врагу. В воспаленной голове его даже родится мысль: а вдруг это маленькое наступление поддержит сначала полк, потом арьергард Багратиона, а потом – вернется для поддержки Дениса и вся русская армия? Словом, с гиканьем бросится отряд в сечу с французами, и, как напишет Денис, жаждавший «поэзии кровавого ремесла», сабля его впервые «поест живого мяса». А позже, возвращаясь в одиночку к Багратиону, вдруг столкнется в лощине с шестью всадниками противника, конноегерями, которые не только погонятся за ним, но почти сразу ранят его лошадь. «Гибель казалась неизбежною. На мне накинута была шинель, застегнутая у горла одною пуговицею, и сабля голая в руках… Один… догнал меня, но на такое расстояние, чтоб ухватиться за край… шинели, раздувавшейся от скока. Он… чуть не стащил меня с лошади. К счастию, шинель расстегнулась и осталась в его руках…»
На самом деле всё опять было и так, и – не так! Он ведь был выдумщик, фанфарон. Он и биографию свою написал в третьем лице и сначала уверял, что автор ее некий Ольшевский, а потом – что чуть ли не знаменитый Ермолов. Да, сам творил легенду о себе и – сам верил в нее. Так вот, тем вечером, когда он, мечтавший повести в бой армию, удирал от конноегерей, из леса вдруг вылетело двадцать казаков, которые бросились на французов. Не было бы их, Денис бы не спасся. И весь в крови и грязи не предстал бы перед Багратионом, не услышал бы его вечного «маладец!» и не получил бы с плеча князя взамен пропавшей шинели (и шинель, и пуговица – не выдумки!) роскошной бурки. Именно в ней будет участвовать в самом большом сражении со времен «изобретения пороха» – в битве за Прейсиш-Эйлау, города, у стен которого русские и французы только за день потеряют свыше 37 тысяч.
Вот это был бой! «Не приказываю, братцы, прошу, – скажет солдатам Багратион. – Окромя нас, некому. Надо соблюсти честь России. Не приказываю… Прошу!» От этих слов у Дениса подкатится к горлу комок. Там, под Прейсиш-Эйлау, когда Багратион, спешившись, поведет свои войска в пешем строю «в штыки», у Давыдова и появится его знаменитая седая челка. Наконец, там он подружится с казаком Матвеем Платовым, атаманом войска Донского и генералом от кавалерии, и там же впервые увидит улана Александрова – Надежду Дурову, легендарную кавалерист-девицу…
А вообще, если вдуматься, ужас! Оловянная пуговица… Какая малость, казалось, спасла нам поэта двести лет назад. Но всё неслучайно в жизни. Ибо через сто пятьдесят лет другой поэт скажет: «Одним не прощается ничего, даже пуговицы незастегнутой, а другим… даже преступления…» Знаете, чьи слова? Анны Ахматовой! Они сказаны, к слову, как раз о поэтах. Но я обомлел, когда в мемуарах деда Ахматовой, изданных недавно, прочел, что предки ее по матери – дворяне Стоговы были в каком-то родстве с Давыдовыми и деда Ахматовой «дитятей» катали в седле Дениса, тогда еще корнета. Более того, когда родители Давыдова в 1798 году купят именьице Бородино, где вырастет Денис, где потом состоится знаменитая битва и где впервые явятся на свет наши партизаны, то имение Стоговых окажется в одиннадцати верстах от них. Там, кстати, рядом с Колоцким монастырем похоронена и прабабка Ахматовой. Монастырь сохранился, я был там, поднимался на колокольню, обходил окрестные захоронения, но древних могил не нашел, никто про них и не помнил уже. Но каково сплетение не биографий, нет – судеб?!.
Арифметика мужества
Давыдову не прощали ничего. Его обходили чинами и наградами. И золотую саблю «За храбрость», и орден Святой Анны 2-й степени, и золотой крест на георгиевской ленте за Прейсиш-Эйлау – все эти награды он получит с большим опозданием. Он даже острил: любой орден ему надо было «завоевывать дважды» – в бою и… в напоминаниях императору. Напоминал, конечно, не сам, старались отцы-командиры и друзья. Той же Маше Нарышкиной уже Багратион в один из приездов пожаловался: Давыдова обходят наградами. «А ведь всем в армии, – добавил, – ведомо: Багратион попусту воинскими регалиями не кидается». Черноокая Аспазия, пишут, свела брови: «Вот ужо и скажу Саше…» Саше – то есть Александру I. А тот мелко мстил Денису за давние стихи, за то, что в басне, из-за которой поэта и выгнали когда-то из гвардии, он, назвав Екатерину II «орлицей», императора обозвал не просто тетеревом – «глухой тварью». Царь-отцеубийца и впрямь был слегка глуховат…
Денис родился в Москве. По одним, недавним сведениям, вроде бы в отцовской усадьбе, которая находилась в 1784-м на пересечении 1-го и 3-го Неопалимовских переулков – там ныне пустырь за бетонным забором (Москва, 1-й Неопалимовский пер., 5). По другой, устоявшейся версии – на Пречистенке. На месте родового гнезда стоит теперь новый дом (Москва, ул. Пречистенка, 13). Не исключаю, что Давыдовым принадлежали оба дома – и усадьба, и особняк, семья была состоятельная: балы, пикники, выезды на псовую охоту. Отец гордился имениями в Московской, Орловской, Оренбургской губерниях. Но должность занимал простую – командир конного полка. Денис был первенцем его. Он хвастал потом, что явился на свет в год смерти Дидро, в честь которого и назван (хотя назвали в честь деда), и что оба они с Дидро «почему-то оставили след в литературе». Кокет! В роду Дениса были стольники да воеводы, двоюродными братьями станут знаменитые в будущем генералы Алексей Ермолов и Николай Раевский, но прапрадедом Дениса окажется не «истый русак» – золотоордынский князь Тангрикула Кайсым, чей внук Давыд Симеонович и положит начало фамилии Давыдовых. Зато судьбу Дениса, когда ему было девять лет, решит лично Суворов – «неразгаданный метеор», «залетевший» на маневрах пообедать в дом Давыдовых.
Пообедать… Да! Вот так – запросто! Сам Александр Васильевич Суворов! Господи, как я люблю эти детали в исторических книгах, в архивных источниках, свидетельства самые бытовые, иногда ничтожные, но делающие нас вдруг близкими к тому времени, превращающие нас чуть ли не в участников минувших эпох. Что́ время, что́ туман летописей и пыль столетий, если я знаю, что там, в десяти верстах от села Грушевка Полтавской губернии, где служил отец Давыдова, в избе к приходу Суворова не только накрыли стол, но срочно убрали все часы, завесили зеркала (полководец не любил их), спрятали подальше фарфоровые куклы, тогда распространенные, и велели никому не показываться в черном. Этого тоже не любил Суворов. Зато любил – и это подтверждает Давыдов! – хлопнуть перед обедом, «не поморщившись», большой стакан водки. Так было и в тот приезд «метеора»…
Из воспоминаний Дениса Давыдова: «Я жил под солдатскою палаткою, при отце… Около десяти утра всё… вокруг… закричало: “Скачет, скачет!”… Сердце мое упало, – как после упадало при встрече с любимой женщиной. Я весь был… восторг, и как теперь вижу… Суворова – на калмыцком коне… в белой рубашке… в сапогах вроде тоненьких ботфорт, и в легкой… солдатской каске… Ни ленты, ни крестов… Когда он несся мимо… адъютант его закричал: “Граф! Что вы так скачете; посмотрите, вот дети Василья Денисовича”. – “Где они? Где?” – спросил он и… подскакал к нам… Протянул свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: “Любишь ли ты солдат, друг мой?” Смелый и пылкий ребенок, я… мгновенно отвечал: “Я люблю графа Суворова; в нем всё – и солдаты, и победа, и слава”. – “О Бог помилуй, какой удалой! – сказал он. – Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет!”».
Какое там – «не умру»! Денис в тот же вечер дал три «сражения»: размахивая саблей, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, за что и розог получил втройне. Но с того дня он, коротконогий, с голосом «фистулой», стал спать только на досках, обливаться ледяной водой и до зари летать в седле, что очень «фрисировало» (раздражало) его мать. И, может, с той минуты – рискну предположить! – в нем стал крепнуть культ, как сказали бы ныне, «стопроцентного мужчины» (преодолеть, обогнать, выиграть!). Хотя в душе оставался и тонким, и нежным.
Стихи писал с юности. Возможно, подражая друзьям Андрею и Александру Тургеневым, сыновьям ректора Московского университета, в доме которого (Москва, Петроверигский пер., 4) бывал. Вернее, так: он стал рвать бумагу да грызть перья, когда братья дали ему почитать «Аониды» – собрание стихов, издаваемое Карамзиным. Правда, серьезного образования, в отличие от друзей, не получил. «Как тогда учили? – напишет. – Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества: учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке». Знаний набирался сам, бывая с отцом и у поэта Ивана Дмитриева, будущего сенатора и министра юстиции (Москва, Большой Козловский пер., 12), и в гостях у Василия Львовича Пушкина (Москва, Большой Харитоньевский пер., 2), и в «гнезде» знаменитого Карамзина (Москва, Брюсов пер., 9). В последнем доме, который, увы, не сохранился, и родился, считайте, русский сентиментализм. А когда Денису исполнилось семнадцать, запрягли для него кибитку, дали четыреста рублей, наказали не брать в руки карт и отправили в Петербург – его заранее записал отец в кавалергарды, в самый знатный полк империи. Кавалергарды – это ведь белоснежные колеты, лосины, сияющие каски. Мечта поэта!..
В Петербурге поселился у двоюродного брата, у кавалергард-ротмистра Александра Львовича Давыдова, тот занимал весь второй этаж в богатом доме графа Александра Самойлова (С.-Петербург, Адмиралтейский пр., 6/2). Именно в том доме, который построил великий Кваренги, будет потом и первый кабинет Дзержинского, и первая советская тюрьма. Ныне он известен по своему второму адресу (С.-Петербург, Гороховая ул., 2/6). Дом барона Фитингофа – потомка магистров Тевтонского ордена, если звать его по имени первого владельца. Мать Александра Львовича, Екатерина Давыдова, была урожденной графиней Самойловой, племянницей, кстати, светлейшего Потемкина. Он-то и сосватал ее (в четырнадцать-то лет!) за своего друга и боевого офицера Николая Раевского, – его она увидит лишь на свадьбе, после которой Раевский уедет с Потемкиным в турецкий поход, где под Яссами и погибнет. От брачной ночи у нее, почти ребенка, останется сын – Николенька Раевский. А позже ее возьмет в жены брат отца Дениса – Лев Давыдов и проживет с ней тридцать лет. Жить будут богато, одних имений у них будет столько, что Лев, шутки ради, только из начальных букв их составит фразу: «Лев любит Екатерину». Сосчитайте – семнадцать имений! Так что Денис оказался в Петербурге под крышей такого дома, где его никто и не думал торопить со службой. Напротив, здесь что ни вечер прожигали жизнь юные балбесы: и изящные офицеры гвардии, и великосветские щеголи, и дипломаты, лопочущие «по-иностранному», – друзья двоюродного брата его, того самого кавалергард-ротмистра Александра Давыдова. По мраморной лестнице взлетали они на второй этаж поболтать, глотнуть вина, ругнуть правительство (смеялись, что при Павле «первыми словами» были «дисциплина» и «порядок», а при Александре – «экономия» и «бережливость»), но главное – засесть всей компанией за карты. За то гнусное занятие, от которого остерегали Дениса родители. К счастью, на него оказал влияние другой двоюродный брат его – Александр Каховский, которого Денис еще мальчишкой видел в Грушевке адъютантом у Суворова. Авторитет для юноши! Благодаря ему и его другу князю Борису Четвертинскому, ставшему, как мы знаем уже, и другом самого Дениса, наш москвич и стал 28 сентября 1801 года эстандарт-юнкером лейб-гвардии кавалергардского полка.
Жить юнкерам предписывалось в казарме, в здании, занимающем целый квартал рядом с Таврическим садом (С.-Петербург, ул. Шпалерная, 41–43). Здесь его сразу прозвали «маленьким Денисом» – он был низкоросл, и это стало большим недостатком. Каховский, правда, кивал на Наполеона, который, будучи коротышкой, сумел ведь стать первым. И – подстегивал насмешками за вступление в службу «неучем». «Что за солдат, брат Денис, который не надеется стать фельдмаршалом! А как тебе снести звание это, когда ты не знаешь ничего такого, что необходимо знать штаб-офицеру…» Вторым же недостатком, непростительным для гвардии, было отсутствие «свободных средств» – попросту монет. Из гордости Денис не обращался к родственникам и месяцами сидел на одной картошке. Зато как никто писал стихи. Всегда писал! И во время дежурств в казармах, и во время экзерциций на плацу, и в манеже, и даже в конюшне, завалившись куда-нибудь в сено.
Через год станет корнетом, потом поручиком, будет нести службу даже в покоях Зимнего дворца. А по вечерам будет желанным участником пирушек в офицерском собрании. Почему? Ведь там, где пылали голубоватым огнем чаши с пуншем, висел табачный дым и пели песельники, он уже прочел свою басню «Голова и Ноги», стих, который через день знала вся гвардия. Через двадцать лет декабрист Штейнгель напишет Николаю I из крепости: «Кто из молодых людей… не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободою, кто не цитировал басни Дениса Давыдова “Голова и Ноги”?» В басне был прямой намек на царя и издевательская строка про «голову»: «Коль ты имеешь право управлять, так мы имеем право спотыкаться. И можем иногда, споткнувшись, – как же быть? – Твое величество о камень расшибить». Сумасшедшие ведь строки! Но самой дерзкой басней Давыдова станет басня «Орлица, Турухтан и Тетерев». В ней, как я уже говорил, Давыдов изобразит Орлицей Екатерину II, драчливым Туруханом – вздорного Павла, а Тетеревом, «хоть он глухая тварь, хоть он разиня бестолковый» – Александра I. Ну какой же правитель стерпит такое?
Короче, 13 сентября 1804 года полковой командир «торжествующе» снял с Дениса знаки отличия кавалергарда и приказал ему немедленно покинуть столицу. За басни! Исключили из гвардии, перевели в Белорусский армейский гусарский полк, в Звенигородку Киевской губернии. Для непосвященных скажу: это был страшный позор – в армию из гвардии отсылали тогда только карточных шулеров, непременно пойманных за руку, казнокрадов, либо трусов, проявивших малодушие перед лицом товарищей. Но наш рифмоплет удар выдержал, легенды о нем летели впереди него. Беспечный, двадцатилетний, он, как напишет потом, лишь «закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду»: в Звенигородке, где стояли гусары, как раз шли осенние балы. Но, пока крутил любовь с какой-то польской красавицей, пока в компаниях залпами вылетали пробки из бутылок («шампанского оттычки»), в мире грохотали реальные залпы. Шла война, был уже и Шенграбен, и Аустерлиц. Его друзья, тот же Четвертинский, даже младший брат Дениса – Евдоким, цепляли на грудь заслуженные кресты и зализывали раны, а он, он припрыгивал до утра в кадрилях! От других пахло порохом, от него – «необсохшим молоком». И когда он добился перевода в Петербург (его взял в свой эскадрон именно Четвертинский), тогда и стал рваться в действующую армию. Тогда и решился на «ночной набег» в отель к фельдмаршалу. И, может, тогда родился «Черный Капитан» – мужественный двойник его, один из главарей «народной войны»?..
Сражений на его жизнь хватит. По его словам – чуть ли не шестнадцать военных кампаний. Французская, потом Шведская, потом Дунайская война с турками. Нет, знаменитых битв Давыдов (кавалергард, гусар, потом – улан) и в будущем не выиграл ни одной (их выигрывали полководцы). Но сколько раз, уже в Отечественную войну 1812 года, отступая за Москву, а потом – наступая, он обнаруживал вдруг, что сидит на чужом коне (однажды под ним убьют пять лошадей), что кивер наискось разрублен, а ментик прострелен в четырех местах. А 21 августа 1812 года, в виду деревни Бородино, где он вырос, где уже торопливо разбирали родительский дом на фортификации, за пять дней до великого сражения, в овине при Колоцком монастыре Денис и предложит Багратиону идею партизанского отряда (или, как сказал, «поисковой партии»).
Из письма Давыдова – генералу Багратиону: «Ваше сиятельство! Вам известно, что я, оставя место адъютанта вашего… и вступя в гусарский полк, имел предметом партизанскую службу и по силам лет, и по опытности, и, если смею сказать, по отваге моей… Позвольте мне предстать к вам для объяснений моих намерений; если они будут вам угодны, употребите меня по желанию моему и будьте надежны, что тот, который носил звание адъютанта Багратиона пять лет сряду, тот поддержит честь сию со всею ревностию, какой бедственное положение любезного нашего отечества требует…»
В партизанской партии Дениса, скоро ставшей народной, спали в очередь, учили бесследно закапывать трупы врага, а при больших силах его – рассыпаться в разные стороны, чтобы через день в условленном месте встретиться вновь. Теперь Дениса было не узнать: вместо ментика и кивера он днем и ночью был в казацком чекмене и лохматой шапке. А дрались так, что соотношение погибших было четыре казака против ста пятидесяти французов. Это уже не выдумки Дениса – всё давно подсчитано. Однажды партизаны наголову разбили корпус, состоявший из 1100 человек пехоты и 500 всадников. То были войска генерала Ожеро, который и сам был взят в плен партизанами Давыдова, Орлова-Денисова и Сеславина. И лишь чудом под Малоярославцем ими не был захвачен и Наполеон. В тот день партизаны, смяв французов, кинулись брать артиллерийский парк, который считался крупной добычей, и не обратили внимания на кучку офицеров, которая уходила от них на лошадях. Давыдов напишет потом: «Казаки бросились частию на парк, а частию на Наполеона и конвой его. Если бы они знали, за кого они, так сказать, рукой хватились, то, конечно, не променяли бы добычу сию на одиннадцать орудий». Вот как дрались! Недаром Коленкур, французский генерал, возмущенный партизанами, этим «варварским способом ведения войны», скажет потом: «Ни потери, понесенные в бою, ни состояние кавалерии и ничто вообще не беспокоило Наполеона в такой мере, как это появление казаков в нашем тылу». Недаром и Бонапарт в занятой еще Москве не только запомнит имя Давыдова, но на описании примет его размашисто напишет: «При задержании – расстрелять на месте»… Честь для русского огромная! Что говорить, из Москвы, по списку штаба неприятеля, вышло 110 тысяч французов, а уже к Березине их осталось только 45 тысяч. Такая вот арифметика русской драки!
Из служебного формуляра Давыдова: «В действительных сражениях находился под Ляховым 28 октября, под Смоленском 29, под Красным 2 и 4 ноября, под Копысом 9 ноября, где разбил наголову депо французской армии, под Белыничами 14-го… За отличие награжден орденом Св. Георгия 4-го класса; занял отрядом г. Гродно 8 декабря, и награжден орденом Св. Владимира 3-й степени…»
Это перечень боев только за три месяца. Кстати, именно тогда Давыдов, оглядывая однажды с седла колонну пленных, увидел, что один из них очень похож на русского. «Мы спросили его, какой он нации? Он пал на колена и признался, что он бывший гренадер и что уже три года служит во французской службе унтер-офицером. “Как! Ты – русский и проливаешь кровь своих братьев!” – “Виноват! – было ответом его. – Умилосердитесь, помилуйте!” Я послал, – пишет Давыдов, – собрать всех жителей, старых и молодых, баб и детей… Спросил: находят ли они виновным его? Все единогласно сказали, что он виноват. Тогда я спросил: какое наказание они определяют ему? Несколько человек сказали – засечь до смерти, человек десять – повесить, некоторые – расстрелять… Я велел завязать глаза преступнику. Он успел сказать: “Господи! Прости мое прегрешение!” Гусары выстрелили, и злодей пал мертвым»…
Так понимали патриотизм на Руси. Иначе понимали его французы. Однажды, например, Давыдов в толпе пленных увидел юного барабанщика. Мальчика-француза звали Викентий, ему было пятнадцать. «При виде его сердце мое облилось кровью; я вспомнил и дом родительский, и отца моего, когда он меня, почти таких же лет, поручал судьбе военной!» Словом, Денис оставил мальчишку при себе, дал ему чекмень и фуражку и, как пишет, «сквозь успехи и неудачи, чрез горы и долы» довез его до Парижа и из рук в руки передал престарелому отцу. Так вот, невероятно, но через два дня отец и сын пришли к Давыдову за аттестатом. «Довершите благодеяние, – взмолился отец мальчика, – дайте ему аттестат в том, что он находился при вас и поражал неприятеля». – «Но неприятели были ваши соотечественники! – изумился Денис. – Ты чрез это погубишь сына, его расстреляют!» – «Нынче другие времена, – ответил ему старик-француз, – по этому аттестату он загладит невольное служение хищнику престола и получит награждение». «Хищником престола» назвал свергнутого уже Наполеона. «Что ж, если это так, – ответит ему Денис, – жалка мне ваша Франция!» Аттестат (справку, по-нашему) он, конечно, даст, и уже через неделю увидит у Викентия орден Лилии в петлице…
Нет, сражений Давыдов не выигрывал, но два города, представьте, взял. Гродно (где «за стуком сабель застучали стаканы и – город наш!») и, вообразите – Дрезден. Оба взял без разрешения начальства. Когда царю доложили, что Гродно взят отрядом полковника Давыдова, император, говорят, растерялся: «Что? Каким Давыдовым? А где же Корф?..» Генерал-адъютант барон Корф был любимцем царя, и по плану именно он должен был взять город. А за Дрезден, где Давыдов одолел гарнизон вдесятеро больший (между прочим, маршала Даву), где издевательски заставил французов выстроиться во фронт во всем параде, сделать «на караул» и отдать русским честь, а сам (браво, браво, Денис!) лишь слегка приподнял шапку; так вот за Дрезден получил не просто выговор – едва под суд не пошел. Город должен был взять генерал Винценгероде – «винцо в огороде», как звали немца бойцы Дениса. «Вы совершили государственное преступление! – орал тот на Давыдова. – Развели в армии партизанщину!» К счастью, за Дениса заступится сам Кутузов, и император, скрепя сердце, заявит: «Что ж, победителей не судят…» Короче, после таких побед в европейских газетах и замелькает имя его рядом с диковинным званием «Черный Капитан». Французский академик Арно пошлет посвященные ему свои стихи. А Вальтер Скотт, признанный уже классик, найдет где-то и повесит у себя над столом портрет его…
Из письма Вальтера Скотта – Денису Давыдову: «Вы едва ли можете себе представить, сколько сердец – и горячее всех сердце пишущее Вам – обращалось к вашим снежным бивакам с надеждой и тревогой… и какой взрыв энтузиазма в нашей стране вызвало ваше победоносное наступление. Имя ваше останется в веках на самых блестящих и вместе горестных страницах русской истории»…
Взбудоражил Европу «Черный Капитан». «Капитан», а так назвал его именно Вальтер Скотт, означало «предводитель», «вожак», а «черным» он был назван потому, что на русских лубках, попавших и в Европу, Давыдова изображали в черном чекмене и в черной мохнатой шапке. На самом деле «капитан» был уже полковником, и царь трижды отклонил представление его в генералы. Впрочем, даже императоры бессильны против неопровержимой арифметики побед. В Париж, впереди армейской кавалерии, Денис въедет-таки генералом. Расквартируют его по-царски, поселят в доме, который известен как Дом Кентавра – из-за двух барельефов на фасаде (Париж, наб. Бурбон, 45–47). Окна выходили на Сену, на мосты, на замок Тюильри, и, стоя рядом с этим зданием, я, через двести лет, легко воображал, как, взирая на побежденную столицу, важно «круглил» тут грудь и раздувал усы «Черный Капитан». Дом, кстати, прогремит и позже: в нем некая Люси Фор-Фавье сорок лет будет держать потом как раз литературный салон, в котором будут бывать Аполлинер, Жироду, Макс Жакоб, Кокто и даже – Пикассо. Нет, воля ваша, но в жизни всё неслучайно. Ведь именно в Париже молодой русский генерал Давыдов купит тетрадь, переплетенную в пергамент, и начнет приводить в порядок свои партизанские записи. На первой странице напишет: «1814 года 16 Апреля. г. Париж». Хотя эполеты, золотые генеральские эполеты ему аукнутся еще. И поразительно – аукнутся не на поле брани, не в светских и литературных салонах – в любви.
Этот русский… «армянин»
Признаюсь: я всю жизнь мечтал подняться на третий этаж этого здания на Фонтанке (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 20). Туда – в ту прославленную комнату, где мальчишка Пушкин, вспрыгнув на стол, лег на него и, глядя через Фонтанку на мрачную громаду царского дворца – Михайловского замка, – написал: «Тираны мира! трепещите!..» Тоже ведь – сумасшедший! Ведь ниже, на втором этаже этого дома, и Пушкин, кажется, знал это, была личная молельня обер-прокурора Синода, министра просвещения Голицына, где под лампадой из красного стекла в виде сердца, которое жутко светилось в темноте, вместе с Голицыным, и как раз за искоренение «вольнодумства», часто молился сам Александр I. Вот эту комнату, это окно Пушкина и хочется увидеть, поймать тот ракурс, ту прямую взгляда поэта, уткнувшуюся в «одетый камнем» замок! А кроме того, я же знаю – в этом доме у братьев Тургеневых на третьем этаже собирался иногда и знаменитый «Арзамас», литературное общество, куда входили Пушкин, Батюшков, Вяземский, Жуковский и куда однажды привели боевого генерала Давыдова. Уж не Вяземский ли привел, с которым они в Москве еще были влюблены в двух подружек-балерин, учениц Театрального училища, и который года за три до визита на Фонтанку уже назвал Давыдова «российским Анакреоном под гусарским доломаном»?
Вообще с князем Петром Вяземским Денис был знаком в Москве еще до войны, они вместе входили в «дружескую артель» – в поэтический кружок. Часто бывал у него дома, Вяземский жил на Басманной (Москва, ул. Новая Басманная, 27), навещал его позже и в доме Екатерины Муравьевой, где тот жил одно время с историком Карамзиным (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 25). Но в доме братьев Тургеневых, с которого я начал эту главу, в третьем этаже его, и будут принимать в «Арзамас» и семнадцатилетнего Пушкина, и уже тридцатидвухлетнего Дениса. Первому дадут кличку «Сверчок», за непоседливость, а второму, «Черному Капитану», за черноту усов – «Армянин».
Иные ученые пишут, что Денис тут и познакомился с Пушкиным. По другой версии, познакомился в те же дни, но на квартире Блудова (С.-Петербург, Невский пр., 80), где жил тогда и Жуковский. Но важней, думаю, другое: лицеист Пушкин, пишут, примерно в это время и собирался, по примеру Давыдова, идти в гусары. При встрече Денис якобы сказал ему, что по стихам давно уже любит его. «А я вас и того ранее», – с жаром выпалил Пушкин. Он, как младший, будет лет десять еще на «вы» с Денисом и даже признается, что как поэт весь «вышел» из него. Давыдов, скажет, «дал мне почувствовать, что можно быть оригинальным», и научил «кручению стиха». Повинится, что «украл» у него слова – «бешенство желанья»: «Я нравлюсь юной красоте // Бесстыдным бешенством желаний». И, краснея, добавит: «Коли сочтете возражать – вымараю!» А когда статью Дениса о войне позже отдадут цензору, и вовсе рассмеется: «Это всё равно, как если бы князя Потемкина послать к евнухам учиться обхождению с женщинами…»
«Арзамас», который собирался и у Блудова на Невском, и у поэта А.Плещеева (С.-Петербург, ул. Галерная, 12), и у будущего министра Сергея Уварова (С.-Петербург, ул. Малая Морская, 21), через год прикажет долго жить. Но Давыдов и Пушкин будут дружить всю жизнь. Через несколько лет Пушкин, уже в Москве, позовет Давыдова в дом, где была тогда гостиница «Англия» и где с 1826 года он часто останавливался (Москва, Глинищевский пер., 6). Денис, а он жил тогда в Гагаринском (Москва, Гагаринский пер., 33), ворвавшись к другу, узнает: тот хочет, чтобы Давыдов послушал «Выстрел», повесть Пушкина, где главным героем был как раз гусар. Я не стал бы поминать эту встречу, если бы не реакция Давыдова. Ныне точно известно: когда Пушкин добрался до рассказа Сильвио о себе, когда прочел его слова: «Я привык первенствовать… В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии… Я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым», – так вот, когда Пушкин прочел это, Денис именно в этом месте радостно вдруг взорвался. «Не иначе, – крикнул, – как наш Белорусский, гусарский!..» Имел в виду свой полк. Не хотелось бы домысливать, но, думаю, Пушкин (вряд ли слышавший до того про Белорусский полк) не мог не рассмеяться на простодушную отзывчивость вояки. А скорее всего, хохотал так, «что кишки видно», – именно так отозвался однажды о смехе поэта художник Брюллов.
«Пушкина, – писал потом Денис Вяземскому, – возьми за бакенбард и поцелуй за меня в ланиту. Знаешь ли, что этот черт, может быть не думая, сказал… одно слово, которое необыкновенно польстило мое самолюбие? Он, хваля стихи мои, сказал, что в молодости своей от стихов моих стал писать свои круче и приноравливаться к оборотам моим». А Пушкин напишет ему потом, уже на «ты»: «Я слушаю тебя и сердцем молодею». Но, с другой стороны, скажет как-то о Денисе: «Военные уверены, что он отличный писатель, а писатели думают – отличный генерал». Язвительно, но ведь точно. Это ведь и про двойственность Дениса, про «комплекс мужественности», или опять – про «Черного Капитана». Говоруна заносило – и не раз, да и как со стаканом в руке, в компании таких же рубак не приврать. Тем более что он, партизан, генерал, известный поэт, теоретик военного дела и дамский угодник, везде хотел быть первым: и в чопорном салоне, и на пирушке с чашей жженки, и в лихой атаке, и – за письменным столом. Да что хотел – был первым. Первый солдат, высланный за стихи, первый, употребивший в поэзии точки вместо нецензурных ругательств. Даже первый командир, который отважился при народе высечь помещика за саботаж. Ну как такому не прихвастнуть? Ну чуть-чуть! Хвастал, например, что был в занятой Наполеоном Москве как разведчик и в одежде француза, чего, кажется, не было. Наконец, имея репутацию забияки, бретера и даже певца поединков, ни разу не дрался на дуэлях (упоминаний о них я не встречал), хотя в полках, где служил, их случалось по три на день. Да и пьянство его, воспетое в стихах им же («всегда веселы и всегда навеселе!»), тоже, кажется, было фанфаронадой.
Из заметок Вяземского о Давыдове: «Нелишне заметить, что певец веселых попоек несколько поэтизирован. Радушный и приятный собутыльник, он на деле был довольно скромен и трезв. Не оправдывал собой пословицы: пьян да умен, два угодья в нем. Умен он был, а пьяным не бывал»…
Вот она легенда, вот – «Черный Капитан»! Но разве история не убеждала нас, что легенды рождаются там, где есть Личность?! Впрочем, он, артистическая натура, наверное, и не мог без легенд. Ведь на деле истинный, домашний Давыдов, певец бесшабашного веселья, тем не менее всё чаще повторял, вообразите, грубоватую, но верную французскую поговорку: «Кто часто садится на гвоздь, тот редко смеется»…
Два дома с одним номером…
Отчего нас, особливо на склоне лет, так притягивает к себе история, судьбы давно отживших людей, марево прошлого, которое, как сон, снова и снова пытаешься «вспомнить», паутина, патина невозвратно ушедшего, что с годами становится почему-то интереснее всего, что окружает тебя в жизни? Почему поэту ХХ века вдруг хочется «поужинать в “Яре”» с Пушкиным и почему я испытываю «род недуга» от музейной чернильницы тех лет, замираю перед истертым временем мундиром гренадера за стеклом экспозиции на нынешнем Бородинском поле и чуть не падаю в обморок в Литературном музее на Пречистенке, увидев обтянутый золотой тканью диван, на котором полеживал когда-то Давыдов? Диван стоял в Каменке, в имении дяди поэта, и на нем, как и мы, грешные, растягивался после обеда ли, после рассветной охоты или поздней гульбы реальный Денис Давыдов. Диван сохранился – чудо! – а поэта сто семьдесят лет, как нет…
Уж не на этот ли диван опустился Денис, когда в 1809-м, отправленный Багратионом с южной, Задунайской кампании с курьером и бумагами в Петербург, завернул в Каменку и остался в ней на девять дней? В Каменке возник на Рождество! Звонили колокола, ухали домашние мортиры. Здесь жили двоюродный брат Дениса Александр Давыдов, тот самый кавалергард-ротмистр, а ныне – отставной полковник, и его жена – эпицентр всего – легкая, фривольная, кокетливая, изнеженная, лукавая француженка Аглая Давыдова, урожденная герцогиня де Граммон. Она, Аглая-прелестница, дочь роялиста и ярого врага Бонапарта, станет одной из первых красавиц Петербурга. В Каменке в нее, имевшую уже двух дочек, были влюблены все, а те, кто не был, просто таяли перед ней. Некоторые утверждают ныне: Денис не только не избежал общей участи, но и добился любви ветреной родственницы. Еще при знакомстве она якобы сказала: «Боже, я и не знала, что у меня есть такой славный и воинственный кузен… Вы к тому же еще и поэт…» Она стала звать его на французский манер Дени, целовала в седую прядь на лбу и, будучи не слишком строгих нравов, однажды ночью с букетом белых лилий сама пришла к нему, чтобы обнять за шею «прохладными руками» и уже не отпускать до утра. Уж не на нашем ли диване и обнимались?..
Впрочем, что́ диван, что́ чернильницы поэта – колодцы его стихов, если в Москве сохранились целые дома Давыдова. И два из них – в пяти минутах ходьбы от Литературного музея. Клянусь, вы много потеряете, если не увидите их. Первый дом – сказка, деревянный, трехэтажный, – прямиком из той эпохи, стоит, как и положено, – в центре нынешнего военного квартала (Москва, Большой Знаменский пер., 17). Торопитесь, его ведь снесут современники-сволочи, рано или поздно, но – снесут. А второй дом, не дом даже – домина, «пречистенский дворец», как звал его Давыдов, стоит на самой Пречистенке (Москва, ул. Пречистенка, 17). Стоят, заметьте, под одним номером, под номером 17. Но есть куда более важное совпадение: оба стоят на улицах, в устье которых высится храм Христа Спасителя. Вот это – параллель! В те времена храма, как известно, не было еще, но мы-то знаем: он построен на народные деньги и в честь победы 1812 года. А значит – и в честь Дениса! Ведь это он скажет перед смертью: «Я считаю себя рожденным единственно для рокового 1812 года». Потому и не удивило меня, что первый из них, тот, что в Знаменском, занят сегодня как раз Министерством обороны. Нутряная, не топографическая какая-то связь, необрезанная пуповина столетий!..
Я, кстати, кружа у этого дома под задумчивыми взглядами из-под козырьков (уж не шпион ли?), всё хотел спросить генштабистов: а знают ли они, что именно сюда зимой 1828-го без приглашения закатился вдруг приехавший в Москву «велосифером» («поспешным дилижансом», который, представьте, тащился пять суток) сам Пушкин? Еле, кстати, нашел в Москве Давыдова. Они виделись два года тому назад, когда Пушкина вернули из ссылки и он навестил друга в доме, где временно, как пишет один арбатовед, квартировал тогда Давыдов (Москва, Арбат, 25). Может, потому Денис теперь и пошутил при встрече, что дома меняет из-за растущей семьи, а заодно, как партизан – «следы заметает». «Истинные же друзья, – добавил, – меня завсегда найдут по одному биению сердечному…» Так вот, знают ли господа вояки, занявшие ныне это здание и так и не повесившие на его фасаде мемориальной доски, что Пушкин именно здесь прочел сначала «Чернь», потом поэму «Мазепа» (так называлась «Полтава»), а под конец вдруг сказал, что на балу танцмейстера Иогеля только что видел юную Гончарову. Жену будущую видел.
Давыдов к тому времени уже девять лет как был женат на голубоглазой Соне Чирковой, дочери генерала, владелице имения под Сызранью и винокуренного заводика. До нее, если не брать в расчет ветрениц, встреченных на биваках, «амореток», как говорили тогда, и любительниц стихов «на ушко», у него было два романа. Оба – неудачные. Одна, юная балерина (ну какой гусар без балерины!), которую он, прославленный уже генерал, караулил лето, осень и зиму у дверей театрального училища (Москва, ул. Большая Дмитровка, 8), ушла, когда случилась катастрофа. Дениса по ошибке (в армии было шесть Давыдовых) лишили генеральства и перевели в полковники. Аукнулись ему эполеты генерала, помните? То был грандиозный скандал – то-то жужжали сплетники по салонам да приемным: петух, выскочка, подхалим. Потом разберутся, звание вернут, конечно, но честный вояка не только потеряет свою любовь, но от обиды и стыда чуть не покончит с собой. Было, было такое… А вторая любовь, изящная семнадцатилетняя полька с пепельными волосами Лизанька Золотницкая (порывистое, румяное, улыбчивое создание с чуть прищуренными серыми глазами), просто не дождется его. Он познакомится с ней в 1816-м, в Киеве, у Раевских, и после мазурки, экосеза и кадрили без памяти влюбится. Она еще скажет ему, запыхавшись после танца и округлив глаза: «Вы знаете, мне говорили, будто партизаны носят бороды, и я представляла вас таким страшным…» Денис хохотнет, раздувая усы, и, не тратя времени, получив согласие на брак, понесется в столицу испросить у императора государственную аренду в связи с женитьбой. Государь бумаги на шесть тысяч рублей годовых подпишет! Но, вернувшись в Киев, наш жених узнает: за месяцы отлучки невеста его «отдала свое чувство князю П.А.Голицыну» – бонвивану, картежнику и кутиле, кстати, изгнанному из гвардии за не вполне благовидные и какие-то скандальные дела. Откажет Давыдову через отца – сказать прямо не хватит духу. Давыдов ответит ей быстро, гордо и в стихах: «Неужто думаете вы, // Что я слезами обливаюсь, // Как бешеный кричу увы // И от измены изменяюсь?..» А вот над прошением к императору об отказе от аренды в связи с расстроившейся свадьбой будет сопеть долго. Противно ведь, что во дворце будут посвящены в его личные дела. К счастью, император и на этот раз проявит великодушие к генералу и аренду за ним – оставит…
И вот теперь он – женат. С Соней его познакомила родная сестра Дениса – Саша. Познакомила в доме Бегичевых на Мясницкой, где ныне редакция «АиФ» (Москва, ул. Мясницкая, 42), а когда-то чуть ли не ежедневно бывали Грибоедов (он даже жил здесь одно время), Вяземский, В.Ф.Одоевский, композиторы Алябьев (фронтовой друг Давыдова) и Верстовский, который именно здесь исполнил впервые свой романс «Черная шаль». «Вот бы тебе такую», – шепнула Денису Саша, кивнув на Соню. «Да уж больно строга», – будто бы отшутился он. Но дух домовитости и покоя, которого он не знал уже много лет, от Сони действительно исходил. А кроме того, за ней давали деревеньку Верхнюю Мазу (пятьсот душ, не шутка) и винокуренный заводик. Словом, одному из друзей он тогда и написал: «Уведомляю, что 13-го вечером я принял звание мужа». Конечно, «звание», как еще мог написать вечный солдат! Зато теперь, сообщал Василий Львович Пушкин Вяземскому, Денис «разъезжает со своею молодою женою в четвероместной карете и, кажется, важен и счастлив». Зато в первое еще их гнездо в Трубниковском (Москва, Трубниковский пер., 26), затем в сохранившийся дом в Большом Знаменском, а потом, в 1830–1831 годах, и в Дурновский переулок (Москва, Композиторская ул., 16) Соня внесет и достаток, и хозяйственность. Ну, любит магазины, модные лавки, ну, не полетела бы за ним в Сибирь, если бы его, как брата-декабриста, сослали бы (был в семье про то разговор!). Но зато не мешает хоть и на тысячу рублей покупать книги Монтескье, Руссо, Вольтера, даже шотландского историка Робертсона. Не возражает, чтобы муж наконец-то «взял абшид» – ушел в отставку. Не перечит визитам к друзьям: молодому офицеру и писателю Бестужеву-Марлинскому (Москва, ул. Зубовская, 14), Баратынскому (Москва, Вознесенский пер., 6), к задушевному другу еще по партизанскому отряду подполковнику Алябьеву – автору трогательных романсов (Москва, Малый Козихинский пер., 11). И уж конечно – грустной «пьянке» у Пушкина, когда тот накануне свадьбы устроил мальчишник в нанятых пяти комнатах на Арбате (Москва, Арбат, 53). В том доме сойдутся тогда Нащокин, Баратынский, Языков, И.Киреевский, Левушка, брат поэта, и композитор Варламов. Правда, давыдовское присутствие на мальчишнике оспаривается, ибо в то время он как раз спешил на новую военную кампанию – в Польшу, но в письме Дениса Языкову нашли вдруг фразу: «Я пьяный на девичнике Пушкина говорил вам…» Выходит, был? Но почему – «на девичнике»?.. Загадки, тайны даже в изученной, казалось бы, вдоль и поперек пушкинской жизни.
Впрочем, восстание в Польше, на которое спешил Давыдов, случилось, когда семья его (с няньками, мамками, воспитательницами и гувернантками) уже переехала в «квартиру с мебелями», в новый дом его, который, увы, не сохранился (Москва, Смоленский бул., 3). «Предписание», которое получил тут поэт, было привычным: явиться в распоряжение Главного штаба действующей армии. Но польская кампания станет последней в его послужном списке (ему уже до смерти надоело это «единственное упражнение: застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от глотки до пупа»).
Из письма Давыдова – жене: «Повторяю как тебе, так и здесь всем, что это моя последняя кампания – даю тебе в том честное слово. Пора на покой: 15-я кампания не 15-й вальс или котильон! Пора! Пора на печку!..»
Вернувшись из Польши генерал-лейтенантом – «наплечные кандалы генеральства», – он засунет мундир в сундук и примется за писание. К тому времени, в 1832-м, выйдет единственная при его жизни поэтическая книжка – «Стихотворения Дениса Давыдова»: тридцать девять стихов после двадцати девяти лет работы. Теперь он пишет «Дневник партизанских действий», завершает военно-теоретическую работу «Опыт о партизанах», кропает «Записки». Пишет так, что Белинский признается: Давыдов как прозаик «имеет полное право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы». И пишет так много, что ученым до сих пор не удалось составить весь список напечатанного Давыдовым – он ведь многое и не подписывал.
Кстати, читать записки его – удовольствие. Вот где он пульсирующий, настоящий. Невозможно не улыбаться, когда он рассказывает, как стрела казака-башкирца пронзила не нос – носище французского подполковника. Чтобы вытащить ее, лекарь хотел распилить стрелу, но башкирец заорал: «Нет, нет, бачка, не дам резать стрелу! Я сам ее выну…» – «Как же ты вынешь?» – закричали зеваки вокруг. «Да возьму за один конец и вырву!» – «А нос?» – «А нос?.. Да черт с ним, с носом!..» И – не грустить, читая, как умирал генерал Кульнев, друг Дениса. Тот Кульнев, в кого за благородное обращение с противником Густав I V, шведский король, особым приказом запретил своим солдатам стрелять. Этот же Кульнев начинал свои приказы со слов «Вставайте, я проснулся!», а заканчивал фразой – «Штыки горят!» Кульнев умрет от разорвавшегося ядра 20 июля 1812 года в сражении под Клястицами. Лишится обеих ног и, истекая кровью, сорвет с шеи Георгиевский крест и бросит его окружившим товарищам: «Возьмите. Пусть неприятель, когда найдет труп мой, примет его за труп рядового солдата и не тщеславится убитием русского генерала…» Кульнев нарочно ходил в шинели простого гусара из толстого солдатского сукна. Но дрался как никто. «Матушка Россия, – говорил, – тем и хороша, что в каком-нибудь углу ее да дерутся…» Актуально звучит – не правда ли? И какие все-таки размашистые были люди!..
Из заметок Дениса Давыдова: «Огромна наша мать Россия! Изобилие средств ее дорого уже стоит многим народам, посягавшим на ее честь и существование; но не знают они еще всех слоев лавы, покоящихся на дне ее… Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется!..»
Тоже – актуальные слова. Не просто слова поэта – пророчество генерала, если помнить о второй по счету Отечественной войне России.
«Звезда» последняя
Не Давыдова мы не знаем, мы себя – не знаем. Есть, есть какой-то закон: таланты невольно, как планеты, притягивают к себе другие таланты. Растут бок о бок, как усыпанное плодами древо, хоть натуральное в садах, хоть – генеалогическое. Разве мы помним, что двоюродными братьями «военной косточки» Давыдова были генералы Ермолов и Раевский? Разве не узнали только что про деда Ахматовой, который, кажется, был в родне с Давыдовыми? А если я скажу, что дальним родственником Дениса был также Иван Бунин, тоже, кстати, крупный поэт? И что Давыдов едва не породнился с Пушкиным и даже, непредставимо, – с предками Блока? А ведь это всё – правда. Да, Пушкин однажды сказал Давыдову, что сестра его Ольга давно и безответно влюблена в него. Но Пушкин не успел узнать, что, когда Давыдову стукнуло пятьдесят, когда он был уже женат и имел кучу детей, он, как юнкер, влюбится в девушку, которая не только окажется в родстве с Пушкиным, но которая была двоюродной сестрой химика Бекетова, а значит – станет какой-то там прабабушкой Блока. Ну, не удивительно? Так и кажется, что поэты, эти избранные Богом люди, где-то там, в недрах геномов, в чреве столетий, в записанных не иначе как на небесах родословных – все связаны меж собой. Да не просто историей с географией – родственной кровью, наследным словом…
В последнем доме своем на Пречистенке, 17, который Давыдов величал «пречистенским дворцом», он поселится с женой и уже шестью сыновьями в 1835-м. Официально дом купила жена Давыдова, но сам он ринулся в эту авантюру (дом был велик даже для его семьи), думаю, из-за скрытой сентиментальности: ведь в двух шагах отсюда, в доме 13, он и родился. Это был его район, его колыбель, его «детская площадка».
Каменная глыба, двухэтажная крепость, действительно дворец с колоннами, полукруглым окном мансарды, с двумя флигелями по бокам, дом этот ныне «с иголочки» отреставрирован московскими бизнесменами. И, как водится, ими же и занят. Попасть туда непросто – охранники еще на улице устроят вам форменный допрос. Я оказался в нем лишь благодаря тому, что снимал в то время телефильм о Давыдове. Кованая лестница, парадный зал, уютное гнездо в мансарде – что еще нужно постаревшему в боях воину? Когда-то дом принадлежал Архарову, обер-полицмейстеру и губернатору, который, встречая друзей, кричал, говорят, в приступе радушия: «Чем почтить мне дорогого гостя? Прикажи только, и я для тебя зажарю любую дочь мою!..» Так шутили тогда! Потом домом владел дядя Архарова, сенатор Иван Нарышкин, а уж после него – генерал-майор Гаврила Бибиков, у которого и купили дворец Давыдовы. Видимо, тот Бибиков, который при Бородине, будучи адъютантом Милорадовича, потерял правую руку в бою – ядро попало в нее как раз тогда, когда он указывал пехоте направление атаки. И что вы думаете – прежде чем потерять сознание, он показал-таки это направление, но другой, левой рукой. Да, люди были и впрямь размашисты, даже если и размахивать было уже нечем…
В «пречистенском дворце» Давыдов проводил теперь только зиму. Летом же вывозил семью в Верхнюю Мазу, в пензенское имение жены. Маза, если по-русски, – «Новая деревня». Она и была сельцом, где Денис занимался хозяйством, пшеницей («гусар-хлебопашец», не стыдившийся «поднять смиренный плуг солдатскою рукою»), растил скаковых лошадей, охотился вволю с борзыми и даже с ловчими ястребами. Из Верхней Мазы как-то, спасаясь от холеры, явился в Москве к министру внутренних дел и, щелкнув каблуками, спросил: чем могу быть полезен? С того дня должность его стала называться «санитарный надзиратель». Сутками работал «на холере», ночуя на пропахших хлоркой заставах (открывал больницы, карантинные бараки, бани, подбирал медперсонал из студентов, доставал транспорт, лекарства, еду). Так работал, что в «Ведомостях» Погодина его участок назовут лучшим, а самого его – «образцом» в борьбе с болезнью. Отсюда, из «пречистенского дворца», в январе 1836 года, решив устроить себе «великий праздник души», в последний раз отправился в Петербург; хотел «затолкать» на обучение старших сыновей: одного – в институт путей сообщения, другого – в училище право ведения. Девять дней прожил в Северной Пальмире, дивясь и Александрийскому столпу на Дворцовой, и двухэтажным «империалам» на Невском. Обедал у Вяземских (С.-Петербург, ул. Моховая, 32), а ужинал у Пушкиных – в бельэтаже на Неве (С.-Петербург, наб. Кутузова, 32). Успел повидаться в те дни и с первым эскадронным командиром Борисом Четвертинским, и с Николаем I – царем. Жуковский устроил аудиенцию в Зимнем, где поручик Давыдов нес когда-то караульную службу, а теперь, вместе с братьями Ермоловым и Раевским, парадным портретом висел в Военной галерее дворца. А под конец вояжа в квартире Жуковского, под крышей дома Шепелева, которого, увы, уже нет (С.-Петербург, ул. Миллионная, 35), Давыдову устроили прощальный вечер. Пушкин, Вяземский, Крылов, Плетнев, Одоевский, молодой Гоголь и множество других знакомых и незнакомых лиц собрались почтить его, ветерана. «Из двадцати пяти умных людей, – хвастанет жене, – я один господствовал, все меня слушали». Так ли было, не установить, но именно после этой поездки Пушкин впервые в письме назовет его на «ты». Эх, не долго будут «тыкать» они друг другу, ибо через год в дом на Пречистенке ворвется с мороза ошалелый Баратынский и крикнет с порога: «Пушкина нет боле!..» Денис на месяц свалится в постель: удушье, боли в груди.
Из письма Давыдова – Вяземскому: «Смерть Пушкина меня решительно поразила; я по сю пору не могу образумиться. Здесь бог знает какие толки… А Булгарины и Сенковские живы и будут жить, потому что пощечины и палочные удары не убивают до смерти…»
Потом, уже в мае 1837-го, напишет Вяземскому: «Что мне про Москву тебе сказать? Она всё та же, я не тот…» Да, всё в его жизни становилось теперь «не тем». «Черный Капитан» – миф, легенда, имидж, а может, и маска – как бы мстил Давыдову-человеку. Начиная от «ревматизмов», казалось, невозможных у него, и кончая окружавшими людьми, будто облезшими в одночасье. «Не той» оказалась даже жена. Теперь ссорился с ней из-за своих же крестьян. Возмущался, что в неурожай, когда крепостные натурально мерли, помещики и не думали помогать им. Жена возразила: она не видит причин его возмущениям. «Помилуй, Соня, что ты говоришь? – изумился он. – Там голод, люди пухнут от лебеды». «В Поволжье, – невозмутимо отозвалась Соня, – неурожайные годы явление обычное, поэтому разумные крестьяне имеют хлеб в запасе, а неразумным надлежит брать с них пример, а не рассчитывать на дармовое кормление… Вот и всё, мой друг!..» Разругался не только с женой – с любимой сестрой Сашенькой и ее мужем Дмитрием Бегичевым. Тот не только стал сенатором, но, толстый и самодовольный, объявил себя писателем: издал роман «Семейство Холмских». «Не срами меня, – сказал Денис, прочитав еще рукопись, – и имени автора не выставляй». Тот послушался. Но бульварное чтиво его неожиданно имело успех у публики и принесло ему двадцать тысяч дохода. А когда Денис упрямо повторил, что талантом в книге и не пахнет, Сашенька, сестра, вспылила: «Странно тебя, Денис, слушать… И, право, можно подумать, что ты нарочно говоришь так, чтоб позлить нас или из зависти». И «Митенька», муж ее, станет при жизни куда известней Дениса. Но вконец разведет Дениса и с женой, и с родней последняя любовь его – закатный роман, надежда, мелькнувшая ему, которую он – «гомеопатическая частица» мира, как звал себя, – не раз будет вспоминать в доме на Пречистенке.
«Психея», «звезда спасенья», «поэзия от ног до головы» – так называл в стихах Женечку Золотареву. А познакомился случайно. Просто на Святки 1832 года, он, генерал-лейтенант, ветеран лихих кампаний, седой гусар, кряхтящий, простите, «от ревматизмов», и автор книги стихов, отправится из Верхней Мазы в село Богородское – навестить сослуживца и подчиненного по партизанскому отряду гусара-ахтырца Дмитрия Бекетова. Проскакав двести верст, заснеженный и веселый, он прямо с порога будет представлен двум племянницам хозяина – Евгении и Полине Золотаревым. В Евгению, двадцатидвухлетнюю красавицу, живую, легкую, остроумную, и влюбится с первого взгляда. На три почти года влюбится. Особенно поразит его, что она, по рассказам дяди, знала о каждом подвиге Дениса, а стихи его лепетала и наперечет, и наизусть. То-то он был восхищен! Куда девался его опыт любовных «атак», поэтическая снисходительность к «амореткам». Именно ей он и признается: «Я, подобно закупоренной бутылке, три года стоял во льду прозы, а сейчас…» – «Пробка хлопнула, – расхохочется она. – И что же?..»
А действительно – что? Ну, потерял голову. Ну, поняла она его душу, ну, упивалась стихами его. Наконец, именно она через московское семейство Сонцовых приходилась дальней родственницей Пушкину, а заодно была и двоюродной сестрой будущего великого Бекетова – деда Блока. Но когда она первая, как в «Онегине», призналась ему в любви, он понял: пропал. И что такое двести верст еженедельно, пусть и по морозу, для человека, дважды пересекшего Европу? Он же любим, он опять молод и – не надо «ни земли, ни рая». Он же не знал, что любовь станет и великим счастьем, и великой бедой.
Из письма Давыдова – Вяземскому: «От меня так и брызжет стихами. Золотарева как будто прорвала заглохший источник. Последние стихи сам скажу, что хороши… Уведомь, в кого ты влюблен? Я что-то не верю твоей зависти моей по-молоделости… Да и есть ли старость для поэта? Золотарева все поставила вверх дном: и сердце забилось, и стихи явились…»
Друзья его, тот же Вяземский, стихи его к ней не только напечатали вопреки запрету Дениса, но и отметили под ними – «Пенза». «Злодей! – отослал он Вяземскому спешное письмо. – Зачем же выставлять Пенза под моим Вальсом?.. Ты забыл, что я женат, что стихи писаны не жене… Что мне с вами делать? Видно, придется любить прозою и втихомолку…»
Увы, развязка последней любви его окажется печальной. Он не смог скрыть своих чувств, и тяжело оскорбленная жена вскоре скажет ему: она всё знает, не надобны эти его поездки к Бекетовым, его «мальчишеские скачки», он может вообще не возвращаться. «Жалеть не буду, проживу с детьми отлично, не беспокойся!..» Намекала, что имение – ее, пшеницей успешно торгует сама, а у него лишь бредни – поэтические бредни. Короче, то ли дрогнул гусар, то ли охладела любовь Золотаревой (мы так и не узнаем этого), но девица собралась в конце концов замуж за отставного драгуна Мацнева, который, как оказалось, сватался к ней чуть ли не пять лет. Нет, не зря, не напрасно Денис всегда почему-то недолюбливал этих драгун!.. Он попросит Женю вернуть письма, скажет, что у него нет теперь будущего, а «осталось только прошлое, и всё оно заключается в письмах, которые я писал вам в течение двух с половиной лет счастья». Золотарева разрыдается: одни письма и «будут освещать и согревать мою жизнь…» Он, кажется, тоже расплачется: «Пусть будет, как вы хотите»… Но стихи – стихи бросит писать уже навсегда…
Жена, кстати, и сыновья его и через сорок лет после смерти Давыдова будут скрывать от посторонних эту последнюю страсть поэта. А значит – и стихи к «звезде» скрывать… Как это похоже на судьбу жен всех когда-либо писавших и пишущих. Ревновали к строчкам мужей даже за гробом. Настоящие, значит, были стихи, подлинные!..
«Моя жизнь — сражение!»
“Alea jacta est” – жребий брошен. Денис любил эти слова Цезаря. За закатной любовью его – наступил закат. Давыдов продал дом на Пречистенке, переехал жить в Верхнюю Мазу и через четыре года – умер. Ведь предупреждал всех, он не живет – горит, «как свечка»…
Сорок дней из-за распутицы, шесть недель не хоронила его Соня. Ровно столько – сорок дней! – полагалось не хоронить после смерти только царей. А я, узнав о Давыдове всё, что можно, не стал бы корить Соню – жену Дениса – за жалость к лошадям, которых не погнала в паводок, за промедление с погребением. Во-первых, она и сама казнила себя потом. Во-вторых, пережив поэта, она до смерти не позволяла никаких перемен в кабинете Дениса. Всё сохранила: перья, листы неоконченных записок, письма, том «Современника», раскрытый на статье Давыдова «О партизанской войне», и, конечно, портрет Вальтера Скотта, того, кто и назвал Дениса «Черным Капитаном». А в-третьих, и это, возможно, главное, – поторопись она с похоронами хоть на день, да хоть на час, – не состоялось бы этой странной и поразительной встречи, о которой я обещал рассказать. Почти мистической встречи «за гробом».
«Моя жизнь – сражение» – эта вольтеровская фраза, помните, была девизом Давыдова. У других были биография, жизнь, смерть, а у него, как у любого поэта, – судьба. Словно какая-то сила вела его, не позволяя уклониться ни от чего. И когда Россия начнет праздновать 25-летие победы над Наполеоном, именно Давыдов вспомнит о герое этой победы – князе Багратионе. И не просто вспомнит – подаст записку председателю Госсовета, в которой будет настаивать на перезахоронении Багратиона на Бородинском поле – тот был погребен в старенькой часовне в Симах Владимирской губернии. На согласование, на получение высочайшего соизволения уйдет почти год – как раз последний год Давыдова. Но он – кто бы сомневался – опять победит! Царь не только согласится с его идеей, но издаст специальный указ: прах Багратиона перенести и поручить сделать это, даже возглавить почетный конвой генерал-лейтенанту и кавалеру Денису Давыдову. И он, будьте покойны, возглавил бы, довел бы дело до конца, въехал бы во главе конвоя в Москву, а потом и довез бы гроб командира до Бородина, если бы… Если бы 22 апреля 1839 года не скончался в Верхней Мазе.
Он называл себя «гомеопатической частицей» мира. А реально стал частью событий огромных, воистину исторических. Когда через шесть недель тело «Черного Капитана» привезут наконец в Москву, то ровно в этот же день Первопрестольная под звон колоколов будет встречать и траурный кортеж – гроб Багратиона, катафалк, покрытый боевыми знаменами и усыпанный цветами. Говорят, два генерал-лейтенанта – великий полководец и великий поэт – на каком уж перекрестке Москвы и не знаю, но – пусть и в гробах – встретились-таки!.. В последний раз встретились.
Так было угодно небесам. Они должны были встретиться на земле. Прежде чем стать – землей.
«Утраченный рай», или Роковой поединок Федора Тютчева
Люблю глаза твои, мой друг, С игрой их пламенно-чудесной, Когда их приподымешь вдруг И, словно молнией небесной, Окинешь бегло целый круг… Но есть сильней очарованья: Глаза, потупленные ниц В минуты страстного лобзанья, И сквозь опущенных ресниц Угрюмый, тусклый огнь желанья. Федор ТютчевТютчев Федор Иванович (1803–1873) – великий русский поэт, член-корреспондент Петербургской академии наук по отделению словесности, а также – камергер, тайный советник, председатель Комитета иностранной цензуры. В истории русской литературы остался не только как автор любовной и философской лирики, но и как политик и публицист, написавший статьи «Россия и Германия», «Россия и Революция», «Россия и Запад».
Я миллион раз проходил мимо этого дома. Невский проспект, тысячи машин, десятки тысяч шаркающих ног. Но если правда, что время не исчезает, что наши предки живут и при нас, если, наконец, у вас есть хоть чуточка слуха, вы рано или поздно откуда-то сверху услышите прелестный женский голос, который каждый день, ближе к вечеру, вот уже полтора века произносит одну и ту же фразу: «Любимый! Накинь плед. Я тебе помогу!..»
Этими словами там, на четвертом этаже дома (С.-Петербург, Невский пр-т, 42), на последней, семьдесят восьмой, ступеньке лестницы – все целы и поныне! – провожала на ежедневную прогулку (и в зыбь жары, и в осколочный холод!) седая красавица седого встрепанного старика. Красавицу звали Эрнестина, а старика в зеленом клетчатом пледе – Федором Тютчевым. Да, где-то здесь у этого дома, где вдоль Невского еще росли деревья, стояла любимая скамья поэта, куда к концу жизни он любил выходить посидеть, погреться на солнце, почитать газеты. Но главное – вновь и вновь насладиться этим, может, самым интересным зрелищем – толпой. Вечным театром по имени Мир…
«Есть люди, которые так страстно любят театр, что готовы подвергать себя лишениям, – напишет о Тютчеве князь Гагарин. – Его не привлекали ни богатство, ни почести, ни даже слава. Самым глубоким, самым заветным его наслаждением было наблюдать зрелище, которое представляет мир». А другой князь, Долгоруков, единственный, кажется, недоброжелатель его, словно добавит: «Есть люди, которые устоят против искушений денежных, люди неподкупные, но которыми можно завладеть вежливостью, ласками, лестью и, в особенности, ежедневным собеседничеством. Федор Иванович принадлежит к числу людей… которых купить нельзя, а приобрести можно…»
Ну-ну! Приобрести?! Его, самого свободного человека в несвободном мире, вольное сердце среди сердец, скованных обычаями и предрассудками? У него, например, было две жены, от коих было шесть детей, две долгие связи, от которых было еще пять детей, и кроме того – четыре больших романа. Но ни одна из этих женщин, ни даже седая красавица с четвертого этажа, не «приобрела» его вполне и не могла, думаю, уверенно сказать: «Он мой – только мой».
Человек-загадка
«Любимый» – именно так звала его под конец жизни вторая жена – Эрнестина. Еще звала «чаровник». «Чаровник – счастливый человек, – писала дочерям, – ибо все от него в восторге». Но брату в Германию, с которым была прямей, напишет иначе: «Это – человек разочарований». Странно, да? Очаровывал, но сам терпел разочарование. Разочарованный чаровник!..
Дом на Невском был известен и до Тютчева. Он и сосед его, дом-близнец, и церквушка, будто сестра, глянувшая из-за плеч братьев, – всё это дело рук Фельтена, автора знаменитой решетки Летнего сада. Лазурный ансамбль этот на главной улице возник за полвека до появления здесь Тютчева. А за четверть века до него здесь в бельэтаже поселился (и об этом вторая доска на фасаде) великий Сперанский. Тот, кому декабристы мечтали доверить правительство новой России и кого после восстания царь иезуитски включил в Следственную комиссию по «Делу о 14 декабря». Судил Сперанский и близкого друга – поэта и подполковника Батенькова, который годами жил здесь у него и которого суд приговорит к двадцати годам каторги. Дочь Сперанского напишет потом, что отец плакал ночами, возвращаясь с заседаний. Судил ведь друзей, ведь к нему и к Батенькову приходили сюда и Рылеев, и Бестужев-Марлинский. Впрочем, стихи в бельэтаже будут звучать и после, ибо уже к дочери Сперанского, которая станет держать здесь литературный салон, будут заезжать Пушкин, Жуковский, Вяземский, даже Мицкевич. А в 1854-м тут, под самой крышей, поселится Тютчев и проживет без малого – двадцать лет. Жене Эрнестине, Нести своей, наняв здесь квартиру в четырнадцать комнат, с паркетом и лестничным освещением, напишет: она может теперь, как хотела, «парить на высоте над докучной толпой». Парила, видать! Но ведь и сам он, живя здесь, взлетел над толпой как никогда – выше не бывает! Действительный тайный советник, три ордена – Святых Владимира, Станислава и Анны (таких чинов и наград после Державина не получал ни один поэт), камергер, личный друг царя, две дочери – фрейлины. Но, с другой стороны, иные биографы поэта грустно констатируют ныне: он оказался незадачливым дипломатом, так и не ставшим послом; пророком, чьи вещания так и не пригодились миру; поэтом, издавшим лишь два небольших сборника, последний из которых и через десять лет после его смерти оставался нераспроданным; политиком и философом, который за семьдесят два года жизни так и не привел в систему свои воззрения, и, наконец, – любовником и мужем, который приносил женщинам, увы, одни несчастья.
Загадок в жизни Тютчева много. Пишут, что в принципе невозможно разгадать «загадку, заданную этим человеком мировой культуре». Родная дочь и та сомневалась: человек он или все-таки – дух? Он, приобретший репутацию Кассандры, но избежавший ее участи, кому безболезненно сходили с рук такие выходки, за которые любой другой неминуемо поплатился бы репутацией, карьерой – всем, и ради кого первая жена оставила четырех своих детей, а вторая (Эрнестина) пятнадцать лет терпела сначала одну, а затем и другую побочную семью поэта, – он оставил нам тьму тайн. Но одну из них, главную тайну – почему его так любили женщины? – мы попробуем разгадать.
Окна кабинета его выходили на Невский. Известно: там стояло «длинное кресло», в котором он спасался от подагры, камин, перестроенный из печки, а на столе – самодельная икона Федоровской Божьей Матери, как ошибочно назвал ее Иван Аксаков, зять и биограф Тютчева. На деле – икона «Взыскание погибших». Она хранится в Муранове, в музее поэта. А «самодельная» потому, что писал ее дядька-слуга – Николай Хлопов, который ходил за ним с четырех лет. Перед смертью завещал ее Тютчеву, а на тыльной стороне по углам, как узелки на память, прописал важные для обоих даты: когда приехали впервые в Петербург, когда оказались в Баварии да когда поэт получил первое звание – камер-юнкера еще. Но в одном углу написал нечто странное: «Генваря 19-го, 1825 г. Федор Иванович должен помнить, что случилось в Мюнхене от его нескромности и какая грозила опасность». Речь шла о девушке, почти девочке, встреченной поэтом – тогда девятнадцатилетним служащим посольства в Германии, и, по глухим сведениям, о несостоявшейся дуэли из-за нее. Именно про эту девушку и именно Хлопов донесет матери поэта в Москву, что Феденька обменялся с нею шейными цепочками и «вместо своей золотой получил в обмен только шелковую». Как бы – прогадал. Но знал бы Хлопов, что она, первая любовь поэта, пятнадцатилетняя графиня Амалия Лерхенфельд, станет, рискну сказать, возможно, единственной любовью Тютчева. Через год именно ей, внебрачной дочери короля Фридриха-Вильгельма III, побочной сестре русской императрицы, одной из первых красавиц Европы, которой будут восхищаться Гейне и Пушкин, в которую скоро влюбятся Николай I и баварский король Людвиг I, Тютчев сделает предложение. Она, тоже влюбленная в него, согласится, но восстанет ее родня; ей подберут мужа – тоже дипломата, сослуживца поэта, «пожитого» уже барона, с которым у нашего наглеца едва не вспыхнет дуэль. А Амалия? Амалия на всю жизнь останется добрым ангелом поэта. Не раз будет выручать его – распутывать, образно говоря, те самые узелки жизни его. Первой отвезет Пушкину его стихи, первой будет знакомить его с нужными людьми, с тем же Бенкендорфом, а однажды вообще спасет его едва не от Сибири. Это ведь про нее у него, уже женатого вторично, отца брачных и внебрачных детей, вырвется как-то в письме: «После России это моя самая давняя любовь». И это она, ровно через полвека после первой встречи, придет в дом на Невском к парализованному уже поэту. За три месяца до смерти его придет. И поэт в разметавшихся на подушках космах – чаровник, остряк, вечный насмешник! – неожиданно расплачется.
Да, в доме на Невском развязывались его «узелки». А потом грянул первый «удар» – инсульт, когда он прошелестит: «Это начало конца». В тот день, 1 января 1873 года, он, вышедший к любимой скамье на Невском, впервые не поднимется к себе. Его, рухнувшего на землю (отнялась левая часть тела), внесут наверх на руках. За четыре дня до этого он, узнав о кончине Наполеона III, схватится за перо, чтобы написать стихи об этом, и, к ужасу своему, вдруг поймет: ни звуки, ни рифмы не слушаются его. Считается, это и стало предвестником инсульта. Последним «узелком» жизни. А ведь завязывались они, взлеты и падения его, может, в тот московский день, когда он, подросток еще, услышал и запомнил: счастье, предназначение человека, о котором мечтает каждый, то, ради чего Бог, кажется, и создал нас, – отнюдь не цель жизни. Вообще – не цель!.. Но что тогда – цель? Вот загадка загадок…
«Аллея Тютчева»
О счастье заспорили в Москве родители Тютчева с поэтом Жуковским. Спорили у Чистых прудов, в доме Тютчевых (Москва, Армянский пер., 11). Этот почти дворец с кованой лестницей, с медовым паркетом в парадных залах сохранился – в нем ныне Детский фонд и небольшой музей поэта.
Тютчевы, наезжая в Москву из Овстуга, из своего имения в Орловской губернии, жили сперва в доме тетки матери поэта Анны Васильевны, жены графа Ф.А.Остермана (Москва, Малый Трехсвятительский пер., 8). Потом, когда тетка умерла, родители продали завещанный им дом и купили свой – в Армянском. Сыну их тогда только-только исполнилось семь лет. И тогда же он впервые увидел (мог увидеть!) Сашу Пушкина.
По странным все-таки, по чудным законам живет, дышит нам в спины история. Вот есть Москва, есть семилетний Федя Тютчев и одиннадцатилетний москвич Саша Пушкин. Они сами не знают еще – кто они. На дворе 1810-й! И вот они, два великих поэта, чьи пути не пересекутся ни разу, два родственника по линии Толстых (тот же Лев Толстой был ведь четвероюродным внучатым племянником Пушкина), вдруг, не видя друг друга, встречаются. На детском балу, куда знатные семьи водили отпрысков. Эту версию высказал Вадим Кожинов в книге о Тютчеве. И назвал место: в доме князей Апраксиных-Трубецких, в «дворце-комоде», который и ныне стоит у Покровских ворот (Москва, ул. Покровка, 22). Здесь Пушкин, его привозили сюда из Лефортова (Москва, Госпитальный пер., 1–3), делал первые па, и здесь вполне мог наблюдать за ним глазастый Тютчев. Его тоже возили сюда. А в доме князя Ф.С.Одоевского, музыкального критика и отца будущего писателя Владимира Одоевского, товарища Тютчева по учебе, где молодой Тютчев несомненно бывал (Москва, Малый Козловский пер., 1–5), Пушкин с родителями, еще до всяких детских балов, попросту жил. Дом Одоевских не сохранился, но – каковы совпадения! Ведь Одоевский и напишет потом тот некролог Пушкину – «Солнце нашей поэзии закатилось…»
Тютчев вырос в Армянском переулке. Отсюда ездил в Благородный пансион при университете (он стоял на месте Центрального телеграфа), сюда, в синем мундирчике с малиновым воротником и при шпаге, когда стал студентом университета, приводил приятеля и будущего историка Михаила Погодина, и здесь за семейным столом, празднуя с родителями приезд в Москву друга семьи, уже знаменитого поэта Жуковского, услышал тот спор о счастье. Это случилось 28 октября 1817 года. Жуковский запишет в тот день: «Обедал у Тютчева. Вечер дома. Счастие не цель жизни». Тютчеву было тринадцать, но, видать, сильно волновал его этот вопрос – ради чего стоит жить. Он ведь и через двадцать лет, уже в Италии, напомнит Жуковскому: «Не вы ли сказали где-то: в жизни много прекрасного и кроме счастия. В этом слове, – добавит, – целая религия, целое откровение…» Предполагаю, будоражило само слово «счастье». Ведь у него в четырех стихотворениях (от первых, написанных в 1820-х, до предсмертного в 1873-м) я нашел – с ума сойти! – (этого не заметил, кажется, ни один исследователь!) четыре строки, которые начинались одинаково – с этого слова: «Счастлив, кто гласом твердым, смелым…», «Счастлив, кто посетил сей мир…», «Счастлив в наш век, кому победа…», «Счастлив, кому в такие дни…» Вот – что это? Проговорки? Подсознание, тайная жажда счастья, данного другим? Или все-таки – подавленный стон вечно несчастного? Но я, признаюсь, чуть не ахнул, когда в дневниках Погодина, друга, прочел вдруг про юность Тютчева, про дом в Армянском: «Смотря на Тютчевых, – записал Погодин, вернувшись в свою каморку во флигеле знаменитого дворца графа Ростопчина, где жил тогда (Москва, ул. Большая Лубянка, 14), – думал о семейственном счастии. Если бы все жили так просто, как они…» Погодин, сын дворового человека, жил бедно. Но, сравнив его слова с тем спором о счастье, как не подумать: когда в доме витает истинное счастье, тогда оно и впрямь – не цель. Тютчев ведь вырос в счастливой семье. Но есть ли счастье там, где царит талант? Пусть даже и талант самой жизни?
Вообще родители поэта были небогаты, но – родовиты. Мать Тютчева была урожденной Толстой, благодаря чему ее сын окажется шестиюродным братом Льва Толстого, а отец – тот вел род от «хитрого» боярина Захара Тутчева. По другим сведениям – от Тетюшкова, такой была фамилия предка. Тот упоминается в Никоновской еще летописи как воин, которого сам Дмитрий Донской перед Куликовской битвой подсылал к Мамаю «со множеством золота и двумя переводчиками для собрания нужных сведений». Тоже был, выходит, дипломат. Не отсюда ли, как уверяет уже нынешний биограф, и «независимое поведение» поэта, и знание натуры людской, и прозорливость? Но – не поверите – поэта вообще могло не быть, если бы деда его, капитана Николая Тютчева, убила бы, как грозилась, одна страстная помещица из Теплого Стана. Террористка первая! Знаете, кто? Салтычиха! Та самая Дарья Салтыкова, о которой знает ныне каждый школьник, за которой в те далекие времена числилось чуть ли не сто тридцать замученных до смерти крепостных и чье имя ныне внесено в список десяти самых жестоких женщин мира.
Еще недавно эта сумасшедшая история излагалась так. Якобы капитану Тютчеву (он был землеустроителем) было поручено провести топографическую съемку деревень Теплого Стана и села Троицкого – примерно там, где на картах современной Москвы располагается некая странная «Аллея Тютчева». Там, в Троицком, капитан и повстречался с хозяйкой его, Дашей Салтыковой, двадцатипятилетней вдовушкой. Историки еще вчера писали, что все зверства ее (а Салтычиха только по официальному обвинению замучила тридцать семь крепостных) шли, пардон, от сексуальной неудовлетворенности этой не знавшей грамоты, но богатырского сложения и пылких чувств помещицы. Запороть до смерти любого из шестисот крепостных ей не стоило ничего. Особо цеплялась к девицам, которые умирали под плетьми за плохо выстиранное белье и недомытые полы. Молва же гласила: «Извела 139 человек и лакомилась в качестве жаркого грудями запоротых по ее приказу девушек». А «залюбить» могла до могилы; документы сохранили даже имя крестьянина – Ермолая Ильина, у которого она подряд убила трех жен, велев присыпать трупы землицей в ближайшем леске. И почти сразу будто бы влюбилась в капитана-землеустроителя. Да как! Небесам жарко! А когда Тютчев вздумал посвататься к соседке ее, к Пелагее Панютиной, Салтычиха – «изверг рода человеческого»! – подослала конюха с пятью фунтами пороха взорвать городской дом соперницы у Покровских ворот. «Чтоб оный капитан Тютчев и с тою невестою в том доме сгорели…» Такие вот не африканские – русские страсти! Мину под затреху конюх подсунул, а поджечь не решился, за что обезумевшая Салтычиха била его батогами. По счастью, крестьяне исхитрились подать бумагу взошедшей на престол Екатерине II, и она, учинив расследование, арестовала Салтыкову в ее московском доме – он стоял, кстати, на месте нынешней приемной ФСБ (Москва, Кузнецкий Мост, 22) – и заперла мучительницу в подземной тюрьме Ивановского монастыря (Москва, Малый Ивановский пер., 2). Посадила на тридцать три года, где «извергиня» вроде бы родила ребенка от караульного и испустила дух ровно за год до рождения внука капитана – нашего поэта. А капитан, женившись на Панютиной, не только вдруг разбогател, но – прикупил и Салтычихино село Троицкое, и деревню Теплый Стан.
Повторяю, так история излагалась буквально до 2000-х годов. При царях она в такой «редакции» была выгодна тем, что устрашала жадных до земель помещиков, а при власти советской – кочевала из книги в книгу, как «картинка» жестокости крепостничества. Оно, конечно, было жестоко (кто ж спорит), но в истории с Салтычихой всё выглядело не совсем так. Или – совсем не так. Об этом говорит опубликованное не так давно дело Дарьи Николаевны Салтыковой, кстати, по мужу, – дальней родственницы царей.
Начнем с того, что никакого романа между Салтыковой и Тютчевым не было. Они были не просто в родстве – они были дважды родственниками. Не только старшая сестра Дарьи, Аграфена, была замужем за действительным статским советником Иваном Никифоровичем Тютчевым, но мать сестер (и Аграфены, и Дарьи) Анна Ивановна Иванова была урожденной Тютчевой. То есть Дарья, вышедшая замуж за ротмистра лейб-гвардии конного полка Глеба Салтыкова, который умер, оставив жене двух сыновей, была двоюродной сестрой капитана Тютчева. Но, в отличие от последнего, благодаря деду, хитрому и ловкому царедворцу Автоному Иванову, – несметно богатой. От деда ей достались поместья в Московской, Вологодской, Костромской губерниях. И бриллиантом в ее наследстве сияло богатое село Троицкое, за которое со времен Петра I шла яростная борьба. А по соседству с Троицким обосновалась маленькая усадебка Тютчевых, в которой и проживал родственник Анны Ивановны – тридцатишестилетний красавец Николай Тютчев, наш капитан и – дед поэта.
Никакого романа с Дарьей у него не было еще и потому, что ей к тому времени было уже под сорок (а не двадцать пять лет), а кроме того, она была глубоко религиозной женщиной и ей было не до любовных дел. Дело было одно – у нее все хотели непременно отобрать Троицкое. И в первую голову хотел этого крутого нрава капитан Тютчев. Война, короче, разгорелась страшная. До сих пор неясна роль капитана в том, что летом 1762 года в Петербурге появились вдруг два беглых крепостных Салтыковой – Ермолай Ильин (да-да, тот самый, у которого Салтычиха якобы убила трех жен, хотя, как установят потом, он сам их и убил) и Савелий Мартынов. Вот они и подали на имя Екатерины II жалобу на «смертоубийственные дела» помещицы: «Душ до ста… ею, помещицею, погублено». Ныне дело Салтыковой опубликовано (его вели надворный советник Волков и его помощник князь Цицианов), и из него ясно: беглецы обвинили Дарью в смерти семидесяти пяти человек (в большинстве своем без свидетелей), и что сами же крестьяне и участвовали в преступлениях хозяйки. Заранее скажу, Дарья Салтыкова, даже под угрозой пытки, ни в одном убийстве не созналась. Да и тела тридцати восьми крепостных, смерть которых была якобы установлена, не были найдены ни в Агурцевом овраге в Троицком, ни где-либо еще. Сомневались в ее преступлениях и за помилование ее выступили Мусины-Пушкины, Толстые. Но императрица, которой было выгодно с такого шага начать свое царствование, отстранила Дарью от управления имуществом, арестовала и учредила следствие. Кстати, бравый капитан с началом следствия убежал с Панютиной из Москвы под охраной двенадцати дворовых. Была ли попытка взрыва дома его – неизвестно. Шла война за имущество, а не за жениха, тут всё могло быть. Известно лишь, что следствие шло шесть лет и когда Дарью, приговоренную к смерти, одетую в белый саван, с табличкой на шее «Мучительница и душегубица», приковали на Красной площади к позорному столбу, когда Москва повалила смотреть на нее («многих передавили и карет поломали довольно»), когда летело в нее дерьмо и комья грязи, наш капитан, имевший до того лишь сто шестьдесят крепостных, вдруг дико разбогател, отстроил свое имение Овстуг и завел там и каскадные пруды, и регулярный парк. Да, Салтычиха гнила в тюрьме (Екатерина заменила ей казнь на пожизненное), а дед поэта, извернувшись, сначала банкротил ее имущество, а потом и завладел и Троицким, и Теплым Станом. Рейдерский захват, если по-нашему. Короче, когда через год после смерти Салтычихи в семье Тютчевых родился поэт, сам клан Тютчевых, начиная с бабки его, Пелагеи Панютиной, владел уже тремя тысячами крепостных и… «бриллиантом» в своем богатстве – Троицким, где бывали позже и Жуковский, и Аксаков. Троицкое, кстати, продал потом сам поэт, но уже в 1829-м. Так что неслучайно, нет, неслучайно возникла на карте «Аллея Тютчева». И неслучайно так долго жила легенда о «несчастной любви» Салтычихи к деду поэта, прикрывшая не слишком благовидные дела его. Страшно сказать, но нечто похожее будет происходить и в жизни поэта…
Да, счастье не цель, как сказал Жуковский, но одна любившая Тютчева женщина чуть не заколет себя кинжалом на площади, а другая, ради счастья, едва не убьет его, швырнув в него тяжеленное пресс-папье. Словом, страсти и дальше будут бушевать вокруг поэта едва ли не африканские. Но вот за что, спросите, женщины будут именно так любить поэта – вот вопрос? Ответ один: «любил любовь», – так напишет о нем его современник…
Любить — любовь…
Катастрофа случилась 20 марта 1836 года. В тот день Элеонора, первая жена поэта, пыталась убить себя. Несколько раз ударив себя ножом, она, обливаясь кровью, выскочила на улицу, пробежала метров двести и на центральной площади Мюнхена упала без чувств. За час до того Тютчев, нежно поцеловав ее, сказал: он идет «обедать в городе». Но куда отправился – к друзьям или к «той» женщине, Элеонора не знала. Просто ушел, оставив ее с тремя дочками, самой младшей было пять месяцев. Всем – и ей, конечно, – было известно: у мужа вот уже три года длится связь с черноглазой вдовушкой, с Эрнестиной Дёрнберг… Шел четырнадцатый год жизни Тютчева в столице Баварии. И вот из-за этого скандала, почти самоубийства он мог стать последним годом в карьере секретаря русской миссии, едва сменившего мундир камер-юнкера на роскошный, шитый золотом мундир камергера.
Из письма Тютчева – князю Ивану Гагарину: «Моя жена… рассказала, что через час после моего ухода она почувствовала как бы сильный прилив крови к голове, все ее мысли спутались, и у нее осталось только сознание неизъяснимой тоски и непреодолимое желание освободиться от нее… Принявшись шарить в своих ящиках, она напала вдруг на маленький кинжал, лежавший там с прошлогоднего маскарада. Вид стали приковал ее внимание, и в припадке полного исступления она нанесла себе несколько ударов в грудь… Истекая кровью и испытывая ту же неотвязную тоску, она спускается с лестницы, бежит по улице и там, в 300 шагах от дома, падает без чувств…»
Тютчев намекает чуть ли не на горячку послеродовую и просит друга, чтобы тот, если кто-то «вздумает представить дело в более романтическом… освещении», опровергал бы эти «нелепые толки». Чуял, что дело могло обернуться крахом всего: жизни за рубежом, положения, карьеры. Он лишь не знал, что именно в день трагедии дядя Гагарина, посланник в Баварии и начальник Тютчева, отошлет письмо министру иностранных дел России Нессельроде, в котором попросит вывести Тютчева из его «пагубно-ложного положения, в которое он поставлен своим роковым браком». «При способностях весьма замечательных, при уме выдающемся… г-н Тютчев не в состоянии ныне исполнять обязанности секретаря миссии, – напишет. – Во имя христианского милосердия умоляю ваше превосходительство извлечь его отсюда, а это может быть сделано лишь при условии представления ему денежного пособия в 1000 рублей для уплаты долгов…» Я, начав читать это, решил было, что начальник защищает его, но, увы, в конце письма он прямо просит министра прислать ему помощника, «ибо от г-на Тютчева уже нечего ожидать…». При способностях, при уме и – нечего ожидать… Впрочем, чтобы разобраться в этом, может, самом тугом узле жизни поэта, надо вспомнить, как начиналось всё, как Тютчев превратился в дипломата и камергера.
На службу в Коллегию иностранных дел Тютчева пристроил троюродный брат матери поэта однорукий граф Александр Остерман. Когда на семейном совете было решено «пустить» Федю по дипломатической части, то отец его, подхватив сына, привез его в Петербург в дом Остермана. Здание это и ныне стоит на Неве (С.-Петербург, Английская наб., 10). 5 февраля 1822 года они переступили порог этого дворца, а уже через две недели восемнадцатилетний выпускник Московского университета был зачислен на службу в качестве чиновника двенадцатого класса. Покровительство, чистый блат по-нашему. Ведь граф Остерман фигурой был легендарной: герой Измаила, командир корпуса при Бородине, он через год, в сражении при Кульме, потерял руку. Пишут, что, когда ядром ему ожгло ее, он приказал отрубить ее, дабы продолжить бой. Были еще славные люди в родном Отечестве. Вот он не только рекомендовал заведующему Коллегией иностранных дел Карлу Нессельроде своего племянника на должность сверхштатного чиновника русского посольства в Баварии, но и пообещал лично отвезти его туда. Но три месяца Тютчев роскошествовал во дворце дяди, тогда одном из лучших в столице. Не жизнь – блеск! А Иностранная коллегия находилась в двух шагах от Остермана (С.-Петербург, Английская наб., 32). Дом тоже сохранился – смотрит на Неву колоннадой Кваренги. Тут за пять лет до Тютчева привели к присяге семерых лицеистов и среди них Пушкина, Горчакова, Кюхельбекера, а также поступившего сюда чуть раньше Грибоедова. Теперь же в Коллегии Тютчев подружится с такими же молодыми людьми, как и он, у которых вполне мог бывать и дома. С Корниловичем, будущим декабристом (С.-Петербург, ул. Итальянская, 13), с Воейковым, который станет редактором газеты «Русский инвалид» и напечатает переводы его (С.-Петербург, Невский пр-т, 64), с Петром Плетневым, тоже поэтом и будущим ректором университета (С.-Петербург, Московский пр-т, 8). Жаль, с Пушкиным не пересекся, а так – три месяца жизни над Невой, белые рассветы в богемских окнах, личные ложи графа в театрах, отданные Тютчеву, и – совсем нетягостная служба, больше похожая, как сказал бы Набоков, на «настой счастья». Досаждали лишь дежурства раз в месяц; надо было приносить с собой не только обед, но подушки и одеяла, которые на ночь раскладывали прямо на столах Коллегии.
В Германии Тютчев проживет двадцать один год. Родителям напишет: «Странная вещь – судьба человеческая. Надо же было моей судьбе вооружиться уцелевшею Остермановою рукою, чтобы закинуть меня так далеко!..» Увы, трехнедельная поездка его в карете Остермана до Мюнхена, кажется, была последним даром графа; тот скоро впадет в немилость к новому императору и навсегда останется в Швейцарии. А Тютчев, не достигший на диппоприще ничего, окромя золотого мундира (первые шесть лет вообще работал без зарплаты), именно там, в Мюнхене, и без Остермана найдет покровителей.
Первой станет Амалия, первая любовь, которая и поможет ему «выйти сухим» в истории с маскарадным кинжалом. Хотя женился он на Элеоноре Петерсон, урожденной графине Ботмер, кажется, как раз из-за Амалии. Та, любящая его, была, как я говорил уже, выдана замуж за сослуживца поэта Александра Крюднера, который был старше ее на двадцать два года. Ведь кто был Крюднер: богатый барон, ставший первым секретарем русской миссии в Мюнхене, а потом и послом. А Тютчев? Сверхштатный чиновник миссии, которому доверяли лишь «держать журнал», «делать конверты без ножниц» да «белить» депеши в Россию (у него был чудный почерк). Но, когда, вернувшись из отпуска, поэт узнал, что Амалию выдали замуж, тогда-то едва и не случилась его дуэль с Крюднером. Короче, чуть ли не впопыхах он женится на Элеоноре Петерсон, отменной красавице, конечно, но ведь и вдове с четырьмя детьми. Ему двадцать два года, ей – двадцать шесть. А кроме того, брак был тайным; Элеонора была лютеранкой. «Тайной» свадьбу назвал даже Генрих Гейне. Да, не удивляйтесь, Тютчев, скучающе лепивший конверты, сразу подружится и с Шеллингом («Это превосходнейший человек, – отзывался тот о Тютчеве, – очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь»), и с братьями Шлегелями, и с Гейне, который запросто забегал к нему. Гейне назовет потом Тютчева своим «лучшим другом» и будет вспоминать, как коротал вечера в доме поэта и развесив уши внимал каким-то байкам его «о привидениях». Они разойдутся потом – практичный немец попытается использовать Тютчева в своих целях, как использовал почти всех. Читайте книгу Лежнева «Два поэта (Тютчев и Гейне)», написанную в двадцатых годах прошлого века, там всё сказано про отличие русских от немцев. Позже Тютчев простит Гейне и даже навестит его, уже больного, в его парижской квартире (Париж, ул. Амстердам, 54). Сам он, по моим подсчетам, семь раз побывает в Париже. Не знаю, где венчался с Элеонорой, но уже в мае 1827-го жил на улице Артуа (Париж, ул. д’Артуа, 21), а в 1844-м, уже с Эрнестиной, второй женой, останавливался на Сент-Оноре (Париж, ул. Сент-Оноре, 383).
Решительная Эрнестина ворвалась в жизнь Феди – Теодора, как звали его в Германии – почти мистически. Не разлюбив Элеоноры, не оставляя ее еще долгих шесть лет, он влюбится в «новый предмет» без памяти. Этот «трюк» будет повторяться у него еще много, много раз. Он ведь всегда был влюблен сразу в двух, а то и в трех женщин. Причем пресерьезно влюблен. Карьера, политика, дети, ордена, даже стихи, к которым относился едва ли не наплевательски, – всё отходило на второй план. На первом была любовь. Сын его и тот напишет: отец и впрямь «мог искренне и глубоко любить… и не только одну женщину после другой, но даже одновременно…»
Так случится и с Эрнестиной. А «мистика» состояла в том, что она, урожденная баронесса Пфеффель, двадцатитрехлетняя балованная игрушка баварского света, была чуть ли не «вручена» Тютчеву ее мужем, бароном Дёрнбергом. Тот зимой 1833 года привез ее в Мюнхен. «Было время карнавала, а маменька любила танцевать и пользовалась большим успехом. Ее приглашали на малые балы к королю Людовику», – сообщит дочь ее. И вот на одном из балов барон, почувствовав себя дурно, решил уехать. Жену отыскал рядом «с каким-то молодым русским». Сказав, что не хочет ей портить вечера, что уедет один, повернулся к молодому человеку: «Поручаю вам мою жену». Этим русским и был Тютчев. А барон – перст судьбы! – приехав домой, слег и уж больше не встал. Тиф. С того дня и закрутился роман Теодора и Эрнестины. Ну, может, флирт, шашни, которые длились на глазах света три года. Было от чего схватиться Элеоноре за кинжал.
Эрнестина, утверждают ныне, была умней и образованней Элеоноры. Но Элеонора любила поэта. Ради него, повторю, отказалась от сыновей от первого брака, отдала их родне. Ведь за год до смерти ее, после одиннадцати лет совместной жизни, он писал про нее родителям: «Никогда ни один человек не любил другого так, как она меня… не было ни одного дня в ее жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня». Да и он любил ее. Он же, вообразите, когда потерял ее, поседел в одну ночь. И через двадцать лет сравнивал ее с «солнечным лучом» и называл – «утраченным раем». Наконец, он чуть с ума не сошел, когда незадолго до смерти ее узнал: пароход «Николай I», на котором она возвращалась с детьми (младшей два года) из России, сгорел и затонул. Жуткая история! Она и станет предвестием смерти первой жены поэта.
Тютчев сначала прочел в газетах лишь о гибели парохода и несколько дней (где вы, мобильные телефоны?) не знал: спасся ли кто? Лишь получив письмо от жены – считайте, с того света! – узнал: и она, и дети живы, погибли лишь бумаги, деньги и вещи. Впрочем, саму Элеонору, его Нелли, уже ничто не могло спасти. Через три месяца от простуды и нервов она скончалась. Тогда-то, в тридцать четыре года, поэт и поседел! Анне, дочери, скажет потом, что жить не хотел, ибо «как жить без головы на плечах…» Любил! Но ровно через четыре месяца в Генуе, и вновь – тайно, обвенчался с Эрнестиной. Более того, родителям в письме назовет ее существом, «лучшим из когда-либо созданных Богом». Тоже – любил, и тоже – искренне.
Да, на первом месте у поэта царила любовь. Любил любовь. И не отсюда ли некая женственность его натуры? Он ведь не только молился на встреченных женщин, не только ставил себя ниже любой, он всё время ощущал себя не мужем, а как бы сыном своих возлюбленных. Я приведу две фразы его, которые нарочно ставлю рядом, хотя они, казалось бы, о разном. В письме Эрнестине через три года после обручения напишет: «Твои слова – милый, малыш, уродец и т.д. – беспрестанно звучат у меня в ушах… Ах, Боже мой, как можно быть таким старым, таким усталым от всего, и в то же время чувствовать себя ребенком, только что отнятым от груди? Мне решительно необходимо твое присутствие…» А вторая фраза сказана, когда он достиг всего, что можно, но – высоким женским покровительством. Эти слова напишет, когда в сентябре 1858 года уже вторую их дочь – Дарью – назначат фрейлиной. «Назначение, – усмехнется в письме жене, – возбуждает много зависти и еще больше утвердит свет в его высоком мнении о пронырливости, отличающей всю эту семью интриганов, главой которой я имею честь состоять»…
Проныра, интриган! Он иронизирует, но, как ни грустно это писать, во многом напрасно. Он ведь всю жизнь искал покровительства женщин, знал «ходы» к ним, умел нравиться. Даже Эрнестину наставлял: «Бываешь ли у графини Нессельроде? Делай это, прошу. Это для меня существенно…» Вражда этой фурии, жены главного начальника его, министра иностранных дел, была страшно опасна, а дружба – «до ослепления охранительна». Мы-то знаем: Нессельродиха ненавидела Пушкина, терпеть не могла Лермонтова, а вот с Тютчевым – как-то сошлась. Скажу больше: его едва не хватит удар, когда она вдруг умрет. «Мой муж стал сиротой», – напишет Эрнестина. Конечно, комплекс – привет Фрейду! – конечно, поиск защиты безмятежной жизни и невольных «сумасбродств». И как плата – компромиссы да помятое тщеславие. Поэт среди дипломатов, он окажется и дипломатом среди поэтов. Помните слова: купить его нельзя – приобрести можно? Чем? Да покоем душевным, за каплю которого был готов отдать полжизни, комфортом, благами цивилизации, возможностью видеть мир и читать любые книги, необременительными обязанностями, изысканным обществом прелестных женщин и умных мужчин. Что еще нужно неглупому, талантливому человеку? А компромиссы… Да шут с ними! Кто вообще узнает про них, пока не повернется со скрипом захватанный, заляпанный тысячами рук калейдоскоп истории?..
Из «конфуза с кинжалом» выпутался благодаря Амалии. Выпутался? Вместо наказания его, напротив, сначала произвели в надворные советники (чин подполковника), а затем через год назначили старшим секретарем при русской миссии в Турине, в Сардинском королевстве. «Сбыча мечт» – первый самостоятельный пост. Более того, там, в Турине, его делают вдруг и.о. поверенного в делах – главная должность пусть и в крохотной миссии. Но там-то и случится гораздо более скандальная история – то преступление, за которое ему будет грозить чуть ли не Сибирь.
Хроника событий такова. 27 августа 1838 года умирает Элеонора – жена поэта. 27 ноября 1838-го Тютчев и Эрнестина принимают решение жениться (тайная помолвка совершается через месяц, в декабре). Тогда же Тютчев, уже глава миссии в Турине, где, кроме него, не было, кажется, ни одного служащего, испрашивает у Нессельроде, министра, и разрешение на брак с Эрнестиной, и отпуск. 22 апреля 1839 года тот разрешает жениться, но отпуска не дает – велит ждать смену. Но Тютчев ждать не намерен. Захватив шифры и важные документы, он запирает миссию и, в суматохе путешествий (Италия, Швейцария), а потом и свадьбы, теряет и бумаги, и – кошмар – шифры. Дело, натурально, подсудное. Минимум лишение дворянства. Но наглец не только не ждет суда – он после положенного четырехмесячного отпуска сам продляет его себе еще на пятнадцать месяцев. И всё сходит с рук. Чудеса! Не было даже расследования. Лишь 30 июня 1841 года Нессельроде за непоявление поэта из отпуска, за отлучку в два с лишним года (!) увольняет его. Тогда же его лишают звания камергера. За это время он успел жениться на Эрнестине, родить дочь Марию, а через год и сына Дмитрия. Но, главное, за это время он успел кое с кем познакомиться. Сначала с наследником престола цесаревичем Александром, затем с любимой дочерью Николая I – великой княгиней Марией Николаевной и, наконец, с дочерью Павла I – Марией Павловной, великой герцогиней Саксен-Веймарской. Проныра? Не знаю, что и сказать. Надо было как-то жить – вот, кажется, единственное объяснение его светской, скажем так, ловкости.
С цесаревичем его познакомил Жуковский, сопровождавший наследника в путешествии по Италии. В результате наследник «очень полюбил» поэта и, как напишет в Москву брат Тютчева, «был так добр, что обещал свою протекцию в случае, если она понадобится». Недаром Нессельроде вмиг изменил свое отношение к поэту и посулил в обозримом будущем хорошее место. С Марией Николаевной, дочерью Николая I, Тютчева знакомят осенью 1840-го года на курорте под Мюнхеном. Эту «взял» стихами, и в несколько дней между ними установились самые теплые отношения. Потом, когда почти запросто станет бывать в ее дворце (С.-Петербург, Исаакиевская пл., 6), обращался уже к ней, как скажет, не как к царственной особе – «как к женщине». Один из исследователей (для буквалистов скажу – поэт Георгий Чулков) даже напишет, что у них был роман. Так ли это – неведомо. Но стихи, которые посвятит великой княгине, мало напоминают дежурные оды: «Живым сочувствием привета // С недостижимой высоты, // О, не смущай, молю, поэта! // Не искушай его мечты! // О, как в нем сердце пламенеет! // Как он восторжен, умилен! // Пускай любить он не умеет – // Боготворить умеет он!..» Наконец, через год Тютчев будет представлен Марии Павловне, не только дочери Павла I, но сестре двух российских императоров. «Она соизволила, – напишет он, – оказать мне самый милостивый прием. В течение моего восьмидневного пребывания здесь я три раза обедал у нее и один раз провел вечер». В итоге старшая дочь его, двенадцатилетняя Анна, «была удачно пристроена при Веймарском дворе»… Какая, к лешему, Сибирь – Тютчева не только не «выключили» из службы, но вернули звание камергера. А вскоре к четырем высоким покровителям его: наследнику, двум великим княгиням и вечно любимой Амалии – присоединится пятая – цесаревна, будущая императрица. Правда, даже при таких заступниках он, собравшись в Россию навсегда, вдруг отложит возвращение на год. Просто нечаянно узнает: и его Амалия, и Мария Николаевна – великая княгиня и дочь царя – будут в Петербурге лишь через год. Без них возвращаться в Россию смысла не усмотрел…
Из письма Тютчева – жене Эрнестине: «Жить там в ожидании чего-то, угодного судьбе, было бы так же бессмысленно, как серьезно рассчитывать на выигрыш в лотерее… У меня нет ни средств, ни, главное, охоты увековечиваться в ожидании чуда… Нет под рукою необходимых… посредников…»
«Посредниц», рискну поправить я великого поэта. Ведь из пяти приобретенных за границей благодетелей сослался только на двух женщин. Уж не потому ли, отважусь сказать, что одна не изжила еще любовь к нему, а вторая, – я говорю о великой княгине – если верить стихам поэта, тоже, кажется, была слегка влюблена в него. Как было не любить того, кто любил – любовь? И не стихи ли стали надежным щитом его, а лесенка строф – лестницей вверх?..
«Лев» России
А ведь поэтом его никто особенно и не считал. И первым не считал себя – сам Тютчев. Одни говорят, что был равнодушен к своим стихам (граф Капнист подберет однажды забытое на столе после заседания одно из стихотворений его). Другие утверждают: замыслы были гораздо значительнее того, что выходило из-под пера. А третьи воспаряют в выси заоблачные – слишком-де был занят местом России в мире. И, кажется, не зря «воспаряют».
Дипломат, политик – вот как числил себя. Стихи были на десятом месте. Однажды в Мюнхене, в 33-м еще, бросил в печь почти всё, что написал к тому времени. Через три года, когда Гагарин, друг, попросит его прислать ему свои стихи, едва не отмахнется: «Вы просили прислать вам мой бумажный хлам». И добавит: «Я сильно сомневаюсь, чтобы бумагомаранье, которое я вам послал, заслуживало чести быть напечатанным, в особенности отдельной книжкой…» Может, оттого и другие относились к ним так же? Удивительно, но Пушкин еще в 1830-м, отмечая статью Киреевского, обозревавшего русскую словесность, напишет: «Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевырёве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим…» Про Тютчева – ни слова! А когда Гагарин, вырвавший у Тютчева подборку стихов (их и отвезет в Петербург Амалия), отдаст их в пушкинский «Современник», то особого отклика они не вызовут. «Там они и умерли», – скажет о них потом Майков, поэт. Глухо отзовется Плетнев, скажет, что Пушкин с «изумлением и восторгом» встретил их. Самарин позднее напишет: «Пушкин носился с ними целую неделю». Но ни слова самого Пушкина. Гений не заметил гения! Скажу больше: первый сборник Тютчева выйдет, когда ему исполнится пятьдесят один год. С ума сойти! А про второй и последний (за четыре года до смерти) он сам отзовется «как о весьма ненужном и бесполезном издании». О нем и впрямь появятся лишь две рецензии, а тираж, непредставимо, – тираж вообще не раскупят при жизни поэта.
Из письма Эрнестины Тютчевой – брату: «Тютчев ненавидит писать… Эта леность души и тела, эта неспособность подчинить себя каким бы то ни было правилам, ни с чем не сравнимы… Это светский человек, оригинальный и обаятельный, но, надо признаться, рожденный быть миллионером, чтобы заниматься политикой и литературой так, как это делает он, т.е. как дилетант. К несчастью, мы отнюдь не миллионеры…»
«Ах, писание – страшное зло, – жаловался поэт, – оно второе грехопадение бедного разума». Кокетничал? Возможно! Ибо до нас дошло 1250 писем его, из которых, стыдно сказать, лишь треть опубликована. Но если писание зло, то беседа, разговор – это святое! Любил пофилософствовать с Шеллингом, с Чаадаевым (споры их доходили порой до перепалки), поспорить с молодыми еще Тургеневым и Толстым, да просто поболтать в любом удобном месте. Из-за этого не только жена считала его лентяем – родной брат бросил в сердцах: «Какой ты пустой человек!» Было такое, и Тютчев согласится с братом – вот что поразительно! Словом, шармер, баловень общества, философ гостиных – вот поэт, вернувшийся в Россию после двадцатилетней службы. «Чаровник»! Или – «Лев сезона», как почти сразу окрестит его Петр Вяземский…
Утром 2 октября 1844 года пароход, на котором Тютчев с семьей прибыл в Россию, бросил якорь в Кронштадте. Небо было «серым и грязным» – так увидела его Анна, дочь поэта. Она морщила носик, он убеждал ее: «Ты найдешь в России больше любви, нежели где бы то ни было в другом месте… Ты будешь горда и счастлива, что родилась русской». А сам – ликовал. Родителям, выразившим надежду на продолжение им дипслужбы, отписал: «Как могли вы подумать… чтобы я… покинул Россию. Будь я назначен послом в Париж… и то я поколебался бы принять это назначение… Петербург – это… русский характер, русская общительность».
Надо сказать, что за год до возвращения в Россию с семьей он успел побывать и в Москве, и в Петербурге. Разведка боем. В Москве навестил родителей, они жили на Садовой уже, где сняли для сына трехкомнатную квартиру на первом этаже (Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 25). Побывал в Армянском, обнял друга Погодина в его «избе» на окраине Москвы, чудом сохранившейся до наших дней (Москва, ул. Погодинская, 12а), где едва не застал Гоголя и самого Лермонтова (тот три года назад, в 1840-м, читал там поэму «Мцыри»), познакомился с Чаадаевым. Видимо, бывал у Чаадаева и дома (Москва, ул. Новая Басманная, 20). Там-то, возможно, и начались их жаркие баталии, когда они едва не орали друг на друга. Тютчев скажет о Чаадаеве: «Человек, с которым я согласен менее, чем с кем бы то ни было, и которого, однако, люблю больше всех». А познакомился с Чаадаевым, кажется, у своей сестры Дарьи, которая к тому времени вышла замуж за Николая Сушкова и завела литературный салон (Москва, Старопименовский пер., 11). Салон этот в течение двадцати лет был из самых известных в России. Здесь все писали стихи: и мать Сушкова, урожденная Храповицкая, и дядя его, и сводные братья – Михаил и Петр. Племянница Николая Сушкова Евдокия – Додо, как звали ее близкие, – знаменитая Ростопчина, поэтесса, завела к тому времени и свой салон (Москва, ул. Садовая-Кудринская, 15). Тютчев бывал и в нем, даже посвятил Ростопчиной стихи. Тоже, кстати, знаменитый дом, тут Ростопчина принимала Дюма-отца, который посетил Москву, здесь бывал Гоголь, и здесь Ростопчина проводила уже на Кавказ Лермонтова – в последнюю ссылку.
Салоны, салоны – знамение времени! Акупунктура эпохи, средоточие острой мысли, точечных чувств. Здесь шепот, случалось, отзывался криком на всю Россию, а крик смирялся до шепота. Тут возникали и низвергались авторитеты, составлялись союзы, партии по интересам. Салон Каролины Павловой, поэтессы, где в двухэтажном доме зеленого цвета, который и ныне украшает бульвар, бывали Лермонтов, Гоголь, Мицкевич (Москва, Рождественский бул., 14). Салон Аксаковых (Москва, ул. Сивцев Вражек, 30а), куда заходили Герцен, Огарев, Гоголь, Хомяков, а позже и Белинский. Салон Свербеева, который располагался в его доме на Страстном (Москва, Страстной бул., 6), где бывали Пушкин, Гоголь, Лермонтов и где мирно уживались славянофилы и западники. Наконец, салон Авдотьи Елагиной в Трехсвятительском (Москва, Хоромный тупик, 4), где Тютчев, приехавший в Москву, бывал что ни вечер. «Республика у Красных Ворот» – так величали эту почти усадьбу племянницы Жуковского и, кстати, матери братьев Киреевских, ибо здесь взмывали в небо протуберанцы ну самых крайних речей. Тут витийствовали Пушкин, Баратынский, Вяземский, Одоевский, а позже Герцен, Чаадаев, Огарев, Аксаков и Хомяков. И не здесь ли, наслушавшись противоречивых мнений о России, у Тютчева стал созревать план действий на всю оставшуюся жизнь, тот «проект», который он ринется «приуготовлять» в Петербург? Да, в той еще «разведочной» поездке он уже искал пути осуществления своего «хитрого» умысла.
Начать с того, что в Петербурге, перебравшись из Москвы, он почти сразу ринется к Амалии; она с Крюднером, мужем, доживала лето в Петергофе, на даче. Вот где царил истинный grand mond. Здесь жила и Мария Николаевна, великая княгиня, и императрица, двоюродная, как помните, сестра Амалии, и сам Николай I, который еще недавно «крутил любовь» с Амалией, а потом, как признался, «уступил» свое место Бенкендорфу. «Деловые качества Бенкендорфа страдали от влияния, которое оказывала на него Амели Крюднер, – запишет одна из великих княжон. – Она пользовалась им холодно, расчетливо: распоряжалась его деньгами, его связями где и как только ей казалось это выгодным, – а он и не замечал этого». Любил ее, как любят, стоя одной ногой в могиле. Бенкендорф и умрет скоро, но прежде Амалия познакомит его с Тютчевым. Как раз за год до окончательного возвращения поэта в Россию. Факт сей не любят поминать биографы поэта, особенно – «советского разлива». Как не любят поминать его слова о шефе жандармов, об этой, казалось бы, самой зловещей фигуре эпохи. «Это одна из лучших натур, – скажет о Бенкендорфе Тютчев, – которые когда-либо встречал… Вполне добрый и честный человек». Для Тютчева, для цельной натуры, это были не просто слова. И отгадку их надо искать не в поэзии поэта (простите тавтологию!) – в политике. В политике, как он сам ее понимал.
Тютчев тоже, надо сказать, понравился «ясноглазому» начальнику III отделения, тот даже пригласил его в свое имение Фалль под Ревелем. Погостить. Об этих пяти днях из жизни Тютчева сведений почти нет. Знаю, что оба говорили о маркизе де Кюстине. Поэт был тогда лично оскорблен словами Кюстина: «Каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы…» Тот написал «про счастье» (опять – про счастье!) в модной на Западе, но запрещенной для русских книге «Россия в 1839 году». Тютчев, увидев в ней взгляд «сквозь призму ненависти, помноженной на невежество», горячо кинулся защищать родину. Там же, под Ревелем, выскажет Бенкендорфу и идею личного «проекта»: повернуть через немецкие газеты общественное мнение мира в пользу России. Начать, может, первую в мире «информационную войну» в прессе. Помня, что шеф жандармов в 1812-м командовал авангардом партизанского отряда, Тютчев и предложит начать «партизанскую войну в тылах европейской печати». Бенкендорф кинется с его идеей к царю, и уже тот повелит Тютчеву написать об этом записку на его имя. Смысл ее в том, что Священный союз, созданный в 1815-м, в том числе и с Германией, объединял лишь правительства Германии и России, а немецкая печать, задающая тон европейскому мнению, была полна слепой и неистовой вражды к России. Вот поэт и предложил свое посредничество между русским правительством и немецкой прессой. «Надо, – написал царю, – завязать прочные отношения с какой-нибудь из наиболее уважаемых газет Германии, обрести радетелей почтенных, заставляющих публику себя слушать и двинуться… к определенной цели». К какой? Да к прославлению державы! Первый «агент влияния» на Западе или, если хотите, – первый «пиарщик». Царь в ответ не только выплатит ему 6000 рублей (может, самый высокий в русской литературе гонорар!), но через два года после окончательного возвращения поэта в Россию, в 1846-м, назначит его чиновником особых поручений при канцлере. Самое то, как сказали бы ныне. Работа не требовала ежедневного присутствия, позволяла ездить в Европу, получать газеты без цензурных изъятий, чего не разрешалось даже губернаторам, и, наконец, давала жалованье в 1500 рублей – столько зарабатывал обер-прокурор Сената. Сравните: городничие получали от 300 до 450 рублей, а чиновники вообще 60–80 рублей в год. Впрочем, Эрнестина, жена, и это жалованье назовет «нищенским». Немка, что с нее возьмешь?!
Это, впрочем, будет еще. А пока, пришвартовавшись с семьей в Петербурге, Тютчевы остановятся в «Кулоне», отеле Ж.Кулона и Г.Клее, который стоял на месте нынешней «Европейской» (С.-Петербург, Невский пр-т, 36). Семье город понравится: «простая и непринужденная манера обращения», два раза в неделю – Итальянская опера и, «когда захотим» – Французский театр. Но деньги, деньги… Я ведь забыл сказать, что Эрнестина после свадьбы уплатила за поэта двадцать тысяч долга и взяла на обеспечение детей Тютчева от первого брака. Да и его взяла на «обеспечение», чего уж там! Короче, пришлось оставить многокомнатный номер в «Кулоне» и перебраться в меблированные комнаты г-жи Бенсон (С.-Петербург, Английская наб., 12). Не без удовольствия, думаю, переезжал сюда поэт, ибо рядом, в доме 10, был, помните, дворец Остермана.
Вернувшись, поэт немедленно с головой окунулся в светскую жизнь столицы. «Я редко возвращаюсь домой ранее двух часов утра», – напишет родителям. А Плетнев даже пожаловался на него Жуковскому: «Нет возможности поймать в квартире его, а еще мудренее заполучить к себе на квартиру…» Тютчев блистает на балах у Закревских, у графа, которого прозвали «чурбан-паша», и его красавицы-жены – той самой, кого Пушкин уже назвал «беззаконной кометой» (С.-Петербург, Исаакиевская пл., 5). Бывает на вечерах у Бобринских (С.-Петербург, ул. Галерная, 58–60). Ночи просиживает в уютных комнатах князя В.Одоевского, знакомого по московской юности (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 37), у «черноокой Россетти», Смирновой-Россет, в ее красном доме в два этажа (С.-Петербург, наб. Мойки, 78), наконец, в доме Бибиковой – у жены и дочери покойного Карамзина (С.-Петербург, ул. Гагаринская, 16). В этой последней квартире, под самой крышей ныне ветхого, но не утерявшего щегольства трехэтажного дома каждый вечер зажигались за огромным полукругом окна большая лампа, два стенных кенкета, и – в старые кресла выцветшего штофа усаживались и самые хорошенькие дамы столицы, и самые интересные люди. Тютчев не застал уже ни Пушкина, ни Лермонтова, но Жуковский, Гоголь, Вяземский, Мятлев, Ростопчина, та же Россет (в воскресенья собиралось до шестидесяти человек), наконец, душа этого «малого двора» – дочь историка Софья Карамзина, – все не раз слышали здесь тютчевские остроты и колкости. «В обществе Карамзиных, – напишет Плетнев, – есть то, чего нигде почти нету: свобода». Впрочем, я, пытаясь «заглянуть» за недреманое веко полукруглого окна под крышей, больше всего поражался не свободе, не тому, что только здесь говорили по-русски, и не тому, что Софи сама разливала чай, за что ее звали «самовар-паша». Я забыть не мог, что там, за окном, капризных гостей угощали – знаете чем? – крохотными кусочками хлеба с маслом. И всё. Удивительно, не так ли? Не птифуры из Парижа, не пирожные – к первородному хлебу культуры там подавали просто первобытный хлеб. И «литература», кстати, считала, что ничего вкуснее этих тартинок не едала.
Но раскованней всего поэт вел себя у Вяземского, кого назовет «самым близким родственником». Бывал у него в разных домах (Вяземский сменил в городе больше десяти квартир), но завсегдатаем, почти домочадцем князя стал, кажется, на Сергиевской (С.-Петербург, ул. Чайковского, 21). Оба были нетерпимы и здесь то ссорились (по поводу политики), то мирились (но уже на почве поэзии). Странно, но у «европейца» Вяземского, как подметил один общий знакомец, из-под французского покрова бил «русский ключ», а у «чисто русского» Тютчева – ключ немецкий. Недаром, прослушав статью друга «Россия и Революция», Вяземский тонко съязвит: с какого-де «перепугу» тот свято верит, что Константинополь вновь станет вдруг славянской столицей и начнет противостоять «безбожному революционному Западу»? А Тютчев, взвиваясь до крика, бросал: «Я вижу, князь, что мне у вас делать нечего…» Дружба-вражда? Да нет – это ведь Вяземский назовет его даже не «златоустом» – «жемчужноустом». А после смерти Тютчева (князь переживет поэта на пять лет) скажет: «Он незаменим в нашем обществе…» Да, оба были из той, пушкинской еще эпохи, из Золотого века, из «утраченного рая» чести и благородства, в котором никто не смеялся над щепетильным аристократизмом или пламенным патриотизмом. Не было еще «реалистов» и хамоватых «разночинцев». Эти еще умели плакать от любви. И не только к женщинам. Тютчев скоро и расплачется от обиды за родину. Какой там «Лев сезона»? Рычащий лев России.
Может, оттого и искал высокого покровительства? Ведь, вернувшись в Петербург, почти сразу через «душевного друга» своего, великую княгиню Марию Николаевну, был представлен самой императрице. А потеряв благодетеля Бенкендорфа (тот в год возвращения Тютчева скончался), стал искать внимания Нессельроде, ставшего к тому времени канцлером, вторым после царя лицом в государстве. Удачу поймал почти за хвост как раз у Вяземского, тот жил тогда еще на Невском (С.-Петербург, Невский пр-т, 60), где неожиданно познакомился с женой канцлера – графиней Марией Нессельроде. Я уже бегло поминал, что он сойдется с ней. Так вот, это случилось у Вяземских. «Мы были вчетвером, – вспоминал об этом вечере Тютчев, – оба Вяземские, она и я, и разошлись только в три часа утра. Через день она пригласила меня к себе. Мне оказан был самый ласковый прием. Это весьма умная женщина и отменно любезная с теми, кто ей нравится…» Так почти сразу поэт стал членом страшно узкого круга избранных жены Нессельроде, статс-дамы, хозяйки «первого по значимости великосветского салона столицы» в огромной казенной квартире в здании Главного штаба, в той части его, что выходила на Мойку (С.-Петербург, наб. Мойки, 39/6). Тютчев ведь был остроумен, а та, несмотря на свои шестьдесят, была ужасная хохотушка. Словом, неслучайно уже в марте 1845-го Тютчев был вновь причислен к Министерству иностранных дел, и ему было возвращено придворное звание камергера. А позже, в 1848-м, по ходатайству канцлерши перед мужем, а мужа – перед царем, получит и «чиновника особых поручений V класса», и должность старшего цензора при Особой канцелярии МИДа с окладом 2430 рублей. Более того, через год стал статским советником. Для «пустого человека» умопомрачительная карьера. За четыре года-то. Даже Эрнестина и та признается брату: «Наше положение в обществе таково, что ни о чем подобном я и мечтать не могла бы…»
Впрочем, глубинной души «льва России», убеждений его внешняя близость с сильными мира сего, кажется, не задевала. В сердце своем он знал им цену. Он ведь «в голос», говорят, разрыдается, когда узнает о поражении России в Крымской войне. «О, негодяи!» – напишет о «высшем обществе».
В Кронштадте навсегда ступил на родную землю. А ровно через десять лет, когда и грянет Крымская война, вдруг едко предскажет: «Я жду прибытия в Кронштадт милых англичан и французов, с их 4 тысячами орудий и всеми изобретениями современной филантропии, каковы удушливые бомбы и прочие заманчивые вещи…» Когда же, как и предсказал, флот врага и впрямь встанет в виду Кронштадта, он, как мальчишка, кинется на залив. «На петергофском молу, – напишет, – смотря в сторону заходящего солнца, я сказал себе, что там, в 15 верстах от дворца русского императора, стоит самый снаряженный флот, что это весь Запад пришел выказать свое отрицание России и преградить ей путь к будущему». «Теперь тебе не до стихов, о слово русское, родное!» – напишет в стихах. Какие уж тут стихи! Сто тысяч русских жизней унесет война, и, узнав о поражении, Тютчев и разрыдается. Он плакал, что пал Севастополь, а Нессельроде (повторяю – канцлер России!) поздравлял друзей с вновь открывшейся возможностью (по случаю окончания войны) отдыхать в Италии и развлекаться в Париже. «Если бы я не был так нищ, – напишет в ярости Тютчев, – с каким (наслаждением) я швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов». Деньги на жизнь разросшейся семьи нужны были – не то что стихи. Заметит тогда же нечто и про императора: «Нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и всё упустил…» И что после этих слов и компромиссы Тютчева, и расчеты, и поиск дружбы с сильными? Он вел поединок с Россией и за Россию! Поединок со светской чернью, презиравшей всё русское. Вот истинная цель его! Тайная, роковая дуэль с Европой.
Кстати, он, предсказавший Крымскую войну за пятнадцать лет, именно тогда, за сто лет до советских идеологов, назовет Запад «гнилым». «Я не без грусти расстался, – напишет Эрнестине, – с этим гнилым Западом, таким чистым и комфортабельным, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины». Метафоры не умирают. Он и слово «оттепель» пустит в оборот за столетие до Эренбурга. Так окрестит первые годы после смерти Николая I. «В истории обществ, – напишет, – существует роковой закон. Великие кризисы наступают не тогда, когда беззаконие доведено до предела, а при первой робкой попытке возврата к добру…» Любимое слово «роковой». «Роковой закон»! Знал, знал наперед, чем кончаются реформы, «оттепели», революции да «перестройки»…
Утраченный «рай»
Он никем никогда не командовал. Может, в этом счастье? Ни русскими армиями, на положение которых, случалось, влиял, ни политиками, хотя был известен на Западе, ни дворцовыми интригами, хотя был принят при дворах, ни подчиненными – их у него, кажется, и не было, ни даже родными детьми. Он командовал словами – вот и солдаты, и дипломаты, и даже дети его.
Семьи (а их, напомню, было четыре: две законные и две незаконные), дети от разных жен (их вообще было одиннадцать, не считая троих приемных) – всё это, пишут, было как-то мимо него. «Семья для него – заболевание хроническое, неизлечимое», – скажет Эрнестина. А Анна, дочь, даже упрекнет: «У тебя странная манера любить, ты никогда не испытываешь желания видеть моих сестер». «Это правда, – ответит он, – но они дети…» Разговор случится в очередной квартире поэта, в доме родственника его, полковника Сафонова, где Тютчевы проживут два года (С.-Петербург, Марсово поле, 3). Но здесь же, несмотря на всю «правдивость» его, они всей семьей принимали уже юную Лёлю – тайную влюбленность Тютчева, Елену Денисьеву, с которой он проживет четырнадцать лет и которая родит ему троих детей. И отсюда, из этого дома, уедет с «курьерской дачей» (по-нашему – с командировкой) в Германию, где познакомится с Гортензией Лапп, которая родит ему еще двух сыновей. Когда уж тут заниматься, «командовать» детьми? А из следующего дома (если не считать дома на Моховой, где Тютчевы проведут год, – ул. Моховая, 39), из знаменитого дома Лопатина, бездумно снесенного нами, где в разное время жили Тургенев, Гончаров, Григорович, Писарев, Некрасов, Панаев, Белинский, Кони, даже украинская писательница Марко Вовчок и где в 1850-м поселятся и Тютчевы (С.-Петербург, Невский пр., 68) – уедет в Париж. Поскачет «вестником войны и мира», командовать «словами», от которых в прямом смысле будет зависеть начало Крымской войны. Я не шучу. Повезет депеши, сообщавшие, что русской армии, в ответ на отказ Турции признать права православной церкви во владениях Порты, отдан приказ занять княжества Молдавию и Валахию. Эта акция и станет фактически началом войны 1853–1856 годов, а поэт – нарочным ее. Миссия окажется столь серьезной, что лишь после смерти поэта, когда откроют архивы, мы узнаем: вслед за Тютчевым из посольств Англии и Франции в Петербурге на Запад полетят шифровки встревоженных послов.
Из донесения посла Франции в России маркиза де Кастельбажака: «Русское правительство… направило в Париж г-на Тютчева… Это незадачливый дипломат, хотя он и состоит при русском министерстве, и к тому же литератор, педант и вместе с тем романтик… Как ни ничтожна опасность, которую может представлять для нас этот пустой мечтатель, прикажите всё же взять г-на Тютчева под наблюдение…»
Да, командовал словами. И не только когда, как в люльки, «укладывал» их в стихи – командовал в любом разговоре: и в громком споре, и в «диванной беседе». «Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст, – вспоминал граф Соллогуб. – Ему были нужны, как воздух, каждый вечер яркий свет люстр и ламп, веселое шуршанье дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких женщин… Но всё, всё исчезало, когда он начинал говорить… все умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева… Главной прелестью… было то, что… не было ничего приготовленного, выученного, придуманного». Понятно, почему за ним, как за мифическими сиренами, евангельскими апостолами или божественными старцами, семенили не шпики – вереницы умнейших людей.
Из воспоминаний Михаила Погодина: «Низенький, худенький старичок… одетый небрежно, ни с одною пуговицей, застегнутою как надо, вот он входит в ярко освещенную залу; музыка гремит, бал кружится в самом разгаре… Старичок пробирается нетвердою поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает всё собрание… К нему подходит кто-то и заводит разговор… он отвечает отрывисто, сквозь зубы… смотрит рассеянно… кажется, ему уж скучно: не думает ли он уйти назад… Подошедший сообщает новость… слово за слово, его что-то задело… и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация… Вот он роняет, сам не примечая, несколько выражений… несколько острот едких, которые тут же подслушиваются, передаются шепотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что сказал вчера на бале…»
И что с того, что за разговорами этими он забывал поесть (в Германии как-то рухнул в обморок из-за того, что не ел три дня), что вечно ходил лохматым, из-за чего Елена Павловна, великая княгиня, перестанет приглашать его в свой дворец, в нынешний Русский музей (С.-Петербург, ул. Инженерная, 4/2), что вдовствующей императрице по рассеянности трижды (!!!) забывал принести обещанную книжку. Зато его любили, да так, что посол в Мюнхене, где бедствовал когда-то Тютчев, предлагал министру увеличить ему жалованье за счет своей зарплаты. А женщины? Надо ли говорить, как обожали они его? И не за то, что «любил любовь», – за вечный повод женской любви: за остроумие, иронию, насмешку. Жаль, что великие остроты умирают вместе с великими остряками. Впрочем, иные колкости его до нас, к счастью, дошли. Он острил, например, что Нессельроде, начальник его, напоминает ему египетских богов, которые скрывались в овощах: «Чувствуешь, что внутри бог, – вещал с самым суровым видом, – но не видно ничего, кроме овоща»… Князя Горчакова, сменившего Нессельроде на посту министра, друга своего, обзывал то «нарцызом собственной чернильницы», то – «фасадом великого человека». А минутные увлечения свои, улыбаясь, звал «васильковыми дурачествами». Эта шутка так понравилась при дворе, что ее позаимствовал Николай I, большой ходок по женской части.
С «василькового дурачества» началась у Тютчева и «незаконная» закатная любовь его к пепиньерке Лёле Денисьевой. Не любовь – «роковой поединок». Кстати, четырнадцать лет, которые проживет с ней, он тоже назовет, как и жизнь с первой женой, «раем». Скажет в стихах: «А с тобой мне, как в раю». И как первую жену – потеряет ее.
Он был значительно старше ее. Ему было сорок два, ей двадцать. Стройная, изящная брюнетка с большими черными глазами и милым, выразительным лицом, она годилась ему в дочери. Кстати, «пепиньерка» по-французски – «хозяйка рассады», так звали девиц из Смольного института, которые при выпуске соглашались присматривать за девочками из младших классов. Лёля и сама недавно была «смоляночкой»: вставала по колоколу, обливалась ледяной водой, оттеняла клюквенным соком щеки. Теперь же – приглядывала за двумя дочерьми Тютчева, которых он пристроил в институт. Там-то, в дортуарах института благородных девиц, он и «высмотрел» ее (С.-Петербург, Смольный проезд, 1). С ней, которая вся «была соткана из противоречий», готовая на «попрание всех условий», всё началось с флирта, но две стихии, два беззаконных сердца столкнутся так, что искры из глаз! Поэту, чьи жены были «отшлифованными иностранками», может, впервые попался русский характер: прямой, искренний, жертвенный, безоглядный. Вот поединок-то! От умозрительных его вопросов, есть ли счастье, оно ли цель, эта девочка не оставит камня на камне. Вернее, оставит, и как раз на камне – след на кирпичной печке от увесистого пресс-папье…
Дочь дворянина, гусарского майора, исправника из Пензы, Елена жила с теткой, инспектрисой Смольного института, которую звала мамой. Сначала жили в служебных покоях института, а когда разразился скандал, тетка вынуждена была снять квартирку во дворе дома на Кирочной. Я нашел их дом, видел чью-то бедную герань за стеклами второго этажа этой дворовой пристройки (С.-Петербург, ул. Кирочная, 14). Да, когда о романе Тютчева узнали во дворцах и салонах, тетку без шума выгнали, а вокруг Лёли, которая и сама должна была стать фрейлиной, за которой ухаживали в свете, вмиг образовалась пустыня. Даже дочерей поэта Дарью и Катю (обе идут на медали и получат их) едва не исключили из института. А отец Лёли, кавалер золотого оружия «За храбрость», увидев дочь на седьмом месяце беременности, чуть не вызвал Тютчева на дуэль. Зато они любили друг друга. Да как! Он, еще вчера написавший: «Я отжил свой век», пускается с ней в путешествие на Валаам. Пароход, ночная Ладога, какой-то монастырь, где в пять утра они были на ранней службе, жизнь в кельях, монашеская уха – всё было новой, незнакомой ему любовью.
Догадывалась ли о романе жена? Знала – вот трагедия! Сначала видела в юной девочке «полезный громоотвод» от «опасных красавиц света», а потом – взвыла. Читать их письма и знать ситуацию – непросто. Он едет на Валаам, а Эрнестина будто бы спокойно пишет Вяземскому: «Пытаясь обмануть свою потребность в перемене мест, он две недели разъезжал между Петербургом и Павловском. Он нанял себе комнату возле вокзала и несколько раз оставался там ночевать, но мне кажется, что с этим развлечением уже покончено и теперь мы перейдем к чему-нибудь новому. Я слышу разговоры о поездке на Ладожское озеро, которая продлится четыре дня, потом он, вероятно, отправится в Москву, чтобы повидаться с матерью, а там наступит осень, и все встанет на свои места…» Ну-ну! Знала бы она, что «это развлечение» затянется на годы. 20 мая 1851-го, через девять месяцев после вольной ухи, ночевок в каютах и кельях, Лёля родит поэту первую дочь. А он через месяц как ни в чем не бывало напишет жене, «кисаньке», как звал ее: «Что же произошло в глубине твоего сердца, что ты стала сомневаться во мне, перестала чувствовать, что ты для меня – всё, и что сравнительно с тобою всё остальное – ничто? Я завтра же, если это будет возможно, выеду к тебе. Не только в Овстуг, я поеду, если потребуется, хоть в Китай, чтобы узнать у тебя… не воображаешь ли ты случайно, что я могу жить при наличии такого сомнения…» Никуда, конечно, не поедет, да и пишет ей из Москвы, из комнат Шевалдышева (Москва, ул. Тверская, 12), где жил вместе с Лёлей и девочкой-младенцем, которую, по ее настоянию, записали Тютчевой. Лёле пишет любовные стихи – и сколько! Но ведь и жену забрасывает любовной «прозой»: «Ты… самое лучшее из всего, что известно мне в мире…»; «Сейчас пять часов утра… Чего только не отдал бы я за то, чтобы оказаться возле тебя и проснуться утром в комнате рядом с твоей…» Да, Эрнестина была для него «всем», но и Лёля была уже «всею жизнью». А стихи! Какие стихи он пишет ей! Но почти в каждом, лбом о стену – слово «рок». «Нет – в минуту роковую…», «При нашей встрече роковой…», «И только роковые дни…», «И, как страданье, роковой…», «Сольются с бездной роковой…» Наконец, классика, вершина: «Любовь, любовь – гласит преданье – // Союз души с душой родной – // Их съединенье, сочетанье, // И роковое их слиянье, // И… поединок роковой…»
Роковой, ибо две – нет, три! – непобедимые стихии столкнулись, ибо узел был затянут на шее у любящих, да еще на виду у всех: у света, у начальства, у друзей. С вызовом, бравируя, катается он с Лёлей то в открытых экипажах по городу, то в лодках по Неве, ездит в Павловск, Петергоф, ходит по театрам, концертам, раскланиваясь со знакомыми. И пока жена по полгода, по году живет в Овстуге или в Германии, он, почти холостяк, переселяется к Лёле то на дачу у Поклонной, в двух шагах от современной станции метро «Удельная» (С.-Петербург, Ярославский пр-т, участок дома, 78), то в квартиру на Кабинетской (С.-Петербург, ул. Правды, 14). Но в письмах жене твердит: он любит ее по-прежнему. Она ответит однажды: «Я в мире никого больше не люблю, кроме тебя, и то, и то! уже не так!» Но какое там – «не так»! Ведь вот, читайте, как она, германка холодноватая, вымеренная, зная всё, встречала мужа, когда он наконец вырвался к ней в Овстуг! Ведь неделю ждала его на пыльной дороге!
Из письма Дарьи Тютчевой – сестре Анне: «Вот уже несколько дней, как мы его ждали; ты знаешь, что мы дважды в день напрасно ходили встречать его на большую дорогу… В понедельник наша напрасная пешая прогулка была так тягостна, что мама больше и слышать не захотела о такого рода волнениях; но по какому-то предчувствию она велела заложить маленькую коляску… И вот мы мчимся во весь опор. Каждое облако пыли, казалось нам, несло с собой папа, но… то это было стадо коров, то телега… Наконец, доехав до горы… ожидание стало невыносимым; я помолилась Матери Божьей и просила ее сделать так, чтобы папа появился сейчас же, – и едва я закончила свою молитву, как кучер указал на Федора Ивановича… Лошадей осаживают, мама прыгает прямо в пыль, и если бы ты видела ее счастье, ее радость… С ней сделалось что-то вроде истерики, которую она пыталась скрыть за взрывами смеха… Мама как раз та женщина, которая нужна папа, – любящая непоследовательно, слепо и долготерпеливо. Чтобы любить папа, зная его и понимая, нужно быть святой…»
Но святой была и Лёля. А он, «порхающий с одного цветка на другой», кажется, до конца жизни так и не понял: за что же любят его? Жене в разгар связи с Денисьевой вдруг признается: «Говоря между нами, я не знаю никого, кто был бы менее, чем я, достоин любви. Поэтому, когда я становился объектом чьей-нибудь любви, это всегда меня изумляло».
«Молчи, скрывайся и таи», – написал. Чего-то мы и не узнаем никогда. Но вторую семью спрятать было невозможно, и с годами почти все в окружении поэта смирились с ней. Денисьеву примут, с ней станут общаться дочери поэта, друзья, даже официальные лица. Что толковать – большой и малый двор империи окажутся «в курсе». Новый царь Александр II, узнав о второй семье поэта, пригрозит Тютчеву, что «подобные отношения ставят под угрозу придворную службу Анны Тютчевой». Анна тогда же запишет: «Я плачу свою часть долга за то немыслимое пренебрежение приличиями и стыдливостью, которые проявил папа: быть может, другие повинны в подобных вещах не менее, чем он, но никто не выставляет этого на всеобщее обозрение…» А сын поэта, «незаконный» Федор, напротив, будет гордиться, что отец, полюбив его мать, принес в жертву «весьма в то время блестящее положение» и плевал «на выражаемые ему двором неудовольствия…»
Они, конечно, ссорились – поэт и Лёля. После смерти ее проговорится: она в грош не ставила его стихов, кроме посвящений. «Вот чем она дорожила, – чтобы целый мир знал, чем она (была) для меня: в этом заключалось ее высшее не то что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души ее». Ради этого, уговаривая его переиздать свой первый сборник, она попросит посвятить его ей. Он ответит: «Ты хочешь невозможного». Но крупно поссорились (она чуть не убила его), когда перед рождением их третьего уже ребенка он станет отговаривать ее, чтобы она хотя бы того не записывала Тютчевым. Вот когда она схватит вдруг подвернувшееся под руку пресс-папье – бронзовую собаку на малахитовой подставке – и «изо всей мочи» запустит в него. В «Боженьку» своего, как говорила. Правда, тут же повалится в ноги, моля о прощении, а он, позже, будет молча, но уважительно показывать другу выбоину в стене. «Меня – и так любить», помните? Она родит ему сына – третьего ребенка! – но почти сразу сгорит от чахотки. Умрет у него на руках. Это случится там же, на Кабинетской улице, но в соседнем доме, через перекресток, где она снимет квартиру незадолго до смерти (С.-Петербург, ул. Правды, 12). А через год умрут и этот сын (все-таки Тютчев, как она хотела), и четырнадцатилетняя дочь их. На Волково кладбище, где ляжет «незаконная семья» его, он как помешанный, не стесняясь рыданий, будет ходить, как на службу. Пишут: именно тогда и повернулся к Богу. «Всё во мне убито: мысль, чувство, память…» Эрнестина, увидев слезы его, скажет: «Его скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причина». А он будет долго еще шептать над могилой любимой: «Всё, что сберечь мне удалось, // Надежды, веры и любви, // В одну молитву всё слилось: // Переживи, переживи!..»
Он переживет Денисьеву на девять лет. Будет влюбляться еще, вот ведь штука! В красавицу Наденьку Акинфееву, двадцатилетнюю внучатую племянницу князя Горчакова, к которому, когда тот стал министром иностранных дел, зачастит (С.-Петербург, ул. Большая Монетная, 11). Наденька разводилась с мужем и потому жила в доме дяди. Молодая, веселая, контактная, она не только пленила чуть ли не всех дипломатов, бывавших в доме (Тютчев в стихах ей напишет: «При ней и старость молодела // И опыт стал учеником, // Она вертела, как хотела, // Дипломатическим клубком»), но, говорят, влюбила в себя и «нарцисса» Горчакова. Так же безоглядно увлечется Тютчев и вдовой бывшего ректора университета, поэта и критика Плетнева – Александрой. И напишет ей одно из лучших своих стихотворений: «Чему бы жизнь нас ни учила, // Но сердце верит в чудеса: // Есть нескудеющая сила, // Есть и нетленная краса…» Но самым серьезным увлечением поэта станет тезка покойной Лёли и подруга ее еще по Смольному Елена Богданова, урожденная баронесса Услар. Она после самоубийства своего второго мужа снимала квартиру в доме на Сергиевской (С.-Петербург, ул. Чайковского, 10), где у нее бывали Гончаров, Апухтин, Никитенко, какой-то поэт Яхонтов, какая-то сочинительница романсов Зыбина. Для Тютчева она – как бы последний «брык», всплеск угасавшей души, а для нее его любовь стала, как пишут, игрой и расчетом. Он, тайный советник, считайте, генерал-лейтенант, камергер, наконец, известный поэт, мотался ходатаем по ее вдовьим делам, давал ей коляску с кучером для прогулок, возил бутылки со сливками да сливочное масло, которое она любила свежим. Он ведь и шутил с ней не без старческого подобострастия. А однажды пошутил жутковато: «Несчастный г-н Тютчев, – написал, – поручил мне известить Вас, сударыня, что от усилившейся ночью до крайних пределов болезни он скончался после краткой агонии между 5 и 6 часами утра. Последним волеизъявлением покойный назначает Вас… наследницей бутылки сливок и фунта масла… Вынос тела… вечером…» Не знал, видимо, что поэтам нельзя безнаказанно бросаться словами – ведь он и умрет на рассвете. И почти последними словами «командира слов», когда речь превратится чуть ли не в мычание, станет горькая жалоба Аксакову как раз о словах: «Ах, какая мука, когда не можешь найти слова, чтобы передать мысль…»
«Я исчезаю, исчезаю…»
Всё известно ныне: как жил, как первый раз свалился, как умер. Сначала предали стихи: рифмы, ритмы, звуки. Заметил это, когда писал стих на смерть Наполеона III. Слова не слушались, но он довывел их. Более того, сам понес их князю Мещерскому на Грязную, то бишь на Николаевскую (С.-Петербург, ул. Марата, 9). Князь, консерватор, льстивый царедворец, да к тому же и содомит (о нем даже Витте бросит гневно: «просто негодяй»), – не только издавал газету «Гражданин», но по средам собирал у себя званые вечера, которые посещали Майков, Лесков, А.К.Толстой, Достоевский. К последнему именно и перейдет «Гражданин». Но с Тютчевым, который и жил когда-то на Грязной, почти в соседнем доме, именно тут и случился первый удар.
Из мемуаров кн. В.П.Мещерского: «Войдя, он сказал мне, что принес стихотворение на смерть Наполеона III. Затем он достал, как всегда, клочок бумаги, на котором каракулями были изображены стихи, и начал читать. Во время чтения с ним, очевидно, сделался первый удар: он не мог уже разбирать своего почерка и затем не мог уже плавно произносить слова… Чтение прервалось: я испугался его состояния, усадил его, успокоил, он немного как будто очнулся… Затем его усадили на извозчика и он вернулся домой… Увы, это было началом его кончины…»
Что вообще остается от поэтов? Стихи, истлевающие рукописи, портреты в трещинках-морщинках, фотографии, десяток, больше два, личных вещей. Всё? Да, почти! Если не считать семидесяти восьми ступенек дома на Невском, по которым поднимался, подоконников, которых касался рукой, дверных проемов, в которые входил, пейзажей за стеклами той полусотни теплых еще зданий, где бывал, и, может, дюжины домов, где жил. Это – топография жизни поэта, карта-миллиметровка побед и поражений и маршрут блужданий души. Дюжина домов, но где искать их? Доски в его честь украшают лишь два дома: один – в Москве, один – в Петербурге. В мемуарах сообщается: жил на Лесном, на Грязной, на Конюшенной, а иногда – просто в каких-то домах Левенштерна, Пиккиева, Геннерта, Ковалевской. Где они, если нет даже улиц иных, давно поменялась нумерация, а имена не домочадцев – домовладельцев знали лишь современники? Говорю не просто так: годами искал старые карты, клянчил домовые книги (посмотреть!), ворошил адресные справочники, топонимические словари, листал комментарии и примечания в фолиантах.
Вот питерский дом Тютчева на Грязной. Ныне – улицы Марата. В другом месте читаю: дом находился на Стремянной. В третьем сообщается – в доме Геннерта и дается номер: 23. В четвертом столь же уверенно называется дом № 4 по Марата. А ведь поэт жил здесь в 1853-м, когда был влюблен в Денисьеву и когда надолго оставался без семьи (С.-Петербург, ул. Стремянная, 23). Сюда к нему приходил Тургенев, с которым велись задушевные долгие беседы «один на один». А сам Тютчев навещал друга на Фонтанке, где познакомится с молодым Львом Толстым (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 38). Кстати, «географически» поэт пересекался с Тургеневым и раньше. И в доме Лопатина, о чем я рассказывал, и в гостинице Демидовых, где Тургенев в 1843-м познакомился с самой большой любовью – певицей Полиной Виардо, а Тютчев жил с Эрнестиной, но уже в 1852-м (С.-Петербург, Невский пр., 54/1).
Так или почти так устанавливался каждый «темный» адрес поэта. Он, до того как надолго, на целых восемнадцать лет, вселился в дом на Невском, с которого я начал рассказ, сменил много адресов. Я не нашел только дома Левенштерна на Лесном, где он жил летом 1848 года, да «тайную» квартиру «у вокзала», которую поминает в письме Эрнестина и которую поэт снял, когда влюбился в Денисьеву. Три года горячечного «сумасшествия» с Лёлей, когда он жил почти холостяком, отмечены многими адресами. Он дважды живет в доме Сафонова на Марсовом поле. Он второй раз снимает комнаты в гостинице Кулона на углу Невского и Михайловской. Знал ли, живя тут, что в этом же отеле останавливался когда-то и его «идейный враг» маркиз де Кюстин? И что здесь, еще при жизни его, в 1867-м, будет жить Льюис Кэрролл, автор знаменитого «Зазеркалья»? Наконец, и снова рядом с Невским, Тютчев летом 1854-го снимает жилье у Ковалевской, прямо против нынешнего Дома книги (С.-Петербург, кан. Грибоедова, 14). Это не считая его поездок с Лёлей в Москву, где поэт жил в Гнездниках (Москва, Большой Гнездниковский пер., 5), а Денисьева у мужа сестры в служебной пятикомнатной квартире «Московских ведомостей» Каткова (Москва, ул. Большая Дмитровка, 34). Не считая поездки любовников в Париж, где поэт успел познакомиться с Герценом и дважды навещал его в большой меблированной квартире (Париж, ул. Риволи, 172). Тут у Герцена будет жить писатель Боборыкин, и здесь, буквально за несколько дней до смерти Герцена, навестит его Тургенев. Это случится в 1870-м, и Тургенев скажет о последних днях Герцена, что никогда не находил его «таким веселым и болтливым…»
Последние годы Тютчева тоже окажутся и веселыми, и болтливыми. Не спешите бросать в меня камни. «Если к его талантам и сведениям, к его душе и поэтическому чутью придать привычку правильной и трудолюбивой жизни, – заметит Плетнев, – он был бы для нашей эпохи светилом ума и воображения». Как-то само собой «чаровник» наш станет членом-корреспондентом Академии наук по отделению словесности, не прикладывая усилий, будет осыпан наградами, пожалован в тайные советники, из-за чего все обязаны будут величать поэта «ваше высокопревосходительство», а потом и назначен аж председателем Комитета иностранной цензуры. Жалованье его сразу выросло до 3430 рублей. Но природу не обманешь. «Его лень, – напишет брату Эрнестина, – поистине ужасает. – Он… можно сказать, ничего не делает, ибо цензурирование газет – это дело, которое можно выполнять на скорую руку, затрачивая на него не более получаса в день, к тому же из каждых двух недель он занимается этим только одну». Словом, плевал на службу, да особенно и не скрывал этого. Я лично от души повеселился, когда прочел, как он, мундирный сановник, сбежал, да что там – слинял с официозного торжества на Дворцовой. Дело было 30 мая 1858 года. Освящали Исаакиевский собор.
Из письма Тютчева – жене: «Вызванные к 9 часам утра в Зимний дворец, в одиннадцать мы находились еще на большом дворе, рассаженные по каретам… Я находился в предпоследней карете процессии, золоченной по всем швам, запряженной шестью лошадьми и сопровождаемой придворными лакеями… Около часу освящение кончилось… Тут-то я почувствовал себя разбитым от усталости (а впереди еще была ужасающая перспектива только что начавшейся обедни, а за ней панихиды по пяти государям и не менее длинного молебна за царствующего императора), тут-то я и сделал то, что так свойственно моей природе, – я сбежал… И одинокий и великолепный, шел по улицам, ослепленным моим блеском, чтобы кратчайшим путем добраться до своей комнаты, своего халата…»
В этом – весь Тютчев! Был цензором, но таким, что его подчиненные, тоже цензоры и тоже поэты Майков и Полонский, души в нем не чаяли. Могу представить его убийственные реплики над их общей «службой», когда Тютчев входил в салон Майкова, где бывали Панаев, Григорович, Гончаров (учитель детей Майковых) и сам, кстати, цензор (С.-Петербург, ул. Садовая, 49), когда навещал Якова Полонского по одному из ранних его адресов (С.-Петербург, Московский пр., 7). Первый, Майков, заменит Тютчева на посту председателя Комитета иностранной цензуры после смерти его, а второй, уже стареющий, влюбится вдруг в младшую дочь Тютчева и едва не станет зятем его… Был цензором, но вновь, соединяя несоединимое, только и делал, что высказывал как раз нецензурные мысли. Об этом в книге «Быт и бытие» скажет князь С.М.Волконский. Князь был совсем юным, когда в доме его родителей на Васильевском острове (С.-Петербург, 4-я линия, 17) появлялся Тютчев, всклокоченный старик в золотых очках и с развязанным галстуком. «Как его встречали, когда он входил, – если бы вы только знали, как встречали! – захлебывался мемуарист. – Встречали, как встречают свет, когда потухнет электричество и вдруг опять зажжется. С ним входила теплота, с ним входил ум… Он не мог бы всё то печатать, что иногда срывалось с языка. Из цензурных соображений не мог бы: да, он, служащий по иностранной цензуре, говорил нецензурное…» А когда Горчаков, ставший канцлером, по-дружески предложит поэту возглавить журнал о политике, Тютчев ответит: он «может писать только вещи, которые говорить нельзя…» Душа цензуры не принимала.
Тютчев успеет еще оценить и Достоевского, которого убеждал, что его «Преступление и наказание» выше «Отверженных» Гюго, и Толстого за его «Войну и мир». Будет по-прежнему ездить на балы, рауты, приемы, вечера – и в пышные дворцы и в дома частные. Будет искать «театр для себя», обожать смех женщин, споры мужчин, блеск и огонь страсти у тех и у других. Но регламентом света, порядком будет открыто манкировать. Надевал фрак, да еще поношенный, когда должен был быть в мундире и с лентой, не давал балов, что обязан был делать, имея взрослых дочерей, но главное (о, ужас!) – не имел шестисотого «мерседеса», то есть, пардон, собственного выезда, кареты. Ездил на дешевых «ваньках», извозчиках, а чаще – ходил пешком, «рыскал пехтурой», как очень уж по-нынешнему выразилась тогда Смирнова-Россет. Она любя звала его иногда «Тютькой». Вот и прикиньте: накинет Тютька плед поверх старого плаща, свалит голову набок, как любил ходить, и… шкандыбает в очередной салон. Уж не в таком ли, боюсь, виде он в Царском Селе у озера поутру вдруг встретит самого Александра II. «По мере того, как он приближался, – напишет Эрнестине, – меня охватывало волнение, и когда он остановился и заговорил со мной, то волнение передалось и ему также, и мы расцеловались…» Давно ли он был свидетелем салюта в Кремле в честь рождения этого Александра, давно ли был в Кремле, когда того короновали на царство. В тот приезд в Москву он поднимался, представьте, вместе с Вяземским на балюстраду дома Пашкова, куда уже в ХХ веке безумная фантазия Булгакова забросит Воланда и компанию (Москва, ул. Моховая, 1/6). Хорошо, широко там, на балюстраде, мечталось в виду иллюминированной Москвы, Тютчев ведь и в старости был мечтателем и предсказателем. За пятнадцать лет предсказал Крымскую войну, за три года – франко-прусскую войну, когда Горчаков, убедившись в предвидениях друга, просто рухнул. Наблюдая за объединением Германии, предскажет и то, что не застанет при жизни, – мировую бойню, развязанную ею. В письме дочери скажет, что Германия «в итоге неизбежно обратится против нас и навлечет на нашу бедную страну несчастья, более ужасные, чем те, которые ныне поразили Францию». И не тогда ли, не на балюстраде ли дома Пашкова, родится у поэта стих, который выпростается уже через год, в 1857-м: «Над этой темною толпой // Непробужденного народа // Взойдешь ли ты когда, Свобода, // Блеснет ли луч твой золотой?..»
Но реальный, не метафорический «золотой луч», его небесный свет, его «время золотое» напомнит о себе в Карлсбаде, когда ему стукнет шестьдесят шесть. Там, на водах, старый и больной, он вновь увидит свою Амалию, первую любовь, ставшую теперь женой финляндского губернатора графа Адлерберга. Тогда и родятся дивные строки, известные ныне каждому: «Я встретил Вас – и всё былое…» Что рядом с этой любовью, первой страстью его балы, рауты, протекции, галуны на мундире, толпы поклонников, золоченые кареты камергера, даже страшный «перепуг» – какое-то опоздание на завтрак к самой императрице? Что рядом с этим были расстояния и годы, пространство и время – вечность и бесконечность?..
Последний раз увидит Амалию за три месяца до смерти. Увы – около постели в доме, где умирал. Лицо его, пишут, просветлело, в глазах встали слезы и от волнения (на деле, думаю, от третьего уже инсульта) он, говорун, не смог сказать и слова. На другой день дрожащей рукой написал несколько слов Дарье, дочери: «Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствии моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюднер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной. В ее лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй…» Да, Амалии, которая переживет поэта на пятнадцать лет, останутся на память его стихи под зашифрованными инициалами «К.Б.», последняя строка-признание в них: «И та ж в душе моей любовь!..»
Эрнестине тоже останутся стихи. «Всё отнял у меня казнящий Бог: // Здоровье, силу воли, воздух, сон, // Одну тебя при мне оставил он, // Чтоб я ему еще молиться мог…» Она не отходила от умирающего все 195 дней, она переживет его на два десятилетия и поселится сначала в доме князя Мещерского на Николаевской, а потом, уже до гроба, – на Малой Итальянской (С.-Петербург, ул. Жуковского, 10). Он незадолго до смерти несколько раз обнимет ее и при всех медленно, наверное, по слогам, скажет: «Вот у кого я должен просить прощения». За прошлое, да и за будущее, ведь ей оставлял завещание, в котором пенсия тайного советника была отписана не ей и не ее законным детям – Гортензии Лапп, той самой, помните, четвертой «жене» его, которая родила ему двух сыновей. Эрнестина, заметьте, свято выполнит эту волю мужа… Отдаст эти деньги чужим!
А что же счастье? – спросите вы. Неразвязанный узел наш, вопрос, мучивший поэта всю жизнь. В чем оно? В любви, в эгоизме страсти, в детях, в служении родине? Мне кажется, поэт дал ответ. В старости он полюбит проводить долгие вечера у Вяземского, в последней квартире его на Морской (С.-Петербург, ул. Большая Морская, 49). В том доме, в котором через пятьдесят лет поселится (только в дворовом флигеле) Осип Мандельштам – акупунктура гениальности не подведет и тут. Так вот, именно Вяземскому Тютчев, к 50-летию творчества его, напишет стихи, в которых и будет всё объясняющая строфа. Про счастье, но и про творчество. «У Музы есть различные пристрастья, // Дары ее даются не равно; // Стократ она божественнее счастья, // Но своенравна, как оно…» Не думаю, что слово «стократ» сказано повелителем слов ради красного словца. Для гения творчество – единственная цель: от пеленок и – до смертного одра.
…Умирал тяжело, но поразительно отважно. «Теперь главное в том, – продиктовал о смерти, – чтобы уметь мужественно этому покориться». Верен себе оставался до последних минут. Даже острил до конца. Когда ему, парализованному, сказали, что с ним хочет попрощаться Александр II, он, кто не мог уже и повернуться без Эрнестины, улыбнулся и сказал, что смущен намерением царя, ибо с его личной стороны «будет крайне неделикатным, если он не умрет на другой же день…» И – не шутя уже – до конца переживал за Россию. Трудно поверить, но, когда священник прочел уже отходную, когда столпившиеся у впавшего в забытье поэта родственники плакали и уже прощались с ним, он, вдруг очнувшись и обведя всех глазами, быстро и, главное, членораздельно спросил: «Какие получены подробности о взятии Хивы?..» Русская армия в те дни как раз совершала свой азиатский поход. Ну, как вам это? Словно там, на небесах, поэту через минуту-другую предстояло не просить прощенья у Бога, не отвечать за прожитое и каяться в грехах, а по меньшей мере – делать доклад о последних событиях – о победах державы!
Нет, прав будет Погодин, университетский друг Тютчева, когда после смерти поэта напишет о нем: «Как мог он, барич по происхождению, сибарит по привычке, ленивый и беспечный по природе, ощутить в такой степени, сохранить, развить в себе чистейшие русские и славянские начала и стремления?.. Никто в России не понимает так ясно, не убежден так твердо, не верит так искренно в ее всемирное, общечеловеческое призвание»…
Последними словами командира слов станут три слова: «Я исчезаю, исчезаю!..» Изумленный, изумлявший, изумляемый доныне поэт, помните, признался: «Я не знаю никого, кто был менее, чем я, достоин любви. Поэтому, когда я становился объектом чьей-нибудь любви, это всегда меня изумляло…»
Удивительно, но свидетели его ухода под утро – как он и предсказал! – подтвердят: поэт умер с лицом, полным изумления, озаренный этим чувством.
Пароль поручика Куприна, или Две жены с Разъезжей улицы…
– Собачка, собачка, куда ты бежишь?
– Куда я бежу – никому не скажу…
Александр КупринКуприн Александр Иванович (1870–1938) – выдающийся русский писатель и публицист, мастер реалистической прозы, посвятивший весь свой талант защите слабых и угнетенных. Горячо приняв идеи Февральской и Октябрьской революций, но не смирившись с методами их осуществления, вынужден был уехать в 1919 году в эмиграцию, в Париж. В 1937-м, уже смертельно больной, вернулся на родину, где через год скончался под Ленинградом.
Белый гроб на белых дрогах везли шесть белых лошадей. За ним плыла – белая колесница, полная венков из белых цветов…
Весело, словно ничего не случилось, звенели трамваи, гроздьями висли на автобусах ленинградские мальчишки, а табунки машин оторопело, как в театре, утыкались у перекрестков. Это и был в общем-то «театр»; ведь так в 1938-м не хоронили никого.
Всё в тот день было символично. Во-первых, лошади везли того, кто не просто любил коней – был блестящим наездником, кто мог верхом на пари подняться на второй этаж ресторана и, не покидая седла, выпить стакан коньяка. Во-вторых, в белом гробу лежал поручик белой армии, воевавший против советской власти, белоэмигрант, не жалевший яда в «очернении» и революции, и лично Ленина, да и Сталина. А в-третьих, процессия от дворца на Неве, где была панихида, до Волкова кладбища просто не могла миновать дом у Пяти углов, где покойный и стал когда-то известным всему миру классиком (С.-Петербург, ул. Разъезжая, 7). И мало кто знал, даже «режиссер» спектакля, что между белыми дрогами и колесницей в черной-черной эмке с завешенными стеклами ехали две жены, две вдовы Куприна. Не только два самых дорогих ему человека, но две женщины, с которыми он и познакомился как раз в доме, стоящем у Пяти углов – на Разъезжей. Более того – познакомился в один и тот же день.
Фаталист из Наровчата
– Кадет Куприн, выйти из строя!.. – Стриженый двенадцатилетний подросток (синие погоны, красные петлицы, восемь пуговиц на мундирчике) сделал два шага вперед. – Кадет Куприн, позволивший себе возмутительно грубый поступок по отношению к дежурному воспитателю, приговаривается к телесному наказанию в десять ударов розгами…
Бедный, бедный кадет! Он знал: его ждет скамейка, покрытая простыней, дядька Балдей, прячущий за спиной розги, и запах солдатских штанов, когда другой дядька сядет ему на голову, чтобы не дергался. Запомнит это унижение, опишет в повести. «Кадет Булавин испытал всё, что чувствует приговоренный к смертной казни. Так же его вели, и он не помышлял о бегстве, так же рассчитывал на чудо и думал, что вот сто человек остались счастливыми, прежними мальчиками, а я один, один буду казнен…»
Он и будет казнен, казнен детством, юностью, предательством, нищетой в Париже, казнен родной страной, которая заставляла его, тонкого, отзывчивого, как мембрана, казаться, по выражению одного критика – «ну просто свирепым». Жизнь в вольерах! Воспитание волчат! А что?..
Оно началось в Москве, на углу Садового кольца и Баррикадной. Здесь, в знаменитом тогда Вдовьем доме (Москва, ул. Баррикадная, 2), поселилась, потеряв мужа, молодая еще мать писателя Любовь Куприна – урожденная татарская княжна Кулунчакова. Что княжна – историки не подтверждают (она была из ветви древнего князя Кулунчака, но предки ее не смогли выкупить княжество), а вот что «кулунчак» по-русски «жеребец» – это абсолютно точно! Не отсюда ли любовь Куприна к лошадям, не потому ли ребенком он слушал, говорят, только кучера?
С четырех лет он, единственный выживший из братьев, жил с матерью во Вдовьем доме. Выжил потому, что мать нашла «святого человека», который посоветовал приготовить дубовую досточку и, если родится мальчик, заказать богомазу написать на доске образ благоверного князя Александра Невского. А еще – назвать сына в честь Невского Александром. Через много лет, когда Куприн женится, мать подарит ему эту «иконку» с наказом повесить ее над колыбелью уже его будущего сына. Но, увы, род Куприных прервется на нем, у него будут рождаться лишь дочери. Словно само небо понимало: такого второй раз не воспроизвести…
Здесь, в гулких палатах Вдовьего дома, где ныне Медицинская академия, Куприн навсегда запомнит зеленые стены, взбитые перины, горы подушек на кроватях, тумбочки с портретами в рамках из ракушек, вечное вязанье старух и вечные запахи: пачулей, мятного куренья, воска от свечей – цвелые запахи опрятной старости. Где-то здесь его суровая мать, уходя по делам, привязывала его шелковой нитью к кровати, и он, отнюдь не шелковый, как щенок ожидал ее. Не привязывать было нельзя, ибо он, раздвигая мир вокруг себя и себя в этом мире, мог и пруд переплыть, чтобы зайцем попасть в зоосад (в двух шагах от Вдовьего дома), и под пролетку попасть, когда, испытывая себя, пробовал впрыгнуть в нее на ходу. Скоро, очень скоро он будет рвать не нитки, сдерживающие натуру, – ремни и канаты, людские связи и дружеские поводки, любовные узы и даже мужние ошейники. Но именно здесь, среди старух, подметавших юбками мастичные полы, узнает и свыкнется с мыслью: он, увы, и некрасив, и – беден. Отец, умерший от холеры, когда мальчику было два года, письмоводитель, так и не сумел подняться выше коллежского регистратора четырнадцатого класса в Табели о рангах. Отца Куприн и не поминал потом, а вот мать – мать попала даже в один из рассказов его.
Из рассказа Куприна «Река жизни»: «Моя мать. Она была причиной, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью… Мои первые детские впечатления неразрывны со скитаньем по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, нестерпимыми обидами, попрошайничеством, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку… Мать уверяла, что я не люблю того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше… И… чтобы рассмешить благодетелей, приставляла себе к носу свой старый трепаный кожаный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила: “А вот нос моего сыночка…” Я… я… проклинаю свою мать…»
Первая жена Куприна, Маша Давыдова, прочтя это, расплачется от обиды за его мать, скажет, что та узнает себя хотя бы по портсигару. Он же будет упорствовать: «Я обязан написать об этом…» Но, когда сам начнет читать рассказ матери, слова эти: «Я проклинаю», опустит – не сможет выговорить их. Да это и не было правдой: причиной его несчастий была тупая, подлая жизнь. А матери Саша, нежный в душе, с первого гонорара в десять рублей купит за девять козловые ботинки, и лишь рубль истратит на себя и коня, на скачки в манеже.
Да, юность была «казенной» и – казненной. Сиротская школа (Москва, ул. Казакова, 18), где за детские бредни, что он-де генерал Скобелев, на него наденут колпак с надписью «Лгун». Потом кадетка, «бесбашенная республика» – кадетское училище (Москва, 1-й Краснокурсантский пр., 3–5), где царил культ кулака и где его выпороли. Наконец, 3-е Александровское училище юнкеров в доме на Арбатской площади (Москва, ул. Знаменка, 21). Оттуда, из вечно и ныне закрытых ворот, вышли однажды поротно четыреста розовых, надраенных юнкеров. Вышли, чтобы, прошагав по Знаменке, застыть на Ивановской площади в Кремле перед самим Александром III. Куприн, юнкер четвертой роты, стоял на смотру в первой шеренге. Знал: царь пройдет в пяти шагах, ясно видный, почти осязаемый. «В голове – как шампанское», – напишет. А потом, идя в казарму, пока в шеренгах спорили, на кого и сколько глядел государь, всю дорогу молчал. «Говорите что хотите, – думал, – а на меня царь глядел не отрываясь две с половиной минуты…» Через тридцать лет там же, в Кремле, увидит и будет разговаривать с «красным царем» – с Лениным.
Вообще 3-е Александровское переживало тогда золотой век. Преподавать в него были приглашены историки Ключевский и Соловьев и лучший в Москве математик – профессор Бугаев, кстати, отец будущего поэта Андрея Белого. Но отвязный Куприн и тут угодит в карцер: и за Дуняшу-крестьянку (за ней ухаживал в военных лагерях), и, представьте, за первый напечатанный рассказ. За «бумагомарание», как объявят в приказе по училищу.
Фаталист Куприн случай не отрицал никогда. Первая публикация и стала счастливым случаем. Просто однажды он встретил некоего Пальмина, старичка-поэта, когда-то сотрудника курочкинской «Искры». «Напишите свеженький рассказ, – сказал тот юнкеру, – и принесите… Я вам первую ступеньку подставлю…» Не знаю, бывал ли Куприн дома у Лиодора Пальмина (Москва, Большой Афанасьевский пер., 17), но первый рассказ свой под названием (ха-ха!) «Последний дебют» и впрямь напечатает с его помощью. За него получит и два дня карцера, и тот первый гонорар в десять рублей. Потом станет писать рассказы «на бегу, на лету, посвистывая», как признается позже Бунину, ровно так, как влюблялся в каждую хорошенькую партнершу по вальсу.
Влюбчив был невероятно. То юнкером в пахнущей снегом и одеколоном шинели мчится в санях на бал в женский Екатерининский институт. То под звуки окоченевшего оркестра «в ушко» объясняется в любви случайной девице на Чистопрудном катке. То хранит подобранный в театре платок какой-то незнакомки. А то, уже офицер 46-го Днепровского полка, не только из-за девицы решает поступать в Академию Генштаба, но из-за другой, вовсе незнакомой девы в нее так и не поступит. Экзамены сдаст, а принят не будет.
Всё началось в Проскурове, в провинциальном городке, где Куприн, подыхая от скуки, тянул военную лямку. Вечная грязь, свиньи на улицах, мазанки из глины и навоза. Утром занятия «в роте» (в сотый раз о том, что «часовой – лицо неприкосновенное»). Потом – обед в офицерском собрании (водка, байки, анекдоты с бородой). Кому-нибудь в супе попадется мозговая кость – это называлось «оказией», а под оказию – пьют вдвойне. Потом два часа свинцового сна, а вечером опять: «неприкосновенное лицо» и вечная «пальба шеренгою». Именно здесь Куприн и въехал однажды на лошади на второй этаж ресторана. Хвастал потом, что этот трюк «даже в цирке один из самых трудных». В другой раз от скуки сиганул в окно. Когда одна полковая дама, «царица местного бала», окруженная юными офицерами, пообещала поцелуй тому, кто прямо сейчас прыгнет со второго этажа, подпоручик Куприн, даже не дослушав ее, лихо нырнул в темный провал. Подоконника ногой не коснулся. Через минуту бледный, но веселый предстал перед шутницей. «Сударыня, – сказал с поклоном, – я не шиллеровский герой. Любой из офицеров полка сделал бы это гимнастическое упражнение. Но… если можно… позвольте мне отказаться от поцелуя…» Кичился удальством. То бросается в ледяную прорубь, то, под изумленные взгляды друзей, в зале собрания встает с яблоком на голове, ожидая «через две большие комнаты» меткого выстрела товарища. Испытывал судьбу, верил в провидение. Да что верил – знал! Навсегда запомнил, как однажды на спиритическом сеансе у полкового медиума Мунстера (у гнома по росту, но майора по званию) грифель вдруг бешено застучал по доске. Куприн божился потом: у него волосы поднялись и стали «как стеклянные». Грифель долго выстукивал точки и тире – азбука Морзе. Но прочесть текст сразу не смогли – потребовалось зеркало, всё было написано наоборот. Текст же гласил: «Мы одиноки и равнодушны. У нас нет ни одного… земного чувства. Мы одновременно на Земле, на Марсе и на Юпитере. Нас много – людей, животных и растений. Ваше любопытство тяжело и тревожно для нас. Наша мечта, одно желание – не быть… В ваших снах, в инстинктах, в бессознательных побуждениях мы помогаем вам. Нам завиднее всего вечное забвение, вечный покой. Но воля, сильнее нашей…» На этом, пишет Куприн, записка обрывалась. Было это, нет – неведомо. Но в случай, в судьбу он поверил навсегда. Та же Академия Генштаба – тоже ведь случай. Даже дважды – случай.
Началось как обычно – на очередном балу, где он знакомится с семнадцатилетней красавицей. Для нее это первый бал, как у Наташи Ростовой. Куприн завтра же решает жениться. Но она сирота, живет у сестры, бывшей замужем за капитаном, официальным опекуном. Когда дошло до сватовства, капитан сказал жениху: жизнь ваша будет беспросветной, на жалованье подпоручика «в 48 р.» прожить невозможно, и он даст согласие на брак, но при условии: Куприн должен окончить… Академию Генштаба. Женщина как приз – это рисковый жених уже знал и, забросив прозу, засел за уставы да учебники.
В Петербург той осенью съехалось четыреста офицеров – абитура с распухшими от синусов и котангенсов головами. Куприн снял комнату в меблирашках с видом на Аничков мост (С.-Петербург, Невский пр., 66). Дом и ныне цел, только надстроен. Там, на втором этаже, грызя вставочку, подолгу разглядывал за окном клодтовских коней, даже пытался рисовать их, раскинув локти на подоконнике. Вряд ли знал, что участок и этого, и соседних домов принадлежал когда-то поэту Гавриилу Державину. Как не знал, наверное, что и дворец на Неве, где располагалась тогда Академия Генштаба, помнил и Пушкина, и Грибоедова, и нашего Тютчева, ибо до прихода сюда военных тут и размещалась та самая Коллегия иностранных дел России. В этом дворце, где его простой зеленый армейский мундир терялся среди сверкавших кирасиров, красногрудых уланов и золотых орлов на касках кавалергардов, он, к удивлению всех, все экзамены сдал на «ять». А принят, повторю, не был. Из-за случая, которому и значения-то не придал. Да что там – из-за киевской драки.
Да, товарищи, мы никогда не узнали бы великого писателя, если бы в судьбу его не вмешалась еще одна дева. В Киеве, по дороге в Петербург, в академию, он встретит однокашников по «кадетке». Два дня будут гулять. А потом, по одной версии, пойдут завтракать в ресторан-поплавок на Днепре, а по другой – окажутся на каком-то пароме. Вот там-то, увидев, как какой-то полицейский «цепляется» к какой-то девице, Куприн не только заступится за нее, но, схватив обидчика под микитки, швырнет его за борт. Рыцарь? Несомненно! Визг, крики, смех, овации! Но когда экзамены в академию были сданы, в Петербург доставят приказ командующего Киевским округом Драгомирова: запретить подпоручику Куприну пять лет поступать в академию. Подвиг как любовь, но ведь и любовь – как подвиг. Что ж, Куприн продал револьвер, чтобы рассчитаться с хозяйкой меблирашек, и купил обратный билет – до Проскурова… Армия, возможно, потеряла будущего генерала, сам он лишился блестящей карьеры, а его невеста – шикарного жениха. И лишь мы с вами приобрели – приобрели писателя. Генерала от литературы.
Поединок… чувств
«Среди равных» побеждает тот, кто уверен в победе, любил повторять Куприн, а проигрывает – кто «потерял сердце». Так и сказал: «Потеря сердца… Ее знают акробаты, всадники, борцы, бретеры и великие артисты. Эта болезнь постигает жертву без предупреждений»… Сам «потеряет сердце», когда второй раз в жизни окажется в Петербурге. В тот день, в ноябре 1901 года, он вместе с Буниным впервые придет на Разъезжую.
Остановились в «Пале-Рояле», в самой богемной гостинице (С.-Петербург, ул. Пушкинская, 20). Здесь снимали номера Чехов, Шаляпин, Горький. И отсюда, из сохранившегося по сей день здания, Бунин и повел слегка смущенного Куприна (автора, правда, уже и «Олеси», и «Молоха») в «Мир Божий», в журнал, как раз на Разъезжую – в дом 7. Куприн, пишет Бунин, шел «набычившись». Он, выйдя в отставку, успел поработать репортером, землемером, псаломщиком, актером, кузнецом, столяром, предсказателем в Полесье, учился на зубного протезиста и учил в училище слепых, суфлерил в театрах, разводил «махорку-серебрянку» на Волыни и даже продавал в Москве какие-то «пудерклозеты инженера Тимаховича». Всё было в его жизни. А людей научился узнавать по запаху. Да, «потянет носом, – вспоминала Тэффи, – и конец – знает, что это за человек…»
Из воспоминаний Н.Тэффи: «Было в нем звериное и было нежное. Рассердится, и с разу зрачки по-звериному съежатся, жестоко и радостно. Зверь ведь радуется, когда злобно поднимает для удара когтистую свою лапу. Для Куприна, как для зверя, много значило обоняние, запах. Он говорил, что “принюхивается” к людям… Помню, как-то в обществе показала ему красивую даму.: “Что скажете, Александр Иванович, правда, хороша?” Ответил отчетливо и громко: “Дура собачья. У нее от морды редькой пахнет”»…
На Разъезжей, где была и редакция, и квартира издательницы, друзья узнали: хозяйка журнала – Александра Аркадьевна Давыдова – больна. Принять их может приемная дочь ее Муся – двадцатилетняя курсистка-бестужевка, черноглазая, остроумная Мария Карловна. «Муся была подкидыш, – напишет Ариадна Тыркова-Вильямс, подруга ее. – Ее младенцем принесли к дверям Давыдовых… Очень хорошенькая… Ее портил смех, недобрый, немолодой. Точно она говорила: “Какие вы все дураки, и до чего вы мне надоели”». Росла среди знаменитостей (в доме Давыдовых бывали Чехов, Вс.Гаршин, молодой Горький), и, может, потому Куприн, в полосатом костюме, в воротничке, каких давно не носили, и в желтом галстуке с синими цветочками, не только смешался, но едва не спрятался за друга. «Разрешите представить вам жениха, – балагурил, раздеваясь в прихожей, Бунин. – Талантливый беллетрист, недурен собой… Ну… Как вам? У вас товар, у нас купец…» «Нам ничего, – подхватила шутку Маша. – Мы что? Как маменька прикажут…» Но на другой день обоих принимали здесь уже иначе: стол с крахмальными салфетками, дорогие вина, хрусталь. Теперь обедали уже с «маменькой». А двум горничным помогала у стола хрупкая девушка с лебединой шеей, которую звали просто Лизой и к которой относились как к «нелюбимой сироте». Куприн, уже влюбленный в Машу, не «увидел» ее и, уж конечно, не мог и предположить, что через шесть лет второй женой его после Маши станет как раз она – Лиза Гейнрих, сестра жены Мамина-Сибиряка, отданная «на воспитание». Маша, что говорить, была, конечно, ярче, Лиза скромней, та светски-лукава, эта – простодушна. Маша знала, как глядеться доброй, Лиза же была сама доброта. Но разве разглядишь это с наскока, если Куприн, стихийный, эмоциональный (он говорил, что и «спичку нельзя зажечь равнодушно!»), был уже смирен, стреножен Машей. Словом, через три месяца – небывалый срок тогда – Маша станет женой его. Тырковой признается: «Знаете, маме хочется, чтобы я вышла за Куприна». – «А вам-то самой хочется? – спросит та. – Не выходите зря. Не надо. Он в вас по-настоящему влюблен». Маша в ответ лишь рассмеется: «Знаете, что мама сказала? Выходи. У нас будет ребеночек. А потом, если Куприн надоест, можно его сплавить, а ребеночек останется…»
Забегая вперед, скажу: так и случится. Но встречаться стали сначала в комнатке на Невском, снятой Куприным (С.-Петербург, Невский пр-т, 67), а потом, перед свадьбой уже, – на Бассейной (С.-Петербург, ул. Некрасова, 35). Там, видимо, и нацарапал он внутри ее обручального кольца, может, самое короткое произведение свое – одну фразу всего: «Всегда твой – Александр».
Нет, нет, Маша любила его, но любила как будущего великого писателя. «Я верю в тебя», – сказала, когда он признался, что хочет писать большую вещь. Из Крыма он привезет ей шесть глав «Поединка», повести, где «дуэлью» был личный поединок его с царской армией. Но когда повесть у него забуксует, Маша покажет ему на дверь: «“Поединок”! А до той поры я для тебя не жена!..» И знаете: он не порвет поводков, нет. Покорно снимет себе комнатку, даже осудит себя: «с влюбленными мужьями иначе нельзя». И – совсем уж непредставимо! – написав очередную главу, будет спешить с ней на Разъезжую, где на черной лестнице (чтобы не встретиться с Машиными знакомыми), просунув рукопись сквозь прикрытую на цепочку дверь, будет покорно ждать, чтобы впустили его. Визит к законной жене, но – как «гонорар» за написанное. Бедный, бедный писатель! Однажды, когда он, чтобы увидеть Машу, подсунул ей уже читаную главу, дверь для него не откроется вовсе. Каково?! И он, сорвиголова, «мачо», как сказали бы ныне, сядет на грязные ступени черной лестницы и, как в «кадетке» когда-то, по-детски расплачется. Казнен, и впрямь казнен – любовью своей.
Слава его к тому времени была уже оглушительной, еще до «Поединка» не меньшей, а может, и большей, чем у Горького, Леонида Андреева и даже Чехова. Что ж, тем «черней» была та черная лестница в доме любимой!.. Впрочем, столетие, миновавшее с тех пор, позволяет сказать: он не был идеальным мужем. Это ведь он сказал Фидлеру, переводчику, что в постели «любит иметь дело с двумя женщинами одновременно», а уже в пивной признался ему: разврат и пьянство – вот его нынешняя жизнь. «Как же ты можешь при этом писать?» – «Могу. Обливаюсь холодной водой и пишу».
Пил, пил так, что про него ходили даже стишки, пущенные из «Вены» – писательского ресторанчика на углу Гороховой и Морской: «Если истина в вине, // Сколько истин в Куприне?!.» Это ведь он в той же «Вене» (С.-Петербург, ул. Малая Морская, 13) вызвал на дуэль некоего Райляна, грубо выставив его за дверь, и, напротив, пригласил в ресторан – вы рухнете! – весь мужской хор Александро-Невской лавры. Чтоб пели лично ему – Куприну! Как было жить с таким? То он три дня пропадает у цыган, и его вытаскивает оттуда Вересаев: «На вас смотрит вся читающая Россия, а вы?..» То якобы патентованным «голландским» средством от седины красит голову масляной краской какому-то филеру из Одессы. То вонзает вилку, да еще с нацепленной бараньей котлетой, в живот поэту Рославлеву, а то, заливаясь слезами, дарит какой-то «ночной фее» на улице, дрожавшей от холода, прямо с плеча шубу свою с бобровым воротником. Наконец, в гостях у актера Ходотова (С.-Петербург, ул. Константина Заслонова, 5) при всем честном народе натурально начинает душить Леонида Андреева, пока того, уже посиневшего, аж четверо мужчин не вырывают из железных рук его. Ну куда это годится?! Да и на Разъезжую, к Маше, мог привести и «рыжего пса» Уточкина, модного летчика, и попа-расстригу Корецкого, и – прямо из «Капернаума», трактира по соседству (С.-Петербург, Владимирский пр., 7), – какого-то хмельного раскосого штабс-капитана Рыбникова, которого, как будет уверять Машу, сразу принял за японского шпиона. Да, Маша, растя в нем писателя, слышала, конечно, что он хотел бы смотреть на мир глазами каждого, стать и лошадью, и растением, и рыбой. Но если вас ночью будит дворник и говорит, что надо идти удостоверять личность мужа, который подрался с полицейским, то, воля ваша, свои честь и спокойствие покажутся дороже. А ведь скоро он, который считал, что даже «спичку нельзя зажечь равнодушно», приревновав Машу, когда она вернулась из театра уж чересчур поздно, чиркнет спичкой реальной и подожжет на ней черное газовое платье. Еле успеют погасить. Будет убегать из дома, потом каяться, затем снова писать, что между ними «всё кончено», и снова – приходить. Притворяясь собачкой, дабы «облизать» любимую. Будет уезжать даже к Черному морю, чтобы работать по-настоящему, но Маша станет верить ему всё меньше и меньше.
Впрочем, однажды, как я говорил уже, действительно привезет из Крыма несколько написанных глав «Поединка». Но когда, читая их жене, доберется до пятой главы, она возьми и скажи, что монолог героя – это в точности Чехов, его «Три сестры». «Что?! – вскинется Куприн. – Я, значит, взял это у Чехова?! Тогда к черту весь “Поединок”». И, стиснув зубы, станет рвать рукопись. Только через три месяца, извиняясь, скажет, что в той рукописи «было кое-что недурно» и что жаль, жаль ее. Маша усмехнется, шагнет к бюро и протянет склеенные ею страницы… «Машенька! Это же чудо! – задыхаясь от смеха, кинется целовать ее. – Неужели?..» Но к работе над «Поединком» вернется, увы, только через долгих полтора года…
Медовые годы и… месяцы
«Разойтись с ним было трудно», – скажет Маша; это было ожесточение страсти. Он тоже назовет это страстью: «Сила любовной страсти уравнивает все разницы, – скажет, – пола, крови, происхождения, возраста и даже социального положения!.. Но в этой стихии всегда властвует не тот, который любит больше, а тот, который любит меньше: странный и злой парадокс!..»
Он любил Машу больше, чем она его. А его больше, чем себя, любила Лиза. Та Лиза Гейнрих, которую он тоже встретил на Разъезжей. Куприн, надо сказать, видел ее с тех пор то у Мамина-Сибиряка (С.-Петербург, ул. Верейская, 3), то в гостях у народника Михайловского (С.-Петербург, Спасский пер., 5). Он, узнающий людей по запаху, увы, не догадывался еще, что судьбы его и Лизы – его Сюзинки, его Ми Ли («Милой Лизы») – уже были похожи. Оба «последыши» в своих семьях, оба имели души, отзывавшиеся, как мембраны, на чужое горе, и, наконец, оба с детства, не терпя обид, рвали, случалось, самые крепкие поводки. В жилах Лизы текла венгерская кровь, отец ее из старинного рода Мориц Ротони-Гейнрих участвовал в восстании мадьяр, и за поимку его была назначена награда. Ничего этого Куприн не знал и, более того, когда через два года после женитьбы на Маше забежал на минутку к Мамину-Сибиряку, то вообще не узнал Лизу – так она похорошела. Дверь ему открыла стройная девушка в форме сестры милосердия. «На фронт едет, на войну с Японией, – сказал ему Мамин и якобы добавил: – Смотри не влюбись…» «Достанется же кому-то такое счастье», – ахнул Куприн. Стороной до него будут доходить слухи, что Лиза добралась до Мукдена, пережила какое-то крушение поезда в иркутском туннеле, работала в госпитале и даже награждена медалями. Но ошеломило его другое: то, что Лиза едва не покончила с собой. Из-за того, что человек, которого она встретила на войне, врач, с которым, кажется, даже обручилась, на ее глазах избил какого-то солдата. Вот чего не стерпела. Как Куприн понял ее тогда! Ведь он и сам только что написал в «Поединке», как рядового Хлебникова избивает самодур-фельдфебель: «Обезумевший от побоев солдат – всё представлялось ему мучительным сновидением, которые, должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира. Прилив теплого, бесконечного сострадания охватил его…» Сострадание – совместное страдание! Золото душ, пароль, по которому узнают друг друга истинно любящие людей люди. Ну как им, одинаковым, было не сойтись?..
Лиза, вернувшись с фронта, Куприных в городе не застала. Но, забежав на Разъезжую, увидев, что дочь их Лида, Лелюшка, оставленная на няньку, лежит в дифтерите, уже не отошла от ее кровати, осталась спасать ее. Маша, «обрадовавшись привязанности дочери к Лизе», предложила ей поехать с ними в Даниловское, в имение друга Куприна – Батюшкова, знатока западной литературы, внучатого племянника поэта. Вот там, в Даниловском, в парке у пруда (в грозу, при свете молний) писатель и объяснился со своей Сюзинкой. «Я, – прошептал Лизе под грохот грома, – больше всего на свете, больше себя, семьи, своих писаний люблю вас…» – «Что вы, что вы, Александр Иванович! – отшатнулась Лиза. – А как же Лелюшка? Как вы можете даже подумать о том?» – «Я не знаю, что мне делать, – тупо твердил он, – я не могу без вас…» Но она, вырвав руку, не дослушав его, убежала. А рано утром, не сказав никому ни слова, тихо собралась и уехала.
Через годы дочь Лизы и Куприна Ксения скажет: первым чувством матери там, в Даниловском, была паника. Разрушать семью – это казалось немыслимым. Втайне даже от близких Лиза устроится в какой-то госпиталь на окраине, нарочно в отделение заразных, куда посторонних не пускали. И там и лишь через полгода ее отыщет Батюшков. Потом в каком-то ресторане найдет и Куприна. «Саша, Саша, – будет трясти его за плечи, – я нашел Лизу. Она согласна…» Батюшков не просто нашел: он знал заранее, что Лиза никуда не пойдет (истинная доброта – это ведь на деле твердые как кремень решения), и потому припас для нее только одно слово: «Спасайте!..» Спасите, убеждал ее, спасите Куприна от пьянства, от скандалов в семье, от сброда, который его окружал, ведь он «с двух сторон» жег свечу своей жизни. Спасите, фактически, от казни, которую на глазах всей России он чинил над собой. «Спасите» – только этот призыв она и могла понять. Через несколько дней, которые прожили, кажется, у Батюшкова (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 123), 19 марта 1907 года Лиза и Куприн выехали в Финляндию. Она везла его в Гельсингфорс лечиться – это было единственным условием ее. А через одиннадцать лет их «медовый» Гельсингфорс, нынешний Хельсинки, станет первой точкой долгой эмиграции Куприных, последней ниткой, пуповиной, связывавшей их с родиной…
Ах, сколько счастья было у Лизы с ним в России! Нет, Куприн не стал другим, но Лиза с ним почти всегда улыбалась. «Знаете ли вы, – напишет в одном из писем Куприн, – что гранильщики драгоценных камней держат перед собой изумруд? Когда глаза их устают, то им дают отдыхать на изумруде…» Так вот, таким изумрудом стала для Куприна улыбка Лизы. Она улыбалась, когда в деревне он, взяв за гриву бесхозную лошадь, не только привел ее в дом, но как дитя настоял, чтобы она ночевала рядом с его кроватью: «Я хочу знать, как лошадь спит»… Хохотала, когда он, играя в домашнем спектакле какого-то любовника, так пылко обнял свою партнершу (профессоршу в миру), так страстно поцеловал ее, что та не только забыла роль, но, как услышала Лиза, тихо, не по тексту, застонала: «Дайте атмосферу! Мне не хватает атмосферы!..» И уж, конечно, не могла не улыбаться, видя, как он, сочиняя «Суламифь» (под впечатлением от любви к ней), выскакивал во двор и, как ребенок, горстями глотал снег. Чего в этом было больше: творческого угара или любовного пыла – неведомо. Одно читается четко: «Суламифь» – сплошное объяснение в любви к ней. «Верь мне, – писал в рассказе. – Тысячи раз может любить человек, но только один раз любит. Тьмы людей думают, что любят, но только двум из них посылает Бог любовь»…
Он молодел с ней. Давно ли, живя с Машей, он, «король слова», вывел на столешнице, где расписывались именитые гости, свой знаменитый афоризм: «Мужчина в браке подобен мухе, севшей на липкую бумагу: и сладко, и скучно, и улететь нельзя». Теперь натурально летает. Уговаривает в Одессе Уточкина взять его в полет на воздушном шаре и поднимается на тысячу двести метров. Потом с Ваней Заикиным, борцом и кумиром мальчишек, взлетает в небо на аэроплане. А у брекватера Хлебной гавани под наблюдением Дюжева, водолаза, дважды опускается на дно, причем второй раз специально позвав Лизу. В Киеве организует атлетическое общество. В сорок три года идет учиться стильному плаванию у чемпиона мира Романенко. Зачем? Да затем, чтобы, как в детстве, помните, раздвигать мир и себя в нем. Всё хотел испытать: на зуб, на мускул, на нерв. Хотел даже женщиной стать, даже родить ребенка. «Есть двоякого рода мудрость, – точно скажет о нем Батюшков. – Одна легко черпается из книг, другую с трудом берут у жизни». Вот Куприн и брал ее. Брал, чтобы переплавлять эту мудрость в рассказы, повести, романы и пьесы. Он ведь только за трехтомник в 1909-м получил (правда, пополам с другом Буниным) академическую Пушкинскую премию, а в 1912-м выпустил уже полное собрание сочинений. Пользуйтесь, дескать, черпайте, читайте! И, добавлю, – стыдитесь того, что сделала с ним родина.
Общался к тому времени уже с немногими – хватало Сюзиньки. Бывал у Василия Немировича-Данченко (С.-Петербург, ул. Марата, 41), писателя, которого звал «добрым чародеем», у Чирикова (С.-Петербург, ул. Блохина, 15а), у Вересаева, тот жил при больнице (С.-Петербург, Кременчугская ул., 4), близко сошелся с Сашей Черным, поэтом-сатириком, и буквально «снюхался» с Александром Грином, таким же забубенным. Тот не раз заходил в гости к нему и на Фонтанку (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 133/9), в их с Лизой квартирку, и потом – в «зеленый домик» в Гатчине, который Куприны купили в 1911-м. Это ведь Грин подарит ему на день рождения пару старинных шпор из серебра, а Куприн и из Парижа извернется в голодный 1922-й прислать Грину продуктовую посылку.
Из воспоминаний Александра Грина: «Пестрый человек был… Одним из главных качеств, определяющих стиль его жизни, было желание во всем и везде быть не только первым, но первейшим… Это-то и толкало его на экстравагантности, иногда дурно пахнущие. Он хотел, чтобы о нем непрерывно думали, им восхищались. Похвалить писателя, хотя бы молодого, начинающего, было для него нестерпимо трудно. И я, к общему и моему удивлению, был в то время единственным, который не возбуждал в нем этого чувства… Он часто мне говорил: “Люблю тебя, Саша, за золотой твой талант и равнодушие к славе. Я же без нее жить не могу…”»
«Зеленый домик» в Гатчине с лиловыми занавесками на окнах Куприн специально, в честь жены, выбрал на Елизаветинской улице. И здесь встретил и Первую мировую, и две революции за ней. Октябрьский переворот принял почти равнодушно. Ну, не равнодушно – аполитично. Сказалось, думаю, разочарование в мировой войне. Он ведь с первыми выстрелами 1914 года воспрял, думал, что война изменит мир к лучшему, и, мечтая «попасть в дело», снова нацепил погоны поручика. Но, увы, его, страдавшего уже склерозом и одышкой, отправили учить новобранцев. Вернулся пристыженный – еле выжал из себя признание, что не мог уже двигаться перебежками, что сдавали нервы, а главное – даже рапорта нормального написать не мог; ему говорили, что после «Сатирикона», сатирического журнала, самыми смешными были как раз его военные донесения… Дослуживал в Земгоре, работал в авиационной школе в Гатчине, а потом они с Лизой – сострадальцы ведь! – устроили в своем доме госпиталь для раненых – на десять коек всего. В ночь же революции дулся в Гатчине в карты с настоятелем кладбищенской церкви, каким-то отставным полковником и местным электриком. Впрочем, забытое было ощущение «яблока на голове», как в юности, когда ждал выстрела на пари, его уже не покидало. Он ведь еще в Февральскую революцию насмотрелся ужасов на всю жизнь. Как резали на улицах офицеров, как живых завязывали в мешки и бросали в прорубь или, собрав их в кучу на корабельном баке, поливали из брандспойтов паром, так что по трупам нельзя было и опознать людей… Что же говорить про факты, которые принес Октябрь. Когда церковные престолы превращались в шутовские эстрады, а алтари – в отхожие места. Когда красный латыш, вспоров живот у священника, прибивал гвоздями его кишки к дереву и палкой гонял его вокруг, наматывая внутренности еще живого человека, когда выбрасывали на свалку труп беременной, у которой в разрезы на животе были вытащены руки и ноги младенца. Жуть! «Кому мы предъявим этот мертвый счет?» – спрашивал в одной из заметок писатель…
Удивительно, но Куприн еще Ленина увидит. Натура деятельная, он после революции будет работать у Горького в издательстве «Всемирная литература» (С.-Петербург, ул. Моховая, 36), будет с Блоком читать в 1918-м лекции на курсах журналистики (С.-Петербург, Невский пр., 81) и тогда же предложит Советам единственное, что умел, – делать газету. С идеей беспартийной газеты «Земля» для крестьянства и поехал к Ленину. Горький черкнул вождю: «Дорогой Владимир Ильич! Очень прошу принять и выслушать Александра Ивановича Куприна по литературному делу. Привет. А.Пешков». И уже на следующее утро Куприн, Лиза и их дочь Ксюня устраивались в Москве на несколько дней у Гермашева, знакомого художника (Москва, ул. Воздвиженка, 6). А про встречу в Кремле он раз пять вспоминал потом в заметках, статьях и очерках.
«По каменной, грязной, пахнущей кошками лестнице мы поднялись на третий этаж в приемную – жалкую, пустую, с непромытыми окнами, с деревянными скамейками по стенам, с единственным хромым столом в углу… Из-за стола подымается Ленин… У него странная походка: он так переваливается с боку на бок, как будто хромает; так ходят кривоногие, прирожденные всадники. Во всех его движениях есть что-то “облическое”, что-то крабье. Но эта наружная неуклюжесть не неприятна… Он сразу производит впечатление телесной чистоты, свежести и, по-видимому, замечательного равновесия в сне и аппетите… Разговор наш очень краток. Я говорю, что мне известно, как ему дорого время, и поэтому не буду утруждать его чтением проспекта будущей газеты… Но он все-таки наскоро перебрасывает листки рукописи… Спрашивает – какой я фракции. Никакой… “Так! – говорит он и отодвигает листки. – Я увижусь с Каменевым и переговорю с ним…”»
Алданову, писателю, рассказывая об этой встрече в Париже, Куприн попытался даже скопировать картавость вождя: «Он меня спросил: “Куп-г-ин? Ах, да… Но какой же вы ф-г-акции?..”» В глазах Куприна, пишет Алданов, сквозило благодушное изумление: «Что за чудище! Спрашивает, какой фракции Куприн!» И еще поразил его «иронический, пренебрежительный оттенок» разговора, будто Ленин говорил: «Всё, что ты скажешь, я заранее знаю и легко опровергну, как здание, возведенное из песка ребенком». Но это, подчеркнет, только манера – «за нею полнейшее… равнодушие ко всякой личности…»
«Товарищи», с которыми успел переговорить Ленин (имена, кстати, известны: Каменев, Сосновский и Демьян Бедный), приняли Куприна в Моссовете (Москва, ул. Тверская, 13). Поморщившись на идею газеты, предложили «пописывать» в журнал «Красный пахарь». Отказался, конечно. Демьян Бедный напишет: «Из всей… истории Куприн сделал единственно правильный вывод – сбежал вместе с Юденичем…» Но прежде большевики все-таки арестуют Куприна. Поздно вечером; он как раз сидел за картами.
Из очерка Куприна «Обыск»: «Четверо распоясанных, расстегнутых солдат – настоящие вооруженные михрютки – под командованием стройного белесого маленького латышонка… Шестым был долговязый комиссар в поношенном черном пиджаке… “По мандату от Совета рабочих и солдатских депутатов мы должны произвести в этой квартире обыск”… Я встал, но жена сказала мне движением ресниц – сядь… Я послушался… Она была восхитительно хладнокровна. Комиссар сказал: “Мы, собственно, интерес уемся английской корреспонденцией вашего мужа… Домашних пустяков мы трогать не будем…” “Хороши пустяки, – подумал я. – А заряженный на все восемь гнезд револьвер «веладог», который затиснут между ванной и стеной? А наган, лежащий под плинтусом на террасе?..” Я предложил докончить пульку. Но мои добрые друзья зашипели на меня: “Какая уж тут пулька!..”»
Под утро Куприна доставили в трибунал, в бывший дворец великого князя Николая Николаевича старшего (С.-Петербург, Петровская наб., 2), а обезумевшей от страха Лизе, когда она дозвонилась до дворца, какой-то шутник рявкнул: «Куприн?! Расстрелян к чертовой матери…» Имя шутника тоже известно – матрос-комендант Крандиенко, он и повезет писателя в знаменитые Кресты, где Куприн просидит три дня (С.-Петербург, Арсенальная наб., 7), где до него сидел уже его друг, писатель А.Грин, а после него – чуть ли не четверть русской литературы, включая нобелиата Иосифа Бродского. Не шуткой оказалось другое. Когда в Гатчину вступил Юденич, когда после перерыва вновь грянули церковные колокола, Куприну донесли: у красных он был одним из первых «в числе кандидатов… для показательных расстрелов». И расстреляли бы «к чертовой матери». Ведь в Гатчине шуровали и «страшный Шатов», который поставил к стенке заложницу с грудным ребенком, и Серов, председатель ЧК, положивший полсотни бывших офицеров, и Оссинский, в доме которого найдут подвал, забрызганный кровью. Да, аполитичным Куприн был, но равнодушным – никогда. Потому в те дни и достал из-под ванной тот самый «веладог», а в лавке старьевщика купил и в четвертый раз за жизнь нацепил на себя погоны поручика. Надел, чтобы за сутки сделать то, что и умел, – газету для армии Юденича. За двадцать восемь часов сделал. В передовице написал: «Свобода! Какое чудесное и волнующее слово! Ходить, ездить, говорить, думать, молиться, работать – всё это завтра можно будет делать без идиотского контроля, без вздорного запрета». И подписался: «Гр. Ад» (Град – так звал когда-то лошадь, на которой брал бесконечные призы). Эта статья станет последней на родине. Ибо, когда Юденича отбросят, когда начнутся бои за Гатчину, Куприн, отправив своих подальше от передовой, сложив в ручной чемоданчик томик Пушкина и надписанные фотографии Толстого и Чехова, навсегда уйдет из «зеленого домика». Уйдет, оставив распахнутой, незапертой дверь. Словно знал – вернется.
«Не он нас бросил…»
«Видели ли вы, как лошадь подымают на пароход, на конце парового крана? Лишенная земли, она плывет в воздухе, бессильная, сразу потерявшая всю красоту, со сведенными ногами, с опущенной тонкой головой… Это – я…»
Можно долго рассказывать о жизни Куприна в Париже, а можно перечесть это «про лошадь» и всё понять. И вот ведь – странность: чем больше я узнавал про эмиграцию его, чем больше появлялось документов и мемуаров, тем яснее видел его как бы в рапиде, в замедленной киносъемке. Но одно дело кино (а я и впрямь несколько лет назад снимал фильм о Куприне для телеканала «Культура»), а другое – жизнь. Жизнь – «в рапиде»! Замедление до полной остановки, до удара о землю, до тысячи брызг – вдребезги.
Первую пощечину от Запада он получил в первый же день. Когда, кинув вещи в отеле «Россия» (ну где еще он мог остановиться?), вся семья, прогуливаясь, зашла в какой-то ресторан, то, как пишет Ксения, дочь писателя, их – просто выгнали. Отец, пишет, тщательно подбирал изысканные фразы, пытаясь заказать ужин, но хозяин, не понимая, что он хочет, вдруг взбесился и, сорвав скатерть, указал на дверь. «В первый, но не в последний раз, – пишет Ксения, – я услышала слова: “Грязные иностранцы, убирайтесь к себе домой!..”» Но ужас в том, что нетерпимый, взрывной, скорый на отпор и вечно готовый к драке Куприн промолчал. Вот что убило Ксению. И не тогда ли произошла «сшибка» натуры Куприна и жизни, та самая «потеря сердца»? Не в тот ли вечер запущен был механизм самоуничтожения писателя, те «часы» внутри каждого, которые начинают однажды отсчитывать саму смерть?
Первым их адресом в Париже стал узкий белый шестиэтажный дом, где жил к тому времени друг Бунин (Париж, ул. Ренуара, 48а). Тут вообще обитала колония русских писателей: и Бальмонт с семьей, и Алексей Толстой. Впрочем, через два года и Бунин, и Куприн переберутся в другой дом (Париж, ул. Жана Оффенбаха, 1), на «Яшкину улицу», как звал ее Бунин, где друзья и разойдутся. Жили на одной площадке, оба сняли четырехкомнатные, похожие и уже обставленные квартиры. Здесь Бунин заказал себе визитки с дворянским «де», франтовато одевался, завел связь с иностранцами-издателями и за свои рассказы получал самые высокие гонорары. Но дружба его и Куприна таяла. «Я уже не могу слышать, – жаловался Куприн жене, – как Вера с вечной таинственной улыбкой Моны Лизы спешит сообщить на лестнице, точно величайшую новость: “Сегодня Ян плохо спал” или: “Сегодня Ян скверно настроен”». Бунины, в свою очередь, жаловались на шум гостей в квартире у Куприна, на хлопающие двери, крики и поздние прощания с визитерами на лестнице. А ведь Бунин писал Куприну когда-то: «Я тебя любил, люблю и буду любить – даже если бы тысяча черных кошек пронеслась между нами. Ты неразделим со своим талантом, а талант твой доставил мне много радостей…»
Впрочем, про жизнь на улице Оффенбаха Бунин, вспоминая, скажет, что, когда они жили еще «самыми близкими соседями в одном и том же доме», Куприн уже тогда так и столько пил, что врач, осмотревший его, сказал: «Если пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев». Думаете, бросил? – спрашивает Бунин. Нет, конечно. И «держался» после этого «молодцом» еще лет пятнадцать. Но как «держался», а главное – за кого? Уж не за Лизу ли и не за Родину – в мечтах? В заметках, которые так и назвал «Родина», написал: «Живешь в прекрасной стране… Но всё точно понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте… ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру…» Фильм – в «рапиде»…
«Дела мои – бамбук», – скоро напишет из Парижа знакомому из нового дома, из квартирки на бульваре Монморанси (Париж, бул. Монморанси, 1 бис). «Не поется и не свищется». В другом письме сообщит: «Денег у меня – ни кляпа, – и добавит: – И вино здесь говнячее – белое пахнет мокрой собакой, красное творогом». Про Лизу писал, что ей приходится «столько бегать, хлопотать и разрываться на части, что не хватило бы и лошадиной силы». С лошадьми сравнил, любимыми. Кухня, долги, штопка чулок, поиски лекарств, попытка открыть переплетную мастерскую, потом, после разорения, – книжного магазина, тоже лопнувшего, – вот парижская круговерть Лизы. Она не тащила дочь и мужа за собой – прикрывала, словно крыльями. Сострадала! И не одним им. Ведь это не Куприну – ей напишет Цветаева после своего вечера в Географическом обществе (Париж, бул. Сент-Жермен, 184): «Сердечное спасибо за добрую волю к земным делам человека, которого Вы совсем не знаете, а именно – за неблагодарное дело продажи билетов на вечер стихов. Я знаю, что ни до стихов, ни до поэтов никому нет дела… Тем ценнее участие и сочувствие». А когда Куприн не смог создать заказанный самим Мозжухиным сценарий для кино, Лиза, отважная душа, услышав, что сценарий о библейской Рахили, о любви, сказала, что напишет сама. И написала бы, если бы муж и дочь не высмеивали ее, не ходили бы на цыпочках: «Тсс, мама пишет!» «Мы так ее извели, – смеялась дочь, – что она однажды расплакалась и сожгла рукопись».
Нет, были в их парижской жизни и счастливые моменты. Через два года, в июне 1924-го, на их адрес пришло полтысячи телеграмм и писем: народ отмечал 35-летие творчества Куприна. А ведь им не были еще написаны романы «Юнкера» и «Жанета. Принцесса четырех улиц» (про дружбу старого профессора-эмигранта и маленькой девочки – дочери бедной парижской киоскерши). Он еще не создал трагическую хронику Северо-Западной армии, о которой Саша Черный скажет: Куприн «сменил кисть художника на шпагу публициста». Ничего этого не было, но среди поздравлений от Клуба писателей, Правления русских журналистов, Литературно-артистического общества, библиотеки Тургенева и Русского университета он тогда уже выделил адрес от офицеров Талабского полка. Потом, в 1928-м, была триумфальная поездка его в Белград на съезд писателей-славян, когда югославы бросались к нему на улицах: «Ти наш брат, ти наш человек!», когда их всех принимал сербский король Александр, который лишь ему, Куприну, долго слал потом коробки югославских папирос. На ул. Жувине (Париж, ул. Жувине, 22 бис), где жили тогда Куприны, писатель радовался им будто ребенок. Были персональные вечера в гостинице «Мажестик» (Париж, ав. Клебер, 9), зале «Комедиа» (Париж, ул. Сент-Жорж, 51), «Русском клубе» (Париж, ул. Ассомсьон, 70), отеле «Лютеция», в том сохранившемся доныне здании, где не только жили когда-то Пикассо, Матисс и Айседора Дункан, но где до конца 1930-х русская эмиграция устраивала новогодние балы (Париж, бул. Распай, 43–47). Наконец, его чествовали в газете «Возрождение», где он работал тогда (Париж, ав. Шанз-Элизе, 73). Вот в «Возрождении» да в журнале «Иллюстрированная Россия», где он трудился уже до 1933 года (Париж, ул. Кардине, 22), Куприн и «сломал камертон», как признался одному приятелю. Писательский «камертон». Он ведь не мог писать «из головы». Чуковский когда еще сказал: «Оторви его от донской лошади, и от семинаристов, и от папирос “Трубач”, и он погиб…» И, может, оттого он всё чаще и подрабатывал простым корректором в газете «Парижский вестник» (Париж, ул. Менильмонтан, 32), и всё чаще ловил там за рукав линотиписта тогда, а потом, уже после войны, сотрудника секретариата ООН Сосинского: «Володя! Как у тебя сегодня?.. Пятерка найдется?..» Дрожащей рукой, пишет Сосинский, он брал монету и «шаркая подошвами стоптанных башмаков… бежал в соседнее бистро»… Да, Куприн протянет пятнадцать лет, вопреки предсказанию врача. Будет держаться за братьев-писателей, которых навещал. За Бориса Зайцева (Париж, ул. Клод Лорен, 11), за тот «Дом в Пасси», где жили, кроме Зайцева, и Михаил Осоргин, и Полонская, поэтесса и критик, которая устраивала у себя литературные посиделки, зовя на них и Бунина, и Куприна. За близкого друга еще по России писателя Бориса Лазаревского, у которого от души выпивал (Париж, ул. Пьерр, 9). За неунывающую Тэффи, когда та обзавелась, наконец, нанятой квартирой (Париж, бул. Гренель, 25), за дом друга Ивана Шмелева, писателя (Париж, ул. Буало, 7), где Куприн однажды чуть не умер (первый звонок). Спас его как раз Шмелев, который, когда исчез пульс и, как поняла Лиза, остановилось сердце, догадался влить в Куприна не лавровишневые капли – рюмку рома. И «мертвец» открыл глаза. С трудом выдавив улыбку, даже пошутил: «А вкусный ром, нельзя ли еще?..»
Он, конечно, погибал – он опять жег свечу «с двух сторон». Жаль себя, жаль людей, а помочь – невозможно. Сострадание к другим (их с Лизой «пароль», помните?) ни ему, ни ей было уже не по карману. Нет, Лиза из последних сил «опекала двух-трех калек или неудачников», беременных женщин, больных детей, никогда не отказывала в хлебе даже человеку с улицы, но от этого их жизнь становилась лишь беднее.
Не такой, увы, выросла их дочь Киса. Ей никого не было жаль. Хуже того – не жаль отца. Он-то, когда дочь свалилась с тяжелой простудой, продал эскиз Репина «Леший», который до того долго выпрашивал у художника, продал ради лучших врачей и курорта в Швейцарии. Ничего не жалел. Но если его сравнивали (тот же Алданов, например) с русским Гамсуном и Джеком Лондоном, то Киса, родной человек, крикнула ему однажды: «Ты писатель для консьержек!..»
Киса, Куська, Ксюша в шестнадцать была принята в знаменитый Дом моделей Поля Пуаре, научилась ходить «по языку», делать «лицо». Платили моделям мало, но зато разрешали брать «на вечер» какой-нибудь супернаряд. Вот вам и сказка о «русской Золушке», как назвала себя. «Как-то дом Пуаре одолжил мне золотое платье и золотую “сортье де баль” – накидку, обшитую перьями, – рассказывала на старости лет Олегу Михайлову, биографу Куприна. – Возможно, моя детская мордашка в этом невероятном туалете казалась смешной… И вдруг Золушку приглашает на танец Принц – самый известный тогда во Франции кинорежиссер Марсель Лербье. Для меня пробил звездный час!» «А что же Куприн?» – перебил ее Михайлов. «Что я могла поделать! Он называл синема жесточайшей отравой. Хуже алкоголя и морфия. Сердился, что я делалась во Франции более известной, чем он. Ленты с моим участием имели успех. “Дьявол в сердце”, “Тайна желтой комнаты”, “Духи дамы в черном”… Однажды шофер такси услышал, как папу назвали по фамилии. “Вы не отец ли знаменитой…” – спросил шофер… Дома папа сокрушался: “До чего я дожил! Стал всего лишь отцом «знаменитой дочери»!..”»
Вы знаете ныне актрису Куприну? И я – не знаю. А тогда за ней что ни вечер заезжали веселые компании на дорогих машинах, ей платили довольно высокие гонорары, которые она спускала на престижные туалеты, а в доме в это время отключали за неуплату газ и свет. И однажды, ожидая авто с очередным любовником, она вдруг увидела беспомощного, худенького, почти слепого отца, который, обращаясь в пустоту, на жалком французском просил хоть кого-нибудь помочь ему перейти дорогу. Какие-то девушки, рассказывала Киса, смеялись: «Смотри, какой-то старичок боится перейти дорогу!» «Папа плохо видел, – вспоминала. – И кроме того, был подшофе. Мне было неловко подойти к нему сразу, и я подождала, пока девушки уйдут». Так написала в книге об отце. Но Михайлову в разговоре призналась потом: не подошла. Вот это мне трудно простить и еще труднее – понять.
Из воспоминаний Бунина о Куприне: «Я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой… грустной кротостью, что у меня слезы навернулись… Это и было причиной того, что за последние два года я не видел его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне Бог – не в силах был видеть его в таком состоянии… Его уход – не политический шаг. Не для того, чтобы подпереть своими плечами правителей СССР. И не для того, чтобы его именем назвали улицу или переулок. Не к ним он ушел, а от нас… ему здесь места не было… Не он нас бросил. Бросили мы его. Теперь посмотрим друг другу в глаза…»
О последних днях Куприна в Париже пишут противоречиво. Самая большая загадка загадочного Куприна. Две по крайней мере тайны до сих пор не разгаданы. Был ли он вменяем к моменту отъезда на родину и кто все-таки подвиг его к отъезду в СССР? Художник Билибин, друг семьи, Алексей Толстой, приехавший в Париж, или же великий «режиссер» – сам Сталин?
Если б вы только знали, сколько откровенного вранья накручено вокруг последних лет жизни писателя. «Наш» Куприн или «не наш», был ли здоров или был невменяем, и главное – возвращение его в Россию было осознанным или же в СССР привезли, считайте, сумасшедшего? Подхалимы десятилетиями писали: он говорил, что «пешком, по шпалам пойдет в Россию». На деле – на деле же был рак. И в последний год в Париже он не узнавал уже никого. С ним можно было делать всё, что хочешь, он был уже вроде той дощечки, на которой мать при рождении его заказала написать иконку. Писатель Унковский, который был с ним до конца, пишет, что однажды Куприн, попрощавшись с ним, шагнул вместо двери за окно. Еле удержали – третий этаж. А другой свидетель, Андрей Седых, слышал, как Куприн сказал при нем врачу: «А знаете, я скоро уезжаю в Россию». «Как же вы поедете туда? – пробормотал врач. – Ведь там – большевики?» «Куприн, – пишет Седых, – растерялся и переспросил: “Как, разве там – большевики?..”»
Нет, читать это невозможно. Лиза его не только давно не смеялась, но уже и не плакала давно. Она не заплакала даже, когда он пожаловался ей, что забывает слова, что забыл слово «лебедь». «А ведь лебедь не вздор, – а чудесная птица», – прошептал ей, кого звал когда-то «лебедью». Ну и, конечно, не разрыдалась, когда Киса, настаивавшая, что надо ехать, сама в последний миг уезжать отказалась.
Вообще-то еще в 1923-м Куприна уговаривала в письмах вернуться в Россию его Муся – первая жена. Она была уже не Давыдовой и не Куприной – Иорданской. Женой литератора, ставшего видным большевиком, даже послом СССР в Италии. Муся жила в Петрограде не на Разъезжей, конечно, улице – на Моховой (С.-Петербург, ул. Моховая, 30). Ёкнуло ли сердце Куприна, когда он вчитывался в слова ее? «Теперь, дорогой Сашенька, вот что, – писала она, – каковы мысли твои и чувства о возвращении в Россию?.. Вряд ли эмигрантское существование может тебя удовлетворять. Эта жизнь пауков в банке – с ссорами, сплетнями и интригами – не для тебя… Я не имею решительно никаких полномочий… но… могу частным образом навести справки, возможно ли твое возвращение…» Куприн ответил: «Ты совершенно права, мой ангел… Ты сама знаешь, я сторонился интеллигенции, предпочитая велосипед, рыбную ловлю, уютную беседу в маленьком кружке близких знакомых и собственные мысли наедине… теперь же пришлось вкусить сверх меры от всех мерзостей, сплетен, грызни, притворства, подсиживания, подозрительности, мелкой мести, а главное, непродышной глупости и скуки… А всё же не поеду, – закончил. – Там теперь нужны… фельдшеры, учителя, землемеры, техники и пр. Что я умею и знаю? Правда, если бы мне дали пост заведующего лесами Советской Республики, я мог бы оказаться на месте. Но ведь не дадут?..»
Из письма посла СССР во Франции В.П.Потемкина – секретарю ЦК ВКП(б), наркому внутренних дел Н.И.Ежову:
«7-го августа 1936 г., будучи у т. Сталина, я, между прочим, сообщил ему, что писатель А.И.Куприн, находящийся в Париже, в эмиграции, просится обратно в СССР. Я добавил, что Куприн едва ли способен написать что-нибудь, так как… болен и неработоспособен. Тем не менее, с точки зрения политической, возвращение его могло бы представить для нас кое-какой интерес. Тов. Сталин ответил мне, что, по его мнению, Куприна впустить обратно на родину можно…»
А про дочь Куприна посол, будучи уверен, что она тоже возвращается в Россию, написал: ее «можно… использовать» – и добавил: «по линии Совкино…» Ее и «использовали», но – ровно до Северного вокзала в Париже. Туда из посольства привезли не три советских паспорта, а два. Ксения ехать с больными родителями отказалась…
Через много лет Киса признается Олегу Михайлову, что не поехала в Россию потому, что именно в те дни подписала сумасшедше выгодный контракт с «Холливудом». Правда, повинится: «Только теперь я понимаю, какой была эгоисткой». Кто в силах бросить в нее камень? Она многое сделает для увековечения памяти отца, для создания музея его. И сама в СССР будет жить бедно – приторговывать памятью отца, как иные дети писателей, откажется, всё передаст стране безвозмездно. Но там же, в своей московской квартире (Москва, Фрунзенская наб., 38/1), она, кого до конца дней «использовали» на вторых ролях в театре им. Пушкина, сначала попытается оправдать себя: «Учтите, – скажет, – мне не было еще и тридцати. Будущее казалось мне лучезарным!..» – но в конце концов признается: «Теперь я вижу, что все те годы прожила бесплодно…» Признание честное. Отец ее, думается, принял бы его – он-то знал цену и состраданию, и раскаянию.
Любовь — чувство крылатое
«Свобода! Какое чудесное и волнующее слово!» – написал Куприн когда-то в последней статье, напечатанной на родине. Теперь, возвращаясь в СССР, его «свобода» вновь зависела не от него. Он ведь возвращался, образно говоря, в тот «театр», где и зрители, и актеры, и даже постановщики невиданных «спектаклей» давно подчинялись воле одного режиссера – лично Сталина.
«Спектакль» начался уже на Белорусском. Поезд «Париж – Москва» встречали по высшему разряду. На перроне под фотовспышки к Куприну кинулся сам Фадеев, первый секретарь Союза писателей, еще недавно кричавший про Куприна, что он «не наш», а ныне, с той же верой в белесых глазах, – что, напротив, «наш, конечно же, наш!..» «Дорогой Александр Иванович! – высоко начал Фадеев. – Поздравляю вас с возвращением на родину!» Куприн глянул на него сквозь темные очки и с каменным лицом отчетливо сказал: «А ты кто такой?..» Обиженный Фадеев, говорят, не стерпел и, развернувшись на каблуках, кинулся к лимузину, стоявшему на площади.
Так пишут ныне, но не так писали тогда. Газетные отчеты о встрече писателя чуть ли не драли глотки. «Я счастлив, что наконец слышу вокруг себя родную русскую речь, – сказал, выйдя из вагона классик. – Это чудо, что я снова в своей, ставшей сказочной, стране…» Особенно расстараются давние знакомые Куприна, бывшие собутыльники его когда-то – Регинин-Раппопорт и Коля Вержбицкий. На правах друзей они будут не только публиковать бравурные интервью его, но вставлять в письма Лизы в Париж (сама она и не догадалась бы!) якобы его фразы: «Сколько за эти годы сделано для народа», и – «теперь я вижу, для советских граждан невозможного нет!..» Конечно, «пленники эпохи», «рабы иллюзий», но ведь и сознательные лгуны, сделавшие свой выбор. А лгало «сучье племя» и беспримерно, и – самозабвенно. Оказывается, Куприн ушел с Юденичем, «чтобы не потерять семью», оказывается, в Париже мечтал, вообразите, «увидеть и прочитать “Любовь Яровую”», а в ЦУМе окружившим его людям якобы сказал: его «следовало бы наказать за то, что он так много лет ничего не делал для родины»… Особо умилил меня пассаж Вержбицкого, когда Куприн, едучи с ним по Москве в открытом автомобиле, вдруг, прикрыв глаза ладонью, крикнул ему сквозь ветер: «Какая же это огромная силища – партия коммунистов!»
В «Метрополе» в недрах люкса Куприна и Лизу в первый день уже ждали Билибин, художник, и писатель Анатолий Каменский, оба только что вернулись из эмиграции. Почти сразу пришел и бывший эсер-боевик писатель Никандров. «Елизавета Морицевна, – спросил, оглянувшись, – а где же Александр Иванович?» «Вот он сидит», – указала она на человека в углу. «Саша, Саша, к тебе Никандров пришел», – прокричала в ухо мужу. «Он не шевельнулся, – пишет Никандров. – Я растерянно посмотрел на посетителей: “Он никого не узнает, кроме жены”, – громко сказал мне Каменский»…
Кроме двух жен, хочется поправить мемуариста, двух самых близких ему людей. Ибо когда через час в номер ворвалась Муся, Маша, Мария Карловна, Куприн узнал ее даже по голосу. Лиза, расцеловавшись с Машей, успела шепнуть: «Он почти ничего не видит». И громко крикнула мужу: «Муся пришла».
– Сашенька, это я, Маша, – сказала та.
– Маша? – узнал ее он. – Подойди ближе. Ты где-то далеко, я не вижу… – и спросил: – Как поживает дядя Кока?
Он забыл, что Кока, брат Маши, с которым он был дружен когда-то, умер еще до революции.
– Николай Карлович умер в пятнадцатом, Саша, – ответила Маша. Но, когда собралась уходить, Куприн, забыв и эти слова, вежливо сказал: «Передай от меня поклон дяде Коке…»
Муся, вернее, «товарищ Иорданская», жила теперь в шикарном особняке, который и ныне стоит в центре столицы (Москва, Вознесенский пер., 9). Во флигеле того дома, где сто пятнадцать лет назад Грибоедов в гостях у Вяземского читал «Горе от ума», где через шесть лет после этого Пушкин в присутствии Дениса Давыдова не только читал «Годунова», но две недели жил тут и где, наконец, в 1900-м жил Шаляпин, которого навещал здесь Горький, – оба, как помните, друзья Куприна. Знал Иорданский, какой дом выбирать. А Куприну сначала предоставят дачу в Голицыне под Москвой, в доме отдыха писателей, а потом отправят в Ленинград, где поселят на окраине – в Мурине (С.-Петербург, Лесной пр., 61/21, корп. 3). Вот и всё. Занавес! Пьеса «Возвращение» – отыграна. Больше из писателя «пропагандистских дивидендов» было не выжать.
Из записки оргсекретаря Союза писателей СССР В.П.Ставского – И.В.Сталину: «Крайне тягостное впечатление осталось от самого А.Куприна. Полуслепой и полуглухой, он к тому же и говорит с трудом, сильно шепелявит; при этом обращается к своей жене, которая выступает переводчиком. Не без труда удалось выяснить у обоих, что: “Никаких планов и намерений у нас нет. Мы ждем, что здесь нам скажут”; “Денег у нас хватило только на дорогу. Сейчас сидим без денег”; “Хорошо бы нам получить под Москвой или Ленинградом домик небольшой, в котором мы и жили бы; а Александр Иванович – отдохнувши и поправившись, – писал бы!” Прошу разрешения организовать А.Куприну санаторное лечение (месяц-полтора) и устройство ему жилища под Москвой или Ленинградом силами и средствами Литфонда СССР. Сообщаю, что Гослитиздат подготовил к изданию 2 тома произведений А.Куприна, что даст ему около сорока пяти тысяч рублей гонорара. С ком-приветом Вл.Ставский».
Этот документ, опубликованный не так уж и давно, даже «дырявить» не надо, как советовал когда-то мастер биографического жанра Юрий Тынянов. «Продырявить» советовал он, чтобы заглянуть за документ, догадаться, как было в жизни, а не на бумаге. Здесь всё было ясно и так: больше не нужен!.. Куприну подберут домик в милой его сердцу Гатчине. Рядом с прежним участком, с теми березами, которые помнили его. Куприн ведь и в эмиграции говорил: в Париже есть, ну, может, пять–шесть настоящих берез, но даже они, «если растереть их листья», пахнут как-то не так. Обоняние не подводило его и в старости. Вот рядом с родными деревьями и умрет через полтора года. Накануне Лиза торопливо напишет дочери в Париж: «Говорить он уже не может, – и закончит: – Больше не могу писать, сердце не выдерживает…» А когда за Куприным в последний раз приедет скорая, отобьет телеграмму Маше: «Сашеньке плохо немедленно выезжай». Этим двоим он был еще нужен.
Когда-то в молодости, заболев, фаталист Куприн сказал, что, умирая, хотел бы, чтобы любящая рука держала его руку до конца. Лиза и держала, пока рука не превратилась в лед. «Не оставляй меня, – шептал в полузабытьи. – Люблю смотреть на тебя… Вот-вот начинается!.. Не уходи от меня… Мне страшно…» Это были последние слова «жизнепоклонника».
«Любовь – крылатое чувство, – перечитывала Лиза потом его слова в том самом вышедшем двухтомнике его и знала: эти строки про нее. – У любви, – писал он, который сравнивал ее когда-то с лебедью, – за плечами два белоснежных, длинных лебединых крыла…»
Говорят, лебеди не живут друг без друга. И когда один из них умирает, второй поднимается высоко в небо и, сложив крылья, камнем устремляется к земле. Не знаю, что написала про свои последние дни Елизавета Морицевна в воспоминаниях, которые якобы хранятся в Пушкинском доме и которые по сей день не опубликованы. Но знаю: последнее, что успела сделать, – послать шубу Куприна в прифронтовой ленинградский госпиталь, где находился на излечении фронтовой доброволец, минометчик Алеша – внук писателя и Маши. До блокады Лиза официально передала ему половину авторских прав деда. Вторую половину, думаю, берегла для Ксении, но Киса вернется в СССР только после ее смерти – в 1958-м. Алеша – тот тоже не успеет воспользоваться наследством: умрет в 46-м от суставного ревматизма, двадцати двух лет от роду. Знаю, что ей, Лизе, не для кого было жить. Ни дочери, ни друзей, ни даже знакомых. И еще знаю, что ей было уже шестьдесят, когда она покончила с собой.
Как случилось самоубийство, в точности неизвестно. По рассказу более достоверному, повесилась в здании Академии художеств на Неве, где работала в блокаду – кажется, в библиотеке – и куда перебралась жить. А по другой версии (по легендарной!), выбросилась из окна квартиры на Лесном зимой 1942 года.
Как было на деле, повторю, неизвестно. Но если верить версии легендарной – а легенды бывают порой правдивее правды! – то земля под окном последнего, вымершего дома Куприна, из которого бросилась Лиза, была в тот блокадный день ослепительна. От нетронутого жизнью чистого снега. Может, так же ослепительна, как те белые цветы, которые легли когда-то на могилу ее мужа.
Аромат солнца, или «Седьмое небо» Баламута
Я ненавижу человечество, Я от него бегу спеша. Мое единое отечество — Моя пустынная душа. С людьми скучаю до чрезмерности, Одно и то же вижу в них. Желаю случая, неверности, Влюблен в движение и в стих. О, как люблю, люблю случайности, Внезапно взятый поцелуй, И весь восторг – до сладкой крайности, И стих, в котором пенье струй. Константин БальмонтБальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) – крупнейший поэт ХХ века, эссеист и переводчик, родоначальник символизма. Автор тридцати пяти поэтических книг. В канун первой русской революции сотрудничал в большевистской газете, писал стихи антиправительственного содержания, преследовался властями и даже скрывался за границей. Но когда революция 1917 года свершилась, стал ярым противником ее и, уехав в эмиграцию, до конца дней был непримиримым противником советской власти.
Необычный господин сошел с московского поезда в Цюрихе летним днем 1895 года. В серой шляпе, костюмчике, ботиночках на тонкой подошве, он ничем, кроме легкой хромоты, не выделялся. Странным было отсутствие багажа. Собственно, в руках его не было ничего, кроме коробки конфет. И конечно, странным было, что с вокзала он не кинулся искать отель. У первого встречного спросил: где тут у вас гора Утлиберг? Ему показали высокую вершину, нависшую над озером. Хотели было объяснить, как пройти к фуникулёру, но господин уже исчез. Задрав голову, не разбирая дороги, он ринулся к горе, стал подниматься по ней, потом, добравшись до круч, – карабкаться. Он лез по козьим тропам весь день, а когда спустилась ночь – в полной темноте. Оступался, скатывался в ямы, вставал на четвереньки, но – лез. Порвал костюм, сбил туфли, потерял шляпу, в кровь исцарапал руки и лишь к рассвету оказался на вершине. Маньяк, сумасшедший? Нет – всего лишь Поэт! Именно так, с большой буквы, как и напишет о нем Цветаева.
Имя его – Константин Бальмонт. «Подниматься на высоту, – напишет он по другому поводу, – значит быть выше самого себя. Подниматься на высоту – это возрождение…» Но тогда, в Цюрихе, он штурмовал не высоту – женщину! Ибо утром горничная отеля на горе Утлиберг, постучавшись в одну из комнат, вручила слегка измятую коробку конфет едва проснувшейся красавице из России, «черноглазой лани» – Екатерине Андреевой. Через полвека «лань» напишет, что конфетам скорее испугалась, чем обрадовалась; ведь был уговор, что поэт не поедет за ней. «Я пробралась к нему в комнату и еле-еле разбудила его, – вспоминала. – Он спал как убитый и ничего не понимал, где он, почему я тут. “Что случилось? – спросила я его. – Говори скорее”. Но он, как маленький ребенок, улыбался, сиял, не отрываясь глядел на меня. “Ничего не случилось, я хотел тебя видеть и вот вижу”…» Так пишет она. Он же через десятилетия, уже из эмиграции, послав Кате открытку – фотографию того самого санатория на горе (открытка всю жизнь служила ему закладкой для самых любимых книг), напишет: «Как живо я помню всё. Как я шел в гору. Как обиделся, когда ты – из осторожности – послала мне обратно коробку конфет. И какие были расширенные твои черные глаза, когда ты разбудила меня. И потом наши ласки и любовь среди деревьев на горе. И любопытная лиса – помнишь? – взглянувшая на нас и скрывшаяся в кустах…»
Открытка будет прощанием с ней. А пока, прожив на горе неделю, он напишет матери в Москву: «Я нашел такое счастье, какое немногим выпадает на долю… Я люблю в первый и последний раз в жизни, и никогда еще мне не случалось видеть такого редкостного сочетания ума, образованности, доброты, изящества, красоты и всего, что только может красить женщину… Этот год я золотыми буквами запишу в книге жизни… Умирать мне теперь не хочется, о-о-о нет!!! Надо мной небо, и во мне небо, а около меня седьмое небо…»
Комета из Гумнищ
Это не человек – явление! Кстати, полная фраза Цветаевой звучит о нем так: «Бальмонт – Поэт – Адекват». «Адекват», как я понимаю, значит – равновеликий в творчестве и жизни. Да ведь и Андрей Белый, поэт, назвав его «гением импровизации», имел в виду, кажется, отнюдь не стихи его – жизнь.
Впрочем, в Историческом музее (Москва, Красная пл., 1/2) на первых еще вечерах символистов благообразные старцы и чопорные дамы шикали, стоило ему, взлетев на сцену, открыть рот. «Это насмешка!» – кричали. «Невразумительно, господин Бальмонт!» «Нельзя ли читать более понятные стихи?» И громко переговаривались: «Бальмонт, Бальмонт – он француз, что ли?» – «Знаете, – спрашивал соседку какой-то генерал, – маркизы на юге Франции?..» – «Ну, что вы, он поляк, – отвечали ему из третьего ряда. – Да, кстати, из титулованных…» И лишь считаные единицы знали, что наш «маркиз» с огненной шевелюрой родом был из Владимирской губернии. Точнее – из Шуйского уезда. А если уж совсем точно – из сельца Гумнищи, родового гнезда Бальмонтов. Да, впрочем, и не Бальмонтов, если честно…
Гора Утлиберг – не случайность в его жизни. Образно говоря, он всегда шел в гору и всегда – «напрямки». Именно «напрямки» – не напрямик. Русак, удалая натура! Препятствий для него не существовало. Он перелезал через заборы, топал через сугробы, брал вброд ручьи и перепрыгивал рельсы под носом у паровозов. «Тысячу раз… рисковал жизнью, – напишет та же Андреева, – и просто чудо, что оставался цел». То в каком-то ресторане какой-то капитан едва не закалывает его кортиком (кортик выбивают из рук в последний момент). То в парижском кабачке громила-таксист заносит над его головой тяжелый графин, когда он, защищая даму, бросился на него с кулаками (таксиста вовремя обхватывают со спины). То забирается на вершину сосны «прочитать ветру лепестковый стих» и, потеряв силы, беспомощно повисает, да так, что его едва спасают. То, влюбившись «в месяц на небе», прямо в пальто и даже с тростью шагает в море и идет по лунной дорожке, пока волна не добирается до горла и не смывает шляпу с головы. Ну, как это?! Ощущал себя орлом (так клялся!), коршуном в небесах, но в жизни, как заметит один писатель, чаще оказывался «шантеклером». Петухом то есть. Жил в каком-то выдуманном мире друидов, шаманов, потом – колдовства и огненных заклинаний. А в реальности «шантеклер» не раз бывал бит полицией то в Лондоне, то в Мадриде, да так, что лишь перья летели. Однажды заперли даже в Консьержери – знаменитую темницу Парижа (Париж, наб. Орфевр, 14). Он же лишь рассмеялся: «Ах, черт французов побери: я побывал в Консьержери».
Задира, наглец, драчун. И несомненно позер. Друзья звали его «Монт», отсекая первый слог фамилии. Влюбленные дамы величали «Вайю» (Ветер), «Курасон» (Сердце). Но ни те ни другие так и не узнали: ударение в его фамилии на втором слоге он придумал сам – «по капризу одной женщины». На деле ударять надо на первом, как признался в старости. Позер, конечно! Хотя бы потому, что вместе с женами, которых у него было три, не раз затевал тщательные поиски корней своего рода в Литве, Шотландии, Скандинавии, хотя сам отлично знал, что настоящая фамилия его была… Баламут. Об этом не говорил никогда, я лишь раз встретил упоминание этого имени в его стихах. Молчал, что «Баламута» получил прапрадед его Андрей, сержант Екатерининского кавалерийского лейб-гвардии полка. Лишь через два колена, записывая уже деда поэта на военную службу, неблагозвучное «Баламут» заменят сначала на «Балмут», а потом и на «Бальмонт». Кстати, того самого деда, которого – вот уж совпадение! – отпевал дед Цветаевой, священник в соседнем с Гумнищами селе Дроздове. С этими поэтами – всегда так: они ведь десятилетиями будут дружить, Бальмонт и Цветаева. Но если правда, что фамилии наши неслучайны, то родовое имя поэта точно выразит суть его. Ведь «баламут», по Далю, означает – «беспокойный, беспокоящий, вздорный, ссорящийся и ссоривший». Тот, кто всё «баламутит». А помня, что имя Константин переводится как «постоянный», – баламутит постоянно. Таким он и был, считая, что поэт – это комета. Всегда в движении. Считал, и не подозревая, что в 1997 году, ровно через сто тридцать лет после рождения его, в небе натурально вспыхнет планета BALMONT – звездочка № 5315, открытая в Крымской астрофизической обсерватории Людмилой Черных. Между прочим, уроженкой Шуи – землячкой.
«Чайка» и «двенадцать халатов»
«Первое небо» он увидит краем глаза, когда кинется на мостовую из окна третьего этажа гостиницы «Лувр и Мадрид». Запомнит звон стекла, дикий взгляд какого-то мужика, который мыл окна в доме напротив, истошные крики людей. Ему было двадцать три, это была первая попытка самоубийства, и день этот, 13 марта 1890 года, станет в его жизни переломным.
Инцидент случится рядом с домом губернатора, слева от здания, где сидит ныне мэр Москвы. Но если учесть, что при советской власти Моссовет был перенесен на тринадцать метров вглубь, то поэт, бросившись из окна соседнего дома, упал почти посреди нынешней главной улицы столицы. Именно тут, на углу с Вознесенским переулком, на месте громадного новодела и стояла когда-то гостиница «Лувр и Мадрид» (Москва, ул. Тверская, 15). В ней будут жить потом Бунин, Блок, в ней, кстати, покончит с собой поэтесса Анна Мар: примет цианистый калий – это случится в марте 1917-го. А тогда, в марте 1890-го, здесь в студенческих номерах поселился Бальмонт с первой женой, красавицей Ларисой Гарелиной, дочерью шуйского фабриканта. Он познакомился с ней на спектакле. Полюбил как мальчишка за одну красоту «Боттичеллеву». Она была на три года старше, воспитана по-французски (училась в Москве, в пансионе Дюмушелей), любила искусство и музыку и больше всего хотела стать актрисой. Словом, как насмешничали тогда в губернском свете, – «мадоннилась». Он же, жених, был недоучившимся студентом, отчисленным из университета; мальчиком, всё еще плакавшим над «Коньком-горбунком» и «Хижиной дяди Тома»; юношей, писавшим стихи, как и мать его (она их, говорят, даже печатала), и – человеком, густо, как все рыжие, красневшим перед любой встреченной женщиной. И вдруг – это-то и сразило его! – Лариса смело кладет ему голову на плечо, потом зовет с собой в загородную поездку, потом – обещает поцеловать. Чудеса! Короче, от первого письма его Ларисе, где были слова «Жизнь моя, радость моя», которое подписал «Ваш навсегда», и до венчания их прошло всего ничего: меньше трех месяцев. Позже о Ларисе расскажет Волошину, поэту, который станет другом его.
Из дневника Максимилиана Волошина: «Она играла со мной. После первой ночи я понял, что ошибся… Наш первый ребенок умер… от менингита… Мы поселились в номерах “Лувр и Мадрид”… У меня неврастения была… Когда Лариса заходила в магазин, а я ее ждал на улице, я вдруг ловил себя на мысли, что, если бы она сейчас умерла, я мог бы жить. Нам мой товарищ, студент, принес “Крейцерову сонату”… Сказал: “ Только не поссорьтесь”. Я читал ее вслух. И в том месте, где говорится: “всякий мужчина в юности обнимал кухарок и горничных”, она вдруг посмотрела на меня. Я не мог и опустил глаза. Тогда она ударила меня по лицу. После я не мог ее больше любить. В нашей комнате, где две кровати стояли рядом, я чувствовал себя стариком. Мне все мерещился длинный коридор, сужающийся, и нет выхода. Мы накануне стояли у окна в коридоре. Она… сказала: “Здесь убиться нельзя, только изуродуешься”. На другой день я в это окно бросился… Мелькнула мысль: а вдруг я упаду на кого-нибудь… Я потерял сознание… У меня был рассечен лоб, разорван глаз. Кисть левой руки окровавлена, сломан мизинец, правая рука, нога переломаны. Доктора… сказали, что нога зарастет, но рукою я никогда не буду владеть…»
Доктора ошиблись. Всё окажется ровно наоборот. Рука поэта (чем же писать?!) как раз поправится, а нога, которая станет короче, сделает его хромым на всю жизнь. Впрочем, и здесь не всё так. Не на всю жизнь. Когда через сорок лет из-за третьей жены он вновь бросится в окно, но уже в Брюсселе, и вновь сломает, но уже левую ногу, то хромота исчезнет – ноги… сравняются. Это даже не смешно. С кем еще, ну с кем могло случиться такое?
Да, женился на Ларисе в три месяца. Но, когда выяснилось, что она истерична, ревнива (рылась в его бумагах и читала его письма), корыстна (была недовольна, что первая книга стихов его не принесла денег), на развод с ней ушли не месяцы – годы. Из-за нее чуть не угодит в тюрьму и едва избежит суда. Но пока, возможно в той же гостинице, он, собравшись с духом, как-то скажет ей: «Нам надо расстаться». Она согнется в кресле и буквально завоет: «Чайка! Чайка!..» Лариса по-гречески – «чайка». Бесприютная, значит. Ему, запомнит, станет так невыносимо, что он дрогнет: «Это чтобы испытать тебя, – скажет. – Это шутка». Короче, у них родится трое детей, двое из которых умрут младенцами, а поэт годы еще будет жить, как напишет, с «арканом на шее»: посылать ей деньги, называть в письмах ее, «вампирного гения», «милой Ларой» и ко дню ангела всякий раз писать стихи. Он даже удочерит девочку, которая родится у Ларисы от другого. И – вот судьба: эта девочка, Анна Энгельгардт, через двадцать лет станет второй женой Николая Гумилева, а Лариса – гумилевской, выходит, тещей. Впрочем, знак судьбы – и какой! – в другом: дочь Чайки, Энгельгардт-Гумилева, «Анна вторая», как звали ее после Ахматовой, и их общее с Гумилевым дитя – Елена, формально внучка Бальмонта, умрут страшной смертью в блокаду. Пишут, что в 1942-м их в ледяной квартире загрызут голодные крысы. В 1942-м году, как мы знаем, там же, в Ленинграде, выбросится из окна жена Куприна Лиза, добрый парижский друг Бальмонта. И в 1942-м, под Парижем, в Русском доме, а по сути – в богадельне для эмигрантов, скончается и Бальмонт, тот, кого как раз Гумилев назвал когда-то «вечно тревожной загадкой для нас»… Так, если хотите, перевернется в жизни Бальмонта его первое, самое первое небо.
Вообще, про него, как про Тютчева, можно сказать двумя словами: любил любовь. Для Бальмонта это было, боюсь, даже главнее поэзии. Вернее, так: стихи чаще всего «детонировали» в нем не от оглушительных взрывов четырех войн и трех революций – от неслышного никому сердечного стука – от любовной тахикардии. Андрей Белый не без зависти, кажется, скажет: этот человек с вечно краснеющим кончиком носа всегда был «обвешен» дамами, «точно бухарец, надевший двенадцать халатов». Причем каждая любовь его всегда была как первая, ибо жил не прошлым и не будущим – сегодняшним мигом. Три жены, несколько внебрачных детей, а романов и влюбленностей не счесть. Одна юная дева даже кинется из-за него в пропасть под Кисловодском. У знаменитого павильона «Коварство и любовь». К счастью, останется жива. Но и девиц вроде нее, и женщин, что называется, «на месяц», и, пардон, проституток (с одной прожил несколько дней, не выходя из публичного дома), и даже самых неприступных, казалось бы, светских львиц он научился штурмовать буквально одним рассветным утром.
Дерзким с женщинами его сделали, представьте, полбутылки коньяка. В тот ранний час он шел по пустой московской Знаменке и, как пишет, громко, просто «дьявольски» хохотал. Даже дворник, подметавший пустую улицу, испугался: «Что с вами, барин?..» А – ничего! Просто в то утро он понял, что можно «любить без раскаяния». Так пишет. Он был в то время один, Лариса ушла к другому, жил на Знаменке, против Румянцевской библиотеки, в меблированных комнатах купца Куманина (Москва, Староваганьковский пер., 13). Голодал, питался три месяца только чаем, переводил рассказ какой-то Матильды Росс, он и станет его первой московской публикацией, дремал на журфиксах профессора литературы Н.И.Стороженко, которого называл чуть ли не отцом (Москва, Ружейный пер., 9), а по ночам – взахлеб читал Ибсена и Мопассана. «Помню, – рассказывал, – пришли четыре курсистки. Одна из них была переводчица Маслова. Они ушли, а она вернулась – забыла муфту. И вдруг у меня мелькнула мысль… вот здесь… за ухом. Я пошел ее проводить… Купил… коньяку. В ту ночь мы обнимались… С меня вдруг всё соскочило сразу. Вся прежняя, многих лет, застенчивость, когда я был другом девушек и не смел к ним прикоснуться. И меня тогда не любили. Ведь нельзя полюбить совсем чистого в себе человека… Я… почувствовал, что теперь могу подойти к любой… и ни одна… не сможет… противиться…» То есть, если перевести его слова на наш язык, он вдруг понял, что совсем не обязательно жениться на каждой, которая положит тебе голову на плечо. И еще понял, что большинство женщин думают так же, и ждут штурма, и говорят «да», даже когда шепчут – «нет». Кажется, именно безвестная нам Оленька Маслова и «объяснила» ему эту «премудрость». И кажется, с этой ночи, он, влюбившись в очередной раз, не отходил уже от предмета своей страсти. Не считался ни с чем: ни с недовольством семьи (если это была девушка), ни с ревностью мужа (если «предметом» была женщина замужняя). Он даже от Брюсова, от поэта, с кем дружил, схлопочет пощечину; тот, пишут, всерьез возревновал его к своей жене, тишайшей скромнице Иоанне. А Бальмонт и ему, и всем твердил одно: «Будет так, как она захочет, как она решит. Никого другого это не касается»… Шел к победам в любви, начиная со Знаменки, напрямик. Именно так влюбит в себя и знаменитую поэтессу уже, замужнюю даму Мирру Лохвицкую, и в те же дни – недотрогу свою Катю Андрееву, «женщину изящную, – как скажет о ней Борис Зайцев, писатель, – прохладную и благородную». Ту, которая и станет его второй женой.
Поэт утра… и ночи
Это был веселый поезд. Наверно, самый веселый в его жизни. Поезд летел в Тверь. И целый вагон в нем принадлежал ему и Кате, его невесте, «черноглазой лани», которую взял штурмом на горе Утлиберг. В каждом купе – шампанское, на плечиках подвенечное платье, в саквояже – фата, а в руках друзей – цветы и цветы. Свадьба на колесах – романтика! Но ведь – и авантюра. Ибо особую, пьянящую остроту ей придавала опасная тайна, привкус бегства от суда, от реально грозившей Бальмонту тюрьмы.
Подвели поэта карты. Не карты судьбы, даже не цыганское гаданье – обычные игральные карты! Представьте, сам Святейший синод только что, 28 июля 1896 года, утвердил его развод с Ларисой, но «с дозволением вступить жене во второй брак, а мужу навсегда воспрепятствовать…» Так гласил указ Владимирской духовной консистории № 9568. Просто при разводе с Ларисой вину за рухнувший брак (у Ларисы уже дочь росла от другого) поэт взял на себя. Очень, конечно, благородно. Но по тогдашним законам это навсегда лишало его права на повторное венчание. Казалось бы, плевать! Можно и без венчания. Но мать Кати, московская купчиха, державшая в кулаке семью, где было двенадцать детей и весь огромный дом их, увы, не сохранившийся (Москва, Брюсов пер., 19–21), настаивала лишь на венчании. Помог случай: неожиданно для себя Бальмонт получил вдруг из родного Владимира документ, по которому числился холостым. Спешно нашли священника, согласившегося обвенчать влюбленных по «подозрительному» документу. Разумеется, за мзду. Но – новая засада! – священник этот накануне, играя в карты у архиерея, возьми и брякни, что завтра венчает младшую дочь Андреевых с литератором Бальмонтом. «Каким Бальмонтом? – открыл рот один из игравших, благочинный Владимирского собора. – Я венчал его семь лет тому назад. Или он овдовел?..» Словом, на другой день «наш священник», как пишет Катя, вызвал ее и злобно спросил: известно ли ей, что Бальмонт женат? «Был женат, но сейчас в разводе», – залепетала она. «А почему, – взревел поп, – по документу он холост?..» Угрозы посыпались нешуточные: он донесет на них, он посадит Бальмонта на скамью подсудимых… Пришлось дать ему еще сто, чтоб молчал. А влюбленных выручил в конце концов брат Кати; в далеком приходе, в семи километрах от Твери, нашел батюшку, который взялся обвенчать их в деревенской церкви, правда, при запертых дверях. Вот туда, в Тверь, и летел «веселый поезд», набитый шампанским и букетами…
Вообще, знакомство с Катей началось с «неизвиняемой» бестактности поэта. Вы, как и я, обомлеете, что́ считалось тогда диким поступком. Поэт и Катя встретились впервые в доме князя Александра Урусова (Москва, Плотников пер., 15) – адвоката, критика, переводчика французских поэтов и знатока европейской культуры. Встретились за три года до развода Бальмонта с Ларисой. В тот вечер за ужином у Урусова собралась тьма гостей: вся семья актера Щепкина, Татьяна Куперник, графиня Сиверс и Катя Андреева – слушательница женских курсов В.И.Герье, застенчивая красавица, без ума влюбленная тогда в князя, хозяина дома. Как раз за ужином Бальмонт и нарушил приличия. Очарованный Катей, он вдруг встал и, подняв бокал, прочел стихи Сюлли-Прюдома в своем переводе: «Когда б я богом был, мы смерти бы не знали…» Того, кстати, Прюдома, который, кто не знает, стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе. Так вот, читал стих его, кося глазом на Катю, а последнюю строку: «Но только бы в тебе я ничего не изменил», – просто уставившись на нее в упор. Вот это вот – взгляд на девицу в упор! – и считалось тогда неизвиняемой дерзостью. Такие были времена. Светские приличия запрещали юношам и девушкам не только оставаться наедине, но неприличным считалось, если мужчина и женщина, сидя рядом, касались друг друга не локтями даже или, как в метро, всем боком – просто одеждой. Словом, когда наш декламатор, очень довольный собой, сел на место, Катя была пунцовой, а все за столом разом опустили глаза. Лишь Урусов, сам поэт, который носился с модным Бальмонтом, наклонившись над Катей, тихо шепнул: «В круг вашего очарования попал еще один». Сказал так, словно в «круг» ее залетела комета. Но – так познакомились, и, кажется, с того вечера, пусть и не явно, началась их любовь, которая будет длиться до смерти поэта. Он будет любить ее до последнего дня, хотя не раз будет влюбляться. Он и в тот вечер у Урусова был, кажется, если сопоставить даты, уже влюблен. В мадам Жибер, в девичестве – Мирру Лохвицкую, знаменитую уже поэтессу.
На романе Бальмонта с Лохвицкой невозможно не остановиться. Слишком характерен он для Серебряного века, века тайн, мистики, тумана, вольных и невольных пересечений, откровенностей в стихах и чопорности в жизни (а иногда – наоборот!), всего того, за что я и люблю ту эпоху. Да и длился их роман, даже – «заклятье», как напишет она в стихах, параллельно с семейной жизнью и Бальмонта, и самой Лохвицкой не месяцы – годы.
Маша Лохвицкая (Миррой станет позже) из пяти сестер была средней. Была на два года младше Бальмонта, родилась в Петербурге, в доме отца (С.-Петербург, ул. Чайковского, 3), известного адвоката, который брал за свою работу столь высокие гонорары, что даже Чехов в печати назвал его «доктором прав и неправ». А вообще о семье его известно довольно много, ибо из пяти дочерей адвоката четыре печатались, а две: Мирра, ставшая самой крупной поэтессой конца ХIХ века (три Пушкинские премии за стихи – не шутка!), и родившаяся через пять лет после нее Надя Лохвицкая, та самая Надежда Тэффи, которую обожал читать даже Николай II, просто прославились. В юности вообще все дети Лохвицких писали стихи, даже «играли в них».
Из рассказа Н.Тэффи «Как я стала писательницей»: «Помню как сейчас: входит самая старшая сестра в нашу классную комнату и говорит: “Зуб заострился, режет язык”. Другая сестра уловила в этой фразе стихотворный размер, подхватывает: “К этакой боли я не привык”. Тотчас все настраиваются, оживляются: “Можно бы воском его залепить”. “Но как же я буду горячее пить?” – спрашивает чей-то голос. “И как же я буду говядину жрать?” – раздается из другого угла. “Ведь не обязаны все меня ждать!” – заканчивает тоненький голосок младшей сестры…»
Стихи писали все, кроме старшего брата. Но и его, пишет Тэффи, поймали за этим «стыдным» занятием. В его комнате были найдены как-то бумаги с несколько раз повторенной строчкой «О, Мирра, бледная луна!». «Как знать, – пишет Тэффи, – может быть, старшая сестра моя Маша взяла себе псевдоним Мирра Лохвицкая именно благодаря этому…»
«Миррой» она стала в Москве, когда в 1874-м вся семья переехала в Первопрестольную и обзавелась собственным домом. Дом стоял в приходе церкви Рождества Христова в Кудрине, на месте нынешнего Театра киноактера (Москва, ул. Поварская, 33), там, где почти через сто лет писатели Москвы будут исключать «из поэтов» Пастернака. Именно здесь, да еще в сохранившемся здании Александровского женского института на Божедомке (Москва, ул. Достоевского, 4), и «пошли» у «лягушки» стихи. «Лягушками» звали институток за камлотовые зеленые платья с белыми пелеринками. А может, «пошли» потому, что, когда в 1884-м умер вдруг отец, семья вновь перебралась в Петербург, оставив в Москве доучиваться старших детей и Мирру – одних. Правда, печататься сестры стали по очереди; уж очень юморным казалось им, если бы они все и сразу «полезли в литературу». Но правда и то, что стихи Мирры поначалу отказались печатать и Ясинский, и Гнедич, и Всеволод Соловьев в журнале «Север». Из-за чего? Из-за безумной откровенности их. «Молодая девушка не имеет права затрагивать такие темы», – прямо сказал ей патриарх литературы Ясинский, а Соловьев, скривив рот, протянул: «Но, сударыня, наш журнал читают… дети». Но именно это, кажется, и сведет Мирру с Бальмонтом – оба писали стихи по тем временам немыслимые. Не буду «душить» вас поэтическими строчками – всё давно опубликовано! – но один «развратный» стих Бальмонта, так и не напечатанный при жизни его, всё же приведу. Он прочел его Фидлеру, переводчику, а в миру – «высокоморальному» учителю гимназии. Прочел на «пятнице» у Случевского, поэта, но не при всех – «на ушко». «Как жадно я люблю твои уста! – прошептал ему Бальмонт. – Не те, что всякий видит, – но другие: // Те скрытые, где красота – не та, // – Для губ моих желанно дорогие! // В них сладость неожиданных отрад, // В них больше тайн и больше неги влажной; // В них свежий, пряный, пьяный аромат – // Как в брызгах волн, как в песне волн протяжной…» Мемуары Фидлера опубликованы вот только что (спасибо К.Азадовскому), но в них дословно написано, что как раз на вечере у Случевского (С.-Петербург, ул. Марата, 7) Бальмонт и сказал «скромнику» Фидлеру, что она, Лохвицкая, «артистка сладострастия и так ненасытна, что однажды они занимались любовью целых четыре часа подряд…» Правда, добавил: «Она очень стыдлива и всегда накрывает обнаженную грудь красным покрывалом…»
Впрочем, в их с Миррой романе – всё туман. Ни где познакомились, ни как – ничего не известно. Известно, что встретились до женитьбы Бальмонта на Кате и – после замужества Мирры. Нынешний биограф Лохвицкой, Татьяна Александрова, писавшая свою книгу до выхода в свет мемуаров Фидлера, вообще считает, что никакой «постели» между ними не было – был роман в стихах, встречи (чаще на людях) и… поэтическая ревность. Хотя и отмечает странные «пересечения» их то в Крыму, то в Петербурге, куда Лохвицкая, уже мать троих детей, вдруг необъяснимо срывалась. Кстати, гадая, кто познакомил Бальмонта и Мирру, Александрова называет Бунина, который нежно относился к Лохвицкой, но – упускает из виду, например, Татьяну Щепкину-Куперник. Помните, она была на вечере у князя Урусова, где вместе с Бальмонтом сидела за одним столом? Тогда, в 1893-м, Тане Куперник было девятнадцать. А уже в следующем году, в 1894-м, она, откликаясь на стихи Лохвицкой, послала ей восторженное письмо, и с того дня началась их и близкая, и тесная дружба. Уж не она ли и познакомила, свела двух поэтов? Моя версия.
Одно не оставляет сомнений: и в Москве, и в Петербурге женатый Бальмонт не раз навещал замужнюю Лохвицкую. В Москве в ее квартире в Спасском (Москва, Большой Каретный пер., 1) он даже появился однажды с Брюсовым, другом, которому Лохвицкая не понравилась ни как поэт, ни как женщина: «Зачем у нее такой большой рот?..» А в Северной столице, куда Мирра перебралась уже навсегда в 1898-м, Бальмонт бывал у нее на Стремянной, тоже в сохранившемся доме (С.-Петербург, ул. Стремянная, 4). Не исключаю, впрочем, что и Мирра была у него (С.– Петербург, ул. Жуковского, 41), а уж в 1901-м, когда Бальмонты поселились прямо в соседнем с Миррой переулке (С.-Петербург, Дмитровский пер., 11), бывала наверняка. В Москве могли встречаться на «шмаровинских средах», у известного коллекционера живописи, а вообще-то бухгалтера В.Е.Шмаровина (Москва, ул. Большая Молчановка, 25). А в Питере – это подтверждено свидетелями – на «пятницах» у того же Случевского, но теперь уже на Фонтанке, куда сходился весь поэтический мир (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 127). Но главное, не оставляет сомнения «главный» факт: в «тихом омуте» души Лохвицкой водились, водились сердечные «черти». Ведь бурю ревности вызвала в ней женитьба Бальмонта на Кате. А когда Аполлон Коринфский, поэт, который тоже был влюблен в Мирру и у кого она тоже, кажется, бывала (С.– Петербург, ул. Гончарная, 24), намекнул ей, что она, пусть и в одном стихотворении, но – подражает Бальмонту, Мирра в бешеном письме ему четыре раза написала слово «стыдно», дважды, что «страшно оскорблена», и один раз: «И кому же!..» Наконец, известно, что в стихотворной «перестрелке», которую и Бальмонт, и она вели всю жизнь, последнее слово осталось все-таки за ней. «Ты будешь женщин обнимать, – предсказала ему, – И проклянешь их без изъятья. // Есть на тебе моя печать, // Есть на тебе мое заклятье. // И в царстве мрака и огня // Ты вспомнишь всех, но скажешь: “Мимо!” // И призовешь одну меня, // Затем, что я непобедима…»
Непобедима – такой она и уйдет в могилу. Потому непобедима, что через два года после смерти (а она умрет в тридцать шесть лет) Бальмонт назовет свою родившуюся дочь – Миррой. Дочь, кстати, будет писать потом, по словам отца, просто «гениальные стихи». Непобедима потому еще, что «заклятье» Лохвицкой и впрямь осуществится. Невероятно, но через восемнадцать лет после смерти Лохвицкой ее последний, четвертый сын, Измаил не на шутку влюбится как раз в Мирру. Эстафета любви. Явной любви против неявной – родительской. Оба, как родители их, писали стихи. И оба закончат свои дни, как и родители: Мирра, хоть и бросит писать стихи, проживет, как отец, долго, до 1970 года, а сын Лохвицкой, как и мать, уйдет из жизни рано – застрелится в 1924-м. В предсмертном письме, которое пошлет в Париже, представьте, Куприну, попросит передать Мирре свои стихи и… портрет своей матери. Так в доме Бальмонтов, уже в эмиграции, его давняя «любовь-страсть» невольно напомнит о себе. И впрямь – непобедима…
Впрочем, у Бальмонта – всё было необычным. Поэт дня и ночи, души и тела, любви-нежности, когда боялся дотронуться до женщины, и любви-страсти, когда однажды ножом разом вспорол на возлюбленной платье, чтобы вмиг увидеть ее обнаженной, – вот каким был он. Но Катя, с которой всё было схоже у него (оба любили «Фауста» Гёте и «Манфреда» Байрона), Катя, мне думается, полюбила его за детскость, за непосредственность, за – доверчивость просто младенческую.
Я вот недавно прочел, например, что Сталин, найдя муравейник в лесу («человейник», по выражению покойного философа А.Зиновьева), обожал поджигать его с нескольких сторон и смотреть, как гибнет этот неведомый мир. Нравилось ему это. Так вот Бальмонт, напротив, часами мог сидеть над муравьиной кучей и следить за крошечной жизнью. Реальный факт! Любил ботанические и зоологические сады. В столицах мира, а он объехал чуть ли не все, первым делом искал именно их, потом базар, цирк, ярмарку, где обходил все аттракционы. Стрелял в чучел, гадал «у попугаев», играл «в лошадки» – нечто вроде рулетки – и, как правило, проигрывался в дым. А когда однажды во Франции поставил большие деньги в настоящую рулетку, то в зале вдруг потемнело. Забегали служители, спешно закрывались окна, обслуга замахала салфетками, а лампы над игральным столом, как пишет Катя, «облепило что-то черное». Первым пришел в себя как раз поэт; сообразил: в зал влетела туча бабочек – и, бросив игру, кинулся ловить их вечной шляпой своей. Метался по залу, как тот шарик на рулетке, а настоящий шарик, напротив, замер, и крупье, уже надрываясь, кричал: «Игра окончена, красный выигрывает!..» Оказывается, на всех ставках выиграл Бальмонт. Катя еле дотащила его до стола, но он лишь сгреб деньги, сунул их ей, а сам, копаясь в своей дурацкой шляпе, очумело повторял: «Это, наверное, африканские бабочки, их занесло сюда бурей, пойдем домой, их надо рассмотреть, они, может быть, редкие…» Французы, заканчивает Катя, глядели ему вслед с сожалением…
Дитя, конечно! Ведь Катя и после смерти его не без улыбки вспоминала, что, когда толкала его ногой под столом, напоминая, о чем не надо говорить, он приподнимал скатерть и недовольно заглядывал вниз: «Это ты меня толкаешь?..» А затем, догадавшись, таращился при всех: «А что я такого сказал?..» Ну как было не любить такого? Он ведь и в стихах, и задолго до Маяковского, который, думаю, и взял этот образ, назвал себя облаком: «Я ведь только облачко. // Видите: плыву. // И зову мечтателей. // Вас я не зову!..»
Был облачком, но бывал и темной тучей. Был ведь не один – два Бальмонта. «Один, – напишет Катя, – настоящий, благородный, с детской и нежной душой, а другой, когда выпьет вина, полная его противоположность: грубый, способный на всё самое безобразное». «Два духа, две личности – поэт с улыбкой и душой ребенка и рычащее безобразное чудовище», – заметит о нем и Нина Петровская, писательница, сама не избежавшая его чар. А ведь можно и проще сказать: он был утренний и ночной, трезвый и пьяный, кроткий и рьяный. Рифма, однако! Но у меня это случайно – excuse me…
Утренний вставал в восемь, к чаю выходил с кипой газет, в том числе иностранных (знал, говорят, пятнадцать языков), и до часу работал: писал, переводил, читал. «Уписывал целые библиотеки», – восхищенно скажет о нем Андрей Белый. Стихов, вообразите, сочинял до десятка в день, но сочинял и ночью – клал около постели бумагу и карандаш, ибо часто просыпался с готовым уже стихотворением. Живя с Катей еще в Толстовском (Москва, Карманицкий пер., 3), был признан первым поэтом России. А вечерами, выкурив десятую египетскую папиросу (его норма!), сидел с семьей, читая что-либо вслух, или звал гостей. Приходили Брюсов, Борис Зайцев, молодой Бунин, Балтрушайтис, даже Джунковский, друг семьи, тот, который был в «свадебном вагоне» и который станет скоро губернатором Москвы, а Андрей Белый, студент еще, забегал прямо из университета. Благостная вроде картинка. Но это если не знать Бальмонта ночного, который, случалось, так чудил, что об этом гудела вся Москва.
Придя, например, к той же Петровской, замужней, между прочим, даме, мог с ходу сказать: «Вы мне нравитесь, я хочу Вам читать стихи» – и приказать: «Спустите шторы… зажгите лампу… теперь принесите коньяку… заприте дверь… А теперь… встаньте на колени и слушайте…» Был очень силен физически, никто не мог его побороть, особенно пьяного, во «вздернутом» состоянии мог сломать руку, если хватал кого на лету, легко давил между пальцами спичечный коробок или апельсин и безрассудно лез в любую драку. В компаниях был невыносим. Мог, уведя из-за «пьяного» стола приехавшего из Петербурга Вячеслава Иванова, всю ночь таскать его по каким-то притонам, а утром, купив на Сухаревке копченого сига и мороженой клюквы, завалиться к Брюсову. Но хуже, когда, стряхнув обиды, «как пес дождевые капли», уходил в ночь один. Тогда от избытка чувств лез обнимать извозчичьих лошадей, тогда с него могли снять шубу (как было однажды), забрать в участок за драку в кабаке, тогда напропалую читал стихи лакеям и проституткам и в диком восторге вдруг дарил незнакомому кучеру часы, которыми очень дорожил. Наутро бывал сконфужен, ничего не помнил и не верил Кате, когда она показывала ему разбитую лампу, сожженную занавеску, порванную в клочки книгу… Хотя судьба, больше вроде бы некому, не раз спасала его.
Из «Воспоминаний» Е.Андреевой-Бальмонт: «Когда он в первый раз поехал в Мексику, мы записывали ему билеты на пароход в Москве. Оставалось два места на выбор: одно на 15 декабря, другое на 1 января. Я уговаривала его ехать со вторым пароходом, чтобы провести вместе Рождество. Но он настоял и взял билет на 15 декабря. В феврале я получила от него вырезку из газеты, где рассказывалось, что произошло с пароходом, отбывшим… 1 января. Его застигла небывалая буря близко от берега… он не мог пристать… Пассажиры прыгали в воду. Большинство утонули, многие сошли с ума, а капитан застрелился…»
Но что билет, что разбитая лампа в Карманицком и пепел занавески, если вскоре стала раскалываться сама жизнь! Ведь именно в этот дом приедет за ним из Парижа его новая любовь – девушка с фиалковыми глазами, дочь генерала Цветковского Елена, та, которая, как и он, умела любить, ни с кем не считаясь. «Он разрывался между нами, – пишет Катя. – Больше всего ему хотелось жить вместе». Втроем! Но этого не желали ни та, ни другая…
Через много лет в письме от 1920 года Бальмонт признается Кате: «Любимая. Ты лучше всех, ты дала мне узнать, какой высокой бывает женская душа. Счастье любить тебя и, любя других, все-таки любить тебя…» Вы вчитались? Вы уяснили: «Любя других, все-таки любить тебя»? Как это, скажите? И какая женщина стерпит это? Но в этом – весь Бальмонт.
Образовавшийся треугольник разрубит именно 1920-й. Тогда всё кончится для Кати: она останется в России, и от поэта ее отрежут десятки границ. И в том же 1920-м всё, казалось, начнется для Елены, которая эти границы пересечет с ним… Если бы! Если бы для любви поэта, кометы, вечно ищущей счастья, существовали бы границы. И только ли – географические?!
Член партии поэтов
В тот день в центре Москвы он увидел павшую, но еще теплую лошадь, у которой кто-то отрезал уже заднюю ногу. Обычное дело в тот год. Ему, правда, показалось это «злой приметой», и когда он постучался к Цветаевой, которая жила в доме рядом (Москва, Борисоглебский пер., 6), то услышал: в квартире есть живые, но дверь не открывают. «Сейчас, сейчас», – не сразу раздался веселый голос Марины. Впустив наконец его, она со смехом сказала: «Вот что, Бальмонтик, идти ко мне в гости нынче опасно…» Опасность была в том, что стеклянный потолок в квартире ее, выходящий прямо в небо (он и ныне жив в музее Цветаевой), был разбит и пол хрустким ковром покрывало битое стекло. Тоже обычное дело тогда. И, может, не стоило бы говорить об этом, если бы не воспоминания Бальмонта. «Взявшись за руки, – напишет он, – мы со смехом… пробежали в ее комнату…» Смеясь, побежали, да еще «взявшись за руки» – вот что сразило меня! Чисто дети! Ему было пятьдесят два, ей двадцать семь, у него было уже четверо, у нее – двое детей. Голод, холод, разруха. А они, может, и вприпрыжку, побежали к книгам да разговорам! Это вот и есть – поэты! А ведь в осколки разлетелся в те годы не потолок – само небо! И ведь и Бальмонт, и Цветаева, и всяк мыслящий тогда сами приближали этот итог. Звали революцию, расковыривали спокойную жизнь.
Еще из гимназии Бальмонта исключили за то, что он закопал в саду типографию народовольцев. Потом за участие в беспорядках не только выгнали из университета, но посадили, правда, на три дня, в Бутырку (Москва, ул. Новослободская, 45). А из гостиницы «Столица» (Москва, Арбат, 4), где он прятался от властей, выселили с запретом жить даже в университетских городах. Это случится в 1901-м, после разгона знаменитого митинга у Казанского собора в Петербурге. Бальмонт, участник его, напишет тогда «шифрованный» стих. «То было в Турции, где совесть вещь пустая, // Там царствует кулак, нагайка, ятаган, // Два-три нуля, четыре негодяя // И глупый маленький султан…» Народ, собравшийся на вечер поэтов в зале Петровского коммерческого училища (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 62), просто обалдеет от такой смелости; все поймут: султан – это Николай II. Как из-под земли у эстрады вырастут агенты охранки: чей стих? Бальмонт, не клоня головы, процедит сверху вниз: «Перевод с испанского…» Но куда там! Пока стих переписывали гимназистки, печатали в прокламациях и нелегальных газетах, возникло целое «дело»: в квартиру поэта ввалилась полиция, дом обыскали, а его, успевшего сбежать в Москву и укрыться в гостинице, в конце концов выслали. В те дни Брюсов и получит телеграмму: «Монт завтра уезжает надолго, будьте в два…» Конечно, пишет в дневнике Брюсов, лечу. «Стало быть, проводы… Сначала в “Праге”… после у “Яра”». Кстати, как раз у «Яра» (Москва, Ленинградский пр., 32/2) наш смельчак так разойдется, что какой-то капитан едва не заколет его кортиком. Помните? Спасет Балтрушайтис, поэт, выбьет кортик невесть откуда взявшимся палашом. А через почти двадцать лет Балтрушайтис спасет его от более страшной опасности, от рухнувшего в тот год неба над его головой…
Ссылка не исправит Баламута. В 1905-м он будет строить баррикады, добудет где-то револьвер и всем будет показывать его, хотя за это полагалась тюрьма, будет работать (меньше месяца, правда) в одной газете с Лениным и до хрипоты ораторствовать на площадях. Как это делал, не представляю: он ведь говорил отрывисто, «будто откусывая слова от фразы», и вместо «прошу, садитесь» изо рта вылетало: «прш… сдитс…». Но как-то «трибунил», ибо известно: полиция даже стащит его однажды с тумбы и попытается «закрыть», да студенты отобьют. Он же в ответ выпустит «Песни мстителя», за ввоз которых в Россию будут давать каторгу. А сборник «Злые чары» не только конфискуют, но, может, впервые в ХХ веке публично сожгут на костре. Короче, столько наломает дров, что ему придется вновь и спешно бежать, но уже в Париж: в Москве расклеивали портреты его, «подстрекателя к бунту». Бежит с Белорусского, причем в самую новогоднюю ночь. Опять перестук вагонных колес, опять шампанское, только на этот раз за новый, 1906-й год, и в свете лампы у окна любимое лицо жены – Кати Андреевой. Бежит и даже не предполагает, что через семь лет, после амнистии по случаю 300-летия дома Романовых, здесь же, на Белорусском, его будут встречать уже как героя. Толпы народа, фотографы, репортеры, цветы, Брюсов, Балтрушайтис, Зайцев, Кречетов. «Бальмонт, приветствуем тебя на родине!», – начал Сергей Кречетов, поэт, но жандарм оборвал: «Речей не допускать, расходитесь, господа!». Кто-то все-таки гаркнет экспромт: «Из-за туч Солнца луч – Гений твой. Ты могуч, Ты певуч, Ты живой». Но важнее станут ему тихие слова дочери Нины, сказанные Кате Андреевой, когда шли к ожидавшей машине: «Разве папа такая знаменитость?..» В 1918-м она вместе с матерью будет читать его письмо: «Жизнь в Москве… зловещий балаган… Россияне… еще не отдают себе отчета… что на Россию наброшена мертвая петля». Свяжет ли эти события Нина? Поймет ли, что отец обрушивал небо и над ее головой?
Впрочем, неба, образно говоря, он искал всюду, даже – под ногами. Тот же Кречетов, писавший под псевдонимом Гриф, однажды ворвется к себе и с порога крикнет жене: «Знаешь, кого встретил? Бальмонта. Иду по Козицкой, еще не растаявший грязный снег, падает что-то вроде дождя. Вижу, идет в своей крылатке Бальмонт и что-то кидает. Подхожу, у него корзиночка с фиалками, и он их раскидывает по пути. Увидел меня, страшно смутился: “Не смейся, Гриф, Благовещение!..”» Удивительно, не правда ли? Цветы в грязь под ноги прохожим?! И всё для того, чтобы люди ожили, оттаяли душой. И хорошо, что благодаря Грифу эти фиалки в нашей памяти и через сто лет не завяли. Но если всерьез: разве эти цветы не сродни миссии любого поэта?.. И не за это ли мы поклоняемся нашим святым от поэзии?
Скажем, Бальмонт страшно возгордился, когда прочел в газетах, что «политические» в тюрьмах чаще всего читают Льва Толстого, а из живущих поэтов – его, Бальмонта. Сам он Толстого боготворил, хотя и сегодня не вполне ясно, как отнесся к его стихам великий старец, когда Бальмонт прочел их ему. Свидетель события записал слова Толстого: «Ах, какой вздор! Аромат солнца? Какой вздор!..» Похвалил, осудил ли – неведомо. Мне думается – влюбился в поэта.
Бальмонта любили. Россия любила. Кавалеры нашептывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки: «Открой мне счастье, закрой глаза…» Либеральный оратор вставлял в свою речь: «Сегодня сердце отдам лучу… Я буду дерзок – я так хочу». Любили даже собратья и сосестры по цеху. Ахматова, например, никогда не склонявшая знаменитой челки своей перед авторитетами, вдруг «запрыгала от радости» и «захлопала в ладоши», когда в «Бродячей собаке», поэтическом кабачке, (С.-Петербург, Михайловская пл., 5) вдруг объявили: Бальмонт приехал. В тот вечер, 8 ноября 1913 года, в «Собаке» должны были чествовать его. Надо ли говорить, что он и в этот вечер напьется? Что просидит весь вечер за столиком Ахматовой? Надо ли добавлять, что вечер закончится всеобщей дракой, ахматовской «истерикой» на глазах у Гумилева, мужа, и одним избитым «пушкинианцем», кого Бальмонт принял за другого?.. А ведь он был в такой уже славе, что находились люди, которые чествовали его не раз в двадцать пять лет, как в «Собаке», а ежегодно – ровно 15 июня – в день рождения его. Это регулярно случалось еще в одном питерском доме, который, как и «Собака», дожил до наших дней, стоит себе на Неве (С.-Петербург, Синопская наб., 52).
Здесь на Бальмонта едва не молились. И устраивал эти ежегодные юбилейные ночи владелец дома, на лощеной визитке которого с одной стороны было написано: «Борис Николаевич Башкиров, член комитета Калашниковской биржи» (мучной биржи, чуть ли не крупнейшей в России, которая и принадлежала семье Башкировых), а с другой – коротко и загадочно: «Борис Верин – Принц сирени». Слово «поэт» не добавлялось, считалось, что и так любой знает: он известный поэт-символист, а кроме того – юрист (по университету), меценат (по интересам) и, считайте, магнат (по личному состоянию). Кто только не бывал у него. Писатели, артисты, музыканты и композиторы, художники и скульпторы – богема. Здесь знаменитый уже Сергей Прокофьев, перебирая клавиши, наигрывал нечто окружившим его рояль дамам, тут прославленный Алехин показывал шахматные «фокусы», когда, не глядя на доски, обыгрывал соперников «втемную», из соседней комнаты. И здесь Игорь Северянин (друг дома), который и назвал Верина «Принцем сирени», читал свои поэзы. Но раз в год тут обязательно праздновали день рождения Бальмонта. Сам виновник торжеств тоже бывал здесь, пока в 1915–1917 годах жил на Васильевском, сначала на Большом проспекте (С.-Петербург, Большой проспект В.О., 64), и там же, но в другом доме (С.-Петербург, Большой проспект В.О., 6), а позже – в доме на 22-й линии (С.-Петербург, 22-я линия В.О., 5). Бывал, а значит, и видел, и слышал, как ровно в полночь в зале на втором этаже вспыхивал в серебряной чаше пунш и хозяин дома, встав, начинал наизусть читать весь очередной сборник стихов «юбиляра». «Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть…» Так за стихом – стих, пока над Невой не зажигалась заря, не всходило натуральное солнце!.. Красиво!
Да, Россия любила Бальмонта! А он – Россию. Хотя правда и то, что в разное время любил, мягко сказать, по-разному. «Русские самый благородный и деликатный народ», – писал в первую революцию, в них нет «деревянности немцев», «металличности англичан», «юркости французов». А в октябре 17-го, в самый переворот, когда в Москве пули летали гуще дождя и он был как раз в этой гуще, высказался иначе. «Ты ошибся во всем, – написал. – Твой родимый народ, // Он не тот, что мечтал ты. Не тот…» Разочаровался в революциях. И когда, уже при советской власти, его доставят на Лубянку, где подслеповатая, в пенсне, чекистка спросит: «К какой партии принадлежите?» – он яростно ответит одним словом: «Поэтов»…
Последнее небо Жар-птицы
За что его любил мир, понятно! А вот за что его любили, да еще так, женщины? Помните, одна девушка кинулась из-за него в пропасть? Другая, потратив на него всё состояние, обнищав, зарабатывала шитьем гроши лишь для того, чтобы покупать ему подарки (его, говорят, и в старости нельзя было оттащить от сияющих витрин). А третья женщина, потакая пьяному капризу его, больная, в фурункулах, просидела с ним как-то всю ночь на парижском бульваре и, будучи в легком платье, к утру натурально примерзла к скамье. Да так примерзла, пишет Катя, что, встав вслед за поэтом, оставила на скамье с лоскутами платья и лоскуты кожи своей. Это было как раз то «лунное существо» с фиалковыми глазами – Цветковская, дочь генерала от артиллерии!
Он читал лекцию в Сорбонне (Париж, ул. Сорбонны, 5–19). 1902-й год. Ему тридцать пять, ей, юной студентке математического факультета, девятнадцать. Нагнав его в дверях аудитории, она набралась духу: все ваши стихи знаю наизусть. Пошли в кафе, потом в другое, всю ночь «блуждали по городу». А дальше случилось то, что поразило его. Когда кафе закрылись, а он не хотел идти к Кате нетрезвым (Париж, ул. Леопольда Робера, 5), Цветковская повела его в свой закрытый пансион, откуда за это – она знала – ее немедленно выкинут. Но встреча стала роковой: они будут вместе до могилы – сорок лет.
Цветковская, пишет Катя, «ухватилась за Бальмонта» со всей силой первой страсти. Она обожала его наедине, при всех, даже при ней, при живой жене. Чтобы говорить с ним по-английски, взялась изучать сначала English, затем испанский, польский, итальянский, все те языки, которые знал и он. Даже, говорят, почерком его стала писать. Но если Катя прятала от него бутылки, искала врачей, лечивших от пьянства (их всех он звал «идиотами»), то Цветковская, напротив, не только исполняла все его «хочу», но пила наравне с ним. И, уводя от семьи, выставляла вино в причудливых бокалах, фрукты, зажигала свечи и усаживалась у ног внимать стихам – любимая поза. Он стал звать ее Элена, она его Вайю (Ветер). Словом, уже с 1904-го она, как пишет Андреева, «неукоснительно следовала» за ними и селилась рядом, где бы они ни жили: по соседству в доме, в комнатке над ними, на веранде под ними.
Париж для Бальмонта давно стал своим городом. Он влюбился в него, когда еще в 1898-м приехал сюда с беременной Катей и поселился на Гренель (Париж, ул. Гренель, 145). Позже, сбежав в 1906-м от преследования в Москве, жил на квартире у Макса Волошина, с которым тогда и подружился. Потом, в 1908-м, жил на улице de la Tour (Париж, ул. де ла Тур, 60). И везде, даже на море, куда поэт выезжал на лето с семьей, его сопровождала Цветковская. Катю в глаза и, кажется, искренне величала «царицей», клялась, что преклоняется перед ней. Александр Бенуа, художник, живший одно время неподалеку, назвав Елену «втирушей», не раз видел их вместе: крупно шагавшего поэта – рыжая борода в небо – и еле поспевавшую за ним ее: щупленькую, в развевавшейся тальме, словно птицу раненую. Бенуа, кстати, первый, скажет: она в том треугольнике – жертва. А ведь не знал, не мог знать, что, рассердившись уже на Цветковскую, поэт в порыве гнева повыбрасывал как-то в окно с пятого этажа всю хозяйскую мебель. А однажды, я поминал об этом, чтобы вмиг увидеть обнаженное тело, взмахом ножа распорол ей платье от горла до коленей, серьезно ранив ее при этом. Да, Цветковская станет жертвой его. Как навсегда станут жертвами его десятки других женщин. И Анна Иванова, Нюша, племянница Кати, которую любил и за тихий нрав звал Мушкой. И Мила Джалалова, балетная плясунья с зелеными глазами. И Мария Долидзе, жена импресарио его, а позже гражданская жена писателя Александра Грина. И поэтесса Лидия Нобль, и норвежка Дагни Кристенсен, валькирия, в чьих жилах текла кровь короля Гаральда Прекрасноволосого, с которой встречался лет двадцать; и красавица-грузинка Канчели, что почти сразу умрет на его глазах; и актерка-еврейка Шошана Авивит, и японка Ямагато. Я называю лишь самые громкие романы его. Даже в последний год в Москве у него вспыхнет еще одна любовь – с княгиней Дагмарой Шаховской, которая родит ему сына, а затем, через несколько лет, еще и дочь. Многоженец – иначе и не скажешь. Причем многоженец по убеждению.
Из письма Бальмонта – Дагмар Шаховской: «Если я, полюбив Елену, не разлюбил Катю и, полюбив Нюшу, не разлюбил ни Елену, ни Катю, и, полюбив тебя, не разлюбил ни ту, ни другую, ни третью, в этом безумная трудность, а не слабость. Поверь. Не сила, а слабость – разрывать узы… Этого я не могу по чувству и по убеждению…»
Вот так! И, заметьте, с каждой (даром что баламут!) ухитрится сохранить нежные отношения на всю жизнь. Действительно, «любил любовь».
Из Москвы в эмиграцию уезжал из Николопесковского. Последний переулок его. Но жил и здесь на два дома. В одном, в доме Голицына, жил с Катей и их дочерью Ниной; здесь, в сводчатом первом этаже, они снимали квартиру еще до революции (Москва, Большой Николопесковский пер., 15). А через дом, в особняке великого Скрябина, поселился уже с Цветковской и девятилетней дочерью их Миррой (Москва, Большой Николопесковский пер., 11). И если завтракал у одной, то ужинал непременно – у другой. Пока было чем ужинать. Отсюда, из Николопесковского, в мае 1917 года проводит Катю на вокзал, как выяснится, навсегда (она повезет дочь на Урал всего лишь на лето, а вернется из-за Гражданской войны через три года). На вокзале в давке и суете он потеряет Катю, и она из окна вагона долго будет видеть, как ее «Рыжан» близорукими глазами пытается отыскать ее. Видеть, не понимая еще, что смотрит на него в последний раз. Вообще – последний!.. И отсюда, из этого же переулка, 21 июня 1920 года он вместе с Еленой отправится в эмиграцию – фактически в вечность. Разрешения на выезд из России ему и Вяч.Иванову добился Луначарский, правда, взяв с них слово, что на Западе они не будут «чернить» революцию. Иванов слово сдержит, а Баламут, «безбрежность» ходячая, обещание почти сразу нарушит…
Проводы ему устраивали дважды. Так пишет дочь Цветаевой, не все это запомнят. Будут писать о ералаше прощания в табачном дыму и самоварном угаре, о пустом чае «в безукоризненном фарфоре» и грустных шутках. Но все запомнят: когда грузовик литовского посольства, который, как и визы, устроил ему Балтрушайтис, ставший послом (этим и спас поэта во второй раз!), тронется отсюда, Бальмонт, вскочив в кузове и сняв шляпу, будет махать ею, пока не скроется за поворотом…
Ныне, если вы придете к музею Скрябина под вечер и дождетесь, пока в окнах вспыхнут огни, то иногда – вдруг вам повезет! – вы услышите музыку. Это рояль, это там, на втором этаже, кто-то опять «целует звуки пальцами». Так еще в 1913-м Бальмонт сказал Скрябину, когда пришел сюда впервые. Здесь бывали Рахманинов, Вяч.Иванов, Леонид Пастернак и его сын Борис, Цветаева, которая позже подружится с женой композитора. И, конечно, не вылезал отсюда Бальмонт. «Скрябин любил при нем играть вечером, при полупотушенных лампах, Бальмонт же читал… стихи, – вспоминал друг дома, музыковед Сабанеев. – Два больших художника соревновались незаметно даже для себя… После его ухода Скрябин говорил: “Он, право, очень милый, такой немножко задорный, забияка – в нем есть мальчишество. Но он тонкий и много понимает…”» А Татьяна Федоровна, жена Скрябина, и после смерти мужа не только всюду защищала поэта («Не смейте обижать его… он так дивно сказал про Сашу – “он целует звуки пальцами”»), но даже пустила его и Цветковскую жить к себе. Сегодня в музее вощеные полы, картины, море света. А в 1919-м, когда не было электричества, когда лопнули трубы и не работал водопровод, когда Елена и дочь поэта спали тут прямо в шубах, Бальмонт, представьте, не изменяя привычкам, каждое утро приносил со двора таз и, раздевшись донага, обливался водой. Поддерживал «жизнеподобие». И с манерами гранда, в белоснежном воротничке (он знал какую-то тайну сохранения их в чистоте), невозмутимо шел разбирать на дрова очередной забор, на рынок за пшенкой, читать лекции в «Школу стиховедения», зарабатывать «звенящие возможности» (деньги) (Москва, Ильинский пер., 5). Или – к немногим друзьям. К Балтрушайтису (Москва, ул. Поварская, 24), в дом, который стоял рядом с домом генерала Цветковского, отца Елены, где поэт не раз ночевал (Москва, ул. Поварская, 30). К Вяч. Иванову (Москва, Зубовский бул., 25), где бывали Андрей Белый, Мандельштам, Хлебников, Бердяев, Флоренский. К Кусикову, поэту, прилепившемуся к нему в последние годы (Москва, Большой Афанасьевский пер., 30), где в сохранившемся и поныне доме бывали Цветаева, Есенин, Каменский, Ивнев. А по вечерам отправлялся в какое-нибудь кафе «Не рыдай» или «Домино», забегаловку поэтов. Там-то, в сумерках уже, с ним и произошел однажды загадочный случай. На пустой улице, где гулко стучали его шаги, перед ним, «как из воздуха», выросла вдруг женщина. «Дяденька, где мой дом?» – спросила она поэта. Он, пишет, похолодел. Женщина была в валенках, в длинном кафтане, похожем на монашеское одеяние. «Где мой дом?» – снова спросила она. Он ответил, что не знает. «Ты знаешь, ты знаешь, дяденька, – уверенно сказала она. – Он тут… близко. Покажи мне, где мой дом». Лицо ее было нечетким, но не безумным. «Какой-то вихрь закрутился у меня в голове, – вспоминал он. – К сердцу хлынула горячая волна, и мне… захотелось… привести эту женщину на какой-нибудь двор, сесть с ней рядом… и обнять ее». Короче, когда он добрел до кафе, Цветаева всплеснула руками: «Братик, что с вами?» А услышав рассказ, стала вдруг торжественной и взяла его за руку: «Она должна была к вам прийти, – сказала. – Должна. Ведь это же к вам приходила – Россия»… Сумасшедшие, так и хочется написать, оба сумасшедшие. Но, окунувшись в эпоху их, вчитавшись в мемуары, в свидетельства очевидцев, вдруг понимаешь: это время было скорей сумасшедшим, а не они, великие поэты…
Впрочем, Бальмонт, во всем искавший «седьмое небо», теперь реально замахивался на само пространство и время. Он, сравнивший себя с кометой, мечтал покорить их. «Я ходил… по продольности времен и по зыбям… пространства», – написал Брюсову. А еще в 1914-м сказал, что в пространстве и времени хочет «полной свободы». «Кто больше имеет прав на свободу, чем я, певец ее»? Но, сражаясь за нее, сам же и пострадал. «Коммунизм я ненавижу, – написал в Париже в статье «Кровавые лгуны», – коммунистов считаю врагами всего человеческого, всего честного, всего достойного». Но ведь и про Запад успел понять всё. Даже то, что мы и ныне не вполне понимаем еще.
Из парижского письма Бальмонта – Андреевой-Бальмонт:
«Конечно, мы едим иногда лучше вас и живем в теплых, освещенных комнатах и читаем пошлейшие будто свободные парижские газеты, и зимы почти не было и уж, верно, не будет (перед сном я в туфлях, полуодетый выхожу на балкончик, смотрю на звезды и шлю благословляющие мысли тебе)… Я хочу России… Только этого хочу. Ничего иного… Духа нет в Европе. Он только… в России…»
А другу Ивану Шмелеву, писателю, с которым дружил годами и кого часто навещал (Париж, бул. Республики, 2), напишет прямо: «Сидим без денег. Ergo. Мерзнем. Голодаем. Ободраны. Бодры. Работаем, не покладая рук. Уповаем. Коли погибнем, значит – так надо…» И добавит: «По зову сердца, сейчас перепеваю… наше Божественное “Слово о полку Игореве”. Уже более половины готово…» Он опять будет жить на улице Тур, но в другом доме (Париж, ул. де ла Тур, 43), и опять – житейски безалаберно. Здесь, в двухкомнатной квартирке их, окно, например, как вспомнила Тэффи, было вечно занавешено толстой бурой портьерой, ибо поэт разбил его, а вставлять стекло «не имело смысла» (оно ведь легко могло разбиться снова). «Ужасная квартира. Нет стекла и дует», – хором пожаловались и он, и Елена, и их дочь Мирра. Ну что тут скажешь? Грустно и смешно. Недаром когда-то, когда Мирра была еще крохой и, раздевшись догола, залезла под стол и не хотела вылезать, врач, пришедший по вызову родителей, вдруг внимательно посмотрел на Елену и спросил: «Вы, очевидно, ее мать?» «Да», – ответила та. Доктор еще внимательней посмотрел на поэта: «А вы отец?» «М-м-м-да», – ответил тот и – вздернул голову. И врач – лишь развел руками: «Ну так чего же вы от нее хотите?» Смешно, господа… Но другими поэты, кажется, и не бывают.
Бальмонты успеют пожить еще на улице Беллони (Париж, ул. Беллони, 2), куда приехавший из СССР поэт Георгий Иванов привезет «свежую» новость: «дни большевиков сочтены», потом, уже в 1933-м, поселятся в двух комнатках в пригороде Парижа (Париж, ул. Сесиль Динан, 60). Я не пишу о гостиницах, случайных номерах, где останавливались после поездок, о пансионатах и уж конечно о больницах, где он всё чаще оказывался. Через год скажет при встрече Зайцеву, что не хочет больше жить, что всё погибло и ему «не нужно даже солнца». А еще через три Елена напишет секретарю парижского союза писателей В.Ф.Зеелеру: «Мы в нищете полной… У К.Д. нет ни одной рубашки, ни туфель – таким он попал в госпиталь… Помогите вырвать из тьмы Солнечника…» Солнечником звали поэта на родине.
…Похоронят Бальмонта в 1942-м, в могиле, полной воды, – гроб придавят даже палками, чтоб не всплыл. Так кончится время, которое хотел покорить, а пространство сожмется до ямы на кладбище в Нуазиле-Гран. Умер, выйдя из нищей психушки, где ему, баламуту, связывали руки и ноги. Скончался под Рождество. А через полтора месяца не станет и женщины с фиалковыми глазами. Уйдет вслед за ним – и тоже от воспаления легких.
«Великим тружеником» назовет его Цветаева. 35 книг стихов, 20 книг прозы, более 10 000 страниц переводов с 15 языков. Один перевод «Слова о полку Игореве» чего стоит! И мало кто знает, что в 1923-м его, вместе с Буниным и Горьким, выдвигали на Нобелевскую. Не получил, «заклевали», как скажет та же Цветаева. Он пришел к ней в последний раз в 1937-м. Рыжая грива поредела, стала розоватой, но голова осталась непоклонной. «Марина, – сказал он, – когда мы шли сюда, я увидел высокое дерево… звеневшее от птиц. Мне захотелось туда, к ним, на самую вершину, а она, – он кивнул в сторону почти бестелесной Елены, – не пустила!» – «И правильно сделала, что не пустила, – отозвалась Цветаева. – Ты ведь Жар-птица, а на том дереве – просто птицы: воробьи, вороны. Они бы тебя заклевали…»
Цветаева увидит его еще раз, зайдет попрощаться перед отъездом в СССР. Он жил в последней своей квартире (Париж, ул. Планте, 26). Бальмонт был уже с «умершими глазами». «Бальмонт, – громко спросила его Цветаева, – много ты за свою жизнь написал?» «Глаза его осмыслились, – рассказывала Марина уже в Москве, – он поднял руку высоко над столом, чтобы показать, сколько томов им создано, потом опустил руку и снова поднял ее на прежний уровень над столом и внятно произнес: “А с братушками – вот сколько”…» Братушками называл славян-поэтов, которых переводил всю жизнь.
Не знаю, вспоминали ли они тогда свою последнюю встречу в Москве, май 1920 года, когда во Дворце искусств на Поварской праздновали 30-летие творческой деятельности Бальмонта. Он, напишет Цветаева, сидел на сцене в кресле, и в руках его была роза-пион. Говорил о мечте, о «седьмом небе» – о союзе поэтов мира, о равенстве и «несправедливости накрытого стола жизни для одних и объедков для других». Потом выступали многие, но возразил ему только Сологуб, поэт. «Не надо равенства, – сказал он. – Поэт – редкий гость на земле… Среди миллиона – один настоящий».
Cвятая правда! Бальмонт и сегодня, как в тот май, один – на миллион. Неисчезающая комета во Вселенной, с которой сравнил себя когда-то.
«Одержимый», или Жизнь за памятник Валерия Брюсова
Нет, я не ваш! Мне чужды цели ваши, Мне странен ваш неокрыленный крик, Но в шумном круге к вашей общей чаше И я б, как верный, клятвенно приник! Где вы – гроза, губящая стихия, Я – голос ваш, я вашим хмелем пьян, Зову крушить устои вековые, Творить простор для будущих семян. Где вы – как Рок, не знающий пощады, Я – ваш трубач, ваш знаменосец я, Зову на приступ, с боя брать преграды, К святой земле, к свободе бытия! Но там, где вы кричите мне: «Не боле!» Но там, где вы поете песнь побед, Я вижу новый бой во имя новой воли! Ломать – я буду с вами! Строить – нет! Валерий БрюсовБрюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) – поэт-символист, один из основателей русского символизма. После Октябрьской революции вступил в партию большевиков (1920), занимал видные общественные и административные должности, основал Высший литературно-художественный институт.
Странную скажу вещь: Брюсова не было. Не было единственного и неповторимого. Было много Брюсовых. И ни одного – искреннего. Зинаида Гиппиус, та, которая и охлестнет его «одержимым», напишет: «Кто каким Брюсова хотел, таким его и имел». И перечислит чуть не два десятка масок его: роковой гений, загадочный волшебник, эгоистический позер, хитрый честолюбец, маг, сплетник, космополит, солипсист. Дорисует портрет Бунин: он был декадентом, монархистом, славянофилом, патриотом, потом анархистом, затем либералом, а кончил – вопящим большевиком. «Горе, горе! Умер Ленин! Вот лежит он хладен, тленен!..»
Это, разумеется, не упрек: похожая мимикрия умещалась в жизни миллионов. Хуже другое. Он написал как-то: «Уйдем в мечту! Наш мир – фата-моргана…» Но на деле с пяти лет думал о реальном памятнике себе и упорно воздвигал его. Из чего? – вот вопрос. Из таланта, вдохновения или – из жертв, которые приносил в угоду известности?.. «Я никогда не любил, не ненавидел, не страдал… – признался однажды. – Я знаю ухватки влюбленных, обижающихся, ненавидящих и подражаю им, но в глубине души никого не люблю, никого мне не было жалко, и ни на кого не сержусь в мире…»
«Подражаю им», людям. Вот трагедия. Вот – расплата за памятник.
Немолодой мальчик
Я люблю приходить сюда, в этот старый садик. Впереди Мясницкая, за спиной – Сретенка. Люблю строй дубов вдоль решетки, одному из которых лет под двести. Чудо, что он выжил в мегаполисе. Но еще большее чудо, что ему довелось видеть когда-то двух людей, которые хоть и были разны во всем, но имели отношение к Серебряному веку русской поэзии. Один был родоначальником этого века, идеологом и вождем его, а второй – палачом и могильщиком. Один был поэтом, энциклопедистом по знаниям, а второй, едва кончивший четыре класса, – комиссаром НКВД, первым замом Ягоды. И если первый едва не за ручку ввел в поэзию Андрея Белого, Гумилева и скольких еще, то второй именно Гумилева, Мандельштама, Клюева приговаривал к смерти, лагерям, ссылкам.
Оба, представьте, жили здесь, в Милютинском. Более того, в домах, которые и ныне смотрят окнами друг на друга. В двухэтажном желтеньком флигеле, едва не вросшем уже в землю (Москва, Милютинский пер., 14), в 1873 году родился Валерий Брюсов. А в здании напротив, в трехэтажном особнячке, построенном для начальства ОГПУ-НКВД (Москва, Милютинский пер., 9), жил Яков Агранов, сын бакалейщика из Могилева, «главный спец по культуре» на Лубянке и когда-то глава Литконтроля – самой суровой в мире цензуры. Его, Агранова, и арестуют здесь и почти сразу шлепнут. Но и детскую коляску, в которой катали здесь Брюсова, и эмку, забравшую отсюда Агранова, видел единственный свидетель – милютинский дуб. А говоря шире – видел рождение и смерть Серебряного века.
Впрочем, коляски детской, возможно, и не было. Брюсов «был, как это ни странно… с детства немолодым мальчиком, – сказал один знакомый его. — Мальчиком он остался на всю жизнь и, вероятно, ребенком… умер…» Нечто похожее скажет о нем и любимая женщина его, с которой он был семь лет: «Очень трудно человеку стать однажды большим… но прожить жизнь маленьким – ничего не стоит». А сам Брюсов ей не однажды говорил: «Ах, позволь мне иногда быть маленьким… Я так устал быть “большим”». Словом, играл в «большого» в детстве и прикидывался «маленьким» в зрелости. В поэзии эти «игры» сыграют с ним пренеприятную штуку. Он, официально самый крупный поэт начала ХХ века, окажется не только не крупным, но – объективно маленьким поэтом. Да и поэтом ли?..
Коляски у младенца, возможно, и не было потому, что родители Брюсова, «продвинутые» люди, растили его по-современному. Отец его снял жилье в Милютинском, когда пошел поперек своего родителя, купца второй гильдии Кузьмы Брюсова. Тот подобрал ему богатую невесту, но Яков, отец поэта, настоял на личном выборе и женился на мещанке Матрене Бакулиной из Ельца, которая сразила его тем, что, оказавшись в Москве, «сняла с шеи крест», остригла волосы, пошла на службу и, главное, яростно «устремилась» к образованию. Вообще-то дед Брюсова был крепостным в Костроме, но, откупившись от барина, придя в Москву, сначала клал печи, потом работал буфетчиком, а позже, получив небольшое наследство от дяди (по другим сведениям, от разбогатевшего старшего брата), открыл торговлю пробкой. Более того – стал монополистом, и на «пробочные» деньги проживут потом свой век и отец поэта, ставший по сути рантье, да и сам поэт. Брюсов ведь, хоть и служил потом в журналах и издательствах, никогда не опускался до поденщины, до заработка ради хлеба. Впрочем, куда интереснее окажется дед Брюсова по матери – Александр Бакулин, лебедянский помещик, но главное – страстный писатель. Стихи, повести, романы выходили из-под его пера, но коньком своим считал басни. Их под названием «Басни провинциала» даже выпустит книгой. Над ним смеялись дети, взрослые стыдились его творчества, но он так и умер в надежде, что «Россия поставит после имен Державина, Крылова и Пушкина равное им имя – Александра Бакулина». Тоже – «взрослый мальчик». Первый в роду.
А вторым в семье смело можно назвать отца Брюсова – Якова Кузьмича. Состояние почти продул, коммерсантом был никаким, семейной «пробкой» – не занимался. Вернее, занимался – от бутылок выпитых полный ящик пробок случайно увидит в письменном столе его друг. А кроме того, не верил ни в черта, ни в Бога и вместо икон вешал портреты Писарева, Чернышевского – был, что называется, «на уровне». Тоже, кстати, царапал перышком, написал роман, несколько повестей. А Валерия, первенца своего, про кого они с Матреной «порешили», что он станет человеком «необыкновенным», растил «по-новому». Никогда не пеленал, например, и, исповедуя модную в те годы «пользу», не читал сказок. Это скажется потом: став почти через полвека небольшим, но начальником в красной России, Брюсов уже сам будет запрещать сказки про принцесс да разных царевичей…
Ах, что за мальчик был – Валя Брюсов, как звали Валерия в семье. «Я хочу быть тигром, – шептал он своей тетке. – Он – сильный и ничего не боится». Сам он, кажется, и не боялся ничего, разве что темноты да пауков, от которых и взрослым падал в обморок. Но когда дед купил семье огромную квартиру в доме некоего Барни (Москва, Яузский бул., 10), то в огромный двор его (и дом, и двор живы) ребенка опасно было выпускать. Няньки, мамки, гувернантки соседских детей именно во дворе хватались за сердце и бухались в обморок, когда трехлетний поэт важно толковал им, что Бога вообще-то нет и человек произошел от обезьяны. В три года читал. Позже говорил, что в восемь прочел всего Добролюбова. Какие там салочки, палочки-выручалочки? Игрушками его станут модели электроскопа, паровика, даже лейденской банки. Но за одну «игрушку» его возненавидят еще во дворе, а в гимназии станут даже бить. Я говорю о погремушке по имени «слава».
Из воспоминаний Брюсова: «Очень любил я изображать летательный снаряд. Строил его из книг и деревяшек и летал с ним по комнатам. Столы и комоды были горы, а пол – море, где я часто терпел крушение, попадал на необитаемый остров – ковер, жил по-робинзоновски. С этого же времени… меня стало прельщать все неопределенное, что есть в гибком слове “Слава”…»
А что? «Гибкое слово “Слава”» – метафора! У Брюсова «слава» и будет такой. В восемь прочел Добролюбова, но ведь в восемь лет сочинил и первый стих. «Соловей мой, соловей, // Сероперый соловей! // Распевай ты средь ночей, // Милу песню начинай, // Веселее распевай // И подолже (так! – В.Н.) не кончай». По моей доморощенной теории, стих этот – почти проекция и будущего творчества, и дальнейшей жизни его. Теория не теория, но я замечал: в самых первых стихах поэтов, как это ни странно, мистическим образом зашифрованы и внутренние мотивы будущей жизни, и даже метафорически выраженные цели. Ахматова запомнила первый стих Гумилева, сочиненный тоже в восемь лет: «Живала Ниагара // Близ озера Дели, // Любовью к Ниагаре // Вожди все летели…» Разве не читается здесь всё, связанное с будущим Гумилева: и его путешествия в Африку, и восхищение мужскими характерами, и будущий «вождизм» его? Так же и Северянин, который тоже в первом стихотворении и опять-таки в восемь лет предсказал свою ошеломительную, но очень уж короткую славу: «Вот и звездочка золотая // Вышла на небо сиять. // Звездочка, верно, не знает, // Что ей не долго блистать…»
Нечто подобное случилось и с брюсовским «опытом». Он действительно станет дневным и ночным «соловьем», будет петь всегда и о чем угодно и – довольно «весело», ибо как-то необязательно, не подтверждая «выпетое» пережитым. Наконец, он и впрямь не знал порой, как закончить стих, отчего будет порой занудно многословен.
В восемь рифмовал, а в десять на даче в Медведкове, где были тогда полудикие леса да редкие, крытые соломой избы, написал и отправил в журнал «Задушевное слово» письмо про речку Чермянку, про лисиц и зайцев, которых видел в лесу. Заметку напечатали. Правда, вместо Вали подписали – «Вася Брюсов». Через много лет футуристы в манифесте «Идите к черту» вдруг ни с того ни с сего тоже напишут: «Василий Брюсов привычно жевал страницами “Русской мысли”… Брось, Вася, это тебе не пробка!» Издевались! Но если «подбить» все детские «достижения» его, то, может, и не покажется хвастливой фраза, которую он скоро занесет в дневник. – «Юность моя – юность гения!» Ни больше ни меньше…
Но вот – первая странность. Несмотря на бешеное честолюбие, он будто культивировал в себе какую-то странную откровенность. Смело признавался, что в шесть лет впервые испытал эрекцию, «и это доставило мне большое наслаждение», а полное ощущение полового наслаждения испытал в постели там же, на даче в Медведкове, когда ему было десять. Не стыдился онанизма, как позже и третьей гонореи, каких-то тайных «походов на нимфоманку». Уж не с него ли и началась сумасшедшая, просто бесстыдная откровенность поэзии этого грешного Серебряного века? Я говорю не о формуле Ахматовой: «Это недостаточно бесстыдно, чтобы быть поэзией». Я говорю о действительно бесстыдной, так называемой уретральной эротике Брюсова: «Когда ты сядешь на горшок, // Мечты моей царица, // Я жажду быть у милых ног, // Чтоб верить и молиться. // И после к мокрым волоскам // Я, прижимая губы…» Ну – и так далее… Конечно, эпатаж, почти патология, но ведь и – вызов. Хотя с ним всё опять было хуже: он не просто не стыдился – гордился чудовищными, иной раз – дикими поступками. Однажды, например, когда младший брат его, умирая от опухоли мозга, не мог уже говорить, Брюсов вызвался помочь няньке растереть больного. «Но вместо того, – вспоминал, – я стал всячески жать, коверкать ему руки, стараясь причинить ему большую боль. Он вырывался, он стонал, но я упорствовал. Тогда из уст его, давно уже не произносивших ни одного осмысленного звука, вдруг вырвались слова: “Лучше ты”. То есть он хотел сказать: “Растирай меня лучше ты, няня, а не этот”…» Жутковатое признание! Так что тигр не тигр, но зверского в нем было многовато. Недаром женщина, которую он будет любить потом семь лет, которая, наставив ему в грудь револьвер, спустит однажды курок, назовет его «зверком». А потом – и «зверем»…
В гимназии Креймана (Москва, ул. Петровка, 25), где ныне какой-то музейный центр Церетели, он, увлекшись математикой, освоит Лейбница (сверх программы будет учить дифференциалы, теорию чисел, аналитическую геометрию), возьмется за Канта и Спинозу. Тут станет выпускать рукописный журнал «Начало» и начнет писать сразу три вещи: поэму «Корсар», трагедию в стихах «Миньона» и какой-то длиннющий роман. Однокашников, которые дразнили его «купцом» (и колотили, представьте, по шесть раз на дню), будет «завоевывать» так, как иные интеллектуалы завоевывали потом в тюрьмах уважение уголовников, – пересказами романов Жюль Верна, Майн Рида, Дюма. Сначала ему внимали два одноклассника, потом три, а позже уши развешивал уже весь класс, а сам он к этим байкам готовился едва ли не тщательней, чем к урокам. Впрочем, его презрения к ровесникам это только прибавит. Да, они умели плеваться дальше всех и материться, но не слышали ни о каналах на Марсе, ни о строении кристаллов, ни уж, тем паче, – о Добролюбове. Не учеба – пытка, хотя именно он устраивал позже «у Креймана» и литературные вечера, где был заводилой, и спектакли (после которых вынужден был со всеми выпивать). И здесь же в рукописном журнале опубликовал однажды статью «Народ и свобода», за которую, как приврет позже, и был исключен. Разным, короче, был. В дневнике подстегивал себя: «За работу, жизнь не ждет!», а в жизни часы проводил за картами: играл в рамс, в стукалку, в винт, в банчок (преферансу научили «продвинутые» родители, когда брали его третьим). И, как пишут, не умел смеяться. Заметил это гимназист Станюкович – племянник писателя-мариниста. «Улыбка, – вспоминал, – его не красила, а искажала… Когда его заражала волна смеха, он мучительно тряс головой, зубы оскаливались. Охватив руками колено, он раскачивался, захлебывался, словно задыхался…» Как тут не вспомнить Достоевского: он, кажется, говорил, что о человеке вполне можно судить по тому, как он смеется. Но зато когда Брюсова на перемене у окна второго этажа (я еще пытался угадать – у какого?) некий Кормилицын, сын вологодского губернатора, вдруг спросит: «А что ты после думаешь делать: поступить на частную или коронную службу?» – изумленный Брюсов чуть не вывалится на улицу. Он, грезивший о лаврах Коперника или Колумба, и – чиновник… Да вы с ума сошли, Кормилицын!
Мечтал, мечтал о подвигах. А его сначала оставят на второй год (чем он тоже будет гордиться), а позже, по неясным причинам, вообще исключат из гимназии. Конечно, у Креймана он научится прикрывать робость и неуверенность наглостью и развязностью, но утверждать, что его исключили за рукописную статью с критикой общественных явлений, – это, кажется, перебор. Причина была в другом: в женщинах, в «феях» бульварных, может быть, самом притягательном «предмете» для усатенького уже гимназиста.
Он сам проболтается: «Мне было лет 12–13, когда я узнал “продажную любовь” и заглянул в область кафе-шантанов и “веселых домов”». И проговорится: тогда и посыпались и двойки, и даже единицы. Но вот как совмещались в нем и походы на бульвар, и фраза, которую скоро напишет в дневнике: «Если можешь, иди впереди века; если не можешь, иди с веком, но никогда не будь позади века, хотя бы даже он шел назад»?..
«Вождем буду я…»
Он рос напротив цирка на Цветном. Именно здесь – ему не исполнилось и шести – дед купил детям и внукам двухэтажный дом (Москва, Цветной бул., 22). Брюсов проживет в нем тридцать два года.
«Помнится белый домик, синий номер: “дом Брюсовых”», – вспоминал Андрей Белый. Ныне – остался фасад, да и то измененный. И давно не белый.
«Дом был купеческий, – писал Бунин, – с высокими и запертыми на замок воротами, с собакой на цепи». «В калитку стучат кольцом, – вспоминала Зинаида Гиппиус. – Внутри – маленькие комнатки жарко натоплены, но с полу дует… Какие-то салфеточки вязаные, кисейные занавесочки». Были кафельная печь, венские стулья и почерневшие картины в рамах. А Станюкович, кого я поминал уже, запомнит дом иначе: он был, напишет, «неряшливый, как всё кругом, словно невыспавшийся, неумытый». Особо поразили его простые железные кровати и «необыкновенно резкий и острый запах», вероятно, от товаров, которые были под квартирой Брюсовых. Такой запах был в пробочном лабазе Брюсовых в Китай-городе. «Я ужасался – как могут они… жить в таком омуте». «Омут», «содом», даже «зона» – эти слова Станюковича относились даже не к дому – к Драчёвке, району, где он стоял.
Из воспоминаний Вл.Станюковича: «Днем по переулкам было ходить неловко. Они были молчаливы; странные, нарочито расписанные яркими цветами двери были закрыты, над ними покачивались фонари с красными стеклами. Но спускался вечер, и снизу, с Цветного бульвара, вливались в переулки звуки шарманок, оркестров, звонки каруселей. И чем гуще становилась тьма, тем многоголовее, шумнее, крикливее становился людской поток. Навстречу ему из темных ворот, из подвалов, из черных зловонных нор выползали сиплые, опухшие женщины. Они ссорились, ругались, хватали за рукава проходящих, предлагая за гроши свое дряблое тело…»
«Зона», конечно! Волошин, заезжавший к Брюсову, напишет: район «кишмя кишел кабаками, вертепами, притонами и публичными домами… Этот квартал… весь проникнут запахами сифилиса, вина, проституток, – и добавит: – Вся юность Брюсова прошла перед дверьми публичного дома…» Неудивительно, что Брюсов днем, сначала в гимназии Креймана, а потом в знаменитой Поливановской гимназии (Москва, ул. Пречистенка, 32) оставался как бы мальчиком, а вечером, когда воображение гнало его на бульвар, где женщины, «тени манящие», ходили толпами, превращался в даже себе незнакомого, видавшего виды взрослого. В «дэнди», в Уайльда с карманами, полными отцовских монет. Вот на бульваре, набравшись смелости, он и подвалил как-то к фланирующей девице. «Она повела меня в № гостиницы. Я – очень грубо и угловато, конечно, – разыгрывал из себя опытного человека… Заглянул за перегородку, где стояла кровать, и сказал: “А! Обыкновенное устройство”. Мы выпили с девушкой бутылку портвейна. Потом, заплатив ей 2 рубля, я ушел… На большее… еще не решался». Решится через несколько дней, когда, пройдя бульвар, может, «сорок раз», скажет очередной «тени»: «Пойдемте со мной!» Она остановится и спросит: «Куда?» Он скажет: «Вы знаете куда». – «Нет, не знаю». – «Ну, вот, в гостиницу…» Короче, она пошла, вела себя как важная дама, то есть «раздевалась за перегородкой», и Брюсов дал ей уже семь рублей, хотя разочарован был до глубины души. Запомнил: под утро мать причитала: «Ах, Валя! Валя!», а отец даже написал письмо, где «нарисовал» ему «последствия» этого, из-за чего сын долго дрожал, ожидая шанкров и язв.
Вообще развязным себя не считал, просто боялся «поступить не так, как следует». «Я вечно стыдился самого себя, особенно же в обществе… Быть в гостях, особенно у новых лиц, было мучением…» Но это – среди знакомых. А на бульваре – кого ж стыдиться? Так что каким он был, знал лишь он да, пожалуй, дневник. Не тогда ли и родилась его раздвоенность между жизнью и книгами, семьей и улицей, реалиями и мечтой, и главное – между лицом и маской? Не тогда ли начался этот «театр» – его недетская игра в жизнь?
Здание частной гимназии Л.И.Поливанова, может, лучшей тогда в Москве, где учились дети самого Толстого и где ныне музыкальная школа, сохранилось до деталей: до знаменитой чугунной лестницы, до лепнины и зеркального паркета. Тут Брюсов уже не упускал первенства: занимался дифференциалами, вычислял квадратуру круга, доказывал Птолемееву теорему, здесь не только в подлиннике читал Спинозу, но и написал комментарий к его сочинениям. А кроме того, изучал историю архитектуры, посещал общество археологов, бегал на выставки, в театр на Сару Бернар и постоянно покупал на Сухаревке книги: Лермонтова, Оссиана, Нибелунгов. Но когда однажды он, «революционер класса», «первач», не смог справиться с каким-то латинским экспромтом и услышал от учителя: «У вас замечается недостаточность умственного развития», то несколько недель дулся на весь мир. Наконец, здесь начал печататься в газетах. Не стихи тискал – заметки о спорте. Ему было шестнадцать, когда, вслед за отцом, он увлекся конными скачками и что ни вечер стал пропадать на ипподроме. Отец и приучил его к скакунам, азарту, жокеям (он прикупал лошадей и одно время держал даже конюшню). Но цепкий сын тогда же стал выпускать рукописный журнал о скачках, писать стихи о забегах и скоро не только знал наездников, маклеров и лошадей, но вывел… математическую формулу бега скакунов. Вот о скачках и написал в «Русский спорт» заметку «Несколько слов о тотализаторе». Потом, уже в «Листке спорта», опубликует еще одну – «Немного математики». Как раз про «формулу». А когда никто не заметил его «открытия», сам же, но под другим именем напишет возражение и пошлет в издание конкурентов. «Пиарщик»! Это ведь был первый «самопиар». Заметку остановит Гиляровский, который грудью встанет против такой «полемики». Что ж, Брюсов подружится и с ним и через несколько лет частенько будет сиживать на каком-то «диване-вагоне», который стоял в квартире знаменитого репортера (Москва, Столешников пер., 9) и где сиживали Лев Толстой, Чехов, Горький. Да и с Толстым успеет поскандалить, о чем я расскажу еще.
Всё вымерить, продумать, рассчитать – эта черта станет главной. В девятнадцать лет, еще старшеклассником, запишет решающую фразу: «Вождем буду я! Да, Я!» Именно так: «Я» – с прописной буквы. Слова эти часто цитируют, но не приводят всего контекста: всей той «любви» Брюсова, которая бурно развивалась в это время и которая закончилась, увы, смертью избранницы. У него всегда будет так: и слава, и женщины, и… смерти. «Когда я пишу “Помпея”, – занесет в дневник, – мне грезится сцена, с которой я раскланиваюсь, крики “автора, автора!”, аплодисменты, цветы, зрительный зал, полный зрителей, и среди них… головка Вари, с полными слез глазами…»
Варя – это младшая сестра в семье Красковых, девочка, которая в него влюбилась. Семья Красковых, где были две дочери, устраивала нечто вроде салона. И там-то, кружа голову Варе, он, в темноте спиритических сеансов, начнет усиленно обольщать старшую сестру – Елену. «Моя детская мечта – соблазнить девушку – воскресла с удесятеренной силой… Я желал свидеться не на улице, а в комнате, в гостинице. Нина согласилась…» «Нина» – это в будущей повести Брюсова, а в жизни ее звали Еленой, он станет называть ее – Лёля. Она была невестой уже взрослого человека, и Брюсов, соблазняя ее, при всех ухаживал, «прикрывался» Верочкой. «Это, – пишет в дневнике, – отчасти подлость». В повести у него всё будет «обставлено» и прилично, и «красиво», а в дневнике (его без купюр опубликовал ныне профессор МГУ Н.Богомолов) «любовь» к Лёле – двадцатипятилетней Елене Андреевне – описана «без прикрас».
Из «Дневника» Валерия Брюсова за 1893 год: «14 марта. Люблю ли я ее? Да! Да! Да! Я в первый раз встретил если не равный ум, то равную мысль… Но осторожнее… Поцелуи – вот твой предел… 18 марта. Вчера зашел за границы. Щупал… за ноги до колен и выше… Нет! это слишком… 24 марта. Что делали и описать трудно. Только ради моего благоразумия не еб-сь. Лежали друг на друге… задирал юбку выше колен. 22 апреля. В отношениях запутался донельзя… На свидании я напился пьян как стелька, так, что меня рвало… Вспоминаю, что я говорил ей о женитьбе… Ласки и слова Е.А. меня приводят в ужас. Ведь я вижу фальшь и лицемерье… 23 апреля. С сегодняшнего дня – Лёля – моя… Сперва вышло дело дрянь. Я так устал, в борьбе с ней спустил раз 5 в штаны, так что еле-еле кончил потом, но это ничего. Мы оба разыграли комедию хорошо. Делали вид, что очарованы. В общем, я просил ее быть мне женой… она согласилась… 5 мая. Наконец я могу писать, владея собой. Мечты сбываются… Девушка шепчет мне “люблю” и отдается мне; стихи мои будут напечатаны. Чего еще? Сейчас я счастлив, но… Играю страшную игру, лгу всем, лгу себе… 12 мая. Лёля больна… если она умрет… как сказать? Жаль, очень жаль будет. Я всё же отчасти люблю ее… Но если она умрет, разрубится запутывающийся узел, распутается красиво… и с честью для меня. О! Каково будет мое отчаяние. Я буду плакать, я буду искать случая самоубийства, буду сидеть неподвижно целые дни!.. А сколько элегий!.. О!.. 20 мая. Умерла! Умерла! Умерла! И кто виноват? Ты!.. Ради тебя она простудилась, из-за тебя заразилась корью… и разве твои фразы “пусть умрет” – не имели силы? Ты – ее убийца! Ты!..»
Вот кусок жизни, меньше трех месяцев! Лёля умерла, сгорела в две недели не от кори – от оспы, но простудилась, бегая к нему на свидания, и перед смертью была убеждена: умирает из-за него. А он как раз между записями, между словами: «Щупал ее за ноги… Хватать ее за груди для меня уже шутки», и написал те слова о «вождизме». «Талант, – написал, – даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало… Надо выбрать иное… Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство и спиритизм. Да! Что ни говорить, ложны ли они, смешны ли, но они идут вперед, развиваются, и будущее будет принадлежать им, особенно если они найдут достойного вождя. А этим вождем буду я! Да, Я!..»
Через две недели после смерти Лёли, разыграв, как и хотел, и безутешное горе, и чуть ли не самоубийство, в дневнике запишет: «Пишу роман из моей жизни с Лёлей. Начинает он сбиваться на “Героя нашего времени”, но это только хорошо…» Забегая вперед, скажу: у Брюсова будет «любовь» с великой Комиссаржевской. Будет кружить ей голову, навещать ее, когда она, наезжая из Петербурга, останавливалась и подолгу жила у брата (Москва, Большой Гнездниковский пер., 9). Из-за него застрелится одна юная поэтесса, а другая, та, которую он любил семь лет, покончит с собой: откроет газ в Париже. Но именно в школьные годы сообразит: любовь – это ведь будущие стихи. «Какое мне дело до… любви, – запишет еще гимназистом, – если я знаю счастье вдвоем со своею тетрадкой, среди рифм и звуков?» Эту «эксплуатацию чувств» заметит в нем позже и Ходасевич, поэт. «По Брюсову, – скажет, – жизнь состояла из “мигов”, то есть из непрерывного калейдоскопа событий. Дело поэта – “брать” эти миги и “губить” их, переживать с предельной остротой. Чем больше мигов пережито, тем лучше…» А Зинаида Гиппиус, я опять забегаю вперед, напишет: «Любил ли он женщин? Нет, конечно. Чем он мог любить? Всесъедающая страсть делала из женщин, из вина, из карт, из работы, из стихов, даже собственных, – только ряд средств, средств, средств». Она пишет – средств «к честолюбию». Я скажу – к памятнику…
«Средством» к памятнику станет даже жена Брюсова – девушка с волшебным именем Иоанна. Гувернантка в доме Брюсовых. Просто устав от бульварных «приключений», разрываясь между гимназией, стихами, борьбой с родителями за право приходить под утро, он, педант и «системщик», как сказали бы ныне, найдет вдруг покой, что называется, под боком. Сначала в объятиях Анюты, двадцатипятилетней глупенькой гувернантки, которая его, пятнадцатилетнего подростка (но уже с усиками и в визитке) принимала за взрослого мужчину. Потом в объятиях второй гувернантки – Евгении Павловской, взятой в дом к его младшим сестрам (он звал ее Змейкой), которая не только писала стихи, но которая, тая от любви к нему («мое своенравное солнце» – звала его в письмах), умрет в двадцать два года от туберкулеза и, как Лёля, с его именем на устах. И, наконец, в объятиях Иоанны, которая из третьей гувернантки-любовницы превратится в жену. Чего там! Удобно. И никаких отелей и бульваров в снегу.
Выстрел в Политехническом
Но сначала – сначала пожалте в театр! Билетов не надо! В тот МХТ их не купить уже сто десять лет. Да на премьеру, да на «Вишневый сад». Но и пьеса, и премьера были! Сотни свидетельств тому. Статьи, рецензии, десятки мемуаров и даже один художественный и доныне загадочный роман.
В тот зимний вечер 1904 года к подъезду МХАТа, тогда МХТ, съехалась вся Москва. В фойе томно-напудренные мужчины с тенями под глазами и дамы, вчера еще тяжелые, как куклы, а ныне – словно рюмочки. И среди говорливых волн – двое явно влюбленных. Золотоволосый, синеглазый юноша и рядом – щуплая брюнетка, «ящерка юркая». Поэт и беллетристка. Но здесь, на премьере, они и увидят третьего, тоже поэта, того, в кого влюбится «ящерка» и с кем не только будет соперничать синеглазый, но едва не встанет к барьеру. Эта встреча, этот треугольник и станет началом того знаменитого романа Серебряного века, где все трое получат странные имена: Генрих, Рената и Рупрехт. Причем Генрих, золотоволосый, станет олицетворением тьмы, Рупрехт – демонизма, а Рената – ведьмой, мечущейся от света – к мраку…
Роман этот – «Огненный ангел». Генрих – Андрей Белый, Рената – поэтесса Нина Петровская, а Рупрехт – Валерий Брюсов, и автор романа, и – герой его. Вышедший в 1908-м, роман станет не менее знаменитым, чем премьера в МХТ; его не только переведут на многие языки, но в 1927-м, при советской власти уже, сам Прокофьев напишет оперу на его сюжет.
Нина Петровская, Рената, вспомнит потом о театральной премьере. Начнет восторженно: «Мы поехали вдвоем. Ощущение огромного личного счастья преображало всё; всё казалось значительным, необычайным, полным нового прекрасного смысла. Крупными горящими звездочками кружились снежинки вокруг фонарей… Милой, какой-то родной казалась спина у извозчика… В фойе – настоящий праздник искусства: вся литературная и артистическая Москва…» И она – с любимым. С Андреем Белым, кого нарекла уже «новым Христом». Но, когда в антракте заметит вдруг на лице Белого неподдельный ужас – закончит рассказ не без тревоги.
– Смотрите! Видите? – разволновался вдруг синеглазый. – Напротив, в ложе бенуара. Он! Он смотрит! Ах, как это плохо, плохо, плохо!
– Он? Кто?
– Валерий Брюсов!
«Действительно, – заканчивает Петровская, – напротив, около самого барьера ложи, опустив вниз руку с биноклем, на нас пристально смотрел Брюсов. Точно сквозняком откуда-то подуло. Не знаю почему, но сердце сжалось предчувствием близкого горя… В этот вечер неясно для меня Брюсов незримо вошел в мою жизнь, чтобы остаться в ней вечно…»
Брюсов про 1904-й вспоминал иначе: «Для меня это был год бури, водоворота. Никогда не переживал я таких страстей, таких мучительств, таких радостей…» Он был уже самым известным в России поэтом. Может, первым уже. А кроме того, был основателем школы, просветителем, переводчиком, учителем и мэтром, редактором, издателем, автором статей, исследований, пьес. Его можно было видеть иногда в одно и то же время (он же – маг!) на обеде у архитектора Шехтеля в его особняке (Москва, ул. Большая Садовая, 4) и на «телешовских средах» (Москва, Чистопрудный бул., 21), на «понедельниках» Леонида Андреева (Москва, Средн. Тишинский пер., 5/7) и у профессора М.Сперанского, где собирались филологи-слависты (Москва, Грибоедовский пер., 6). Он бывал у знаменитых Станиславского (Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 34) и Чехова, который умрет через полгода после премьеры (Москва, ул. Малая Дмитровка, 29). А неименитых пока, юного, например, Блока, в упор не замечал и даже вынес приговор: «Он – не поэт». К счастью, Блок этого не узнает и на первой книге, подаренной Брюсову, почтительно напишет: «Законодателю русского стиха, Кормщику в темном плаще, Путеводной зеленой звезде».
Как только не называли его братья-писатели! Маг, чародей, мастер, звездочет, инквизитор, маньяк, демон. Будто и впрямь верили: он, на вид приказчик со Сретенки, чуть ли не ежедневно «ходит» туда и обратно в загробный мир, ворожит в звездных эмпиреях и оккультно шаманит по ночам. Но когда через двадцать лет – 12 октября 1924 года – в Союзе писателей СССР те же литераторы вдруг потерянно столпятся у гроба «шамана», то, как напишет Чулков, «никакого следа темных страстей» в простом и тихом лице усопшего не заметят. «Демонизм Брюсова, – не без разочарования закончит Чулков, – был не более как литературная маска…» И не маг, и не чародей. Разве что маньяк. И уж, конечно, инквизитор!
История всесветной славы Брюсова началась лет за десять до встречи с Ниной, до премьеры. Но началась «премьерами», похожими на скандалы, и скандалами, притворяющимися премьерами. Одни «бледные ноги» чего стоят! В гимназии поклялся стать вождем декаданса, в университете – стал им, выпустил три сборника «Символисты». В последнем и напечатал стих, который – как утверждал на пари! – будут знать даже те, кто вообще не читает стихов. И ведь выиграл! Этот стих из одной строки: «О! Закрой свои бледные ноги!» – будет знать каждая гимназистка. Какие ноги? почему – бледные? кто их должен закрыть? Десятки, если не сотни заметок и пародий появятся в прессе. Вл.Соловьев, едва ли не самый строгий критик, острил, что ноги, разумеется, надо закрывать, «иначе простудишься», и предположил, что автору, наверное, четырнадцать лет, а если больше, то «всякие литературные надежды неуместны». Даже нынешняя исследовательница Евгения Иванова пишет: именно эта строчка «покрыла автора немеркнущей славой». А Василий Розанов, мудрец, увидел в ней «философию нового искусства». Но двери журналов почти на пять лет захлопнутся перед Брюсовым. Сам он не раз будет объяснять смысл своей главной «строки». Одним – смеясь и издеваясь, другим – как поэту Вяч.Иванову – серьезно, впаривая, что имел в виду лишь обращение к распятию: «Католические такие бывают “раскрашенные”». Впрочем, и это опровергнет. Скажет, что подражал древним римлянам, у которых были стихи в одну строку, что это попытка лишь вызвать нужное настроение, наконец, что это – поэтический эксперимент и прочее штукарство. «Мне вообще, – скажет одному юному поэту, – представляется и такая, например, поэма – белый лист бумаги и в центре одно слово: “Солнце!..” И больше ничего».
Эпатаж, стеб, игра… Впрочем, и «бледные ноги» не важны – важно, что Брюсов, плюнув на журналы, закрывшиеся для него, почти сразу выпустил книгу стихов с названием «Шедевры», а за ней – еще две. Шум вокруг его имени – учетверился. Родная тетка разругала его за эти сборники, но он и ей вдруг ответил, что в отличие от нее никогда не знал, что такое хорошие и плохие поступки: «Никогда не испытывал я того, что называют голосом совести, и заставлял людей плакать столь же спокойно, как радовал их…» А в дневнике в те же дни самодовольно вывел: «Так тигр прикрывает глаза, чтобы вернее следить за жертвой… Я иду. Трубы смолкните…» Он ведь с младенчества, помните, мечтал быть тигром…
Тигр рыкнет даже на льва – на Льва Толстого. Тоже «жертва» его. Дело в том, что Брюсов, еще студентом, опубликовал как-то статью об искусстве. И вдруг в январе 1898 года Толстой печатает собственную статью, в которой наш «декадент» узнает свои мысли. Плагиат! Кошмар! Классик обокрал студента! Сотни других писателей и покрупнее его промолчали бы. Но – не он. Он садится и пишет протест в газеты. К счастью, не отправляет его, но самому Толстому некий «реприманд» отсылает.
Из письма Брюсова – Льву Толстому: «Граф!.. Меня не удивило, что Вы не упомянули моего имени в длинном списке Ваших предшественников, потому что я должен был занять в этом списке первое место, потому что мои взгляды почти буквально совпадают с Вашими. Я изложил эти свои взгляды… в предисловии к 1 изданию моей книжки… Мне не хотелось бы, чтобы этот факт оставался неизвестен читателям Вашей статьи. Вам легко поправить свою невольную ошибку, сделавши примечание… или, наконец, особым письмом в газетах…»
Прикиньте: Толстой, светоч, оплот морали, конечно, не сможет не признаться в воровстве – явном! – и публично в печати извинится перед ним, мальчишкой! Тоже ведь «пиар»! Но, увы, на конверте его письма, как установят позже, Толстой красным карандашом напишет всего две буквы: «Б.О.» – «Без ответа». Впрочем, и Брюсов не был бы Брюсовым, если бы спустил классику молчание. Невероятно, но позже, в брошюре «О искусстве», он отыграется на старике и историю эту – про классика, «обокравшего» талантливого юношу, – прозрачно изложит. Это он-то, кого самого не раз будут ловить на плагиате! Уже в 1908-м (Толстой, кстати, жив еще) журнал «Раннее утро» взял на себя труд «разобрать» «Романтическую поэму», которую Брюсов «благоговейно» посвятил памяти Василия Жуковского. По мнению журнала, она не только «являет из себя полное ничтожество в художественном смысле», но и кишит заимствованиями из Пушкина, Лермонтова, гр. Ростопчиной. У Пушкина, пишет критик, в «Полтаве»: «И много у него добра, мехов, атласа, серебра…» У Брюсова: «И много у него добра, мехов, коней и серебра…» У гр. Ростопчиной: «Всё непокорна, не верна моя прекрасная жена…» У Брюсова: «Ему покорна и верна его прекрасная жена». У Лермонтова: «Хранит века, как ценный клад…» У Брюсова – «Хранит века, как ценный клад…» Это не всё, пишет журнал: «Если свое списывание “поэт” может объяснить своим знаменитым: “Устал я быть Валерий Брюсов”, то чем он объяснит всю бесцветную конструкцию пьесы?..»
Все эти громы и молнии сверкали на Цветном. Стены, думаю, помнят их. Сюда «здоровый и веселый» Брюсов приведет как-то Бальмонта, самого известного тогда поэта. Вечер закончится попойкой, «бродили с ним пьяные по улицам до… утра и клялись в любви». Они дружили – Бальмонт и Брюсов, я уже писал об этом, но дружбой – странноватой. Встречались поиграть «рапирами слов и кинжалами понятий», «блеснуть, проблистать, переблистать». Ходили к Белому и Михаилу Соловьеву, те жили в одном доме (Москва, Арбат, 55), к старику Бартеневу, редактору «Русского архива», где Брюсов одно время работал (Москва, Арбат, 16), к Балтрушайтису. Дружили, но чаще будут вспоминать дружбу как вражду. Ведь, помните, Брюсов даст Бальмонту как-то увесистую пощечину, а через какое-то время, провожая того в Мексику, вдруг встанет с бокалом и, побледнев, крикнет: «Пью, чтобы корабль Бальмонта пошел ко дну!..» Такая вот – дружба…
Вообще Брюсова не любили. Бунин напишет о первой встрече: «Я увидел молодого человека, с довольно толстой и тугой гостинодворческой… физиономией. Говорил… изысканно и высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и всё время… тоном поучительным». «Нелюбовь окружала его стеной», – дополнит Борис Зайцев, принимавший его и не раз в своем доме (Москва, Гранатный пер., 2/9). И допишет: «Его боялись… и ненавидели. Льстецы сравнивали с Данте… Смесь таланта с безвкусием, железной усидчивости с грубым разгулом… Тяжкий, нерадостный человек». А Ходасевич скажет наособицу: Брюсов сам «не любил людей, потому что, прежде всего, не уважал их». Все трое (Бунин, Зайцев и Ходасевич) бывали на Цветном. А кроме них на брюсовские «среды» наезжали из Петербурга Вяч.Иванов, Мережковские, Блок, Коневской (Ореус, может, самый близкий Брюсову поэт, увы, рано погибший), забегал по-соседски поэт Виктор Гофман (он жил через дом от Брюсова) и по-родственному – поэт Муни (Самуил Киссин), который позже женится на сестре Брюсова – Лидии. Оба – и Гофман, и Киссин – один за другим вскоре покончат с собой.
«Небольшой кабинет, – запомнит Ходасевич, – был заставлен книжными полками». Книг, на кои Брюсов едва не молился, было ровно 4783 – на греческом, английском, французском, итальянском, испанском, немецком, чешском (Брюсов знал семь языков), и пометки в каждой делались на том языке, на каком была книга. На столе он, не куривший еще, держал спички, но металлическую спичечницу привязывал на веревочку. «Декадент-приказчик», – издевались над ним. Он же, словно мстя, выдумал свою манеру здороваться: протягивал человеку руку и, когда ладони должны были соприкоснуться, стремительно отдергивал свою, собирал пальцы в кулак у правого плеча, а сам, «чуть-чуть скаля зубы», впивался глазами в повисшую руку гостя. Пожатие, конечно, совершалось, но жест рождал у гостя тягостную неловкость. А еще, острил Ходасевич, вечерами в семье играли в преферанс «по маленькой», а по воскресеньям «пекли морковный пирог». Соль остроты понятна: уж если ты маг, то зачем пироги? Словно он должен был глотать молнии. И над всем в доме царила жена Брюсова, Иоанна Рунт, или Жанна, «необыкновенно обыкновенная», по ядовитой реплике Гиппиус. Брюсов, впрочем, подражая Баратынскому, что ли, звал ее красиво – Эдда!..
Она была третьей по счету гувернанткой у Брюсовых, но стала первой и на всю жизнь – женой. Сошлись в полгода. Помогла Секлетинья, нянька в доме Брюсовых: неся кринку с молоком, накрыла ее какими-то бумагами, которые оказалась стихами. Это заметила Иоанна, отняла автографы, стала читать их… и за этим, увлекательным, разумеется, занятием ее и застал поэт. Как тут было не влюбиться? Для первых встреч снимали номер в гостинице «Тулон» (Москва, ул. Большая Дмитровка, 10). Впрочем, могли через полгода и разойтись, если бы Жанна не кинулась топиться в Останкинском пруду. Вроде бы спас ее Брюсов. Может, потому и женился – сам на такое способен не был.
Из «Дневника» Валерия Брюсова за 1897 год: «Почему я решаюсь жениться? 1. Жизнь моя стала невыносимой. Одиночество томило, давило… 2. По характеру я склонен к семейной жизни… 3. Расходов будет не больше… Что хорошего я нашел в Эдде? 1. Она молода и недурна. В ее лице есть нечто оригинальное… 2. Она не русская (а это очень важно). Она католичка… Даже австрийская подданная… 3. Она образованна и притом в стиле французских монастырей (что очень мило). 4. Она покорна, неприхотлива и немножко любит меня (я об этом позабочусь)… 5. Венчаться решено – потихоньку… Жанна – Эдда – Агата – Милая! Я люблю тебя и небо, только небо и тебя…»
После этого почти «лошадиного» пересчета достоинств как-то диковато звучит «люблю», не так ли? Впрочем, не стыдясь, как и раньше, «стыдного», он прямо напишет другу: брак его – «по расчету». Не в деньгах дело – Жанна, дочь литейного мастера с завода Бромлей, была, кажется, бедна как мышь. Расчет в другом: она создаст ему условия для труда, для тех двух строчек в истории литературы, ради которых будет жить. Сохранилось его письмо к другу про невесту: «Она догматична, наивна… Далеко не красива и не слишком молода… Да, этот брак не будет… идеальным союзом. Избранница, которая была бы равна мне по таланту, по силе мысли, по знаниям… – это прекрасно… Мне случалось проводить ночи с женщиной, которая рифмовала не хуже меня, и на постели мы вперегонки слагали строфы шуточных поэм… Но ни одну из таких я не желал бы иметь подругой… Я предпочитаю, чтобы со мной было дитя, которое мне верит. Мне нужен мир, келья для моей работы… Видите, что это брак почти “по расчету”…»
Жена будет восхищаться им всю жизнь: «Быстрота ума, быстрота во всем – в ответах, в решениях, в движениях, в работе, в чтении книг… Мне его ум, – напишет она, – всегда представлялся каким-то клокотанием, пыланием – неустанно действующим вулканом». А он даже измены свои не особо будет скрывать. В донжуанском списке его, среди пятнадцати женских имен, где одних Елен было четыре, рядом с именем жены он педантично поставит и имя младшей сестры ее. В скобках напишет – «Моя Мари»… И будет садистски играть с обеими. Еще недавно он, взяв жену в свадебное путешествие в Петербург, гордо водил ее по друзьям. Навестили Федора Сологуба (С.-Петербург, Щербаков пер., 7), Владимира Гиппиуса (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 116), «русского Ницше» Василия Розанова (С.-Петербург, ул. Мончегорская, 2). Сводил жену и к Дягилеву (С.-Петербург, Литейный пр., 45), еще чиновнику дирекции императорских театров, но уже придумавшему легендарный журнал «Мир искусства». Не поездка, напишет, – сплошное «блаженство». Но через два года, приехав в столицу в очередной раз, целый месяц будет «дразнить» жену, писать ей, что госпожа Минская-Вилькина, поэтесса, «полтора часа меня соблазняла… продолжает соблазнять… прельщать… опять соблазняла». И тогда же, но в письме уже к Мари, просит ее успокоить сестру, то есть – жену: «Уверьте ее, что я ее очень люблю. Я описывал ей, как ухаживал за Минской. Это было забавой. Я, например, не сказал бы ей о том вечере на берегу озера, о том, как всегда мне хочется вас ласкать, – потому, что в этом есть измена. А во всех ухаживаниях за Минской нет…» Впрочем, обманул и Мари, ибо имя Минской тоже внесет в донжуанский список. Поместит его в разделе «Серьезное» (серьезное чувство). Это с ней в ее палаццо с видом на Неву (С.-Петербург, Английская наб., 62) он, кажется, и сочинял «вперегонки» стихи. А вообще весь донжуанский список поделит на разделы: «я ухаживал», «меня любили», «не любя, были близки», «мне казалось, что я люблю» и, наконец, – «я люблю». Так вот, в последнем разделе («я люблю») значилась не Жанна, Мари или Минская – Нина. В этом разделе вообще одно имя – Нина Петровская. Та, с которой он будет семь лет, которая станет прообразом его Ренаты, наконец, та, которая вот-вот будет стрелять в него…
Роковая встреча. Встреча с «покорительницей поэтов». С вакханкой, истеричкой, алкоголичкой, наркоманкой. «Вся в черном, в черных шведских перчатках, с начесанными на виски черными волосами, – она была одного цвета». Но – «и в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи, – напишет Ходасевич, хорошо знавший ее, – во всем она доходила до конца, до предела…»
Нина была замужем за поэтом – за присяжным поверенным Сергеем Соколовым, «отшлифованным московским саврасом», чья книга стихов, подписанная псевдонимом «Кречетов», ничего, кроме «взрывов хохота», не вызвала. Жили на Знаменке, в доме, который, увы, не сохранился (Москва, ул. Знаменка, 20), но где было организованное Соколовым издательство «Гриф». Через издательство Нина познакомилась с Бальмонтом. А потом в ее жизни возник – «спас ее от Бальмонта» – золотоволосый Андрей Белый.
Из воспоминаний Андрея Белого: «Она была и добра, и чутка, и сердечна; но она была слишком отзывчива: и до преступности восприимчива… переживала припадки тоски до душевных корч, до навязчивых бредов… По природе правдивая, она лгала, как всякая истеричка; и, возводя поклеп на себя и другого, искренно верила в ложь… Она портила отношения; доводила людей до вызова их друг другом на дуэль; и ее же спасали перессоренные ею друзья, ставшие врагами… С ней годами возились… Бедная, бедная, – ее спасти уже нельзя было; не спасатели ей были нужны, а хороший психиатр…»
Роман с Белым Нина назовет «мистериальным», ибо он писал ей «безразмерные» письма, которые, как она скоро заметит, были отрывками из его «готовящихся к печати статей». Он же назовет роман с ней своим «падением», когда вместо братства и сестринства вдруг случилось «такое». То есть «постель». Вот чем он был ошарашен. А потом… А потом вы знаете уже – потом была та премьера «Вишневого сада», где она увидела Брюсова.
После премьеры пересечется с Брюсовым на спиритическом сеансе в новом доме своем, куда переедет с мужем (Москва, Большой Николопесковский пер., 13). А через пару дней – встретит его на Варварке, в конторе брата мужа. Брюсов, кого считала «недоступным», впервые сидел перед ней за чайным столом простой, добродушный, домашний – «ну просто невозможный». Короче, из конторы они вышли уже вдвоем.
«Стоял пронзительный лазурный сентябрь, – пишет Нина, – пахло яблоками из подвалов, на углу продавали последние астры с жесткими, словно жестяными, лепестками». Она, заговорив вообще о воспоминаниях, скажет как бы между прочим, что иногда они «бывают неизгладимыми». Брюсов, помахивающий тросточкой, замрет – а у вас есть такие? Да, есть, ответит. «А у меня пока нет, – скажет он. – Я тоже хотел бы пережить что-то особенное, неизгладимое, чтобы…» Он не докончит фразы. Ее позже, с запоздалой зоркостью, докончит Нина. Он хотел пережить нечто «любовное», чтобы написать «не вымышленный в кабинете, а подлинный образ Ренаты» в задуманном уже романе «Огненный ангел». В романе, который, верил, станет «эпохой в литературе». И, сквозь слезы смеясь над собой, Нина добавит: ведь любопытство его к ней, вначале «почти что научное, возрастало с каждым днем»… Может, и не только «научное»; ведь после первой встречи он, семь лет уже как женатый, вдруг пришлет ей огромную корзину белых лилий. Так начнутся свидания их. Сначала у Девичьего монастыря, потом в сугробном Петровском парке. Но чаще всего в «Метрополе», где и развернется, по ее словам, их «психодрама»…
Тут надо бы остановиться, ибо «Метрополь», только что отстроенная гостиница (Москва, Театральная пл., 1/4), – место для Брюсова знаковое. Ныне, если зайти в отель с тыльной стороны и подняться под крышу, вам, возможно, покажут те две комнатки, которые тогда звали центром читающей России – «горнилом декаданса», «пробир-палатой русской поэзии»! Тут поселилось тогда издательство «Скорпион», потом альманах «Северные цветы», а потом на долгие пять лет и журнал «Весы». И во всех трех затеях правил бал Брюсов, ставший вождем русской поэзии.
Из воспоминаний Андрея Белого: «Полки, книги, картины, статуэтки. И… в наглухо застегнутом сюртуке высокий, стройный брюнет, словно упругий лук, изогнутый стрелой… склонился над телефонной трубкой. Здоровое, насмешливо холодное лицо с черной заостренной бородкой – лицо, могущее быть бледным, как смерть, то подвижное, то изваянное из металла… – “Я к вашим услугам: у меня в распоряжении пять минут…” Он порою казался нам тигром, залегающим в камышах своего академизма, чтобы неожиданным прыжком выпрыгнуть оттуда и предстать в своем… подлинном виде: “черным магом”…»
«По вечерам, как только зажгутся знакомые окна, – вспоминала наезжавшая из Петербурга Гиппиус, – идем туда. Я смеюсь: ваша редакция – самый новый, самый культурный уголок. Конечно, новый – комнаты еще пахли штукатуркой. Всё солидно, всё блестит. Красивые вещи, книги, рисунки. Чай – в электрических, тогда редких, чайниках…» Вспоминали синие обои, большой турецкий диван, портрет Ницше, гипсовую нимфу на столе. А за папками, за макетами книг, прятались бутылки вина, стаканы, ветчина, сыр. Впрочем, иные пили тут коньяк, причем стаканами. Подражали героям романа Пшибышевского. Коньяк стаканами – фирменная «печать» символизма! Они просто не знали: переводчик романа, представьте, Владимир Высоцкий, ошибся и польские бокалы назвал в романе «стаканами». Впрочем, стихи звучали здесь и под коньяк. Бальмонта, Случевского, Фофанова, Сологуба, Балтрушайтиса. И самых молодых тогда – Белого, Гумилева, тех, кто поднимался под крышу не без дрожи в коленках.
Нина, «фарфоровая девочка» Брюсова, тоже стала бывать здесь. Писала рассказы, обзоры книг, которые подписывала мужским именем Останин. Но мало кто знал, что, когда все расходились, когда гасли окна, она с Брюсовым встречалась у главного подъезда «Метрополя». Шли в ресторан. У них был даже свой столик; их знали метрдотели, официанты, им привычно кивал дирижер оркестра в красном фраке. Сидели «угарно», до упора, пока не гасли люстры. И однажды ночью, велев ей закрыть глаза, он повел ее в дешевый отель «Россия», рядом, через площадь (Москва, Кузнецкий Мост, 7), где, усадив ее, «озябшую собачонку», в низкое плюшевое кресло с вытертыми подлокотниками, упал на колени и спросил: «Хотите, чтобы тут был наш дом?..» «Брюсов, – пишет она, – протянул мне бокал с… терпким вином, где как жемчужина… была растворена его душа, и сказал: “Пей”! Я выпила и отравилась на семь лет…»
В первых письмах к ней (а от их переписки сохранилось почти 700 страниц, ныне опубликованных) он называл ее «девочка моя», «огонечек мой», «маяк мой», «звездочка моя», «мой праздник», «мое всё». Писал: «Ты “настоящая”». В дневнике признавался: «Пришла любовь, о которой я только писал в стихах, но которой не знал никогда: пришла женщина, о которых я только читал в книгах… но не видал никогда». А после месяца, проведенного в Финляндии, где они злорадно утопят в озере ее переписку с Белым (до этого он, придравшись к пустяку, вызвал Белого на дуэль, которая, к счастью, не состоялась), Брюсов назовет Нину «пиком» своей жизни, с которого «видел оба океана: моей прошлой и моей будущей жизни». Правда, жене наврет, что поправляет здоровье, ходит по деревням, ночует в избах финнов и что после этого «начнет новую жизнь». Побаивался жену. Например, когда в Москве на какой-то лекции она нечаянно увидит его с Ниной, он, как напишет Иоанна, «по-детски испугается и бросится ко мне». «Весь вечер не отходил», – добавит.
Короче, узел завязывался крутой. «Во мне он нашел, – напишет Нина, – готовность швырнуть свое существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку религиозные идеи и чаяния… оторванность от быта и людей… душевную бездомность, жажду гибели и смерти, – словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства…» Встречались теперь в ее квартирке, не в знаменитом «доме с рыцарями», он построен позже, а в старом еще (Москва, Арбат, 35) – Нина к тому времени разъехалась с мужем. Но когда после очередной месячной разлуки Брюсов скажет Нине, измученной расставанием: «Мне некогда, я должен расставлять на полке книги», когда она, прождав его где-то на двадцатипятиградусном морозе, узнает, что у него роман и с поэтессой Любовью Столицей, из безалаберного дома которой он не вылезал (Москва, ул. Мясницкая, 24), а потом что он встречается и с Комиссаржевской, Нина поймет: она попала в «безвыходную западню». Любящий ведь беззащитней любимого. А Нина – любила. Может, потому и решилась на выстрел?..
Строго говоря, история «с выстрелом» ее в Брюсова темная, о ней пишут по-разному. Одних револьверов, подаренных Нине, я насчитал арсенал – чуть ли не пять штук. И Брюсов дарил, и бывший муж ее, и меценат Поляков, и некий Ланг (был такой поэт). А если говорить о версиях события в Малом зале Политехнического, то, прочитав всё о 14 апреля 1907 года, я вычленил, по крайней мере, четыре. Одни пишут, что Нина только «хотела выстрелить». Другие, что «у браунинга случилась осечка». Третьи настаивают, что револьвер был «на предохранителе». И наконец, четвертые, что Нина все-таки выстрелила, но – «в потолок». Расходятся мнения даже главных участников события – Белого и Брюсова, вчерашних соперников.
Белый рассказывал, что в антракте его лекции в зале Политехнического Нина навела револьвер сначала на него. «Я не шелохнулся. Я стоял на эстраде, раскинув руки, и ждал смерти. Но она не выстрелила, перевела револьвер на Брюсова. А он, как барс, – и откуда в нем такая ловкость? – прыгнул с эстрады и выхватил у нее револьвер. Она всё же успела выстрелить, но в потолок…»
Брюсов в одном из писем расскажет иначе: «На лекции подошла ко мне одна дама (имени не хочу называть), вынула из муфты браунинг, приставила мне к груди и спустила курок. Публики было мало, все разошлись… но всё же Гриф, Эллис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. Я, правду сказать, особого волнения не испытал: слишком всё произошло быстро. Но что интересно, – заканчивает Брюсов. – Когда позже сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выстрелил… исправно…»
Короче, так и осталось неясным: а был ли выстрел? Ясно одно: страсти бушевали страшные. Семь лет бушевали. Для него. А для Нины с того «лазурного сентября» – всю оставшуюся жизнь.
Расстанутся в Москве. Ходасевич, наблюдавший финал их «психодрамы», напишет: «По двое суток, без пищи и сна пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала… Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы… Тщетно прибегала к картам, потом к вину. Наконец, уже весной 1908 года, испробовала морфий. Затем сделала морфинистом Брюсова, и это была ее настоящая, хоть неосознанная месть…»
9 ноября 1911 года всё было кончено. С Белорусского вокзала Нина уезжала в Париж. Ходасевич, провожавший их, писал: «Нина сидела уже в купэ, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку… Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись… Нина и Брюсов знали, что расстаются навеки. Бутылку допили. Поезд тронулся…» А спустя пару часов Ходасевич, зайдя к Брюсову, к немалому удивлению, застал его спокойно играющим с матерью в карты…
Нина покончит с собой в 1928-м, через четыре года после смерти Брюсова. Откроет газовый рожок «в нищенском отеле нищенского квартала» (Париж, ул. Годефруа-Кавеньяк, 4). Бунин напишет: она искала смерти и, когда умерла ее сестра, «тыкала в нее булавки, а затем колола себя, чтобы заразиться трупным ядом. Но яд не брал ее…» Напишет, но сам на похороны в собор Св. Александра Невского (Париж, ул. Дарю, 12) не придет. Придет жалкая кучка соотечественников – меньше десятка. Будут вспоминать, что покойная в эмиграции писала сценарии за какую-то актрису, переводила, потом давала уроки. Перевела, кстати, «Приключения Пиноккио» – первоисточник «Золотого ключика». Алексей Толстой (этого ныне почти и не знают) лишь обработал ее перевод (Нина считала, что лишь испортил!) и, по врожденной наглости, имя ее в очередных изданиях даже не поминал. Сказки ведь творят одни, а рассказывают их потом – другие.
Потом… Потом для Нины наступит полная нищета. Она хваталась за любую работу: шила белье для солдат, работала посудомойкой, даже побиралась. Незадолго до смерти явится в Париже к Ходасевичу и Берберовой. «Теперь от нее пахло табаком и водкой, – напишет про нее Берберова. – С утра уходила пить вино, потом обходила врачей, умоляя прописать ей кодеин, который заменял наркотики. Я старалась заставить ее принять ванну, вымыть голову, выстирать свое белье и чулки, но она ни на что не была способна. Однажды ушла и не вернулась»…
Брюсова продолжала любить, без конца вспоминала, как они прожили когда-то шесть счастливых недель в парижской квартире (Париж, ул. Террассе, 15), как завалились однажды к самому Аполлинеру (Париж, ул. Бюси, 10), как ходили в «наш ресторан» на вокзале Сен-Лазар, а однажды сорвались в Жювизи смотреть на первые в мире полеты «фарманов». Вспоминала, как жила потом тут же, в их квартирке, но уже без него: как спала на той самой его подушке, трогала предметы, которых касались его руки, простаивала ночи у окна. Вспоминала и писала ему письма: «Валерий, подумай, я еще в тех комнатах, где мы жили… Висит твоя палочка в прихожей. Флакон с мылом на умывальнике, – забыл или оставил – не знаю. Я их целую и плачу. Я одна… А ты… а ты…» Да, сначала любила, потом – возненавидела: «Задыхалась от злого счастья, что теперь ему меня не достать, что теперь другие страдают…» Но, услыхав о смерти его в 1924-м, вдруг написала Ходасевичу: «Валерия никто, наверно, не помянет добрым словом. Тем хуже… А может быть, тем лучше, что его никто, кроме меня, не понял. Я же ему себя не простила, я просто поняла, что иным быть он не мог… Я полюбила то счастье, что звала трагедией и горем. Ничего не ставлю ему в счет. Если это называется “простить”, – то да, – я простила, и образ его для меня сейчас лучезарен…»
Мистика, но перед самоубийством написала Брюсову письмо на тот свет, как бы позвала его. Записку сунула в какие-то бумаги и на три дня забыла про нее. И вдруг, пишет, на четвертую ночь он пришел. То был полусон, полуявь. Он сел за стол против кровати и, живой, прежний, в голубой рубашке, посмотрел на нее. А она, вспомнив вдруг, что он ведь умер, дико заорала. «Ах, – дописала, – с каким упреком он на меня посмотрел, прежде чем скрылось видение. Звала сама же! Вот что сказал его взгляд»…
«Нина! Нина! – написал ей когда-то Брюсов. – Ты знаешь меня и знаешь, что я много лицемерю: жизнь приучила меня притворяться… Но перед тобой я не боюсь показаться смешным, тебе я могу сказать… поэзия для меня – в с ё». Она знала и давно поставила ему «диагноз», написала, что он «для одной прекрасной линии своего будущего памятника, не задумываясь, зачеркнул бы самую дорогую ему жизнь…» Так случилось с ней. Но так же – вот ужас-то! – через два года случится и с другой возлюбленной его. Лёля, умершая после романа с ним от оспы, Евгения Павловская, скончавшаяся от туберкулеза с его именем на устах. И вот – новая зачеркнутая им жизнь, теперь уж совсем юной поэтессы. Но вот о чем будут долго гадать: это было самоубийство или – все-таки убийство? Его убийство?..
«Я хочу быть “первой”…»
Были ли вообще некие тайны, связанные с Брюсовым, все те загадки и миражи, которыми он, «взрослый мальчик», словно фокусник, жонглировал: прельщал наивных, интриговал глупых, пугал слабых? Да, были! Он жил ими, и они – поразительно! – пережили его. Люди ведь и в век интернета и спиралей ДНК охотно верят в чертовщину. Даже когда ни во что, казалось бы, не верят.
«В 1976 году, – рассказывает в изданных недавно мемуарах поэт Евгений Рейн, – я писал сценарий научно-популярного фильма о Валерии Брюсове. Работал в его музее… При музее существовал кружок любителей брюсовской поэзии. Руководил им ныне покойный поэт и переводчик Владимир Рогов. Однажды Рогов позвонил: “Приходите после закрытия, – сказал. – У нас большое событие. В архиве нашелся венок сонетов… Но только сегодня он будет впервые прочитан. Сонеты пикантные. Их четырнадцать, и каждый посвящен определенной женщине, связанной с Брюсовым…”»
Вечером, пишет Рейн, когда посетители ушли, в гостиной погасили свет, зажгли канделябры, всем дали по чашке кофе и рюмке коньяку. Рогов с бюваром в руках, важно усевшись в кресло, поднял руку, привлекая внимание, открыл бювар и… надолго замолчал. А потом, повернувшись к директрисе музея, спросил: «Вы не брали рукопись?» – «Нет». – «Но я вчера… оставил стихи в этом бюваре». – «За рукопись ответите головой», – отрезала та.
«Тут надо сказать, – замечает Рейн, – что директриса была в прошлом секретаршей покойной Иоанны Брюсовой, вдовы поэта…» «Обождите, – сказала директриса, когда гости собрались расходиться, – я хочу кое-что объяснить». Она вдруг подошла к окну и открыла форточку. «Я знаю, что случилось с рукописью. Сонеты взяла Иоанна Матвеевна… Дело в том, что она всегда очень ревновала Валерия Яковлевича… Она даже как-то сказала ему, что на все его жестокие измены ответит столь же жестокой верностью. Конечно же, – закончила директриса, – ей неприятно сегодняшнее собрание. Вот она и решила… похитить рукопись. Она, кстати, постоянно посещает музей. Я открываю ей форточку, и она через нее влетает в дом…»
При этих словах Рогов вскочил и от ужаса поднял над головой трость: «Что вы такое говорите… Это же безумие!» «Это объективный факт, – отчеканила директриса. – Покойная… бывает в музее два раза в неделю, обычно по вторникам и пятницам…»
– И давно это с Иоанной Матвеевной? – справился у директрисы ироничный Рейн. – Я имею в виду ее посещения?
– Впервые она пришла восемь лет назад, когда уборщица разбила чашку Валерия Яковлевича. Иоанна Матвеевна ее склеила. Хотите посмотреть?
Она достала из горки кузнецовскую чашку и пустила ее по рукам. На чашке не было никаких следов разрушения. «Все мы помним, – раздались голоса, – осколки этой чашки…»
– А что это за записка? – закричала вдруг какая-то женщина. Все бросились к столу, где под бронзовым подсвечником лежала какая-то бумажка. В записке была только цифра, выведенная пером «рондо» – 12464.
– Это номер сонетов по инвентарной описи, – сказала директриса… – А ну-ка дайте записку… Почерк Иоанны Матвеевны, уж мне ли не знать его…
Вопрос был «исчерпан», печально заканчивает Рейн. Последней, кого он увидел, уходя из брюсовского дома, была директриса, которая, взобравшись на стул, буднично прихлопнула форточку…
Занятная чертовщина, не правда ли? И ведь почти всё в ней – правда. Венок сонетов существует, и в 1976-м действительно звучал пикантно. Поэт Рогов был – его имя легко найти в справочнике Союза писателей. Даже любимая чашка Брюсова и та – цела. Тогда – что всё это? Привет из Серебряного века, загробный «месседж» от Брюсова? Или – продолжение легенд, старательно творимых поэтом еще при жизни?.. Конечно, вдова «влетающая» – это лихо! Но эта чертовщина виртуальная. А как быть с другими, с необъяснимыми, но – реальными загадками, случавшимися в жизни Брюсова? Иногда пустяковыми, а иногда и впрямь страшноватыми?
Вообще в модерный дом купцов Баевых, нынешний музей поэта (Москва, пр. Мира, 30), Брюсов с женой въехали в 1910-м. Он и умрет здесь – в пятикомнатной квартире на первом этаже, в кабинете, набитом книгами. Именно тут по средам сходилась вся поэтическая Москва. «Собирались в три у чайного стола, – вспоминал поэт Шервинский. – Иоанна Матвеевна раскладывала домашний сладкий пирог». Бывали и те, кто был на Цветном, и – новые: Крученых, Маяковский, Пастернак. Дважды был даже Горький. Но порог дома никогда не переступали две женщины, две возлюбленные Брюсова и две соперницы жены его – Нина Петровская и Надя Львова. Те, которые станут главными жертвами его тщеславия…
Смотрите: в 1910-м он въезжает в этом дом. Осенью 1911-го – навсегда прощается с уезжавшей Петровской. А за полгода до этого, весной 1911-го, – знакомится с двадцатилетней поэтессой, «поэткой», как звала она себя в стихах, – Надей Львовой. Так вот, загадка в том, что Нина, еще ничего не зная о Наде, успела бросить Брюсову обвинение, которое обернется предсказанием: «Иди к твоей новой любви, – выкрикнет ему ни с того ни с сего. – Убей еще чью-нибудь жизнь – от этого ты расцветаешь…»
Пророчество Нины сбудется через два года. Надя убьет себя, но винить в этом будут не просто соблазнившего ее сорокалетнего Брюсова, но – «демона» в нем, который исподволь – сладкими речами и туманными стихами! – приучал ее и к «свободной любви», и к мыслям об «избавительнице»-смерти. «Свободная любовь», вопросы пола интересовали его, как никого. Как раз в 1910-м его повесть «Из дневника женщины» была арестована «за порнографию», и взметнувшаяся вокруг нее полемика была не ниже нынешних споров об эротике. А кроме того, если говорить о смерти Нади, она и застрелится из того самого браунинга, из которого Нина, говорят, стреляла когда-то в Брюсова. И подарит его Наде он – Брюсов…
26 ноября 1913 года тысячи людей, развернув «Русское слово», прочли: «В воскресенье застрелилась молодая поэтесса Над. Григ. Львова. Застрелившаяся оставила на имя поэта В.Я.Брюсова письмо…»
Из экстренного сообщения газеты «Русское слово»: «Около 9 ч. вечера г-жа Л. позвонила по телефону к г-ну Б. и просила приехать к ней. Г-н Б. ответил, что ему некогда – он занят срочной работой. Через несколько минут г-жа Л. снова подошла к телефону и сказала г-ну Б.: “Если вы сейчас не приедете, я застрелюсь”. В это время в квартире, где она снимала комнату… находились только другой жилец, г-н Меркулов, и прислуга. Г-н Меркулов работал у себя в комнате. В квартире царила полная тишина. Минут пять спустя после разговора г-жи Л. с г-ном Б. в комнате грянул выстрел… Почти одновременно открылась дверь из комнаты г-жи Л., и она, шатаясь, направилась к г-ну Меркулову: “Я застрелилась, помогите!” Г-н М. усадил г-жу Л. на стул, приказал прислуге вызвать карету скорой мед. помощи, наклонился к раненой и спросил: “Не нужно ли вам чего-нибудь?” Она назвала № телефона и сказала: “Попросите, чтобы приехал…” Она попыталась что-то сказать, но в это время на губах показалась кровь, и она захрипела. Г-н М. бросился к телефону и позвонил по № . К телефону подошел г-н Б. Г-н Меркулов рассказал ему о случившемся. Через несколько минут г-н Б. приехал… Она как будто узнала его, как будто пыталась говорить, но уже не хватало сил. Тем временем прибыла карета скорой помощи, но помощь была уже бесполезна…»
Могу представить, как летела в ночи пролетка, как гнал, толкал в спину, торопил извозчика «г-н Б.», если с 1-й Мещанской, с нынешнего проспекта Мира, – через Сухаревку, Трубу, через родной его Цветной бульвар – он примчался к Константинопольскому подворью раньше скорой; тут снимала комнату Надя (Москва, Крапивенский пер., 4). Может, тогда понял наконец, что «чувства», которые сам умел лишь имитировать, способны убивать? Ведь в предсмертном письме Надя написала: «Я тебя люблю… хочу быть с тобой. Как хочешь, “знакомой, другом, любовницей, слугой”, – какие страшные слова ты нашел. Люблю тебя – и кем хочешь, – тем и буду. Но не буду “ничем”… Ну, дай же мне руку, ответь мне скорее – я все-таки долго ждать не могу… В последний раз – умоляю, если успеешь, приди…»
Он не успел и, кажется, ничего не понял. Ибо известно: прочитав ее письмо, он не без гордости напишет: текст, дескать, «выказывает» столько любви, что «в самой боли читать его была и какая-то мучительная радость». Нет, права была Нина: он не только губил души, он «расцветал» при этом.
Кем же была Надя Львова? Нелли, как будет звать ее Брюсов, девушка, которая в пятнадцать лет стала подпольщицей, в шестнадцать – арестанткой за революционную деятельность, в девятнадцать – поэтом, а в двадцать два года – самоубийцей? Дочь надворного советника, почтового служащего, простая, скромная, душевная девушка с наивными глазами и русой челкой, она, не окончив еще гимназии (станет, между прочим, золотой медалисткой), в пятнадцать оказалась в водовороте 1905 года. Тогда же познакомилась с Эренбургом, тот мальчишкой еще вступил в «большевики». Прокламации, явки, адреса на папиросной бумаге, споры о марксизме, митинги в актовом зале 1-й гимназии (Москва, ул. Волхонка, 16), где вместе, но в разных классах учились Эренбург, Бухарин, Сокольников. Эти станут «главарями» в организации школьников, но в рапорте начальника охранки подполковника Котена о «социалистах» в учебных заведениях рядом с их именами окажется и Надя. Ее с Эренбургом и арестуют в одно время, но, поскольку Наде не было семнадцати, выпустят на поруки. Она дерзко ответит жандарму: «Если вы меня выпустите, я буду продолжать мое дело…» И продолжила бы, если бы в 1910-м не ощутила себя «поэткой». «Ах, разве я женщина? – написала в стихах. – Я только поэтка…» Кстати, ее поэтический дебют «по ранимости, по бешенству чувств» люди, причастные к литературе, будут сравнивать потом с триумфальным вхождением в поэзию Цветаевой.
Брюсова Надя впервые увидит весной 1911 года в журнале «Русская мысль» (Москва, Леонтьевский пер., 21), где он заведовал отделом критики. «Застенчивая, угловатая, слегка сутулая, не выговаривающая букву “к” и вместо “какой” произносившая “а-ой”, ее мало кто замечал», – напишет о ней поэт Садовской. Брюсов заметил, и уже осенью «литературное знакомство» переросло в легкий флирт. Стихи, прогулки, книги, разговоры о Верхарне, о влиянии Тамерлана в архитектуре, о национализме Данте, наконец, об античной эротике. И – долгие проводы Нелли на Мясницкую, где она в служебной, по видимости, квартире отца жила с родителями (Москва, ул. Мясницкая, 26). И первые публикации, и, наконец – первый посвященный ей стих. «Мой факел старый, просмоленный, окрепший с ветрами в борьбе, когда-то молнией зажженный, любовно подаю тебе», – читал ей молодящийся Брюсов. Ну у какой девчонки не закружится голова? А когда он помог ей выпустить первый сборник стихов, когда придумал мистификацию со вторым – «Стихи Нелли», выпущенным анонимно, без имени автора, но с посвящением ей, Надя погибла. Словом, через два года тот же Садовской, встретив ее в Клубе писателей (Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а), просто разинул рот. «Модное платье с короткой юбкой, алая лента в черных волосах, уверенные манеры, прищуренные глаза. Даже “к” она теперь выговаривала как следует…» А Брюсов напишет, что первый раз испугался ее любви, когда она попыталась отравиться цианидом.
Из воспоминаний Брюсова: «Я перестал бывать у Н., избегал встреч… Мне было трудно бороться, потому что я тоже любил Н.; но всё же я… советовал ей позабыть меня. Н. написала мне, что если я не буду ее любить, она убьет себя. Тогда же она сделала попытку самоубийства: пыталась отравиться… После этого у меня не осталось сил бороться, и я уступил… Мы опять бывали вместе в театрах и общественных местах… Она требовала, чтобы я бросил свою жену. Мне казалось нечестно бросить женщину (мою жену), с которой я прожил 17 лет… Которая меня любила и которую я любил…»
Надя, прямая, бескомпромиссная, защищалась как могла. Ведь он взял ее в Финляндию, как и Нину, ведь они провели там счастливый месяц. Как было верить в его охлаждение? Кажется, после этой поездки она, ощутив «канун разрыва», и написала ему: «В любви я хочу быть “первой” и единственной. А Вы хотели, чтобы я была одной из многих? Вы экспериментировали… рассчитывали каждый шаг. Вы совсем не хотите видеть, что перед Вами не женщина, для которой любовь – спорт, а девочка, для которой она всё …… » Это – предпоследнее письмо ее к Брюсову. Биограф поэта Молодяков, наш современник, написавший о Брюсове толстенную книгу, утверждает: есть другие неопубликованные письма Нади к поэту, которые, дескать, всё объяснят, и тогда «исчезнет легенда о «коварном обольстителе», погубившем «невинное создание»». Может быть. Но пока предпоследним письмом считается это. А последним стало то – предсмертное…
Хоронили Надю на Миусском кладбище. Его давно уже нет, сровняли с землей. «У открытой могилы стояли родители Нади, он – в поношенной шинели с зелеными кантами, она – в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке, – вспоминал Ходасевич. – Когда могилу засыпали, они, как были, под руку, стали обходить собравшихся. Что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? – казнил себя Ходасевич. – Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, всё видевших и ничего не сделавших…» На могиле выбили строку из Данте: «Любовь, которая ведет нас к смерти…» Надгробный камень этот – тоже ведь памятник Брюсову. Самого его на кладбище не было. Он почти сразу уехал в Петербург, а потом – на полтора месяца! – в какой-то санаторий под Ригой. В Петербурге видевшая его Зинаида Гиппиус напишет: «Он невинен, если даже и виноват: ведь он вины-то своей не почувствует…» Брюсов пришел в себя довольно быстро. На ближайшей «среде» в Литературно-художественном кружке вдруг прочел стих, который Ходасевич назовет вариацией на тему: «Мертвый, в гробе мирно спи, Жизнью пользуйся, живущий…» Ходасевич при этих стихах не выдержал и – демонстративно покинул зал. А злые языки напишут потом, что они были посвящены уже новой, «рижской» любви Брюсова. Ныне это доказано. В санатории он действительно познакомился с девушкой, с пятнадцатилетней Марией Вульфарт, к которой потом, через год, под прикрытием «литературных дел», специально ездил в Петербург и бегал к ней на Мойку (С.-Петербург, наб. Мойки, 84). А позже с ней, «с Манечкой», не только еще раз ездил под Ригу («вечер, веранда, вино…»), но и увез ее в Варшаву, где устроил в консерваторию, откуда она аж до 1917 года писала ему письма, называя его, кому было уже под пятьдесят, просто и со вкусом – «Валюся»…
Жажда удовольствий, поиск славы, желание быть на виду ценой эпатажа и даже позора снедала его. Но главной проверкой на искренность, лакмусовой бумажкой жизни стала для Брюсова революция. В мгновение ока этот «катаклизм» мог превратить его, «первого поэта», в хлам, прах, пыль. Так что для прагматичного «мага» (уже смешно!) оставалось каким-то «оккультным» курбетом обернуться вдруг из монархиста и шовиниста (о, какие стихи и статьи он писал с фронтов мировой войны) – в коммуниста и в первого поэта уже революции. И Брюсов – кто бы сомневался? – обернулся.
Жизнь… за памятник
Его жена пишет: он сохранял все свои билеты и билетики, счета, квитанции, расписки. Всё это клал в папочку «Реликвии». Расчеты, подсчеты, пересчеты – это сопровождало его всю жизнь. И – убивало в нем поэта. Ведь подлинная, необъяснимая даже для них самих, вдохновенная ткань стиха – может, самая нерасчетливая субстанция в мире.
Вот – революция. Он, уже написавший «И Господа, и Дьявола равно прославлю я», еще в 1905-м признался одной из любовниц: «Революцией интересуюсь лишь как зритель (хотя и попал под казачьи пули в Гнездниковском переулке). А живу своей жизнью, сгораю на вечном костре… Буду поэтом и при терроре, и в те дни, когда будут разбивать музеи и жечь книги…» Дал понять: он – «над схваткой». Он даже над единственным революционным стихом своим – над «Каменщиком», которым восхищались бунтари, – в своем кругу смеялся: это «сплошная риторика», такие вирши он может «гнать» километрами. Большевиков считал такими же врагами, как и буржуев. Но после Октября вдруг кинулся оспаривать, кто первым пришел к большевикам: писатель Ясинский в Петрограде или он в Москве. «Я еще в конце 1917 г. начал работать с Советским правительством, – настаивал в «Автобиографии», написанной в 1924-м. – С того времени работал в разных отделах Наркомпроса. Был заведующим Книжной Палаты, Отдела Научных Библиотек, Отдела Лито НКП, Охобра (Отдел Художественного Образования) Главпрофобра и др. Работал также в Госиздате, в Фотокиноотделе, одно время в Наркомземе…»
Куча «советских» должностей. Но если разбираться в этой «куче», то можно встретить истории замечательные. Например, в Главпрофобре он, как и его отец когда-то, запрещал детские сказки. Тот запрещал в семье, этот – в стране. «Совершенно недопустимы сказки, где речь идет о царях и царевичах, о Боге и ангелах». Вересаев спросил еще: «А где речь идет о черте?» «О черте? – переспросил Брюсов. – О черте, пожалуй, можно. Он – воплощение отрицания, протеста». А в Книжной палате именно он формировал отряды добровольцев по спасению книг из библиотек помещиков. На деле – по «реквизиции частных библиотек». По поводу, скажем, книг некоего Суркова, бывшего депутата царской Госдумы, даже обращался к Ленину. Тот переслал письмо в ЧК. «Посылаю вам письмо Брюсова, – написал Ленин. – Прошу вернуть… с сообщением, как вы покончили с библиотекой Суркова. Надеюсь, Вы сделаете всё возможное, чтобы Суркова немного удовлетворить; например, дать ему право пользования». Так «покончили» только с одной из тысяч библиотек. Но я – прости меня, Господи! – почти злорадно хохотнул, когда в воспоминаниях сестры жены Брюсова прочел, что однажды и в его дом пришли – но уже за его библиотекой.
Из воспоминаний Б.Погореловой, сестры Иоанны Брюсовой: «Как-то в мрачное осеннее утро в квартире Брюсовых раздался резкий звонок, и в переднюю ввалилась группа: немолодая, решительная баба и несколько рабочих. Сразу тычут ордер из местного Совета рабочих депутатов – на реквизицию. “Тут у вас книги имеются. Покажите”. Ввалившуюся компанию повели в кабинет… Баба… тараторила: “Подумайте – сколько книг! И это – у одного старика! А у нас – школы без книг…” Компания переходила от полки к полке… Одного из незваных посетителей заинтересовало редкое издание “Дон-Кихота” на испанском… Все принялись рассматривать… иллюстрации. Потом баба захлопнула книгу: “Одна контрреволюция и отсталость! Кому теперь нужны такие мельницы? Советская власть даст народу паровые, а то и электрические… Но всё равно: эту книгу тоже заберем. Пущай детишки хоть картинками потешатся… Завтра пришлем грузовик за всеми книгами. А пока… чтобы ни одного листочка здесь не пропало. Иначе придется вам отвечать перед революционным трибуналом!..”»
Смешно?! Вообразите, как заметался Брюсов, поштучно собравший свою пятитысячную библиотеку, где одних книг о Пушкине было 224, он, который даже Бунину не давал читать ни одной. К счастью, спас его библиотеку лично Луначарский. От бабы, бывшей просто прачкой, защитить смог только нарком.
Впрочем, в куче должностей Брюсова, где он, как говорили тогда, «подкоммунивал», были и такие, от которых и ныне не до смеха. В 1918-м, например, власти не решались еще ввести прямую цензуру (она возникнет в 1921-м) и закрывали издания, объясняя это бумажным или топливным голодом. Так вот, отказы в этом подписывал Брюсов. «Все… газеты, а затем и журналы… и просто частные издательства были постепенно уничтожены. Отказы в выдаче нарядов подписывал Брюсов, – пишет Ходасевич. – Не будучи советским цензором де-юре, он им все-таки очутился». Так что будущий сосед Брюсова по Милютинскому, помните – чекист Агранов, ставший главой Литконтроля, принял эту должность, считайте, из его рук.
В 1920-м Брюсов согласился возглавить Союз поэтов и тогда же вступил в партию. «Он первый среди крупнейших русских поэтов стал коммунистом, – возвышенно напишет в “Известиях” историк литературы Петр Коган. – И кто знает внутренний мир Брюсова, тот поймет, что величие этого подвига заключается для него не в гражданском мужестве, не в той ненависти, которую он принимал на себя в те времена, а в могучем сжатии своей титанической личности, в железной дисциплине, в тиски которой добровольно шел этот поэт». Теперь сам Троцкий, рекомендуя Брюсова в красный журнал, скажет: «Большое имя, большая школа, и в то же время Брюсов совершенно искренно предан делу рабочего класса». Насчет искренности Троцкий поспешил. Брюсов в своем кругу, напротив, оправдывался: в партию его позвал Луначарский. Разговорились, дескать, о доктрине Маркса, которую Брюсов принимал теоретически, а Луначарский и реши: он якобы хочет в партию. «Об этом, – скажет Брюсов, – я узнал, только получивши из партии официальное согласие на принятие меня… Отказаться было… равносильно стать в активно враждебные отношения. Это в мои расчеты не входило…»
Расчеты, вечные расчеты! «Валерий записался в партию коммунистов, ибо это весьма своевременно, – издевался Ходасевич. – Ведь при Николае II – он был монархистом. Бальмонт аттестует его кратко и выразительно: подлец. Это неверно: он не подлец, а первый ученик. Впрочем, у него в гимназии таких били без различия оттенков». Да-да, Владислав Фелицианович, мы помним: Брюсова как раз в гимназии и колотили, иногда – по шесть раз в день…
С Луначарским тоже не всё сойдется. Когда в 1920-м встал вопрос, кому возглавить Литературный отдел (ЛИТО) Наркомпроса (Москва, Сретенский бул., 6), Луначарский настоял на Брюсове, который «гордился, что он коммунист». Но не пройдет и года, как признает: тот «мало годится» для руководства ЛИТО. И выдвинет Серафимовича. Брюсова подвела как раз педантичность. Асеев скажет, что всё в нем подавляло «“грандиозной мелочностью” великолепно ведущейся душевной бухгалтерии». А Эренбург вспомнит, как Брюсов в ЛИТО с гордостью показывал ему схему на стене: «диковинную диаграмму: квадраты, ромбы, пирамиды – схему литературы. Это было наивно, – напишет в мемуарах, – и вместе с тем величественно: седой маг, превращающий поэзию в канцелярию, а канцелярию – в поэзию…»
Всё уходило из его жизни, всё просачивалось как сквозь пальцы. Всего двадцать лет назад, 24 декабря 1902 года, он звонко, нагло записал в дневнике: «Никогда не будь позади века, хотя бы даже он шел назад». Увы, в 1920-х он, несмотря на всю свою прыть, уже безнадежно отставал от эпохи. Хотел стать первым поэтом революции, но та едва заметила его. Хотел «пророчить» в поэзии, но, как когда-то ошибся в Блоке, теперь яростно отрицал Ахматову (ее стихи «бессильные потуги, которых постыдился бы ученик любой дельной студии»), Мандельштама (поэзия «прикрытой скудости»), Ходасевича (он «уже ничего не может»). Будущее предрекал Садофьему, Кириллову, Герасимову – пролетарским поэтам. Наконец, хотел стать учителем молодых властей, но, как пишет музыковед Сабанеев, оказался «несозвучен». «Нужны были – новый мозг, новое сердце, новая нервная система, – скажет о нем один журналист. – Он – недавний диктатор – не мог слиться до конца с новой диктатурой, верить ее верой, знать ее знанием, работать ее методами… И он стал жертвой…» Он, который жертвовал всем – любимыми, семьей, друзьями, сам стал жертвой. И даже средством, но – для других. Я имею в виду «закатную», последнюю любовь его – поэтессу Адалис.
Она возникла в Москве в 1920-м, приехала из Одессы. Ее звали Аделина Ефрон, но стихи подписывала – Адалис. Ей было двадцать. Девчонка, но его потрясла именно тем, чем обычно потрясал он: отсутствием стыда. Поводом к знакомству стало, извините, расстройство желудка у нашего «мага». Дело было в гостях, и Адалис, романтичная поэтесса, заметив его вялость да бледность, не смутясь стала расспрашивать, и что у него болит, и как, и с ходу выдала ряд советов. «Брюсов был удивлен, что молодая женщина так просто, по-домашнему, говорит с ним, знаменитым поэтом, о низших проявлениях организма, – вспоминала поэтесса Ольга Мочалова. – А затем был роман. Адалис сопротивлялась, – пишет Мочалова, – но, по словам насмешников, “уступила под влиянием президиума”…» «Адалис, Адалис, кому вы отдались? – смеялись поэты. – Бр-р-р… Брюсову». Сама же она, не стыдясь, говорила, что «Валерий пахнет фиалками и козьим молоком…» И только ли это?
Брюсов, приблизив ее, объявил ее сначала «нео-акмеисткой», потом отнес к «нео-футуристкам», а затем… затем взял к себе секретаршей. Более того, выбив в центре квартиру на первом этаже (Москва, ул. Спиридоновка, 24/27), организовал, может, единственный в своем роде поэтический техникум («Профессионально-техническую школу поэтики»), куда учеников набирать поручил Аделине, сразу назначив ее ректором. «На ее пестром пальто не хватало пуговиц, – не без иронии ухмыльнется ученик ее, поэт Фефер. – Пальто отдиралось ветром… Адалис шла сбоку своего пальто. В египетском ее профиле выделялся горбатый покрасневший нос… Адалис улыбнулась на мой вопрос, показав неровные, вразбежку, зубы…» А Брюсову было уже мало учрежденного техникума, и через год при Дворце искусств он откроет Высший литературно-художественный институт. Это была уже «Консерватория слова», как высокопарно сказал он.
Справедливости ради скажу: лектор в нем действительно пропадал. Студенты, а их было две сотни и среди них Светлов, Приблудный, Алтаузен, Голодный, Артем Веселый, Наседкин, Лев Шейнин и Егише Чаренц, Иван Катаев и Елена Благинина, – все открывали рты, когда Брюсов по заданному слову, факту, изречению, полуприкрыв глаза ладонью, уже через минуту декламировал сочиненные тут же стихи. Факир рифмы! Или – устраивал доклады-импровизации на выбор: об астрономии, биологии, гидравлике, дактилоскопии. Надо было выбрать тему и дать ему полчаса, чтобы сорок пять минут восхищенно следить потом за мыслью, возникавшей буквально на их глазах. Правда, до старости, как ребенок, не выговаривал некоторые слова: вместо «ласки» говорил «ласти», вместо «пляски» – «плясти», а слово «математики» вообще произносил как «математити». Но разве это важно? Важно, что в нетопленом Белом зале Дворца искусств молодежь, одетая в поношенные пальтишки на щучьем меху, а чаще – в шинели и бушлаты, лекции его записывала, даже если не снимала варежек. «А когда топили печь, – вспоминала З.Ясинская, – то все, спасаясь от дыма, садились просто на пол, садился и Брюсов». Студенты за короткую прическу прозвали Брюсова «моржом». И «морж», представьте, когда в иные праздники дворцовый паркет трещал от удалой «русской», пускался с ними в пляс или, хохоча хриплым, захлебывающимся смехом, бегал «кошкой» за «мышками». А иногда, собрав ватагу в двадцать– тридцать человек, шел вместе с учениками на целую ночь к памятнику Пушкина на Тверской – читать стихи, мечтать о славе… Они – о будущей, он – ненасытно – о настоящей.
Помните, Брюсов мечтал когда-то о переполненном зале, о летящих на сцену букетах и о себе – стоящем в скрещении софитов? Он доживет до этого, до своего пятидесятилетия в Большом театре. Погремушка славы в последний раз звякнет над его ухом, но, Боже мой, сколько горечи принесет ему эта слава! Госиздат и Луначарский хлопотали о награждении его орденом Красного Знамени, но газеты запустили анкету: а стоит ли? К тому времени этим орденом промеж поэтов был награжден только Демьян Бедный. Писали, что творчество Брюсова до революции «не только не дает права на награду, но даже не заслуживает простого одобрения». Короче, ограничились грамотой ВЦИК («Он воспел с присущим ему талантом величайший в мировой истории переворот…») да еще «именем», которое присвоили его же институту. Чуть теплее чествовали его студисты, там даже кто-то предложил качать его, но Шенгели, поэт, напишет потом: «Качали старика; было похоже, что подбрасывают покойника…»
Из воспоминаний Н.Валентинова (Вольского): «Изменившийся вид Брюсова мне сразу бросился в глаза. Осунувшееся, больное, желтоватое, похудевшее лицо с грустными, потухающими глазами. От прежнего “мага”, и прежде прибегавшего к морфию, осталась тень… Мы сидели с ним на каком-то длинном столе… в проходной комнате, и шмыгающие по ней люди мешали нам говорить… К нему подошла какая-то партийная баба (другого выражения не нахожу) с наглым, командующим лицом, грязными, сальными волосами, во френче, уродски толстозадая, в брюках галифе. Грубо хлопнув Брюсова по колену, она рявкнула: “ Ты, Брюсов, мое дело все-таки не двинул. Обещаешь, а кроме брехни ничего не получается”. Брюсов со страдальческим видом зажмурил глаза: “Делаю, что могу. Решение не от меня зависит”. Недовольная его ответом, баба продолжала за что-то его шпынять. Дважды повторив, что делает всё ему доступное, он замолчал. Сидел, не глядя на бабу, опустив глаза. Мне стало его жалко. Уходя, я сказал: “Вот, Валерий Яковлевич, мое преимущество перед вами, я, беспартийный, этой бабе не позволю говорить мне «ты»…” Брюсов не промолвил ни слова. Больше я его не видел. Приблизительно через год он умер…»
Да, он, «взрослый мальчик», умер раньше смерти, хотя сам об этом так и не узнал. Две строчки о нем в энциклопедии есть и будут: был такой вождь символистов. Но остался ли как поэт? Не знаю. Стихи ведь живут, пока нужны людям, пока рука тянется за ними. Им мало вложенного труда. Поэзия же Брюсова, писали позже, – «это только вывеска над складом образцов всевозможных имитаций. Вот детское, вот вакхическое, вот гражданское, но всё это ненастоящее, а из самого лучшего папье-маше… Сердца не шевелит…»
Говорят, последними словами его были: «Мои стихи…» Он очнулся, поднял указательный палец и прошептал жене: «Мои стихи…» И задохнулся. А рядом с домом на какой-то скамейке все последние дни сидела женщина и плакала. Плакала Адалис. Когда его перед самой кончиной спросили, желает ли он ее видеть, Брюсов якобы пролаял два слова: «К черту…»
Он посвятит ей сборник стихов – это известно. Правда, по обыкновению, как это было и с Надей Львовой, «зашифрует» его – назовет книгу «Дали». Так, Далью, он звал Адалис наедине. «Ветки, листья, три сучка, // В глубь окна ползет акация. // Не сорвут нам дверь с крючка, // С Далью всласть могу ласкаться я…» Он, уже законченный морфинист, назначит ее (кстати, кокаинистку) профессором в собственном институте (это в двадцать три года-то!). Оба баловались наркотиками в доме, например, Мальвины Марьяновой, поэтессы (Москва, ул. Малая Дмитровка, 8). А в год смерти Брюсов, «оторвавшись» от жены в Алупке, заедет на несколько дней в Коктебель, где его как раз ждала Адалис. «Крохотная комнатка, огарок свечи, солома на деревянной постели – по-дачному неуютно, – вспоминала их жизнь в Коктебеле у Макса Волошина Мария Шкапская. – И целую ночь разговор. Сосед – Габричевский, профессор – жаловался: “Спать не дают, всё чего-то бормочут”. И думали, что любовные разговоры, и подсмеивались над стариком, что влюблен в девчонку. А оказалось, – заканчивает Шкапская, – что все ночи напролет он рассказывал ей о будущем коммунизма – как оно будет прекрасно. И это с детской улыбкой, с восторгом… и за месяц, как оказалось, до смерти…»
Смерть, как болезнь, «подхватит» в Крыму, когда они с Адалис в походе на Карадаг угодят под страшный ливень. «Вода сверху, снизу, с боков, – напишет Брюсов жене. – Каждое углубление стало бешеным потоком, который сбивал с ног… И три часа мы шли вниз под этим дождем. Прекрасные сандалии мои обратились в лохмотья, брюки – в грязные тряпки, куртка – в мокрые лоскуты… Естественно, что я захворал…» Но, несмотря на болезнь, он, «герой труда», по словам Цветаевой, боясь опоздать на занятия в институт, возвратится в Москву, где почти сразу сляжет с крупозным воспалением легких. Тринадцать дней – и всё кончено. Вот тогда и прозвучит его «К черту…» в адрес последней любимой. Для меня это – неудивительно! Недаром та же Цветаева тогда же, в 1920-х, запишет: «Для Бальмонта каждая женщина – королева. Для Брюсова каждая женщина – проститутка». А Андрей Белый, его друг-враг, который видел его в Коктебеле, скажет про него: «Есть люди, у которых провалился нос. У Брюсова провалилась душа»…
Хоронили Брюсова пышно. Знамена, цветы, почетный караул. Гроб выносил какой-то Соловьев из ЦК РКП, какой-то Леонидов из МК РКП. С балкона Моссовета выступал Бухарин, с балкона МГУ – Отто Шмидт, с балкона Академии художественных наук – Луначарский. «Счастлив Брюсов, – выкрикивал в толпу нарком, – что дожил до времени, когда общественный труд не унижает поэта. Брюсов на своем примере показал, что может быть выпрямленный человек…» А «выпрямленный» лежал в венках и лентах с лицом, по словам С.Соловьева, похожим на «подстреленную хищную птицу»…
«Звучала барабанная дробь пионеров, – вспоминал свидетель. – Гроб несли на руках всю дорогу». По другой версии, балаганно-красный катафалк в окружении конной милиции после митинга у Моссовета бойко помчался к Новодевичьему. «Событие чувствовалось, горя не было», – написала одна поэтесса. А другая, как раз Адалис, читая над гробом его стихи, на словах «Работа до жаркого пота…» вдруг потеряла сознание и рухнула на руки соседей. Потом напишет Шкапской о днях после смерти Брюсова.
Из письма Адалис – Шкапской: «На вторую ночь я осталась одна с ним в зале института (это была ночь 10-го, на которую у нас было назначено свидание). Я читала ему Пушкина и целовала его: свидание, так свидание. Говорят, слух функционирует 45 часов после смерти, значит, он слышал…»
Пишут, что твердила о самоубийстве, о некрофилии, о том, что Брюсову «скучно в могиле» и что она «разроет могилу, ляжет рядом и укроется шубой». Это было похоже на безумие, но уже через три дня она, по свидетельству современников, «ораторствовала… и забыла думать о всяких самоубийствах, разрытиях могил и пр.» Потом влюбится в Отто Шмидта, черкнет Шкапской, что «обзавелась юношей», «курю опиум, спать одна в комнате не могу…» Правда, как поэт надолго замолчит, а позже станет писать о строительстве новой жизни, о вождях. Даже книжку назовет «Власть».
Что же касается Брюсова, то памятник себе он, конечно, «выстроил». «Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен, – написал в стихах. – Кричите, буйствуйте, – его вам не свалить!..» На проспекте Мира давно уже открыт музей его. Встал памятник и на Новодевичьем – установленный, кстати, советской властью. Но, бродя меж могил, я рядом с ним всякий раз испытываю нечто вроде трепета. Ведь там в земле в черепе поэта, я знаю точно – истлевает газета «Правда». Это не иносказание. Когда усопшему вынули мозг (это было модно в те годы – взвешивать и исследовать мозги именитых деятелей), то эскулапы, дабы заполнить образовавшуюся пустоту, не нашли под рукой ничего, кроме старой подшивки «Правды». Они рвали газеты, кое-как комкали их и запихивали ему в голову. «Так и был похоронен с большевицкой газетой вместо мозгов, – запишет в дневнике Сергей Прокофьев, – отмщение судьбы за его переход в коммунизм, совершенный не по убеждениям, а по расчету…»
«Преодоленной бездарностью» назовет Брюсова блестящий критик, друг его молодости Юлий Айхенвальд. Цветаева скажет: «В Брюсове – тесно. Брюсов – блудник. И не чародей, а блудодей!» А Ахматова откликнется короче: «Он знал секреты, но не знал тайны…»
Да, поэзия – тайна. Фата-моргана, мираж. И для познания ее «средств» еще не придумано.
«Лестница к облакам», или Неистовая Зинаида
Молчи. Молчи. Не говори с людьми, Не подымай с души покрова, Все люди на земле – пойми! Пойми! — Ни одного не стоят слова. Не плачь. Не плачь. Блажен, кто от людей Свои печали вольно скроет. Весь мир одной слезы твоей, Да и ничьей слезы не стоит. Таись, стыдись страданья твоего, Иди – и проходи спокойно. Ни слов, ни слез, ни вздоха, – ничего Земля и люди недостойны. Зинаида ГиппиусГиппиус Зинаида Николаевна ( 1869–1945) – поэт-символист ХХ века. Стихи писала от лица мужчины. Может, оттого и мы говорим про нее в мужском роде: поэт, прозаик, критик, драматург. В женском роде ей подходит ныне лишь одно определение – то, которого и не бывает в мужском, – Легенда Серебряного века.
Она умерла в воскресенье, в 3 часа 33 минуты. Гроб опустили на гроб мужа. После войны на русском кладбище под Парижем это было в порядке вещей. И, поскольку ее интимный дневник – «Дневник любовных историй» – опубликуют на Западе только через четверть века, никто, стоя у могилы, так и не узнал, что усопшую по-настоящему интересовали в жизни только две вещи: любовь и как раз – смерть. Она не успеет, увы, закончить поэму «Последний круг». Зато успеет написать в ней: «Любовь – это главное в человеческой жизни; любовь связывает небо и землю…»
Декадентская мадонна, «белая дьяволица», женщина, которую сам Бог удостоил «ручной выделки», наконец, стихотворка, которую при жизни звали «Достоевским русской поэзии», – она была единственной в своем роде. Целью ее было стать «не как все». Отказалась от титула (говорят, была из рода баронов фон Гиппиус), не желала, будучи немкой, учить немецкий, носила мужскую одежду, отбирала у влюбленных в нее обручальные кольца и вешала их в изголовье кровати и, представьте, издевалась над постельной, «той смешной любовью», про которую, как писала, «только знаю». Это, наверное, главное – была необычна в любви.
«Мне нужно то, – напишет, – чего нет на свете…» Возможно, потому, несмотря на пятьдесят два года супружества с писателем Мережковским (она гордилась, что они не расставались ни на день, хотя это и не так), в ее жизни была и скандальная «жизнь втроем» (когда она с мужем и Дмитрием Философовым пыталась уравнять человеческую любовь с любовью к Христу), и не идущие дальше поцелуя (но полные страданий) «измены» мужу, и гомоэротическая наклонность к женщинам. Нина Берберова, знавшая ее, написала: «Она выработала в себе две внешние черты: спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна. И она не была женщиной…»
Так кем же была эта очаровательная, эпатажная, блистательно-талантливая и язвительно-умная – «неистовая Зинаида»?
Потайная тетрадь
Жарким днем в начале августа 1927 года на парапете набережной Круазетт сидели, безмятежно болтая ногами, две женщины. Со спины выглядели ровесницами, хотя одной было пятьдесят восемь лет, а другой – двадцать шесть. Первую молодили шелковый полупрозрачный шарф, который развевался вокруг шеи, тяжелые рыжие волосы, уложенные в прическу, и худенькая гибкая спина под розовой кофточкой. Обе были поэтессы, обе известны в России, из которой эмигрировали, и обе, это ясно уже, остались в истории литературы. Они разговаривали, но никто, разумеется, не слышал их беседы. Разве что чайки. Но одна фраза донеслась даже до нас: «Ах, Зинаида Николаевна, – воскликнула та, что моложе, – вас уважают за то, что вы интересуетесь возвышенным!..» «Я чуть не упала с парапета от такого понимания моей “формулы”, – усмехнется позже Гиппиус. – Это Толстой интересовался “возвышенным”. Я иное разумела. Интересоваться интересным. Это главное…»
Да, одна из сидящих на парапете была Зинаида Гиппиус, вторая – Нина Берберова. Берберова скажет позже, что Гиппиус в эти годы если и возражала кому-либо, то не иначе как укрываясь от мира «иронией, капризами, манерностью». Но добавит: даже Бунин не мог победить ее в споре, а его «житейский, элементарный, бытовой ключ» понимания жизни был ей и смешон, и неинтересен. Она же, повторим, интересовалась интересным, а «интересное» бывает, считала, – «всех размеров и состояний». И Бог, и дьявол, и поросенок, и любовь, и звезды. Интересны даже водяные пауки в ручье, на которых она с мужем загляделась как-то в Альпах; те так работали лапками, что Мережковский закричал вдруг: «Зина! Они – против течения! Они совсем как мы с тобой…» Да, они и поодиночке, и оба во всем были против течения! Так было в их жизни всегда. А началось, возможно, в Петербурге, когда они поселились в знаменитом доме Мурузи (С.-Петербург, Литейный пр-т, 24).
Это легендарный дом, о нем можно было бы долго рассказывать, но как-нибудь в следующий раз. Скажу лишь, что нобелевский лауреат Иосиф Бродский, живя в нем же (только ему, увы, и висит здесь мемориальная доска), долго обманывал других, да и сам, кажется, обманывался, утверждая, что Гиппиус с Мережковским жили когда-то именно в его квартире. Это не так, хотя последняя квартира их в этом доме была, как и коммуналка Бродского, действительно на втором этаже. Но если подняться на пятый этаж, куда семья Мережковских вселилась вначале, то вы окажетесь у дверей, за которыми февральской ночью 1892 года узкобедрая, гибкая, двадцатитрехлетняя женщина с пышными, «спущенными» на ночь волосами зажгла на столе керосиновую лампу (та была в виде совы с желтыми глазами) и, раскрыв чистую тетрадь, вывела по-французски: “Contes d’amour” – «Дневник любовных историй». Муж ее, Дмитрий, давно спал – «жаворонок», он работал по утрам. Тишина, тьма за окном, жар от натопленной печи. Но щеки женщины горели от иного – от угара тайных и мучительных мыслей. «Так я запуталась, что хочется оправдать себя… Думала, поцелуй и есть – падение. А ведь мне дан крест чувственности. Неужели животная страсть так сильна? Да и для чего она? Чистота победила. Тело должно быть побеждено…»
Дневники Гиппиус будет вести почти всегда. По цвету обложек назовет их: «Синяя книга», «Черная тетрадь», «Серый блокнот». Писала о пережитом, о мировой войне, революциях, эмиграции и почти все тетради сразу публиковала. Еще бы: мнения ее подхватывались на лету титулованными особами, министрами, ее подходы к жизни на все лады обсуждались в салонах и в печати, а дела, вроде учреждения Религиозно-философского общества, приобретали оглушительный общественный резонанс. Всё так! Но вот странность: ныне именно дневник о любви, который был не для печати («я сожгу его перед смертью») и который в России опубликуют лишь через полвека после смерти ее, читать без истинного волнения нельзя. Ибо о любви размышляла она, «Зинаида прекрасная», «обольстительный подросток», как назовут ее поэты Брюсов и Маковский, а с другой стороны – «панночка Вия», по словам Одоевцевой, или, как совсем уж круто отозвался о ней Лев Троцкий, – вообще «ведьма». Тот так и напишет: «Я не верю в нечистую силу. Ни в чертей, ни в ведьм. Впрочем, в ведьм верю – вспомнил Зинаиду Гиппиус…»
Словом, о любви, о том, как примирить на четвертом году замужества душу и тело, размышлял интеллектуал, человек без предрассудков, умный поэт и поэтичный ум. «Да, верю в любовь… как в чудо земли, – писала в ночи. – Верю, но знаю, что чуда нет и не будет. Сегодня сижу и плачу целый вечер… Не буду же просить подставить мне лестницу к облакам, раз у меня нет крыльев… Хочу того, чего не бывает. Хочу освобождения. Я люблю Дмитрия Сергеевича, его одного. И он меня любит, но… как любят здоровье или жизнь. А я хочу… Я даже определить словами моего чуда не могу…»
«Лестница к облакам…»
А за три года до первой строки в ее дневнике на розовый коврик в Тифлисском соборе новобрачные ступили разом. Примета эта, впрочем, значения иметь не будет, Гиппиус всё равно будет главной в семье.
Она познакомилась с Мережковским всего полгода назад и, разумеется, самым загадочным образом. Зина уже увлекалась поэзией, даже рифмовала кое-что для себя, по-настоящему восхищалась стихами Надсона. И вдруг в зачитанном до дыр столичном журнале ей среди дифирамбов Надсону попалось имя молодого поэта, друга, кстати, Надсона – Мережковского. Имя запомнилось. А летом, когда она с матерью отдыхала в Боржоми, Мережковский, путешествуя по Кавказу, случайно оказался там же. Лил дождь, в гостиницу «Кавалерская» он не попал и решил немедленно уехать. Но на почте, где заказывал лошадей, его узнал молодой почтарь, латыш Якобсон, которого все звали «Силой», который тоже писал стихи и, убеждая Зину выйти за него замуж, говорил ей: «Вы sila, и я sila; вместе мы горы сдвинем…» Этот Сила и уговорил Мережковского (тому было двадцать три года всего) остаться, а сам в тот же вечер через знакомого гимназиста передал Зинаиде, что у него живет буддист из Индии, ходит в халатах и ни с кем не говорит. Зина гимназисту расхохоталась в лицо: «Вздор, – сказала. – Нет ни буддиста, ни халатов, а живет у него просто Мережковский». Почему выскочило это имя, она не узнает никогда. Но ровно через десять дней на танцевальном вечере в парке, в какой-то ротонде как-то само решилось, что они с Дмитрием… поженятся.
Из «Воспоминаний» З.Гиппиус: «Я не могу припомнить, как начался наш странный разговор. Самое странное, что он мне тогда не показался странным… Тут не было ни “предложения”, ни “объяснения”: мы, и главное, оба – вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся… Начал, дал тон этот, очень простой, он, а я… незаметно в этот тон вошла… Бывала, и не раз, “влюблена”, знала, что это, а ведь тут – совсем что-то другое!..»
И дообъяснит: «Он просто говорил весело, живо и интересно – об интересном». Смущало одно: «Он – умнее меня. Я это знаю и все время буду знать и терпеть». Но это, как всё у нее, и радовало, ибо женихи ее (и Жером, и какой-то беленький красавчик Ваня, и тот же почтарь Сила) – все, увы, были «дураками», из-за чего она презирала даже свою любовь к ним.
Из церкви Михаила Архангела в Тбилиси новобрачные пешком отправились к Зине домой, где их ждал просто завтрак, только с шампанским, а затем день прошел ровно как вчерашний. «Мы с Дмитрием продолжали читать в моей комнате вчерашнюю книгу, потом обедали». Вечером он ушел в гостиницу, а она просто легла спать и, как пишет, забыла, что замужем. Да так забыла, что наутро едва вспомнила; мать крикнула ей через дверь: «Муж пришел. Вставай!» «Муж? – пишет она. – Какое удивленье!..»
Так что же, и брачной ночи не было? – спросите. Не было. Ни свадьбы, ни ночи. И современники, и биографы ее – все сходятся во мнении: Зина осталась девицей. «Она на самом деле – девушка, – защищал ее поэт, мэтр Серебряного века Вячеслав Иванов. – С Мережковским ее союз – чисто духовный. И все намеки – гнусная выдумка…» Намекали, конечно, на «нетрадиционную ориентацию» обоих. Кто-то говорил про «белый брак» – девственный, тогда модный в изысканных кругах, кто-то доказывал, что у Зины «какой-то анатомический дефект», а третьи гыкали (этого не избежала даже Берберова), что она – гермафродит и муж ее, когда она раздевается, «любит подсматривать в щелочку». Даже нынешний литературовед, широко известный в узких кругах Михаил Золотоносов, выпустивший увесистую книгу о братьях Мережковских, и тот уверенно пишет: Мережковский отказался «от плотской жизни с женой». И никто не берет в расчет ее отношение к браку: головное отчуждение от эротизма, невозможность переступить через «чистую недоступность» и, главное, – через несовместимость духовных высот истинного брака и низкой, почти животной «постели». Сама она и через годы напишет в дневнике: «О, если б совсем потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится во мне и которую я даже не понимаю… Ибо я ведь и при сладострастии, при всей чувственности – не хочу определенной формы любви, той, смешной, про которую знаю. Я умру, ничего не поняв. Я принадлежу себе. Я своя и Божья».
Короче, комплексы, патология, воспитание (ведь три ее сестры так и не вышли замуж, оставшись девицами), а может – упрямство и презрение к «общим местам» даже в чувственной сфере? – не знаю. И никто уже не узнает! Но, скорее, – ум, не позволяющий ей победить в себе нечто, неподвластное ей. Ведь она, считая любовь самосовершенствованием, некой «лестницей к облакам», всю жизнь будет отважно ставить вопросы, на которые, как мне кажется, и нет ответов. Любовь – это что, – спрашивала, – победа, власть над партнером или смирение? Возможно ли в любви абсолютное равенство мужчины и женщины? Не в том ли оно, что любовь в мужчине – это некое «женское» в нем, а в женщине – «мужское»? Совместима ли на вершинах своих любовь к Богу с людской любовью? И при чем здесь «звериная» (ее слово), плотская любовь, которая тоже ведь дана Богом? Неужто и Христос мог хихикать и заниматься тем стыдным, чем занимаются любовники? Наконец, кто более счастлив: тот, кто любит, или кто любим, кто умнее или глупее партнера? Так что истый поединок с собой, некое самоисследование, научный эксперимент на себе начался у нее, считайте, прямо из-под венца…
Любовь — поединок умов
«Славянский базар» – так называли этот огромный дом на Никольской. Он пока цел, хотя уже не тот (Москва, ул. Никольская, 17). А ведь здесь, в уютном отеле, состоялась встреча двух светил поэзии, двух идеологов декаданса, двух «прокуроров» русского стиха – Зинаиды Гиппиус и Валерия Брюсова.
Было двенадцать часов солнечного декабрьского дня, вспоминал Брюсов: «Вхожу, и первое, что вижу, раздетой Зинаиду Николаевну. Разумеется, я постучался, получил “войдите”, но зеркало так поставлено, что в нем отражается вся спальня. “Ах, мы не одеты, но садитесь…”» В тот приезд в Москву она поразит Брюсова многим. И тем, что ходила только в белых платьях («У меня иного цвета кожа не переносит!»). И тем, что без московского жеманства, прямо призналась, что у нее болит живот («Не удивляйтесь, у нас принято говорить, когда живот болит»). И тем, что на лекции ее мужа о Гоголе, которая состоится в Историческом музее, поймав солнечный луч на блестящую пряжку своего ботинка, пускала «зайчики» на лбы и носы чинного президиума. Она вообще всех и всегда поражала – это было сутью ее. На обеде с иерархами церкви, например, в малом зале Императорского Русского географического общества (С.– Петербург, пер. Грифцова, 10) могла капризно сказать соседу-священнику: «Как скучно! Подают всё одно и то же. Опять телятина! Надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца!..» Иерарх побагровеет, поперхнется и с тех пор будет бегать от нее. Зайцеву, писателю в Москве, скажет при всех: «Что сделали бы вы, если бы по скатерти ползла мушка и вы бы знали, что она ползет ко Христу?..» – и наведет на него лорнет. А в Петербурге, зазвав к себе «в салон» уже знаменитого Горького, поставит свой стул посреди комнаты, наведет на мешковато сидящего в углу Буревестника всё ту же золоченую лорнетку и спросит: «Ну, что вы обо мне думаете?..» Горький, пишут, пробурчит что-то бессвязное, а Мережковский голосом чревовещателя пояснит: «Зинаиду Николаевну понять нелегко. У моей жены душа темная. У моей жены душа чугунная…» Зина же, закинув ногу на ногу, наклоняла свое гибкое тело в сторону Горького и, не сводя с него блестящих глаз, светлым, четким голоском вторила мужу: «Да, у меня душа темная. Да, у меня душа чугунная…» И, растягивая в змеиную улыбку яркий рот, долго будет наслаждаться смущением новоявленного классика. Для нее ведь «классиков» не существовало. В критических статьях, которые, как и стихи, подписывала мужским именем Антон Крайний (а иногда – Товарищ Герман, Лев Денисов, Роман Аренский, Антон Кирша), она направо и налево разбрасывала приговоры: «рыжая бездарность», «идиот», «недоносок», «кретин». Таковы были «литературные нравы». Недаром друг Мережковских литератор Перцов скажет о ней после первой встречи: «Я чувствовал когти в бархатных лапах умной тигрицы…» А другой, Фофанов, поэт, не только увидит в ней огромную муху, но на много месяцев угодит в психушку.
Из книги И.Ясинского «Роман моей жизни»: «Мережковская… выдумала игру, повинуясь своему резвому темпераменту девочки. Она пряталась за опущенные портьеры в амбразуре глубокого окна и вызывала поочередно к себе гостей, словно на исповедь… Детская игра эта была прервана внезапным криком Фофанова, который с выпученными глазами выскочил из-за портьеры и ринулся прямо в переднюю… Словом, внезапно сошел с ума… На другой день он уже был в больнице… и вышел лишь через несколько месяцев. “На чем же ты помешался, Костя?” – спрашивали мы его. “На мухе! – отвечал он с оттенком ужаса. – Мне муха представилась, огромная муха величиной во всё окно! Она меня преследовала и в моей комнате… Я понял, что околдован, и выдумал молитву против мухи. Каждый день я тридцать три раза повторял ее. Смотрю, на другой день муха уже съежилась; становилась всё меньше и меньше; наконец, уже в мае месяце, совсем крохотная засохла и прилипла к стеклу. Тут стало ясно, что колдовство с меня сошло. Нет, я никогда больше не приду к Гиппиус. Конечно, я не верю в волшебниц, теперь не такой век, но знаете, господа, что-то есть!”»
В Москве, в «Славянском базаре» Гиппиус особо удивит Брюсова тем, что ни с того ни с сего в пух разругает хорошо знакомого ему петербургского искусствоведа, редактора журнала «Северный вестник» Акима Волынского. Брюсов, обалдев, запишет в дневнике: она не хочет печататься с Волынским даже в одном журнале. Почему? Всё оказалось и просто, и – очень сложно. Брюсов не знал, не мог знать, что Волынский еще недавно был самой большой любовью Зинаиды, что Мережковский, муж ее, известный уже писатель, не только познакомил ее с ним, но даже провожал ее на свидания с Волынским и что роман этот закончился полным поражением Зинаиды…
Настоящее имя Волынского – Хаим Флексер. Гимназист из Житомира, он уже редактировал в журнале, где работал, и Чехова, и даже Толстого, а после революции станет, пусть и на короткое время, даже председателем Союза писателей. Зина председательства его не застанет, она уже будет в Париже. А влюбилась в него на шестом году замужества, в 1895-м, хотя он, как давний друг Мережковского, был едва ли не первым, кого она увидела в Петербурге, когда после Тбилиси поселилась с мужем еще на Верейской (С.-Петербург, ул. Верейская, 12). Знала давно, а влюбилась – неожиданно. Да так, что хотела травиться. Это она-то! Холодный ум! Писала ему письма, иногда по два в день, и подписывала их интимно – «Зизина». Лишь два из них были подписаны длинно, почти официально: «Мережковская-Гиппиус». Первое – из одной фразы: «Даю единственное право на издание всех моих произведений, стихотворных и прозаических, и имеющих быть написанными – Акиму Львовичу Флексеру, при моей жизни – равно как и после моей смерти». «После смерти» – заметьте! Кто хоть раз издавался, тот знает, что значит подобное письмо – почти завещание. Второе письмо было короче: «Зинаида Николаевна Мережковская-Гиппиус желала бы знать, когда она сможет получить свои портреты и письма, взамен возвращенных?» И – подпись! Вот между двумя этими письмами и лежали три года их странной любви.
Потом, на старости лет, когда Гиппиус, по словам писателя Ремизова, была уже «вся в костях и пружинах», она станет издеваться над тем, кого нежно звала когда-то «Амом» и «моим мальчиком». Напишет, что смеялась над Волынским за то, что он ездил за ней «хвостиком», что был недостаточно «тонким» и (ха-ха!) «не умел отличить статую от картины». Это он-то не умел – автор столь блистательной книги о Леонардо, что за нее сразу же стал почетным гражданином Милана. Разумеется, это была всего лишь месть, месть уязвленной женщины, месть за то, что когда-то сходила с ума от любви…
«Приходите в ресторан Палкина, – писала ему в разгар романа. – Буде у вас нет денег – не смущайтесь…» «Жду вас в Летнем саду в 3 часа…» «Вы найдете меня на Балтийском вокзале, к поезду в 4:20»… Ее с самого начала пленяло его обещание «быть чистым всю жизнь», как и она («Это меня побеждало»). Он же потом вспоминал: «Передо мною была женщина-девушка, тонкая, выше среднего роста, сухая как хворостинка, с большим каскадом золотистых волос. Шажки мелкие, поступь уверенная, движение быстрое, переходящее в скользящий бег. Глаза серые с бликами играющего света… Кокетливость достигала в ней высших степеней художественности». На поверхности, писал, была «настоящая комедия любви, обаянию которой все и поддавались», а внутри – «бури серьезнейших мотивов, мир какого-то фантастического бреда». «Любите ли вы меня сегодня? – спрашивала в сотый раз в записочках. – Сколько времени я вас не видала! Я так не могу. А вы?..» И следом, в тот же день: «Вы мне нужны навек, – до времени, когда я лягу в землю». Требовала: «Хочу невозможного, подснежников в июле». Жалела: «Дружок, радость моя, у меня внутри что-то рвется, когда вам печально. Ведь люблю, люблю вас». Надеялась, наконец: «Теперь нас ничто не разлучит. Целую вас так, как только вы хотите…»
Он устанет от ее напора: «Я не стану шляться по улицам», «Днем всякий человек имеет право работать», но ее было не остановить. «Не права делают любовь, а любовь дает все права», – перечила ему. «К черту вашу работу идиотскую». Однажды пришла к нему, видимо, еще на Колокольную (С.-Петербург, ул. Колокольная, 13), когда его не было дома, и писала ему оттуда не письмо – форменный репортаж: «Лезу в стол. Нашла дамский конверт с цветочком (с “маргаритками”). Есть еще правый стол. Лезу. Нашла массу неизвестных женских имен, написанных вашей рукой. Что это?.. Иду на разведку в спальню…» А потом, вслед за этим письмом, как раз и позвала на Балтийский вокзал, к отходящему поезду. Написала: «Ваша теперешняя любовь находится на одной из первых ступеней той лестницы, ни для кого недоступной, – на вершине которой мне необходимо вас видеть…»
Увы, таких мерок даже дважды почетный гражданин не смог бы выдержать. Откуда ей, да и ему было знать, что через тридцать лет Федин писатель, стоя над гробом Волынского, назовет его «последним из дон кихотов», а через сто лет, уже в наше время, его, успевшего создать школу классического балета и вырастить легендарную танцовщицу Ольгу Спесивцеву, сделает героем своего балета наш современник – знаменитый Борис Эйфман? Не зря Волынский при расставании с Гиппиус провидчески бросит про себя: «Я такой человек, который никогда не будет в тени…» Именно так и сказал.
Они расстались то ли у ее подъезда на Литейном, то ли у его квартиры. «Мы говорили грубо и гадко, – вспомнит о последней встрече Гиппиус. “Так вы рвете со мною? – спросил он. – Это бесповоротно?” – “Я – не рву иначе…” – “Вы… вы раскаетесь. Я такой человек, который никогда не будет в тени”. – “Очень рада за вас. Сожалею, что не могу сказать этого про себя…”»
Простилась гордо, но в дневнике признала поражение: «Я давно предчувствовала и боялась, что конец будет – безжалостный для меня… На шее под самым подбородком я чувствую невидимую веревку…»
Из статьи З.Гиппиус «Критика любви», 1900 год: «Люди подвигаются вперед разбросанной беспорядочной кучей, хотя и по одной дороге – но не вместе. Все кричат что-то друг другу – и никто никого не слышит. До каждого доносится лишь гул чьих-то голосов, ему бы подойти ближе и прислушаться – но некогда подходить, у него свое отчаяние, он сам оскорблен, что его не слышат… Всякий испытал, хотя бы в любви, острую жажду высказать себя другому вполне – ощущение невозможности этого и муку от невозможности…»
А чуть позже в дневнике добавит о «невысказанной» любви горестный вывод: «Ничто в теле человеческом не может быть доведено до большей святости, чем пол, – зато ничто нельзя и превратить в более страшную грязь».
Впрочем, от любви с Волынским сохранятся еще две фразы ее. Влюбившись в него, она не без удивления запишет в дневнике: «А ведь он умнее меня». Но перед разрывом, уже в письме к нему, почти презрительно бросит: «В сущности, я умнее…» Смешно! Словно любовь – поединок умов! А еще через несколько месяцев, зная точно, что любила, но не была любима, честно запишет для себя и – о себе: «Я рада поцелуям. В поцелуе – оба равны. Ну а потом? Ведь этого, пожалуй, и мало. Явно, надо выбрать одно: или убить в себе, победить это “целомудрие” перед актом, смех и отвращение перед всем, что к нему приводит, – или же убить в себе способность влюбления, силу, ясность, ожог и остроту… Это так; но – т-с-с! Потом! Потом! Нельзя теперь…»
«Тут какая-то тайна…»
Любовь – ожог, это поняла к середине жизни. Не раз обжегшись. Но дальше, думаю, не умела, а скорее всего, все-таки не могла быть в любви «как все…» Как, впрочем, и во всем. Пока не столкнулась в Риме со своей недавней знакомой – странной юной девушкой в парусиновом платье, соломенной шляпке и лиловых чулках на жалких ножках. Так сама описала ее и добавила: эта девушка больше всего любила розовые лилии. Вот вместе они и покупали ежедневно эти нежные цветы в симпатичном римском магазинчике…
Они познакомились на Сицилии, в Таормине. «О, Таормина, – писала Гиппиус, – белый и голубой город самой смешной из всех Любовей – педерастии! Говорю, конечно, о внешней форме. Всякому человеку одинаково хорошо и естественно любить всякого человека…» Новую знакомую в «лиловых чулках» звали Элла Овербек. Англичанка, баронесса, но – из русских. Вечером случайно остались вдвоем на какой-то каменной лестнице. Опять – лестница! Лестница к облакам, лестница, на вершине которой она хотела бы ожидать Волынского, наконец, – эта лестница. Она ведь и стих, посвященный Элле, назовет потом «Лестница». В тот вечер в руках у девушки была красивая палка с инкрустациями. «Покажите мне ее», – попросила Гиппиус. «И когда она мне ее протянула, у меня было непреодолимое чувство: ведь я с этим существом всё могу сделать, что хочу, оно – мое…»
Ожог! Знакомое чувство. Но сразу и власть! Может, и любовь – власть? Помните «неразрешимые вопросы» ее? Увы, у Гиппиус снова всё оказалось гораздо сложнее. «В браке, – напишет, – сильнейший духом ведет слабейшего, а там, где брачное извращение, – дух обмирает у сильнейшего и властвует слабый. На обмирание жутко смотреть, но нельзя не видеть. Тут, – подчеркнет, – какая-то тайна…»
Тайну эту Элла Овербек, кажется, разрешит. После короткой встречи и разговора на лестнице она уедет и пришлет письмо. «Дорогая мадам. Могла бы присоединиться к вам в Риме на несколько недель, мать уезжает в Англию…» Зина запомнит, что почему-то обрадовалась этому. Что это было: дружба, любовь, желание власти – не знаю. Но через некоторое время обе и найдут тот цветочный магазин в Риме, где всегда были розовые лилии. «Иногда мне кажется, – писала Гиппиус, – что есть, должны быть люди, похожие на меня, не удовлетворенные формами страсти… А потом я смеюсь. Ну, есть. Да мне-то не легче. Ведь я его, такого человека, не встречу… Через несколько лет я буду старухой (обозленной прошлым, слабой старухой). И буду знать, что неверно жила. Да, наконец, если теперь, сейчас встречу – разве поверю?..»
Как же, в сущности, была она одинока! Вот драма-то! Владимир Злобин, друг ее и литературный секретарь, в выпущенной после ее смерти книге написал: «Только позднее понял ее, увидел человеческое существо за всем этим гримом, за всей этой бутафорией. Зинаида Николаевна – самый несчастный человек из всех мною встреченных. Узел связался в ее душе, и его нельзя было развязать…» Имя этому узлу – любовь.
Ахматова с первого раза зареклась бывать у Мережковских: «Недоброжелательные были люди, злые». Гумилева они высмеяли при всех и буквально выставили за дверь в 1906-м в Париже (Париж, ул. Теофиля Готье, 15 бис). Отцу Набокова, тогда сенатору, когда он в 1916-м, зазвав Гиппиус к себе (С.-Петербург, ул. Большая Морская, 47), показал ей первый сборник стихов сына, будущего классика, категорически изрекла: ваш сын «никогда писателем не будет». А Мариэтта Шагинян, восторженная курсистка, еще поэтесса, не раз принимавшая Гиппиус у себя дома (С.-Петербург, ул. Пестеля, 4), сама, считайте, разочаровалась в ней. В 1910-м, преклоняясь перед Гиппиус, написала на одном из ее писем: «Люблю Зину на всю жизнь, клянусь в этом своею кровью, которою пишу», – а через несколько лет, прочтя эти слова, дописала: «Какая же я была дура, что не понимала эту старую зазнавшуюся декадентку, выдающую себя за “саму простоту”». Словом, и Ремизов, который обмолвился о Мережковских: «Они со щиплющей злостью отвергали всякую жизнь», и Шкловский, назвавший ее «сухоумной», и друг дома Тэффи – все в душе отвергали их. Уж не потому ли, что Мережковские не любили никого?
Из книги Н.Тэффи «Моя летопись»: «Оба они были совсем особенные, совсем необыкновенные, и с обычной меркой к ним не подойдешь. Каждый из них… мог быть центральным лицом большого психологического романа… Их необычайный, почти трагический эгоизм можно было понять, если найти к нему ключ. Ключ этот – полное отделение себя ото всех, отделение органическое, в котором они и не чувствовали себя виноватыми… Мережковские… до такой степени реальной жизни не понимали, что даже удивительно было слышать из уст Мережковского такие простые слова, как “уголь”, “кипяток”, “макароны”… Жили они оба в мире идей, ни человека, ни жизни они не видели и совершенно не понимали. В их писаниях вы не найдете ни одного живого человека… Бывали внимательны (он порою даже анекдотически льстив) к лицу полезному, не особенно интересуясь, кто это и чем эта полезность вызвана. Любили ли они кого-нибудь когда-нибудь простой человеческой любовью… – не думаю…»
Конечно, чужой брак – потемки, чужая любовь – вообще тьма. Но благодаря одной публикации в 1975-м, через двадцать лет после смерти Гиппиус и через двадцать четыре года после смерти Мережковского, мы узнали, что и меж самими супругами не всё было столь «счастливо», сколь они представляли это. Мережковский – тоже влюблялся. Правда, романы его, в отличие от Гиппиус, были не просто банальными, но какими-то детскими, что ли. То в Париже, еще в 1907-м, он платонически влюбляется в некую Машу, русскую барышню, которую Гиппиус назовет «капитанской дочью». Дальше проводов своего «предмета» на каком-то «зеленом фиакре» дело не пошло. А потом, в 1916-м, когда ему было уже пятьдесят, в его жизни возникла «прекрасная незнакомка». На деле – Оленька Костецкая. Он увидел ее в Кисловодске среди отдыхающих и в мгновение ока – влюбился. Стороной отыскал ее адрес и, послав цветы, стал буквально бомбить ее письмами, но – какими? «Приходите завтра, в понедельник, на Царскую площадку, на поперечную дорожку ближе к Молочному домику (ресторану) – в 12 час. дня. Имейте в руках это письмо или белую розу – иначе не решусь подойти. Я почти не надеюсь, что придете: на свете чудес не бывает. И все-таки буду ждать Вас, как чуда… » Она – не пришла. Он пишет снова и опять зовет на площадку: «Вам смешно? Вы улыбнулись: “какой чудак!” А знаете ли, как это чудачество называется? Это – “романтизм”. Это смешное – самое прекрасное, что есть в людях; без него скучно, холодно и страшно было бы жить на свете». И – сообщает, что вчера сидел неузнанным рядом с ней: «Сидел против Вас – Вы меня видели – я был в сером платье, в серой шляпе, в черном пальто, с белой розой в руке». Только потом, уже в Петербурге, признается ей, что он писатель, и пошлет ей свои книги (их к тому времени у него было двадцать три тома), сказав, что если они не понравятся ей, то она может выбросить их, а если понравятся – то пусть пришлет ему свою фотокарточку. И назовет весну в Кисловодске «одним из самых светлых, чистых и благоуханных воспоминаний». Вот так. А ведь Тэффи напишет в мемуарах про Мережковских: «В ней, – напишет про Зину, – иногда просвечивал человек. В нем – никогда…» Ошиблась! Кстати, Ольга Костецкая ответит ему. Ее единственное письмо не сохранится, и мы, по его ответным письмам, можем лишь гадать о его содержании. «Сегодня получил Ваш бледно-зеленый листок, такой удивленный, недоумевающий… и ледяной (недаром бледно-зеленый, как лед)». Возмущался ее словами про себя («кисловодский Дон-Жуан – с определенной целью»), спрашивал, ведь она же поняла, что это не так? Вновь говорил, что ему ничего от нее не нужно, но он художник и хотел бы видеть прекрасное, и разве это – грех? Переспрашивал: зачем он нужен ей? Да затем, что он, писатель, «в некотором смысле “ясновидящий”», и у него «есть такой опыт сердца, такое знание жизни, каких нет у других людей». Уж какой там «опыт сердца» был у него – неизвестно (переписка выдает в нем гимназиста, в лучшем случае – романтичного студиоза), но в одном из писем к Костецкой у него вдруг вырвалась фраза, которая дает понять: в «счастливом браке» Мережковских ни один, кажется, не был счастлив вполне. И он, как и она, тоже был одинок. «В жизни каждого человека бывают минуты страшного одиночества, – признался Костецкой, – когда самые близкие люди становятся далекими, родные – чужими… Вот в такую трудную одинокую минуту вспомните обо мне, далеком, неизвестном…»
Да, два огромных мира, два человековеда, два писателя – Гиппиус и Мережковский, две тончайшие натуры, познавшие, казалось бы, суть людскую, не смогли стать родными даже друг для друга. Уж не потому ли, что между ними не было той «смешной» для них «постельной любви», которая уж зачем-то дана человеку от Бога? Ведь даже «брак втроем» с Дмитрием Философовым, союз, о котором судачил весь Петербург, не только никому не принес счастья, но – распался еще до эмиграции.
Разумеется, никакого такого брака «втроем» не было. Был союз для создания «Новой», небывалой еще «Церкви»: резали при свечах хлеб на белой скатерти, пили вино из одной чаши, молились, целовали в ладонь руки друг другу и обменивались крестами. Из этого и родилось, кстати, знаменитое Религиозно-философское общество для свободного обсуждения вопросов церкви и культуры. Но в конце концов даже Философов ушел от них, вернее – от нее. Ведь он был дорог ей, ей опять казалось, что она любит и – любима.
Именно с Философовым она сделала, может, последнюю попытку одолеть целомудрие свое, взять ту «верхнюю ступеньку» лестницы любви, стать, наконец, даже глупой рядом с ним, но… Но проиграла. Философов до отвращения не признавал женщин.
Он жил рядом с Мережковскими (С.-Петербург, Басков пер., 21). «В моих мыслях, – писала, – моих желаниях, в моем духе – я больше мужчина, в моем теле – я больше женщина. Но они так слиты, что я ничего не знаю…» «Отсюда, – напишет про нее уже в эмиграции близко знавший ее поэт и редактор Сергей Маковский, – неукротимая ее девственность и влечение не только к женщинам, но и к мужчинам с двоящимся полом. Сказано ею и это без обиняков: “Мне нравится тут обман возможности: как бы намек на двуполость: он кажется и женщиной, и мужчиной. Это мне ужасно близко…”» Маковский про нее и Философова напишет: «Я был свидетелем завязки этой странной любви между женщиной, не признававшей мужчин, и мужчиной, не признававшим женщин. Уточнять этого романа не буду. Одно надо сказать: она сделала всё от себя зависевшее, чтобы дружба их стала настоящей любовью, в данном случае женщина победила в ней неженщину. Она глубоко выстрадала холодность Философова, несколько раз возвращала его себе, теряла опять…» И «никогда не могла забыть его окончательного “ухода”…»
«Зина, пойми, прав я или не прав… – написал ей Философов после ее решительной попытки склонить его к любви, – но мне физически отвратительны воспоминания о наших сближениях. И тут вовсе не аскетизм, или грех, или вечный позор пола. Тут вне всего этого, нечто абсолютно иррациональное, нечто специфическое… При страшном устремлении к тебе всем духом, всем существом своим у меня выросла какая-то ненависть к твоей плоти, коренящаяся в чем-то физиологическом…» Вот приговор обоим, вот итог одной «духовной» любви. Да и любви ли? Ведь через двадцать лет, когда Философов первым скончается во Франции, он окажется для Мережковских – и для нее ведь! – не важнее нищенского бесплатного обеда в Биаррице.
Из книги Н.Тэффи «Моя летопись»: «В тот же день встречаю их на улице. “Знаете печальную весть о Философове?” – “А что такое? Умер?” – спросил Мережковский. “Да”. – “Неизвестно, отчего? – спросил он еще и, не дожидаясь ответа, сказал: – Ну идем же, Зина, а то опять опоздаем и все лучшие блюда разберут. Мы сегодня обедаем в ресторане”, – пояснил он мне…»
«Вот и всё», – грустно заканчивает Тэффи. И вся любовь, можно было бы закончить историю. Она любила, но ее – не любили. И, кажется, не любили почти все. Разве что та девушка – Элла Овербек. Через сорок лет после Рима, после двух недель, проведенных с Эллой, Гиппиус, уже став, как и предсказывала, «старухой», в письме к Грете Герелл, шведской подруге, вдруг вспомнит, что Овербек в 1902 году приезжала в Петербург, даже сочиняла хоровую музыку для трагедий «Ипполит» и «Антигона», которые ставились в переводах Мережковского, но она с ней уже не встречалась. Не захотела. А в конце письма у нее неожиданно выскочила, как выскочило некогда имя будущего жениха ее, Мережковского, фраза, которую без острой жалости читать невозможно. «Может быть, – напишет про Эллу, – она была единственным человеком, по-настоящему, самозабвенно, преданно любившим меня». Единственным, подчеркнет это слово! Ужас! И что, думается, после этого все ее книги, аплодисменты, мировая слава, орден Святого Саввы от короля Югославии за вклад в русскую культуру, наконец, с таким трудом достигнутый непререкаемый литературный авторитет? Что всё это рядом с запоздалым прозрением: была любима и потеряла любовь?..
«Один человек – половина человека…»
Революцию Мережковские встретили в Петрограде. Они жили на Сергиевской (С.-Петербург, ул. Чайковского, 83) – последний их адрес в России, в двух шагах от знаменитого Таврического дворца – центра трех революций. Вот мимо углового балкона Мережковских на втором этаже и прошли к Таврическому (и стройными рядами, и безликими толпами) сначала мировая война, потом Февральская, а потом и Октябрьская революция.
Из «Воспоминаний» З.Гиппиус: «Вот холодная, черная ночь 24–25 октября. Я и Д.С., закутанные, стоим на нашем балконе и смотрим на небо. Оно в огнях. Это обстрел Зимнего дворца, где сидят “министры”. Те, конечно, кто не успел улизнуть. Все эсеры, начиная с Керенского, скрылись. Иные заранее хорошо спрятались. Остальных, когда обстрел (и вся эта позорная битва) кончился, повели пешком, по грязи, в крепость, где уже сидели арестованные Керенским, непригодные большевикам или им мешавшие люди. На другой день – черный, темный, – мы вышли с Д.С. на улицу. Как скользко, студено, черно… Подушка навалилась – на город? На Россию? Хуже…»
«Черный, грязный, усыпанный шелухой подсолнухов город, с бандами расхлястанных солдат» – эти слова Гиппиус равно относились ко всем этим событиям: войне, Февралю, Октябрю. Пытаясь спасти министров, она спросит Горького: «Ведь вы же приятель с Лениным…» Горький якобы «пролает» в ответ: «Я с этими мерзавцами… и разговаривать не хочу». «Я, – усмехнулась она, – стала его стыдить, что он “с ними”». Сказала, что ему надо «уйти». Он опять пролаял: «А с кем быть?» Тут уж закричал, пишет она, Мережковский: «Да с Россией быть, с Россией!» Но разве Горький, заканчивает она, «понимал что-нибудь – когда-нибудь?..»
Они же «понимали» всё и торопливо, правдами и неправдами, собирали деньги на бегство из страны. Несмотря на антибольшевизм, умоляли Чуковского свести их с Луначарским («только и ждут, как бы к большевизму примазаться»), хотели просить, чтобы правительство купило у Мережковского право на кинопостановки его романов о Павле и об Александре. «Между тем не прошло и двух недель, – пишет изумленный Чуковский, – как я дал Мережковскому пятьдесят шесть тысяч, полученных им… за “Александра”, да двадцать тысяч, полученных Зинаидой Н.Гиппиус. Итого 76 тысяч эти люди получили… И теперь он готов унижаться и симулировать бедность, чтобы выцарапать еще тысяч сто…» Евгений Шварц, драматург, а тогда секретарь Чуковского, вспомнит, со слов Чуковского, что Мережковские до самого отъезда «ходили по издательствам, заключали договоры и получали гонорары». Может, Горький и выдавал их, ибо и он запишет, что Мережковский, «как фокстерьер, повис на его горле – вцепился зубами и повис…»
«Раскрашенная, в парике, оглохшая от болезни… – такой увидел Гиппиус после революции Корней Чуковский. – Сидит за самоваром – и ругает с утра до ночи большевиков, ничего, кроме самовара, не видя и не слыша»… Да, она и муж ее опять были «против течения», только никто из бывавших здесь даже не делал уже вида, что любит их. Ни Савинков, ни Блок, ни Сологуб, ни даже сентиментальная Анна Вырубова. Впрочем, им было уже наплевать на это. Страдали только от одной потери – от распадавшегося союза с Философовым. Он вроде бы не хотел бежать на Запад, и лишь Зина уговорит его. Еле-еле уговорит.
Уезжали легально, якобы в южные города – читать красноармейцам лекции о декабристах. А оказались в Париже. Правда, теперь не в доме на улице Готье и не в квартире, где жили после (Париж, ул. Мерседес, 11), а в своей квартире, купленной на свои деньги еще до революции (Париж, ав. Колонэль Боннэ, 11 бис). Из Питера выбирались тяжело, на вокзале, пишут, теряли в толпе чемоданы, до последнего не могли пробиться в вагон, и Мережковский кричал, выдумывая на ходу: «Я член Совета. Я из Смольного!..» Но и это не помогало. Потом он взвизгнул: «Шуба!» – с него, очевидно, в давке срывали шубу. Словом, жуть! Но потом, скрючившись в купе, куда набилось двенадцать человек вместо четырех, летя в неизвестность, она, видя перед собой двух Дмитриев – мужа и Философова, не могла, наверное, не думать о том, что сформулировала уже для себя: «Даже в самом счастливом браке, полном любви, душа и тело человека смутно тоскуют порою: а ведь что-то есть лучше! Это хорошо, но есть лучше; и это, пусть хорошее, – все-таки не то!..»
Любовь – неисполнимость, вот что следует из этих слов. Говоря шире – следует из всей жизни Гиппиус. Ей довелось любить, ее любили, у нее была связь с женщиной, которая не признавала мужчин, потом с мужчиной, не переносящим женщин. Она металась, как в заколдованном круге, как в умственной западне, из которой ей было, видимо, уже не выбраться. Всё прошла и только теперь, кажется, поняла: любовь – не просто неисполнимость, это, говоря ее же словами, – лестница к облакам. Другими словами – недостижимое совершенство…
Любовь и смерть – вот две самые интересные для нее вещи. Увы, смерть ее окажется совсем неинтересной. Умрет в своем доме на Колонэль Боннэ, где висит ныне мемориальная доска. Сначала умрет Мережковский, который успеет написать Философову: «Сильно страдаю от Зины, чей характер становится всё невыносимее и невыносимее», а в 1945-м – она.
Лет двадцать держали они у себя «салон», который один из посетителей сравнит со «старинным театром, может быть, крепостным театром», где «всяких талантов хватало с избытком, но не было целомудрия, чести, благородства». Гиппиус – сгорбленная, вылинявшая, полуслепая ведьма «из немецкой сказки» – всех встречала на диване под лампой. Сидела в старой, но еще элегантной кацавейке, курила тонкие папиросы, вышивала гладью, поблескивая наперстком на узком пальце. «Притворяясь более близорукой, – писала о ней Берберова, – более глухой, иногда переспрашивая что-нибудь, прекрасно ею понятое. Между нею и внешним миром происходила постоянная борьба-игра». Словно она и в самом деле была, как и раньше, – на сцене. Словно вновь доказывала всем: она – «не как все». Недаром Бальмонт, который еще в 1921-м признавался, что даже выступать с ними в одном зале считает для себя «высокой честью», уже в 1927-м напишет Ивану Шмелеву, писателю: «Мережковского органически не переношу… Еще менее… Зинку Мазаную. Вся – из злобы, подковырки, мыслительного кумовства, местничества, нечисть дьявольская, дрянь бесполая. У меня к ним обоим отвращение, как к скопцам». И добавит: «Нечто первостепенно-важное у них испорчено…»
Гиппиус и раньше, и особенно теперь не могла уже жить без «подковырки». Любила смутить гостя бесстыдным вопросом в лоб («люблю посмотреть, что из этого получится»), поразить прямотой «от земли», вывертом. Гладя кошку по имени Кошшшка (с тремя «ш»), смеялась, что в итоге жизни так и не выучилась «готовить суп». Нарочно выходила на улицу, вставив в глаз монокль, что было тогда для женщины просто немыслимо. Аплодировала, когда кто-то договорился в их доме до того, что сказал: «Столица русской литературы – Париж». Обожала парадоксы, цедила сквозь зубы «максиму» философа Григория Ландау: «Если надо объяснять… то не надо объяснять». И все, держа эту мысль в головах, опасались лезть с лишним вопросом, ибо никто не хотел выглядеть дураком. «Все» – это вся русская эмиграция, успевшая побывать здесь. Бунин, Ходасевич, Бердяев, Зайцев, Тэффи, философы Федотов и Шестов, оба «Жоржика» – Георгий Иванов и Георгий Адамович – и молодые поэты и писатели: Поплавский, Смоленский, Ладинский, Терапиано, Кнут, Галина Кузнецова. Если кто-нибудь из «подлеска» выпускал книгу, Гиппиус усаживала его около себя и производила форменный допрос: каковы взгляды на литературу и – главное – как реагирует «новый человек» на религиозные и общечеловеческие вопросы… Одоевцева, уже известная к тому времени писательница, вспомнит потом о первом появлении своем здесь, как поеживалась она под лорнетом Гиппиус и, как когда-то Фофанов, ощущала «себя жучком или мухой под микроскопом».
Из книги И.Одоевцевой «На берегах Сены»: «В ней что-то неестественное, даже немного жуткое. Она чем-то – не знаю чем – о, только не красотой, – смутно напоминает мне панночку Вия… Перед ней стоит маленький кофейник. Пить кофе полагается только ей одной. Остальные, независимо от их вкусов, о которых никто не осведомляется, довольствуются чаем. “Нет, Дмитрий. Я не согласна!” – вдруг громко, капризным тоном заявляет она, прерывая страстную тираду Мережковского. “Я не согласна” – фраза, наиболее часто произносимая ею… “Я не согласна с Эйнштейном! или – с Бергсоном! или – с Алдановым! или – со Степуном!..”»
Выбирались из дома редко, если не считать зала Плейель, где проводили организованные ими литературные заседания «Зеленой лампы» (Париж, ул. Фобур-Сент-Оноре, 252). Бывали у Павла Милюкова, редактора и пушкиниста, знакомого им еще по Петербургу (Париж, ул. Лерич, 17), у Тэффи, легко «исправлявшей» им настроение на авеню Версаль, где жила (Париж, ав. Версаль, 18 бис), и, кажется, у Цетлина – поэта Амари, который тоже держал литературный салон (Париж, ул. Николо, 59). Но гуляли – до последних дней, ковыляли ежедневно в Булонский лес («Гулянье – свет, – любил приговаривать Мережковский, – а негулянье – тьма»), потом шли в одно и то же кафе – пить кофе. Он в потертой бобровой шубе, привезенной когда-то из России, она в шубе рыжего меха, розовой шляпке и всегда – на высоких каблуках. Глядя на них, идущих под руку, было непонятно: кто за кого держится? Хотя непонятно другое: зачем это было понимать кому-то? Главное, они, как и полвека назад, держались друг за друга. Вообще – держались!..
«Один человек, – любила повторять Гиппиус, сидя на диване, – это половина человека». И все невольно смотрели на Мережковского в кресле (он и умрет в этом кресле у камина), думая, что он и есть – ее «половина». А она, кажется, смеялась внутри. А может, плакала – кто знает. Ведь в поединке между скепсисом ума и страданием сердца вряд ли был победитель…
Перед смертью – насмешка судьбы! – у нее отнялась рука. Отнялась – как месть! – когда после болезни она впервые выползла на улицу сделать себе «индефризабль» (завивку). А может, местью было то, что отнялась рука правая, та, которой написала столько злого. Она-то думала, что отнялась потому, что именно на эту руку опирался при ходьбе ее муж. Но как бы то ни было, из-за руки не успеет закончить не только последнюю поэму, но и книгу о муже. А жаль. Ведь ныне известно, что незадолго до кончины поэт и критик Адамович спросил у нее (так он рассказывал Ю.Иваску в 1969 году): «Зинаида Николаевна, а какая-то особенная тайна была у вас, у символистов, в 90-х и 900-х годах?». И знаете, какой получил ответ? «Никакой тайны не было, одно надувательство…» Адамович, для которого прошлое уже было важнее, чем нынешняя жизнь, не решился привести эти слова, написал, будто бы она ответила ему тремя словами: «Ничего не помню». Но точно известно другое: последними написанными рукой Гиппиус словами были: «Я стою мало. Как Бог мудр и справедлив». Тоже ведь – о любви, о главной теме ее интимного потайного дневника!
Незадолго до смерти ее Тэффи бестактно сказала ей: «Вы странный поэт. У вас нет ни одного любовного стихотворения». «Нет, есть, – возразила Гиппиус и прочла: – Единый раз вскипает пена // И разбивается волна. // Не может сердце жить изменой, // Любовь одна…» «Это рассуждение о любви, – возразила Тэффи, – а не любовное стихотворение. Сказали ли вы когда-нибудь в своих стихах – “я люблю”?» Гиппиус, пишет Тэффи, промолчала и задумалась. «Такого стихотворения у нее не было…»
Не это ли было причиной ее вечного одиночества? Абсолютного одиночества, которое, строго говоря, еще надо заслужить. Ведь для тех, кто «не как все», одиночество равно Богу. Творчество – это всегда одиночество, мир и борьба – это тоже одиночество, ведь мы почти всегда сами себе враги; наконец, в одиночестве ты всегда больше, чем просто человек, ибо лишь в одиночестве можешь обнаружить в себе всё, что только есть на свете. Да, перед смертью Зинаида Гиппиус была абсолютно одинока, как бывает одинок человек, взобравшийся на высочайшую вершину. Не на умозрительную «лестницу» – на ледяной пик, за которым лишь облака, бездна, Бог. Одинока, как ракета, преодолевшая притяжение земли в поисках неземной любви. «Ракета», кстати, не мое сравнение. Так сказал о Гиппиус летописец русской эмиграции Юрий Терапиано: «Она всегда была подлинной русской патриоткой, глубоко любящей свою родину, – написал он и вдруг добавил: – В ней есть холодный блеск взлетающей с земли ввысь ракеты – ракеты, обреченной неминуемо разбиться о какое-нибудь небесное тело, не будучи в состоянии вернуться назад и рассказать нам о том, что там происходит…»
Поразительно, согласитесь! Она ведь и последнюю поэму писала будто бы с огромной, неземной высоты. «…Там, на земле, я женщиной считался, – писала. – Но только что заговорю стихами, // Вот как сейчас, сию минуту, с вами, // Немедленно в мужчину превращался…» А затем, непонятно уже и у кого вдруг, у Всевышнего, что ли, – спрашивала: «Как знать могу, кто я? // И было так до смерти. // Хотите верьте мне, а то не верьте… // Но я другого не могу сказать…»
Она, «неистовая Зинаида», если судить по этим последним строчкам ее, ушла от нас – загадочно. Как всё, что было связано с ней на земле. Не иначе, видно, чтобы остаться в памяти все-таки «не как все». Не как мы. Остаться «тайной тайн».
«Кирпич в сюртуке», или Учитель жизни Федор Сологуб
Я – Бог таинственного мира, Весь мир в одних моих мечтах. Не сотворю себе кумира Ни на земле, ни в небесах. Моей божественной природы Я не открою никому. Тружусь, как раб, а для свободы Зову я ночь, покой и тьму. Федор СологубСологуб (Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927) – поэт, прозаик, драматург. Автор великого романа «Мелкий бес». Жизнь звал презрительно «дебелой бабищей» и, смеясь, призывал смерть – «тихую избавительницу». Но когда к нему постучалась смерть, разрыдался: «Умирать надо?.. За что? Как смеют?» Это вот и сказало: он любил жизнь, как, возможно, никто другой.
У него были странные отношения с жизнью. Смиренные и агрессивные, открытые и замкнутые, как у вечного монаха. Я бы не рискнул писать о нем – страшновато, ведь тут тебе и «садо», и «мазо»! – если б не встречал, пусть и редко, похожих. И, знаете ли, в русской поэзии есть имена, чью жизнь хочется знать до подробностей, чтобы наполниться ими, а есть – чтобы освободиться от них и забыть. Стряхнуть наваждение.
«Посреди живых людей, – сказал он однажды, – встречаются порою трупы, бесполезные и никому не нужные… Не всякий труп зарывается в землю, не всякая падаль выбрасывается…» Жутковато, да?! Оглянуться хочется: да где же трупы, кто эти ходячие мертвецы? А ведь и его звали «живым трупом». Но многотомные сочинения его, не раз переизданные, – вот они: стоят на полке. Живут.
Сологуб был не просто декадентом – ортодоксом декаданса. Классиком вырождения. Отчаяние, душевную усталость, отвращение к жизни, бегство от нее и тем самым принятие всего низменного в мире – вот что проповедовал. И звал либо к наслаждению «чистым искусством», либо уж к скорейшему приходу «тихой избавительницы» – смерти. «Вырождение» – а ведь так назвал свою знаменитую книгу Макс Нордау, психолог, венгр, который еще в конце ХIХ века признал: мир летит к гибели. Ущербность, апокалиптические предчувствия, мессианство, «раса господ» и «сверхчеловеков» – вот признаки. Декаданс звал болезнью, но признавал: этот «недуг» не противоречит таланту и даже – гениальности. Музыкальность идиота, рифмы сумасшедшего, краски дегенерата-художника, в отличие от дегенерата-преступника, проявляются не в убийствах и разбое – в опасных мечтах и стремлениях. И имел в виду, вообразите, Бодлера, Рембо, Верлена, Уайльда, даже Метерлинка и Ибсена. Верхарна вообще обозвал «нравственным кретином». От них, писал, как от заразы, надо защищаться. Но ведь и весь Серебряный век, он ведь тоже – из декаданса, из упадка и вырождения. И первыми декадентами, читайте: «вырожденцами», стали в России Бальмонт, Брюсов, Мережковский. И наш герой – Сологуб.
Домик на Васильевском
У него не было детей, но он их – любил. Нежно любил чужих детей. И их же – порол. Ну, может, приговаривал к порке. Розги считал альфой и омегой воспитания. Я всегда помню об этом, проходя или проезжая мимо уютного двухэтажного домика на углу 7-й линии и Большого (С.-Петербург, 7-я линия В.О., 20). Особенно если застаю вдруг миг, когда родители забирают отсюда, из нынешнего детского сада, своих чад, уже которое по счету непоротое поколение державы.
Я писал об этом доме в книге о Серебряном веке Петербурга. Дом памятный. В нем располагалось когда-то Андреевское народное училище, где преподавал, причем закон божий, страшный революционер XIX века Сергей Нечаев – будущий организатор общества «Народная расправа», автор «Катехизиса революционера», реальный убийца, ставший героем «Бесов» Достоевского. И в этом же доме, но позже, восемь лет не просто учил детей математике, но жил в служебной квартире как раз наш сторонник порки и… тончайший поэт Федор Сологуб. Днем в этом здании попахивало свежими, отлично вымоченными розгами – «березовой кашей». А по вечерам в дворовом флигеле, ныне снесенном, где и жил Сологуб, «попахивало» (пардон, конечно, за сравнение) отличными, может, лучшими на то время стихами. Гостями поэта были здесь Бальмонт, Брюсов, Куприн, Зайцев, Кузмин, Вячеслав Иванов, Мережковские и Макс Волошин и совсем уж мальчики тогда – Андрей Белый и Блок. Именно Блока, издавшего уже книгу стихов, более известные тогда поэты Шуф, Вентцель, Уманов-Каплуновский, Рафалович, Мейснер, Коринфский (имя им – легион!), которые тоже толпились тут, снисходительно звали «сумасбродным декадентом» и категорически не хотели принимать в свой круг. К счастью, его принимал Федор Кузьмич Тетерников, учитель-инспектор, как называлась его должность, и он же – поэт Сологуб. Впрочем, по роли и значению Сологуба в русской словесности его и тогда можно было назвать «учителем-инспектором» этой самой «словесности».
Вообще-то фамилия его была Тютюнников, в Тетерниковых его предки превратились позже. А псевдоним «Федоръ Сологубъ» ему, не особо трудясь, придумал забытый ныне поэт Минский, тоже декадент. Придумал «по неудачной ассоциации» со знаменитым писателем Соллогубом, как пишет Зинаида Гиппиус. «Только и было его выдумки, что одно “л” вместо двух в имени старого, весьма среднего писателя графа Соллогуба». На авторство претендовал и хорошо знакомый нам уже Аким Волынский. Через много лет, в 1924-м, на собрании по случаю сорокалетия творческой деятельности Сологуба, именно Волынский со сцены Александринского театра скажет: «Примите, дорогой друг, приветствие от вашего литературного крестного отца. Мне выпало на долю дать вам псевдоним, который прославил вас в литературе…» Но именно Минский познакомил Сологуба с Зинаидой Гиппиус, тогда уже законодательницей мод в литературе. «Как вам понравилась наша восходящая звезда? Можно ли вообразить менее “поэтическую” наружность? Лысый, да еще каменный… Подумайте!» – спросил ее Минский, когда Сологуб, торопливо простившись, ушел. «Нечего и думать, – фыркнула та. – Никакой ему другой наружности не надо. И сидит – будто ворожит…» Сологуб ей понравился, она назовет его «одним из лучших русских поэтов и русских прозаиков» и, несмотря на склочный характер, на нетерпимость, будет дружить с ним – «кухаркиным сыном».
А он, если быть точным, «кухаркиным сыном» не был – был сыном крепостного украинского портного и прачки с Могилевской улицы, где с четырех лет жил с родителями (С.-Петербург, Лермонтовский пр-т, 19). Ходил, правда, слух, что дед поэта был внебрачным сыном какого-то черниговского помещика Иваницкого, что-де кровь поэта была «не простая». Но Сологуб гордился другим – тем, что «сам себя сделал». Сначала, когда мать его (отец умер уже) жила «у хозяев» на Минской улице (С.-Петербург, Минский пер., 3), он, совсем крохой еще, нашел на улице конфету и на фантике сам прочел по слогам первое слово – «общий и мой восторг». Потом, на другой «господской квартире» (С.-Петербург, Прачечный пер., 10), зная, что непременно будет бит, отдал свои рукавички мальчику-соседу, а тот их не вернул. А позже, когда семья переехала в богатый дом (С.-Петербург, Климов пер, 7), не только сам выучился писать, но полюбил театр – у хозяев был абонемент в оперу. В десять лет был потрясен голосом итальянки Аделины Патти, а в двенадцать, закончив городское училище (С.-Петербург, Никольская пл., 6), написал первое стихотворение. Мечтал стать поэтом, но после Учительского института (С.-Петербург, 13-я линия, 28) десять лет преподавал в провинции математику. Рвался в столицу, наставника институтского забрасывал письмами: «Нужен ли мне Петербург как средство развития таланта, или никаких талантов у меня нет… Как это определить? Поверить в свои неудачи?.. Поверить в свои мечты?» Короче, сначала его возьмут учителем в столичное Рождественское училище (С.-Петербург, Суворовский пр-т, 16), а потом, в Андреевском, он вырастет до инспектора. Превосходным, кстати, окажется педагогом.
А розги, спро́сите? Не знаю. Какая-то патология, нечто темное, нутряное. Учитель, поэт, знаток душ человеческих и не только сторонник телесных наказаний – теоретик порки, горячий защитник экзекуций. Добро бы сам был не бит, так нет же, драли его нещадно. Ежедневно. В поэтическом дневнике, чудом сохранившемся, я насчитал свыше шестидесяти стихов, описывающих, как секли и за что. За плохо вымытый пол, за «чёрта», вырвавшегося в разговоре, за потерянную копейку, кляксу в тетради, хлебный шарик, который машинально «скатал за столом», «иль на уроки отправляясь, обуться рано поспешил, или, с уроков возвращаясь, штаны по лужам замочил…» Пишет, как, раздетого догола, бросали на грязный пол, связывали руки-ноги, а в школе привязывали к раздвинутым партам и с приговорами да смешками превращали задницу в кровавое месиво. «Сестра смеялась, рядом стоя, смеясь, стегали сторожа. Лежал я голый, плача, воя, в порывах тщетных весь дрожа». Двести ударов ребенку – шутка ли? Уже в институте ему было неловко раздеться на медосмотре, ибо спина была исполосована. А последний раз высекли, когда он – непредставимо! – сам был учителем, в двадцать два года. Всыпали сто «горяченьких» по настоянию матери за кражу яблок в чужом саду. Ужас, скажете? Нет, он сам написал потом, что на душе сразу стало спокойно: «Провинился, да за то и поплатился». Хотя на деле всё, кажется, было сложнее. Он, пишут, испытывал мазохистское удовольствие от порки. Сестра его Ольга, регулярно спрашивая в письмах, били ли его, напоминала: «Ты пишешь, что маменька тебя часто сечет, но ты сам знаешь, что… когда тебя долго не наказывают розгами, ты бываешь раздражителен и голова болит». Он же в статье «О телесных наказаниях» невольно проговорится не только о «приливе крови к некоторым органам», но и о странном «наслаждении» от порки. Огромная эта статья, хоть и не законченная, была написана им в тридцать лет.
Из статьи Сологуба «О телесных наказаниях»: «Следует наказывать ребенка непременно сильно и большим количеством ударов… Слабеет без розог родительская власть, да и одна ли родительская?.. Мы убеждены… люди, которые возвысят теперь голос в защиту розог, будут иметь успех… Нам нет дела до безотчетных антипатий общества. Оно гибнет, и нужно ему помочь, хотя бы розгами… Что может быть проще порки?.. Нужно, чтобы ребенка везде секли – и дома, и в школе, и на улице, и в гостях… Дома должны пороть родители, старшие братья и сестры, няньки, гувернеры и даже гости. В школе… учителя, священник… сторожа, товарищи… На улицах надо снабдить розгами городовых: они тогда не будут без дела…»
Такая вот «педагогика»! Привет Песталоцци, Макаренко, Симе Соловейчику! Хотя ненависти к ученикам он не испытывал. «Чувствовалась в нем затаенная нежность, которой он стыдился, – вспоминала Тэффи. – Вот… прорвалось у него как-то о его учениках: “Поднимают лапки, замазанные чернилами…” Нежность души своей, – пишет она, – он прятал. Он хотел быть демоничным». Может, это – ответ? Может, «демонизма» ради он захочет скоро выпороть и ту, которая станет его женой?.. Невесту высечь…
Вообще всё в нем, «подвальном Шопенгауэре», было противоречиво. Лирический поэт и автор учебника по геометрии, человек верующий и «сатанист» (в одном из романов хотел вывести Христа «светским господином», причем с визитной карточкой «Осип Осипович Давидов»), радушный хозяин и, по словам Василия Розанова, философа и друга, – «кирпич в сюртуке». Наконец, автор душного, но великого романа «Мелкий бес», где по стенкам размазал мещанство, но сам – буквально купавшийся в мещанстве. В классическом, ритуальном мещанстве…
Квартиру его в училище вспоминают многие. Добужинский, художник, пишет про обои в цветочек, фикусы в гостиной, мебель в чехлах. Зайцев, молодой тогда писатель, наезжавший из Москвы, помнит о рододендронах, разноцветных лампадках в углах, кисловато-сладком запахе и о «тусклой хозяйке» дома (сестре Сологуба Ольге). Ольга зарабатывала шитьем, хотя окончила повивальный институт и одно время на дверях их с братом квартиры на Поварском (С.-Петербург, Поварской пер., 1), а потом – и на Петербургской стороне, где жили всего год (С.-Петербург, Малый пр-т П.С., 69), висела табличка: «Акушерка Тетерникова». Тэффи отзовется об Ольге: «Плоскогрудая, чахоточная старая дева, брата обожала и побаивалась, говорила о нем шепотом». Побаивалась ли? Ведь именно она, когда умерла мать, взяла на себя «роль “женщины-палача”» – сама стегала розгами будущего классика.
Хозяином Сологуб был щедрым, приветливым. В квартире на 7-й линии, где гости сидели до утра, ходил вкруг стола и потчевал гостей: «Вот это яблочко коробовка, а вот там анисовка. А это пастила рябиновая». Смущал, правда, «загробный голос», когда приговаривал: «Кушайте, господа! Прошу вас, кушайте!..» Выглядел лет на двадцать старше. «Лицо у него было бледное, безбровое, около носа бородавка, жиденькая бородка, – писала Тэффи. – Он никогда не смеялся». Бородавка, которую поминают едва ли не все, портила его. Сомов, рисуя Сологуба, старательно затушевал ее. А поэт Фофанов, так тот, когда, подвыпив, они вышли из одной редакции, прямо предложил вырвать ее «к чертовой матери». «Ну, и вправду начал вырывать», – рассказывал Сологуб, да руки у пьяного дрожали, никак захватить ее не смог.
Что еще? Как всякий бедный учитель, любил рестораны, и его часто можно было видеть то в кафе-шантане «Аполло», где они с Чулковым и Блоком распивали бутылочку-другую, то в ресторане «Кин». Любил слегка подворовывать в литературе, даже признавался в плагиате. «Я когда что-нибудь воровал – никогда печатно не указывал источников. И забавно… меня не могли уличить». Конечно, не переписывал чужих книг – заимствовал по «чуть-чуть». Он вообще скажет потом нечто ошеломляющее: «Новым Пушкиным будет только такой поэт, который беззастенчиво и нагло обворует всех своих современников и предтеч…» «Человек, – скажет, – для того и приходит в мир, чтобы совершить зло… Поэтому вся жизнь наша – зло – и каждый человек зло в себе носит. И каждое творчество – зло, и всякое зло – творчество. В этом подлинная красота, в этом – Вечное». А вот о «житейском», о «быте» не говорил никогда. Ни на «средах» у Леонида Андреева, где собирался писательский бомонд (С.-Петербург, Каменноостровский пр-т, 13), ни у Тэффи и на Боровой (С.-Петербург, ул. Боровая, 11–13), и потом – на Бассейной (С.-Петербург, ул. Некрасова, 17). Впрочем, и о возвышенном – тоже не говорил. На «Башне» Вяч.Иванова (С.-Петербург, ул. Таврическая, 35), где он и встретится с будущей женой Анастасией Чеботаревской, после чтения Брюсовым стихов о «тайнах загробного мира» его спросят: «Ну, а вы, Федор Кузьмич, почему не скажете своего мнения? Ведь какая тема – загробный мир…» – «Не имею опыта», – утробно отрежет он. Через пятнадцать лет, когда жена Сологуба покончит с собой, тема «загробного мира» станет ему гораздо ближе. Он даже попробует математически высчитать, есть ли жизнь после смерти, встретит ли он на том свете ее – любимую Настичку?
Знакомство с Настичкой (по версии Георгия Чулкова) случилось не на «Башне» – в одном из ресторанов на Невском. Просто в 1908-м поэты повально увлеклись писанием каламбуров, и Сологуб, шутя, предложил основать соответствующее общество. В отцы-основатели пригласил Блока, Эрберга и как раз Чулкова, к которому заходил запросто (С.-Петербург, Зоологический пер., 5). Как-то утром, пишет Чулков, Сологуб «пресерьезно объявил, что необходимо петербургским “каламбуристам” сняться у знаменитого фотографа Здобнова». Вызвали Блока и Эрберга и отправились к Здобнову, в его ателье (С.-Петербург, Невский пр-т, 10). Потом в ресторан – завтракать. Выяснилось, что ни один «не склонен» уже работать в этот день. Пошли в другой ресторан – обедать. И вот туда-то позвали знакомых дам, в том числе и Чеботаревскую, «хорошенькую кошечку» или «гетерку литературную», как обозвала ее жена Вяч. Иванова. Обед перешел в ужин, ибо Чулков пишет: «Кажется, в тот же вечер и определилась судьба ее и Федора Кузьмича». Ее – то есть Настички. Есть, впрочем, и третья версия знакомства. Просто Чеботаревская, а она работала в «Журнале для всех», готовя какой-то справочник о писателях, обратилась и к Сологубу: не заполните ли «анкетку»? Но – Невский, Невский в их судьбе свою роль сыграет. Даже не сам Невский – два соседних дома на нем. В первом из них, в доме 42, где жил когда-то Тютчев, в кафе на первом этаже собрались однажды Сологуб, Блок, Чеботаревская, поэтесса Вилькина, Чулков и, прошу прощения, какая-то проститутка – «новая подруга Блока». Людмилу Вилькину, жену того самого поэта Минского, и «заманят в кафе» именно ею: та еще никогда не видела проститутки. Вилькина даже не решалась дотронуться до ее стакана – боялась заразиться, но потом, напротив, начала вдруг целовать девицу, прямо-таки влюбилась в нее. Навеселе, всей компанией двинули в какие-то меблированные комнаты. Там Вилькина упала на кровать и закричала: «Я лежала, лежала на этой кровати! Засвидетельствуйте, что я лежала». Ей, видимо, почудилось, что она тоже – падшая, что в меблирашках бывают одни проститутки. «Затем, – пишет Чулков, – нас разделили. Сологуб потребовал: чтобы получить долг с Чеботаревской, он должен был ее высечь. Мы с Вилькиной бежали в ужасе от этого разврата…» Высечь тридцатитрехлетнюю женщину! Фантазия, оскорбление – не знаю! Впрочем, дальше вообще полный мрак: какой долг был за ней, состоялась ли «порка» или это была всего лишь пикантная шутка загулявшего поэта? Известно другое: через три месяца Сологуб и Чеботаревская уже встречались постоянно. И встречались, представьте, в соседнем доме, в доме 40, прямо над книжным магазином Суворина, в “Café de France”. В письме от 3 июля 1908 года Сологуб зовет Чеботаревскую туда, напоминая: «Где мы пили оршад». И называет ее Анастасией Николаевной. А уже в следующем послании анахорет и «кирпич в сюртуке» неузнаваем: Чеботаревскую зовет «Настичка», просит «милую дерзилочку» не «надувать» его в очередной раз, а заканчивает и вовсе легкомысленно: «Целую всё и еще что-нибудь…»
«Рада за Вас, моя хорошая, – напишет Чеботаревской через две недели одна из подруг ее, актриса Валентина Щеголева, – ничего, что трудно подчас уступать, без этого нельзя, одинаковых индивидуальностей нет, а Сологуб – слишком крупная и положительная сила… Его нужно любить, и он стоит этого… Может быть, только к тридцати годам мы и научаемся по-настоящему ценить людей». А еще через три недели Настичка переедет к Сологубу на его новую квартиру, на улицу Широкую (С.-Петербург, ул. Ленина, 19). Официально мужем и женой они станут только через шесть лет.
«Пляски»… дневные и ночные
«Писатель должен быть самолюбив, – говорил он. – Только многие это скрывают. И я – тоже. Но в глубине души я всегда недоволен… Какие бы хорошие статьи обо мне ни писали – я недоволен, если меня считают ниже Шекспира». Говорил без иронии. Шекспиру подражал еще в институте, где его, смеясь, звали «поэтом» и говорили: «Читает Шекспира: прочтет и подражает…» Шекспир для него – «пунктик». Он и за три года до смерти скажет: «Как ни пиши, а лучше Шекспира – не напишешь. Писать же хуже, чем он, нет смысла. Что же делать? Ложись да помирай…»
Помирать не собирался. Напротив, сойдясь с Настичкой, начал вторую, новую и, прямо скажем, искрометную жизнь. Друзья, знакомые, даже литературоведы делят ныне его жизнь пополам: до и после женитьбы. Именно жена, по словам Тэффи, «перекроила» быт Сологуба «по-ненужному». То есть «по-нужному» для себя, для Настички…
Чеботаревская родилась в Курске, шестой ребенок в семье. Ей было три, когда мать ее, заболев душевно, покончила с собой. «Ребенок, который не знал матери, – вспоминала, – что может быть ужаснее». Впечатлительная, нервная, жившая в нужде Настя давала частные уроки, служила в статистическом комитете, писала, переводила, бегала по урокам, редакциям, конторам. С 1902 года училась в Париже в Русской Высшей школе общественных наук у М.М.Ковалевского и одновременно работала его секретарем. В 1903-м помимо статей, обзоров, критики напечатала даже рассказ «В сумерках». А вернувшись в 1905-м в Петербург, стала работать в «Журнале для всех», где влюбилась в редактора-издателя В.С.Миролюбова. И лишь потом в ее жизни возник Сологуб.
«Быть вдвоем – быть рабом», – любил повторять поэт, до того – стойкий холостяк. Теперь же охотно был как раз рабом, ибо с приходом Чеботаревской «грубая и бедная» жизнь поэта превратилась, как Настичка и хотела, в «сладостную легенду». Теперь в жизнь его ворвались букеты, премьеры, ужины на много персон, балы и даже домашние маскарады. Салон Сологуба. Блок, получая приглашения на вечера его, писал: «Я не знал, куда от них спастись». Но – ходил! Забавно ведь. На одном из костюмированных балов у Сологуба, где лихо танцевали польку, кэк-уок и матчиш, хозяин, к примеру, нарядился в костюм римского сенатора, Волошин оделся тибетцем, Толстой – Вакхом в леопардовой шкуре, а Тэффи – вакханкой. Более обнаженной, чем одетой, ворчал Фидлер. «Она, – записал он в дневнике о Тэффи, – столь цинично позволяла касаться различных частей ее тела и сама столь бесстыдно хватала других, что я был безмерно счастлив, что не взял с собой дочь». Зло добавил: «В разных углах дивана сидели и обнимались парочки». Разочарованно присовокупил: «Не преступая, впрочем, запретной черты…» И уж совсем разобидевшись, закончил: «Ужин подали только в пять утра, и он оказался столь скудным, что многим ничего не досталось». Ему, видимо, и не досталось…
Теперь в салоне Сологуба толклись не только поэты – антрепренеры, импресарио, репортеры, «кинематографщики». Художники встречались здесь с политиками, эстрадные актрисы – с философами. Бывали Бальмонт, Сомов, Зелинский… Не вылезал отсюда Северянин (не вылезал из какой-то турецкой комнаты, где убалтывал понравившихся ему актрис до «бессловесных поцелуев»). Северянина ведь чуть не за ручку ввел в поэзию именно Сологуб: решил «выдвинуть» «из мрака неизвестности», помог напечатать первый сборник «Громокипящий кубок», но главное – написал предисловие, «больше похожее на стихотворение в прозе». Но, когда у Сологуба собирались только поэты, он, как и прежде, заставлял их читать стихи по кругу. Потом – по второму кругу, по третьему. Когда кто-нибудь говорил, что у него нет третьего стихотворения, упорствовал: «А вы поищите в кармане, найдется…» Тэффи однажды в качестве третьего стиха прочла пушкинское «Заклинание». «Никто не слушал, – пишет. – Только Бальмонт при словах “Я жду Леилы” чуть шевельнул бровями. Но, когда я уходила, Сологуб промямлил в дверях: “Да, да, Пушкин писал хорошие стихи…”» Пушкин-де – не Шекспир. Не потому ли в другой раз, как пишет уже Ахматова, он вдруг «наскочил» и на Пушкина: «Этот негр, который кидался на русских женщин!..» Спорить с ним умела лишь Оленька Судейкина, актриса, танцовщица, в которую Сологуб был перманентно влюблен. «У вас тоже так сказано, Федор Кузьмич!» – кокетливо напирала она, и Сологуб умолкал: «Ну что ж, и у меня бывают промахи…»
Теперь повести и рассказы Сологуб писал вдвоем с женой, хотя поначалу и скрывал это. «Так не чувствовалось в них даже дыхания Сологуба, что многие, в том числе и я, – вспоминала Тэффи, – решили, что пишет их одна Чеботаревская. Догадка подтвердилась». Он и сам признается позже, что печатал под своим именем вещи Настички – так больше платили. Презирал критику, поднимавшую «шум и бум» из-за небрежно написанных «пустяков». «Что мне еще придумать? – огрызался. – Лысину позолотить, что ли?..» А Чеботаревская, хорошая, кстати, переводчица – она первой в России перевела роман Стендаля «Красное и черное», – тоже защищаясь, стала, по словам Северянина, делить людей на «приемлемых» и «отторгнутых».
Из очерка Игоря Северянина «Салон Сологуба»: «Вообще Чеботаревская… в своих симпатиях и антипатиях… оставалась всегда себе верной. Периодическое издание, на страницах коего кто-либо осмеливался когда-нибудь хотя бы чуть неодобрительно отозваться о Сологубе, никогда уже не могло рассчитывать… на сотрудничество Сологуба. Она за этим следила зорко. Были люди… которые приводили ее в неистовство… С пылом и подчас беспощадной какою-то кликушескою резкостью порывала всякие отношения. В своем боготворении Сологуба, сделав его волшбящее имя для себя культом, со всею прямотою и честностью своей натуры она оберегала и дорогого ей человека, и имя его. Всю жизнь, несмотря на врожденную кокетливость, склонность к флирту и эксцессность, она оставалась безукоризненно верной ему, и в наших духовно-обнаженных беседах неоднократно утверждала эта некрасивая, пожалуй, даже неприятная, но все же обаятельная женщина: “Поверьте, я никогда и ни при каких обстоятельствах не могла бы изменить Федору Кузьмичу…”»
Северянин и поверил, но мы, если вспомним невнятную проговорку Ахматовой, что Настичка убила себя из-за какой-то «любовной истории» и что в смерти ее как-то «виноват» поэт Кузмин, верить поостережемся. Впрочем, Сологуб, не подозревая ни о чем, платил ей верностью на деле. И если на «вакхических вечерах» в кругу ближайших друзей он и «истомлял» себя какой-нибудь «утонченкой», то дальше «неги», уверял Северянин, дело не шло…
Вообще о «милой Настичке» чаще вспоминали нехорошо. Говорили, что она создала вокруг мужа «атмосферу беспокойную и напряженную». Георгий Иванов, юный поэт тогда, высмеивал в ней именно беспокойство. «О чем? О всем. Во время процесса Бейлиса, в обществе эстетическом и безразличном и к Бейлису, и ко всему на свете, хватала за руки каких-то незнакомых ей дам, отводила в угол каких-то нафаршированных Уайльдом лицеистов и, мигая широко открытыми “беспокойными” глазами, спрашивала скороговоркой: “Слушайте. Неужели они его осудят? Неужели они посмеют?” – “Дда… ваазмутительно…” – бормотал лицеист, любезно изгибая стан и стремясь поскорей от нее отделаться… С той же легкостью, с какой находила мнимых друзей, видела повсюду мнимых врагов. “Враги” – естественно – стремились ущемить, насолить. Подставить ножку Сологубу, которого она обожала… Донести на него в полицию (о чем? ах, мало ли что может придумать враг!). Умалить его славу, повредить его здоровью. И ей казалось, что новый рыжий дворник – сыщик, специально присланный следить… И чухонка, носящая молоко, вряд ли не подливает сырой воды “с вибрионами” нарочно, нарочно…» «Милая Настичка» и покончит с собой, говорили, не из-за «циркулярного психоза», как установлено ныне, а именно из-за боязни, что большевики и мужа ее вот-вот расстреляют, как расстреляли Гумилева…
Поэтов молодых Сологуб, став мэтром, не жаловал. «Ободрять молодых? Да их надо истреблять, наглецов!..» Когда из Москвы приехал какой-то присяжный поверенный, Сологуб, кажется, уже на Гродненском (С.-Петербург, Гродненский пер., 11), издевался над ним весь вечер. «Ну а теперь московский присяжный поверенный прочтет нам свои стихи». Или: «Вот какие стихи пишут московские присяжные поверенные». А влюбленному в него Мандельштаму, который чуть ли не наизусть знал его стихи, вообще отказал в разговоре. Мандельштам, напечатавшись в «Аполлоне», позвонил Сологубу, желая приехать к нему. «Зачем это?» – осадил его Сологуб. «Чтобы прочесть стихи». – «Я их уже читал». – «И услышать ваше мнение…» – оробел Мандельштам. «Я не имею о них мнения», – отрезал. Потом стороной узналось: мнение имел, и более того – прозвал Мандельштама «поэтессой»…
Молодых писателей не жаловал, зато обожал молодых женщин. Когда Евреинов и Михаил Фокин в шикарном дворце княгини Юсуповой (С.-Петербург, Литейный пр-т, 42), в театральном клубе «Лукоморье» поставили пьесу Сологуба «Ночные пляски», то в ней должны были танцевать двенадцать обнаженных «королевен-босоножек». Спектакль был разовым, его лишь однажды повторили, но уже в «Зале А.Павловой» (С.– Петербург, ул. Рубинштейна, 13), и потому – оригинален. Вместо актеров в нем были заняты поэты, художники, драматурги. Такой вот междусобойчик 1909 года. Тэффи пишет, что Сологуб сам предлагал всем играть в его пьесе, хотя почти у всех «актеров» во рту оказалась «настоящая каша».
Из «Воспоминаний» Н.Тэффи: «Так, Сергей Городецкий ни за что не мог выговорить слово “волшебный”. Он отчетливо говорил “ворфебный”. В этой постановке играла жена Городецкого – Бел-Конь Городецкая… короля Фряжского играл Ауслендер, короля Басурманского – г р. А.Толстой, короля Зельтерского – Н.Гумилев. Королевича Датского играл И.Билибин, королевича Американского – Л.Бакст, богатого купца – П.Потемкин, юриста – Ю.Верховский, критика – драматург О.Дымов, а гусляра – Б.Кустодиев…»
А одну из «босоножек» играла Судейкина, которой Сологуб посвятит легкомысленный экспромтик: «Оля, Оля, Оля, Оленька, // Не читай неприличных книг. // А лучше ходи совсем голенькая // И целуйся каждый миг!..» Глупость, конечно, но на «живой труп» он, как видите, не походил уже. Он поставит «Оленьку» в пример другой писаной красавице, поэтессе Крандиевской. «Не будьте буржуазкой, – подначивал ее, – вам, как и всякой молодой женщине, хочется быть голой… Хочется плясать босой. Берите пример с Олечки… Она – вакханка… И это прекрасно…»
Красавица Крандиевская, в которую влюблялись уже и Бунин, и Бальмонт, не согласилась. Она еще пожалеет об этом, вспомнит Сологуба, когда тот буквально выживет из города ее «Алешку Толстого». Из-за хвоста выживет. Тоже – занятная история.
Мэтр и… обезьяна
Да, женитьба разделила жизнь поэта на две половины: до и после нее. Но кто бы знал тогда, что она расколет на два лагеря и весь Петербург? Из-за обезьяньего хвоста. «Громыхательная история!», как выразится одна дама.
Вообще, анекдоты, розыгрыши, остроты и шутки ценились у Сологуба. Он и сам любил и умел смешить – напрасно Тэффи говорила, что он никогда не смеялся. Еще как! «Мы почти всё время хохотали, – пишет тот же Фидлер, – причем громче и искреннее других – Сологуб (широко открывая рот, так что дыра, образованная двумя отсутствовавшими верхними зубами, прямо-таки зияла). Я убежден, – заканчивает, – что человек, способный так невинно, от души смеяться, не может обладать злым сердцем…»
Шутил, правда, Сологуб рискованно: иногда – тонко, иногда – не очень. Любил вдруг сказать: «Сегодня будет скандал!» Почему? Как? С чего бы? – вздрагивали гости. «А это такая теорема, – хитро щурился поэт-математик, – где люди, там скандал». Обратная: «Где скандал, там люди». Противоположная: «Где нет людей, нет скандала». Другая «теорема» была про водку: «Где люди, там водка»… Иногда шутил «действием»: свет выключал. Стоило гостям перейти в зал и с коньяком развалиться на диванах, а то и на диванных подушках, разбросанных по полу, как свет вдруг гас. Наступала нервно посмеивающаяся, истомно вздыхающая, «мягко поцелуйная» тишина. А когда хозяин поворачивал выключатель, яркий свет «заставал каждого в позах, могущих возникнуть только без света». Смеху, стыда, румянца, лепета оправданий не было конца. И лишь однажды всем стало не до смеха – как раз «из-за хвоста». Случай, прогремевший на всю столицу (ведь дело до суда дошло, правда, третейского), произошел на очередном маскараде у Сологуба в его новом доме – уже на Разъезжей (С.-Петербург, ул. Разъезжая, 31).
Из воспоминаний «Ушедшее» московской актрисы Л.Рындиной: «В следующий приезд в Петербург я заметила, что некоторые лица, составлявшие раньше общество Сологубов, у них теперь не бывают. Я спросила о причине Анастасию Николаевну, она сухо сказала: “Не хочу их видеть…” Встретив Алексея Николаевича Толстого, раньше частого гостя Сологубов, спросила, в чем дело. Толстой со свойственным ему юмором ответил: “Да всё из-за обезьяньего хвоста!”… Оказывается, литераторы устраивали маскарад… Ремизов, как всегда иронически, сказал: “Мне бы только дали обезьяний хвост, вот я и буду обезьяна”. А Сологубы для этого маскарада одолжили у знакомых две драгоценные обезьяньи шкурки. Толстой, не смущаясь, у одной из этих шкурок отодрал хвост и прицепил Ремизову… После Анастасия Николаевна стала просить отдать ей шкурки, – одна оказалась без хвоста. Как ни искали этот хвост, не нашли. Анастасию Николаевну возмутила дерзость Толстого, оторвавшего хвост… Одним словом, произошла ссора. Часть писателей была на стороне Сологубов, другая защищала Толстого, и дружная раньше компания раскололась. Вот откуда родились у Алексея Ремизова его Обезьянья палата и ее сановники…»
Здесь многое не так. Алексей Михайлович Ремизов – может, самый необычный писатель Серебряного века и, прямо скажем, странный человек, с поэтами дружил, но дружбой какой-то кривобокой. Тот же Сологуб бывал у Ремизова и на 5-й Рождественской (С.-Петербург, ул. 5-я Советская, 38), и в Казачьем (С.-Петербург, Малый Казачий пер., 9), и на Таврической (С.-Петербург, ул. Таврическая, 3). «В их часто меняющихся городских квартирках, – вспоминала о Ремизове Тыркова-Вильямс, – праздники… справлялись с бытовыми подробностями… В Сочельник на стол, под скатерть, клали сено, ели кутью и взвар… Потом зажигали елку… В елке принимали участие… и его чертенята… Они висели в его кабинете на веревочках, протянутых от стен к центральной висячей электрической лампе. Кого тут только не было. Зайчата и мышки разного роста и происхождения, дареные, купленные, вырезанные из бумаги самим Ремизовым… Среди них Ремизов, сказочник и выдумщик, бродил, как колдун, повелитель гадов и бесов. Он и прическу себе устроил с двумя вихрами, похожими на рожки. Не то козел, не то кто-нибудь похуже… Но с ним считались, прислушивались к его оценкам, справедливым и честным…»
Так вот, о хвосте. Рындина ошибается, Ремизов задолго, за три года до маскарада у Сологубов, «сочинил» свое шутовское общество – «Обезьянью Великую и Вольную Палату», или сокращенно «Обезволпал». «В палату, – вспоминал потом К.Федин, – выборы производил сам Ремизов, носивший звание “старшего канцеляриуса”, в то время как сочлены величались кавалерами, князьями, епископами и другими титулами, иногда лестными, иногда нет, вроде “великого гнида”». «Палата» жила лишь в воображении Ремизова, никаких собраний не было, он играл в это «общество» как бы «про себя». Кавалерами ордена были Бенуа, Сомов, Бердяев, Добужинский, даже Ахматова. И, конечно, в мемуарах свидетелей этот обезьяний «всешутейский собор» и не мог не «срифмоваться» с пропавшим хвостом обезьяны.
Кражу хвоста вспоминали по-разному. Чулков пишет, что Ремизов потребовал для костюма не хвост, а всю обезьянью шкуру. Чеботаревская достала ее, но отдала, предупредив: обращаться с ней бережно. «Представьте себе ее ужас, – пишет Чулков, – когда любитель шуток явился на вечер в своем обычном пиджаке, из-под которого торчал обезьяний хвост… Сам хитрец, – пишет Чулков, – вышел сух из воды. Но вокруг “хвоста” разыгрались страсти. Полетели письма с взаимными оскорблениями…» Скандалу этому посвящены и ныне чуть ли не книги, но истины и сейчас не знает никто. Вроде бы накануне маскарада еще у Толстых был «вечер ряженых» (С.-Петербург, Невский пр., 147). И именно для него Чеботаревская раздобыла шкурки. Ремизов, объясняясь потом, прямо напишет ей.
Из письма Ремизова – Чеботаревской: «Как попал ко мне хвост. 2-го я пришел к гр. А.Н.Толстому. У Толстого застал гостей – ряженых. Какой-то офицер играл, а ряженые скакали. На ряженых были шкуры. Дожидаясь срока своего – чай пить, стал я ходить по комнате. На диванах разбросаны были шкуры. Среди шкур я увидел отдельно лежащий длинный хвост. Мне он очень понравился. Я его прицепил себе без булавки за штрипку брюк и уж с хвостом гулял по комнате. Пришел А.Н.Бенуа. Видит, все в шкурах, вытащил какой-то лоскуток и привязал к жилетке. Тут ряженые стали разыгрывать сцену, и всё было тихо и смирно – никто ничего не разрывал и не резал… Уходя от Толстого, попросил я дать мне хвост нарядиться. Толстой обещал… 3-го я зашел к Толстому, получил от него хвост, прицепил его без булавки и поехал к Вам. У Вас, когда надо было домой, я… отдал его Алексею Николаевичу. Я взял хвост таким, каким мне его дали. Я его не подрезывал. С вещами я обращаюсь бережно… Лапок я тоже не отрывал. И не видал. Очень всё это печально…»
Не печально – смешно. А.Варламов, биограф Толстого, в жэзээловской книге своей полагает: сыр-бор разгорелся из-за того, что не мужья – Сологуб и Толстой – враждовали, а их жены. Софья Дымшиц-Толстая и Чеботаревская недолюбливали друг друга. И лишь после них в бой вступили и Сологуб, и Толстой. А кроме того, пишет Варламов, существуют воспоминания Дымшиц-Толстой, которые никто не читал еще и которые хранятся в Русском музее. Там-то и всплывает имя Бенуа. «Часто бывал на наших журфиксах Александр Бенуа, – пишет Дымшиц. – Несмотря на свой уже почтенный возраст, этот художник так и искрился жизнедеятельностью. Так, помню, собралась у нас целая группа художников и писателей. Тут выяснилось, что в этот вечер должен состояться маскарад в доме писателя Сологуба. Сразу встает вопрос, как нам всей группой… нарядиться. А надо сказать, что в нашем распоряжении имелись обезьяньи шкуры, взятые для костюмов у Сологуба и Чеботаревской… Александр Николаевич (Бенуа), недолго думая, отрезал у обезьян хвосты и прицепил их мужчинам, а женщины завернулись в шкуры. Меня нарядили мальчиком и дали в руки хлыст, так как я должна была изображать укротителя зверей…» Софья Исааковна пишет, что всё было «прекрасно», и все были в восторге от экспромта Бенуа. Но когда Чеботаревская увидела отрезанные хвосты, она написала Толстому письмо «с оскорбительными выпадами» по ее адресу. Толстой не остался в долгу, и ответ его был составлен «в крайне хлестких и метких выражениях». Дело «чуть не кончилось дуэлью». Правда, никто не мог понять, как всё это могло наделать «столько шуму» и – более того – войти «в историю литературы»?
Короче, ни Ремизов, ни Толстой не выдали Сологубам главного виновника – Бенуа. Уж почему – неясно. Все кивали друг на друга, был учинен даже третейский суд – не прямо «по поводу шкурок», но в связи с ними, – в котором посредником стал Блок, а арбитром – сам Вячеслав Иванов. Суд обязал Толстого послать Сологубу свои извинения. Тот написал столь «хитрое» письмо, что судьи вынуждены были приложить к нему свои дополнения. «Милостивый государь Федор Кузьмич, – написал Толстой всего одну фразу, – осуждая свой образ действия, приношу Вам вместе с заявлением моей готовности дать Вам дальнейшее удовлетворение мои полные извинения, поскольку Вы справедливо можете признать себя оскорбленным в лице Анастасии Николаевны, и покорнейше прошу Вас передать таковые же извинения самой Анастасии Николаевне». Точка! Толкователи дописали: «Слова “поскольку Вы справедливо можете признать себя оскорбленным” значат, по мысли графа А.Н.Толстого, “так как Вы справедливо можете признать себя оскорбленным”, – в чем свидетельствуем подписью. Вяч.Иванов, А.С.Ященко, Георгий Чулков, Евг.Аничков, Александр Блок…»
Ну мог ли Сологуб после всего этого не возненавидеть Толстого? Он не просто перестал принимать его у себя – стал требовать, чтобы его не принимали и в знакомых домах. В журналах заявлял: он не станет «работать» с ним в одних изданиях. Словом, Толстой, тогда еще не «генерал» от литературы, бороться с мэтром не смог и – покинул Петроград. Но, если уж быть совсем точным, увез жену – и потому, что та откровенно заглядывалась на одного рослого офицера и поэта, который кружил голову не только ей, но и Судейкиной, и даже Ахматовой. Впрочем, судьба посмеется еще и над Толстым, и над Сологубом. Они еще будут жить не только на одной улице, не только в одном доме – в одном подъезде. Правда, Толстой будет уже бронзовеющим на глазах воспевателем нового режима, а Сологуб – тем же режимом уничтожаемым. Недаром именно Сологуб, наученный горьким опытом, скажет потом парадоксально: «Не доверяйте симпатичным людям. Надо доверять только несимпатичным…» А Блоку признается: «Хотел бы дневник вести… Но боюсь. Вдруг, случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру внезапно – не успею сжечь. А иногда до дрожи хочется. Но мысль – вдруг прочтут, и не могу. О самом главном – не могу». – «О самом главном?» – переспросит Блок. «Да, – ответит тот. – О страхе перед жизнью…»
Босой учитель
«Овидий в снегах» – так назовет Сологуба Вс.Рождественский. Он и был как Овидий в изгнании, только в изгнании в родной стране.
Революцию встретит настороженно. «Он приглядывался, – пишет Тэффи о нем и большевиках, – хотел понять и не понимал. “Кажется, в их идеях есть что-то гуманное, – говорил, вспоминая свою униженную юность. – Но нельзя жить с ними, все-таки нельзя!”» Как раз Тэффи, уехав в эмиграцию и поселившись «временно» в парижском отельчике «Виньон» (Париж, ул. Виньон, 23), скоро получит записку от него. Тайную записку из России. На обрывке бумаги сокращенными словами значилось: «Умол. помочь похлопоч. визу погибаем. Будьте другом добр. как были всегда. Сол. Чебот.»…
Нет, не на до и после женитьбы нужно делить жизнь его – на до и после революции. До появления реальных «хвостов», как стали звать после Октября очереди за хлебом, керосином, спичками. Там, до революции, у Сологуба была слава крупнейшего поэта России, тут он был старичком с тряпкой вокруг шеи, тянущим на салазках гнилые шпалы-дрова для печки. Там он был центром культуры, здесь лишь по счастливой случайности его не забирают в ЧК. Наконец, там он был любящим и боготворимым мужем, а после революции – вдовцом, трагически потерявшим жену…
Я правлю эти строки в июле 2012 года, когда наши новоявленные «карбонарии», горячие головы не просто мечтают о «революции», о смене «кровавого режима» – реально «раскачивают лодку». В интернете ничего не пропадает, загляните сами – криком кричат: правительство – «на нары», президента – «на виселицу»!.. Что им Гекуба, история, уроки Серебряного 1912 года, потом – 1917-го! Уроки Сологуба, «учителя-поэта», который не просто звал революцию, как звали ее Блок, Цветаева, Есенин и Хлебников, – называю самых великих! – реально устраивал благотворительные вечера в пользу ссыльных большевиков. Агитировал, помогал созывать на них даже шальных миллионеров – сам Митька Рубинштейн, главный из них, бывал. Жалел, жалел «карбонариев», а вот они его – не пожалеют!.. Сологуб будет «забыт» новой властью на семь десятилетий. А ведь перед смертью скажет Чуковскому: «У меня ненапечатанных стихов – 1234». – «Строк?» – переспросит тот. – «Нет, стихотворений». Неактуальным он станет, напишет Иванов-Разумник, друг, и обвинит во всем «тупоголовых»: «Ужасные стихи Уткиных, Алтаузенов, Светловых – печатались; замечательные стихи Сологуба – складывались в стол». «Тупоголовыми» Сологуб звал большевиков и спорил с Разумником: сколько продержатся они – триста лет, как татары, или все-таки двести?
Перед революцией жил с Чеботаревской уже на Васильевском острове (С.-Петербург, 9-я линия В.О., 44). Сюда, «на поклон» к нему приходили Блок, Гумилев, Есенин с Клюевым, сюда зачастил даже молодой Маяковский. Вновь бывал и Ремизов. Именно здесь все во главе с хозяином и радовались Февральской революции – обновляющей жизнь «огненной купели». Но вот ирония судьбы: именно в этот шестиэтажный дом сразу после Октября вселится Совдеп – Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов района. В этот дом чекисты станут доставлять арестованных, и вчерашний гость Сологуба Ремизов, а теперь арестант чекистов, будет вспоминать, как сидел в Совдепе под лестницей, «куда совсем недавно спускались засидевшиеся гости Сологуба будить швейцара». Сам Сологуб, находясь в это время под Костромой (он с Настичкой с 1915 года регулярно уезжал летом отдыхать), тогда и написал первое письмо Луначарскому с просьбой принять меры к охране его петроградской квартиры. И в том же письме впервые заикнулся о разрешении ему с женой на выезд из страны. И та и другая просьба останутся, увы, безответными.
Потом, уже из новой квартиры (С.-Петербург, 10-я линия В.О., д. 5/37), напишет второе письмо Луначарскому и получит-таки ответ: «Просьба Ваша о поездке за границу определенно и безоговорочно отклонена наркоминдел тов. Чичериным». Потом забросает просьбами о выезде и Каменева, и Троцкого, и даже – Ленина. Но ответ будет один – молчание.
Из письма Сологуба в Совет народных комиссаров от 10 декабря 1919 г.: «Доведенный условиями переживаемого момента и невыносимою современностью до последней степени болезненности и бедственности, убедительно прошу Совет Народных Комиссаров дать мне и жене моей… разрешение выехать за границу для лечения. Два года мы выжидали той или иной возможности работать в родной стране, которой я послужил работою народным учителем в течение 25 лет и написанием свыше 30 томов сочинений, где самый ярый противник мой не найдет ни одной строки против свободы и народа.
В течение последних двух лет я подвергся ряду грубых, незаслуженных и оскорбительных притеснений, как например: выселение как из городской квартиры, так и с дачи, арендуемой мною под Костромой; лишение меня 65-рублевой учительской пенсии; конфискование моих трудовых взносов по страховке на дожитие и т.п., хотя мой возраст и положение дают мне право на работу и человеческое существование. Мне 56 л., я совершенно болен, от истощения (последние два года, кроме четверти фунта хлеба и советского супа, мы ничего не получаем) у меня по всему телу экзема… Если тяжело чувствовать себя лишним в чужой стороне, то во много раз тягостнее человеку, для которого жизнь была и остается одним сплошным трудовым днем, чувствовать себя лишним у себя дома, в стране, милее которой для него нет ничего в целом мире. И это горькое сознание своей ненужности на родине подвинуло меня… на решение оставить Россию…»
Сколько таких и подобных писем напишут потом новым властям «светочи демократии», «провозвестники свободы», «пророки слова», которые «жгли глаголом» сердца народа? От Бальмонта до Цветаевой, от Замятина до Булгакова. Не всем повезет – не все окажутся на Западе. И среди невезучих окажется он, кому вроде бы разрешат выезд, а затем «перерешат» и – запретят.
К новой власти внешне Сологуб был лоялен, еще в 1918-м стал инициатором создания Союза деятелей художественной литературы, который начал свою работу в реквизированном особняке барона Гинзбурга (С.– Петербург, 11-я линия В.О., 18), а позже, с конца 1926 года, даже возглавит Ленинградское отделение Союза писателей. Будет на Фонтанке, в Союзе (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 50), защищать писателей, помогать им «по возможности», упорно пикироваться с «непроходимыми дураками». И… столь же упорно ждать «чуда» – свержения ненавистной власти. Так же упорно, как в самый голод торопил весну, дабы уехать в деревню, где держал «свою» корову. Видел в корове «спасение»: и сытую жизнь, и, главное, если продать ее, – дорогостоящие заграничные паспорта. Ответа на приведенное мной прошение в Совет ждал больше года. И все это время Настичка, «блестя раскрытыми глазами», рассказывала каждому, что скоро сбудется мечта ее – «вырваться из ада»… «То, что ад в ней самой, – пишет Георгий Иванов, – и никакой Париж с “белыми булками и портвейном для Федора Кузьмича” ничего не изменит, – не сознавала… Отводила “друзей”, оглядывалась… шептала: через десять дней…»
Ныне опубликовано постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 20 декабря 1919 года. «Переданное т. Троцким ходатайство Сологуба о разрешении ему выехать за границу, – говорится в нем, – отклонить. Поручить комиссии по улучшению условий жизни ученых включить в состав обслуживаемых ею 50 крупных поэтов и литераторов, в том числе Сологуба и Бальмонта…» «Весной 1921 года, – пишет Ходасевич, – Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. 12 июля 1921 года постановление Политбюро было принято: «Разрешить выезд за границу Ф.Соллогуба», почему-то с двумя «л» в его фамилии». Так вот, тот же Луначарский, узнав об этом, отправил в Политбюро едва ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего «потопил» Сологуба. «Аргументация его, – пишет Ходасевич, – была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем как Блок – поэт революции, наша гордость… а Сологуб – ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов». Тогда-то жонглеры из Политбюро и вывернули всё наизнанку: Блоку дали пропуск, которым тот не успел уже воспользоваться, а Сологуба, напротив, задержали.
Может, из-за этого Сологуб и ездил накануне этих событий, летом 1921 года, в Москву? Думал «надавить», повлиять на решение об отъезде. В Москве его видели и поэтесса Мочалова, и питерская знакомая Сологуба – Ирина Одоевцева. Сологуб, как и они, оказался на памятном, последнем вечере Гумилева во Дворце искусств, в уже знакомом нам доме на Поварской. А после вечера всех их скопом поволок к себе Борис Пронин, петербуржец, перебравшийся в Москву, актер, режиссер, организатор знаменитой «Бродячей собаки». В Москве он носился с идеей создать в новой столице нечто подобное и позже, пусть и ненадолго, откроет кафе-клуб «Странствующий энтузиаст» (Москва, ул. Большая Молчановка, 32). А пока – привез всех к себе (Москва, Крестовоздвиженский пер., 9), где Гумилева оставил даже ночевать. Вечер этот вспомнят и Мочалова, и Одоевцева. Вспомнят пустую квартиру, где почти не было мебели, некрашеный кухонный стол и хозяина в ослепительно белой рубашке, который с грохотом вкатит в комнату кресло с высокой спинкой для Сологуба. Тот опять, пусть и на вечер, окажется центром «литературной жизни». Гумилев, чтобы занять компанию, станет рассказывать о каком-то сорванном имажинистами посмертном юбилее какого-то писателя. «Безобразие! Мерзавцы!» – поддержит его Пронин. И тут вступит Сологуб: «Молодцы, что сорвали!.. Для писателя посмертный юбилей – вторые похороны… Осиновый кол в могилу, чтобы уж не мог подняться. Надо быть гением, титаном, как Пушкин или вот еще Толстой. Тем никто повредить не может… Даже мороз по коже, как подумаю, что обо мне напишут через десять или двадцать пять лет!..» Тут он прервется, полезет в карман за своим серебряным портсигаром и прикурит от спички, почтительно поднесенной ему вскочившим Гумилевым. «Из-за страха посмертного юбилея, – закончит, – и умирать не хочу…» Он верил еще в посмертную славу, тогда как Гумилев только мечтал о ней. Увы, Гумилеву до расстрела оставалось чуть больше месяца, а Сологуб проживет еще шесть лет. Правда, как раз смерть Блока и расстрел в том же августе 1921-го Гумилева станут, образно говоря, «спусковым крючком» в самоубийстве жены Сологуба – «милой Настички». Так говорят, так пишут сегодня.
За жизнь «милая Настичка» покушалась на самоубийство дважды. «Циркулярный психоз» – диагноз сомнений не вызывает. «Заболевание это, – пишет ее племянница, – выражалось в настойчивом желании покончить с собой… Внешне болезнь… совершенно незаметна – никаких странностей, ничего от “сумасшедшего”, только бледность, вялость, угнетенный вид и одна навязчивая идея, которая хитро скрывалась от окружающих». И мать, а позже и сестра Чеботаревской также покончат с собой. Сохранилось, кстати, письмо «Настички» к еще одной сестре своей, как раз накануне смерти:
Из письма Чеботаревской сестре – Ольге Черносвитовой:
«Очень прошу тебя, если возможно – приди сегодня к нам, я очень плохо себя чувствую, боюсь, что заболею, как тогда, и что тогда делать – кто будет за мной ходить… а то бедному Федору Кузьмичу, и так больному, со мной возиться не под силу… Эта мысль меня страшно угнетает – прежде посоветуй, что делать, – кроме тебя не к кому обратиться… Может, это только временное переутомление…»
После этого письма Ольга и две дочери ее в очередь стали дежурить около «Настички», но трагедии не предотвратили. Позже говорили: она принесла себя в жертву, спасая Сологуба. Решила, что после смерти Блока и Гумилева «судьба жертв искупительных просит» и должен быть третий большой поэт, который погибнет, – ее муж. А спасти его можно, лишь «пожертвовав собой»…
Всё случится на дамбе Тучкова моста в холодный сентябрьский вечер 1921 года. «Зная состояние жены, Сологуб стерег ее, но иногда все-таки надо было выходить из дому за пайком или за гонораром. В одну из таких отлучек, – пишет современник, – Чеботаревская, надев валенки и наспех накинув на шею платок, выбежала из дому, добежала до моста, бросилась в Неву и с криком “Господи, спаси!” исчезла под водой…» Георгий Иванов пишет иначе: «Без шляпы выбежала на дождь и холод, точно ее позвал кто-то. Женщина, работавшая в квартире, спросила – надолго ли барыня уходит. Она кивнула: “Не знаю”. Может, правда, не знала… Какой-то матрос видел, как бросилась с Николаевского моста какая-то женщина…» Но точнее всех, если изучить всё, что известно, напишет Чулков: «Воспользовавшись тем, что Сологуб вышел в аптеку за бромом, она убежала из дому и бросилась с дамбы Тучкова моста в Ждановку». Именно – с Тучкова, и именно – в Ждановку…
На другой день, ничего не подозревая, к Сологубу зайдет поэт Оцуп. «Как здоровье Анастасии Николаевны?» – спросит. «Ее нет», – ответит Сологуб. Оцуп услышит лишь странное бормотание, похожее на бред. «Корова, – скажет вдруг Сологуб, – я говорил жене, если продать корову, можно выручить деньги. Всё равно они давали нам снятое молоко, а себе оставляли сливки. Не дождалась. И вот с моста. А может быть, не она? Нет, она…» Он долго не верил в смерть жены. «Три миллиона рублей тому, кто укажет, где находится больная женщина, ушедшая из дому… худая, брюнетка, лет сорок, черные волосы, большие глаза… была одета в темно-красный костюм с черным, серое пальто, черную шелковую шляпу, серые валенки», – отпечатал объявление. Сам бегал по городу и расклеивал его. И долгие семь месяцев ждал ее, накрывая стол на двоих. Даже к вязанью ее, оставленному в кресле, не прикасался: одна спица воткнута в шерсть, другая – рядом. А когда 2 мая следующего уже года ледоход все-таки вынес тело «милой Настички», дал письменные показания. «Найденный труп, – написал, – это моей жены… На другой день я узнал, что какая-то женщина с конца дамбы Тучкова моста бросилась в воду, но была извлечена и доставлена к Петровской аптеке, где была оставлена без присмотра. Тогда она вторично бросилась в воду и быстро пошла ко дну… В чем и подписуюсь…» Эта аптека на углу Большого проспекта существует до сих пор, и трудно даже представить, как ходил потом мимо нее поэт…
Через много-много лет Ахматова скажет Лидии Чуковской: «Я знаю, почему погибла Настя… Она психически заболела из-за неудачной любви… В последний раз я видела ее за несколько дней до смерти: она провожала меня… Всю дорогу говорила о своей любви…» Кого «неудачно» любила Настя, Ахматова не сказала. Но еще через много-много лет, наткнувшись на книгу Михаила Кузмина, Ахматова вдруг скажет Евгению Рейну: доля вины Кузмина в самоубийстве Чеботаревской, конечно, была. Но что за «вина» – опять не скажет. В изданном дневнике Кузмина я нашел лишь короткую запись: «А Настя Сологуб в припадке исступления бросилась с Тучкова моста… И все равнодушны. Я представил ветер, солнце, исступленную Неву… и маленькую Настю, ведьму, несносную даму, эротоманку… Это ужасно, но миг был до блаженства отчаянным…»
Сам «Овидий» умрет через шесть лет. Умрет в квартире, окна которой на третьем этаже в упор смотрели на дамбу. Жить станет у сестры жены – Александры (С.-Петербург, наб. р. Ждановки, 3/1). Вот она-то, Александра, которую Вяч.Иванов назвал в стихах «Кассандрой», и повторит в Москве, куда приедет, судьбу «милой Настички». На панихиде по Гершензону, литератору, в 1925-м, она кинется вдруг к гробу и, тыча в умершего, крикнет: «Вот он! Он открывает нам единственно возможный путь освобождения от всего этого ужаса! За ним! За ним!..» И – выбежит из зала. За ней «в течение нескольких часов гонялись… по улицам, подворотням, лестницам» друзья ее. Но «хитростью безумия» ей удалось скрыться, и в тот же вечер она бросилась с Большого Каменного моста в полынью Москва-реки. Как и сестру, ее вытащат еще живой, но час спустя она умрет от разрыва сердца…
А Сологуб шесть лет будет ежедневно видеть место гибели жены. Жил в какой-то снежно-белой комнате, где даже портреты, висевшие на стенах, были окантованы в белое. «Овидий в снегах»! Дома ходил в сером, в войлочных туфлях. Любил чай, мармелад, пирожные с ягодами. Одно из последних его стихотворений начиналось так: «Был когда-то я поэт, а теперь поэта нет…» «Одинокий старичок, – напишет о нем Чуковский, видевший его здесь, – неприкаянный, сирота, забытый и критикой, и газетами…»
Пока мог, ходил на «поэтические посиделки» у Иды и Фриды Наппельбаум (С.-Петербург, Невский пр-т, 72), где виделся с Кузминым, но, в отличие от него, читавшего там, своих стихов не читал. Заходил к Ахматовой, сначала на Фонтанку (С.-Петербург, наб. р. Фонтанки, 18), а потом – в Мраморный дворец, где та жила со вторым мужем своим (С.-Петербург, ул. Миллионная, 5/1). Бывал и у бывшей жены Александра Грина Веры Калицкой, над которой, влюбленной в него и бывшей с ним до самой смерти, почти издевался (С.-Петербург, ул. Зверинская, 17). С 1925 года даже попытался вновь собирать у себя молодых поэтов и писателей, «неоклассиков», как те звали себя. К нему шли и ныне почти забытые В.С.Алексеев, Л.И.Аверьянов, Н.Ф.Белявский, М.В.Борисоглебский, Н.Я.Рославлева, В.В.Смиренский, и «патриархи»: Ахматова с Кузминым, Шишков с Волынским. Но чаще всех бывала двадцатисемилетняя художница и поэтесса Елена Данько, которую зовут «последней любовью» Сологуба. Она работала художницей на фарфоровом заводе (ее статуэтки попали даже в Русский музей), позже водила марионеток в кукольном театре, писала инсценировки по сказкам и под руководством Маршака выпускала детские книжки. А с Сологубом познакомилась, когда стала секретаршей его. Она напишет потом «мемуар» о Сологубе, который по откровенности уникален. Кстати, специалисты признают его правдивым, хотя образ поэта в нем – почти отвратителен. Он там едва ли не «мелкий бес», которого описал в своем романе. Или, как мне кажется, – Фома Фомич из «Села Степанчикова». Данько о нем и о его «домашних посиделках» напишет яростно: «Я чувствовала ядовитую атмосферу, которую он распространял, тяжелым удушьем и запахом тления были проникнуты эти вечера. Я задыхалась… была как отравленная…» А он всего лишь не мог уже сдержать в себе того темного, нутряного, что таилось в нем, – желания «выпороть» весь мир, да еще получить от этого удовольствие.
В мемуарах Данько оговаривается: надо ли писать о старости Сологуба, о «разложении, о приступах слабоумия… Но потом, – пишет, – мне пришло в голову… Сологуб – настолько странное и загадочное явление – не должны ли мы говорить о нем, чтобы понять, откуда он и зачем?.. Сколько раз мне хотелось раздавить эту гадину в порыве отвращения и инстинкта самосохранения, который отталкивает нас от всего уродливого, болезненного и гнилого, заставляет зажимать нос, когда слышишь вонь. На таком ответе успокоиться нельзя, – заканчивает она, – это не ответ, это никак не исчерпывает большую личность Федора Кузьмича, это – моя собственная, инстинктивная реакция… Ведь, во-первых, Ф.К. ужасно мучился собой, я это знаю, во-вторых, он по-человечески хорошо относился ко мне и к моим стихам… Но уж очень чудовищным кажется Сологуб как явление…»
Именно ей он признался однажды, что любит встречать у себя тех молодых поэтов, которые «руки в боки» и «море по колено», и любит, чтобы они после его издевательств над ними буквально уползали от него «на четвереньках». Чтобы гадали, «повеситься им теперь или утопиться?..» А когда Ольга Форш, тоже бывавшая у Сологуба, случайно проговорилась, что Данько загорает у себя дома на четвертом этаже, причем совсем обнаженной, он, вызнав час «процедуры», подхватил палку, без которой уже не мог ходить, тайно поднялся в квартиру и, дождавшись, когда мать Елены вышла с кувшинами за водой, заскочил в переднюю, закрыл за собой дверь на ключ и стал буквально ломиться в комнату Данько. Она, как помнит, вскочила и, накинув на себя что-то, бросилась, чтобы захлопнуть дверь в свою комнату, и в щель прокричала, что к ней нельзя, чтобы он прошел в соседнюю комнату. Но он – словно оглох. «Он ломился в ту дверь, которую я держала изнутри, и просовывал в щель свою палку. Я продолжала кричать… В это время мама вернулась по коридору к двери и, найдя ее запертой, стала стучать и звать меня… Федор Кузьмич быстро повернулся к двери в коридор, отпер ее ключом и, чуть не сбив маму с ног, не здороваясь, бросился на лестницу». Слышал ли убегавший, как Елена «помирала со смеху, вспоминая, как он зайцем проскочил мимо мамы…» Поняла: «рассказ» о солнечных ваннах ее он принял за «приглашение», и это было ей как незаслуженная «пощечина»…
«Пощечин» виртуальных он довольно раздал перед смертью. Всем. Особо досталось поэтам, недавним знакомым и даже друзьям Сологуба. О Блоке говорил чудовищно: утверждал, что тот был грубый и невоспитанный человек. «Вот вы таете от его стихов, – кричал той же Данько, – а не знаете, какой это был дрянной человек», что он из подлости, из желания забежать вперед, «как собачонка перед хозяином» написал свои «Двенадцать». «Да, да, – кричал, стуча кулаком по столу. – Он исподличался, он опоганил свою душу этой поэмой, загрязнил, загадил!.. Он сломался на этом, и поделом ему! С ума сошел за это! Собаке и смерть собачья!..» Блока, Есенина, Тихонова часто называл «пачкунами, губошлепами и подлецами», причем относительно последних двух утверждалась и «крайняя литературная бездарность». Горький, по его словам, «загромоздил литературу навозными кучами своих книг» – «он не писатель». Маяковского считал ничтожным и заявлял, что недостойно говорить о нем в его присутствии. И одновременно не стесняясь говорил, что он «протащил» Передонова через себя, как Шекспир – короля Лира, что Сологуба будут читать и через сто, и через двести лет. «Мне, – заканчивает “мемуар” Данько, – было жалко этого старика-ребенка…»
Да, Сологуб в «белой келье» на Ждановке медленно умирал. Федину незадолго до смерти сказал: ««Хорошо бы, как прежде, надеть смокинг, воткнуть в петлицу хризантему и пойти вечером в клуб…» «И я понял, – пишет Федин, – что плохо не то, что больше не надевают смокингов… Сологуб с великим счастьем пошел бы куда угодно, но некуда было ему идти. Его никто не звал. Нигде не ждали… Давно, давно он отвратил от себя жизнь славословиями смерти, и жизнь отвергала его…» А еще признался вдруг Федину, от чего умрет. «Я умру, – сказал, – от декабрита». «Что это такое?» – спросил Федин. «Декабрит, – ответил, – болезнь, от которой умирают в декабре…» Так ведь и случится: он умрет – в декабре.
Перед смертью хотел выброситься из окна или «хоть завопить через окно на весь город, но и до окна доползти – нужна сила… Он спорил с могилой… и ничего нельзя было в нем увидеть, кроме жажды – быть, быть, быть!..» Видел то ли в снах, то ли в бреду «милую Настичку» и утверждал: «Она ждет меня, она зовет меня. Если бы она была жива, она бы сумела бы помочь мне, спасти меня…» За два дня до смерти его подвели к камину, и он сжег письма, дневники, которые все-таки писал, и рукопись оконченного романа… «Моей божественной природы я не открою никому…» Иванов-Разумник добавил: «Но на стихи “рука не поднялась”…» И тогда же, на шестьдесят четвертом году жизни, Сологуб вдруг заплакал и, заливаясь слезами, стал жаловаться неизвестно кому и упрекать непонятно кого. «Умирать надо? Гнусность! Только-только стал понимать, что такое жизнь… А вот – надо уходить. Зачем? За что? Как смеют?..» И словно молитву твердил перед смертью: «Дай мне жизни еще хоть немного, чтоб я новые песни сложил!..»
На заиндевевшее Смоленское кладбище, где покоился уже друг-враг его Александр Блок, «Овидия» понесут из дома на Ждановке. Но доска мемориальная – не забудем! – висит здесь по-прежнему одна – Толстому. У настоящих писателей, как и у книг их, всегда – это тоже не забудем! – всегда трудная судьба. Ведь даже Пушкина сразу после смерти почти забыли…
Всю жизнь в Сологубе жил учитель. Он, например, любил ходить босиком: в детстве мать его, сберегая дорогую обувь, приучала его к этому розгами. Так вот, он, даже в последние годы жизни, в иные теплые летние ночи выходил на пыльную набережную, чтобы походить босиком по асфальту. Как учитель, лучше сказать – как проповедник, твердил знакомому в последний год: «Люди будут счастливы, когда все дети будут ходить босыми…» А кроме того, Чуковский приведет странные для ненавистника Советов слова поэта. Оказывается, он одобрительно отзывался о пионерах и комсомольцах: «Всё, что в них плохого, это исконное, русское, а всё новое в них – хорошо. Я вижу их: дисциплина, дружба, веселье, умеют работать…»
Да, учитель в человеке – это, говорят, навсегда. В Александринке, в битком набитом театре (С.-Петербург, пл. Островского, 2), Сологуба незадолго до смерти чествовали. Праздновали, как я говорил уже, 40-летие его творчества. Сологуб, пишут, скучал на сцене, поморщился, когда к нему бросился Андрей Белый и восторженно стиснул руку. «Вы делаете мне больно». И почти сразу откуда-то сверху, с галерки, раздался крик: «Федя, и я хочу обнять тебя!..» Кричал школьный учитель Феди Тетерникова, с которым они не виделись лет сто. Через несколько минут на огромной сцене рядом с прославленным поэтом оказался проковылявший наискосок ветхий старик. Седые ученик и учитель обнялись и крепко поцеловались…
Да, учитель, как и поэт – ведь схожие миссии! – это и впрямь – навсегда.
Розы и… крест, или Несменяемый часовой – Александр Блок
Как тяжело ходить среди людей И притворяться непогибшим, И об игре трагической страстей Повествовать еще не жившим. И, вглядываясь в свой ночной кошмар, Строй находить в нестройном вихре чувства. Чтобы по бледным заревам искусства Узнали жизни гибельный пожар! Александр БлокБлок Александр Александрович (1880–1921) – великий русский поэт. Избирался председателем Союза поэтов, работал в издательствах, руководил Большим драматическим театром. Как гражданин приветствовал все три русские революции, но именно при советской власти фактически погиб. Цветаева за пять лет до его смерти написала: «Думали – человек! И умереть заставили. Умер теперь. Навек. – Плачьте о мертвом ангеле!..» Так всё и случится.
«Уюта – нет, покоя – нет…» Может, эту строчку шептала на перроне одна москвичка вслед уходящему поезду. Поезд увозил Блока. Увозил умирать. Он только что, склонившись из окна, сказал ей: «Прощайте, да, теперь уже прощайте…» «Я обомлела, – пишет она. – Какое лицо! Какие мученические глаза! Я хотела что-то крикнуть, остановить, удержать поезд, а он всё ускорял свой бег, всё дальше и дальше уплывали вагоны, окно – и в раме окна незабвенное, дорогое лицо…»
Там, в Питере, его встретит другая, измучившая его и себя женщина, его жена, его когда-то «Прекрасная Дама». Но что думал он в дороге, о чем думал – неизвестно. Известно другое. Когда-то в молодости он написал: «О, я хочу безумно жить!..» А за полгода до смерти, в одном разговоре, прервав собеседника, вдруг спросил: «Вы хотели бы умереть?» И, перебивая ответ, горячо, страстно сам же и выдохнул: «А я очень хочу…» Очень!
Вот между этими «хочу безумно жить» и «хочу умереть» и уместилась вся сорокалетняя жизнь поэта…
Дверь в историю
Дверь в квартиру оказалась приоткрытой, меня ждали. Это было семь лет назад, но я отлично помню: мне хватило считаных минут, чтобы у метро позвонить, купить букет нарциссов, отыскать подъезд в путаном квартале и, взбежав по лестнице, перед последним уже маршем, увидеть приоткрытую дверь. Детектив заканчивался. А еще помню – сердце дрогнуло. Ведь дверь, образно говоря, была приоткрыта в саму историю. В события столетней давности, в некий загадочный эпизод из жизни Блока. Я лишь не догадывался, что настоящий детектив только-только начинался…
Мы снимали фильм о Блоке в Москве. Два десятка отснятых домов, где он жил или бывал, подобранная «хроника», «синхроны» – всё было готово. И всё могло рухнуть, ибо к монтажу фильма мы так и не смогли найти хотя бы одну фотографию женщины, которая любила Блока. По ее словам, любила с 1913 года. А по мнению Блока – «всю жизнь…» Той женщины, которая самой Цветаевой признается: «Я… всех к нему ревновала!» Наконец, той, которая последней видела поэта в Москве. Ведь это она 11 мая 1921 года провожала его на вокзале, когда жить ему оставалось меньше трех месяцев.
Имя ее – Надежда Александровна Нолле-Коган. Она переживет поэта на сорок пять лет, умрет в 1966-м. И всё это время будет хранить какую-то тайну его. Это же ей Блок написал, может, самую туманную из известных мне фраз: «Я Вам расскажу, – написал, – в какую петлю я попал, как одно повлекло за собой другое». И – рассказал! Когда она приехала в Петроград в 1920-м, он, гуляя с ней в Летнем саду, поведал о том, «что тяжким бременем долгие годы лежало на его душе и темной тенью стлалось над светлыми днями его жизни». О чем шла речь – не знает никто. Блоковеды даже не ставят вопроса об этой тайне. А в коротких мемуарах Нолле осталась лишь фраза: «Рассказывать об этом я не считаю себя вправе, ибо дала слово Блоку никогда и никому об этом не говорить…» Никому и никогда!
Разумеется, всё это было и в моем сценарии, и в отснятом уже фильме. Но мне и в голову не могло прийти, что до сего дня не сохранилось ни одной фотографии Нолле-Коган. Невероятно! А с другой стороны, невероятным виделся фильм о Блоке без фотографии той, которую и он любил и о которой много говорилось в отснятом материале. Короче – крах, почти катастрофа!..
Снимков Нолле-Коган не оказалось ни в Литературном музее, ни в архиве кинофотодокументов, ни даже в музее Серебряного века. Директор его, М.Б.Шапошников, сказал, правда, что в фондах он вроде видел какой-то снимок, где на скамейке рядом с Брюсовым сидела Надя Нолле. «Понимаете, – сказал, – жена Брюсова написала на фотографии, что это Нолле, но надпись сделала уже в старости». И как бы по секрету сообщил: «Если бы этой надписи не было, я бы точно решил, что на фотографии Брюсов и… Крупская. Такая она там старая и страшная». Мы оба посмеялись, хотя знали – этого не могло быть. Брюсов ведь умер в 1924-м – значит, Нолле не могло быть больше тридцати пяти.
Директор другого музея – Андрея Белого – Моника Спивак, сказав, что у них тоже нет фотографии, едва не взмолилась: «Дайте мне слово, обещайте: если найдете фотографию Нолле, обязательно поделитесь с нами. У нас выходит альбом о Белом – нам позарез нужен хоть какой-нибудь снимок ее». Обещание я дал, но где искать снимок? В отчаянии набираю телефон музея Цветаевой – Нолле дружила с ней. Цветаева даже читала письма Блока к ней, которых, по точному счету, было 147. Увы, опять – ничего! Фотографии не было нигде: ни в книгах, ни в старых альбомах, ни в кадрах кинохроники. Ну, не детектив ли? В конце концов нахожу в Интернете статью с именем Нолле. Статья 1999 года, да в «Огоньке» – уж в этом-то журнале не бывает материалов без фотографий. И что же? Фотографий тьма, но ее – ни одной!..
– Не мудрите, – отзвонил мне из музея Цветаевой знаток всего и вся Валентин Иванович Масловский. – Ищите следы Кулешова, был такой писатель – он был сыном Надежды Александровны Нолле-Коган.
Нахожу. В старом справочнике Союза писателей СССР читаю: «Кулешов Александр (Нолле Александр Петрович), прозаик». И адрес (Москва, ул. Черняховского, 4), и – телефон.
– Алё-ё, – слышу в трубке хрипловатый женский голос.
– Могу я поговорить с Александром Петровичем?
– Он умер.
Вот тебе и на! Хотя по времени сходится – он ведь родился в 1921-м.
– Но это дом Кулешовых? – спрашиваю осторожно.
– Да, это наша квартира. Я его жена, Анна Наумовна.
Сумбурно, не выбирая слов, говорю ей про Блока, про фильм.
– Приезжайте, – перебивает она. – Как доехать? Сейчас дочь объяснит.
– Здравствуйте, – слышу я молодой голос. – Вы на машине?
Объясняю, что нет. В свою очередь спрашиваю, как ее зовут.
– Надежда Александровна…
– Как, извините? – ахаю. – Как и Надежду…
– Да, – отвечает, – меня назвали в честь бабушки…
Вот и всё! Дальше вы знаете: метро, букет нарциссов, приоткрытая дверь. В уютной квартире – пожилая дама в кокетливых леггинсах, а рядом – стройная женщина с густой шапкой курчавых, отливающих медью волос и – кофе, торшер, кресла, книги. Фотографию я, разумеется, нашел, в старом, фибровом еще чемоданчике, их была целая россыпь. И та, с кем у Блока был роман, и впрямь оказалась красавицей. Тонкое лицо, большие глаза, родинка на левой щеке, какая-то утонченность в повороте головы. Но больше всего меня поразили не ее снимки – фотографии сына ее, покойного писателя Кулешова. Детские, представьте, снимки. Они стояли на стеллаже за стеклом. Мальчик трех-четырех лет. Но, удивительно, уж поверьте: с них смотрел не сын Нади Нолле – Александр Блок! Уж его-то фотографии я знал наизусть.
– Похож? – прогудела над ухом хозяйка квартиры. – Нет, нет, это не Блок – это мой муж Саша. Ему года три здесь. Царство ему небесное…
Я же, пораженный сходством с поэтом, обернувшись к дочери ее, к Надежде Александровне, просто впился взглядом в ее волосы:
– Извините, простите ради Бога за бестактность, но это у вас – не завивка? Вы не красили волосы? Это что – ваш родной цвет?
– Не красила… родной, – испуганно пробормотала дочь Кулешовых.
И я понял: детектив – если хотите, новое «кино» – только начинается…
Два букета
Иногда мне кажется, что всё в жизни Блока было предопределено. И всё – загадочно. «Меня вело», – скажет он. «Я никогда не ошибался в пути. Понимаете? Падал, бился, разбивался, подымался и всё шел – меня вело…»
Загадок в его жизни много. Иные не раскрыты и ныне. Отчего, будучи по жизни на удивление здоровым, он в три месяца вдруг умер? Отчего дважды писал о самоубийстве? Еще гимназистом, вывел в записке: «В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне “отвлеченны” и ничего общего с “человеческими” отношениями не имеют». Потом, незадолго до смерти, уже в «Записной книжке», как бы раздумывал: «Руки на себя наложить…» А мистическая встреча с Андреем Белым, когда оба, не будучи знакомы, в один день написали друг другу письма, которые «скрестились» в Бологом? А два вызова на дуэль с тем же Белым, которые были предсказаны Блоком? Наконец, два букета будущей жене, да еще в одном месте – ведь совершенно фантастическая история?..
Это случилось в Подмосковье, у ворот Шахматова. Где-то тут трехлетний Блок подарил букет ночных фиалок двухлетней девочке. А оказалось – будущей жене. Ну разве не фантастика?!
Блоку было шесть месяцев, когда его впервые привезли в Москву. Сошли на станции Подсолнечное. Стояло лето 1881-го. Дед поэта Андрей Николаевич Бекетов, ректор Петербургского университета, приобрел здесь, в восемнадцати верстах от станции, небольшую усадебку. И вот – впервые привез сюда внука. Мы ведь и знаем теперь это место благодаря этому незаметному событию из частной жизни ученой семьи конца XIX века. Но – так начинался всемирно известный ныне «Государственный историко-литературный и природный заповедник А.Блока» – музей поэта Шахматово.
Вообще-то деда его, ботаника Бекетова, соблазнил красотой мест приятель его по университету и сосед по жизни в Петербурге, знаменитый уже химик Менделеев. Тот еще в 1865-м, едва «изобретя» водку (на деле – лишь защитив докторскую «О соединении спирта с водой»), увлекся вдруг сельским хозяйством. И в поисках доказательств, что состав российских почв позволяет рожать злаки не хуже европейских, что из крапивы можно ткать волокно, а скот кормить по часам, приобрел и землю, и имение в Боблове, в Клинском уезде Соголевской волости. Место, кстати, древнее: сведения о Боблове есть даже в завещании Дмитрия Донского 1389 года – тогда еще устанавливали границы Московского и Тверского княжеств.
Покупал Менделеев Боблово пополам с директором Петербургского технологического института Н.П.Ильиным. Думаю, соблазнял красотой этих мест и Репина, и Крамского, и Куинджи, и Сурикова, художников, которые бывали и в петербургской его квартире (С.-Петербург, Съездовская линия В.О., 7), и в Боблове. Он многих соблазнит ландшафтами Алаунской возвышенности Подмосковья, этот сумасшедший химик, Зевс, как шептали ему вслед. А юного Блока через полтора десятилетия «соблазнит» красотой своей дочери. Впрочем, когда поэт возник в Шахматове, Любы, дочери Менделеева, и в проекте не было. Менделеев к тому времени не развелся даже с первой женой – женщиной с редким именем Феозва. Любу будет рожать Анна Ивановна – молоденькая художница, вторая жена ученого. А Феозву утешал, уговаривал на развод как раз дед Блока – Бекетов. Так что знакомство двух профессоров смело можно назвать приятельством, я не ошибся в слове. Развод, кстати, поторопило как раз рождение Любы. Из-за него возникла даже ошибка в дате. По метрике Люба родилась 29 августа 1882 года, а на деле, как пишет, – 29 декабря 1881 года. Но родилась Люба, как и Блок, заметьте, в стенах Петербургского университета – в служебной квартире отца. Тоже ведь – судьба!
Да, предопределенность в жизни Блока была. В одном месте родились (С.-Петербург, Университетская наб., 7–9), в семи верстах друг от друга выросли, а встретились – когда и говорить еще не умели. «Ваш принц что делает? – посмеивался порой Менделеев, спрашивая у бабушки Блока про внука. – А то наша принцесса уже пошла гулять». Счастливое детство! Чуковский, незаконнорожденный, как известно, не без грусти, а может, и зависти, напишет потом про Блока: у нас «не было таких локонов, таких дедов, такой кучи игрушек». И – такой любви, добавлю. Ведь трехлетний еще Саша, «Биба», как звали его, встретив на прогулке синеглазую «принцессу» в золотом плюшевом пальто – двухлетнюю Любу, сидевшую на руках у матери, вдруг протянул ей собранный им букет ночных фиалок. Люба, пишут, растрепала цветы, потащила их в рот. Смешно!.. Но я не стал бы вспоминать это, если бы через двадцать лет, 17 августа 1903 года, здесь же, в Шахматове, Блок не нарвал бы Любе другого букета. Второго!
В то дождливое утро он вновь и вновь выбегал к воротам Шахматова, ожидая специально заказанного в Москве шикарного букета, но уже не для девочки-принцессы – для невесты, которая в тот день должна была стать его женой. Шафер его, топтавшийся рядом, давно должен был ехать к ней в Боблово, чтобы везти ее под венец. Била копытами тройка белых рысаков, специально нанятых в Клину, все были «при параде», а цветов, заказанных в Москве, всё не было. И тогда Блок, не выдержав, кинулся в цветник и, как в детстве, нарвал букет для Любы. Не фиалок теперь – Любиных астр.
Весь роман их родом из Шахматова. Здесь Блок и Люба, сыгравшие на домашней сцене (в сенном сарае, попросту!) Гамлета и Офелию, вдруг «заметили» друг друга, стали встречаться, ездить друг к другу, «объясняться глазами». Это была, конечно, любовь, и любовь – необычная.
Из переписки А.Блока и Л.Менделеевой: «Ты – Первая моя тайна и Последняя моя надежда… Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, всё будет Твое от Тебя и к Тебе… Я – Твой раб, слуга, пророк и глашатай. Зови меня рабом…» А в следующем письме едва не испугал ее: «Вели – и я убью первого, и второго, и тысячного человека из толпы…
Вся жизнь в одних твоих глазах…» Она ответит: «Все мои чувства спутались, выросли, рвут душу на части, я не могу писать, я только жду, жду, жду нашей встречи, мой дорогой, мое счастье!..»
Вот когда рождалась «Прекрасная Дама» тех сотен стихов, которые он посвятит Любе. В первый сборник их войдет меньше ста. Он сразу увидел в Любе не обычную девушку, а предсказанный Владимиром Соловьевым, мистическим философом, образ «Вечной Женственности». Кстати, племянник В.С.Соловьева и внук историка С.М.Соловьева, брат троюродный Блока Сергей Соловьев и был тем самым шафером на свадьбе поэта.
Венчались молодые в церкви Михаила Архангела в Тараканове – рядом с Шахматовом. Свечи, отдельное кресло для Менделеева в правом приделе храма, деревянные ангелы поверх иконостаса, а на головах венчавшихся – серебряные, древние – не золотые венцы. Пишут, что священник покрикивал на Блока: «Извольте, сударь, креститься…», а Менделеев, надевший по случаю все ордена и ленты, глядя на молодых, прослезился. Потом, в Боблове, за свадебным столом на сто персон, «уставленным майонезами, – как пишет Соловьев, – пили “за науку”, “за работающего на духовной ниве”…» Молодые прямо из-за стола должны были ближайшим поездом ехать в Петербург. Все еще пировали, когда Люба вышла из своей комнаты, но уже – в сером дорожном костюме. Под звон рюмок коляска отъехала. «К вечеру, – пишет шафер Соловьев, – я вернулся в опустевшее Шахматово, где около пруда бродили гуси – свадебный подарок местных крестьян…»
Ох, шахматовские буколические крестьяне – это особая статья. Потомки их живут еще, наверное, в Солнечногорске. Их прапрадедов дед поэта звал когда-то «малышами», обращался к ним по-французски, а когда встречал кого-нибудь из них со спиленными в его же хозяйстве березой или дубком, то, не догадываясь о воровстве, предлагал: «Ты устал, дай я тебе помогу…» Идиллия! Золотой век! Неудивительно, что у выхода из церкви крестьяне от всей души забросали новобрачных хмелем и поднесли им и хлеб-соль, и пару белых гусей в лентах. Удивительно другое: через пятнадцать лет, после революции, эти же крестьяне и, конечно, опять-таки «от души» – разорят и сожгут Шахматово. Доберутся даже до секретных ящичков отцовского стола Блока, где хранились письма Любы, ее портреты, дневник. Когда Блоку незадолго до смерти привезут уцелевшие обрывки бумаг, черновики стихов, он разглядит на них «грязь и следы человеческих копыт (с подковами)». Тоже – судьба! Сам торопил, звал революцию. Даже знамя нес на какой-то демонстрации рабочих в 1905-м.
Да, его «вело», если говорить про волю небес. И юность, и молодость поэта подтвердят – всё у него сбывалось. Он стал поэтом, как хотел, женился на «Первой тайне и Последней надежде». Наконец, возжелал счастья – оно померещилось ему в московском небе – и получил его.
Несменяемый часовой
«Я хотел бы умереть на сцене от разрыва сердца», – ответил Блок на вопрос давней, юношеской еще анкеты. Мечтал быть актером, выходил на профессиональную сцену, даже псевдоним выбрал – Борский. Но актрисой станет его жена, хотя сцена будет мстить поэту. Уж как-то выйдет, что сценой станет для него Петербург, а жизнью вольной, не «по роли» – Москва.
Ах, какой сказочной, щегольской парой явились они в Москву мужем и женой! В морозный день 1904 года нанесли первый визит Боре Бугаеву – Андрею Белому, с которым до того были знакомы по письмам. Дом, где жили Бугаевы, и сейчас стоит на углу Арбата и Денежного (Москва, Арбат, 55). «Меня спрашивают в переднюю, – вспоминал Белый, – вижу: стоит молодой человек и снимает студенческое пальто, очень статный, высокий, широкоплечий, но с тонкой талией; и молодая нарядная дама… Веселые, молодые, изящные, распространяющие запах духов… Царевич с царевной». В гостиной все «пренеловко» сели в «старофасонные» потертые кресла, закурили и, развевая дымки папирос, заговорили о Москве. «И вдруг я, как сорвавшийся с горы камень, – пишет Белый, – полетел и понес чепуху. И Саша застенчиво улыбнулся… Улыбнулся душой моей душе. И с этой минуты я по-новому, без памяти влюбился в него…» Правда, в тот же вечер он выпалит знакомому: «Знаете, на кого похож Блок? На морковь». «Что я этой нелепицей хотел сказать, не знаю». Но имел, думаю, в виду витальность символиста: его здоровье, кирпичный румянец, тугой вид.
С женой Блок оказался в Москве впервые. До того бывал здесь, и не раз, с шестнадцати лет. Я, к слову, долго искал, где же останавливался он, пока не наткнулся на адрес его родственников, на угловое закругленное здание на Пушкинской площади, где недавно был Дом актера (Москва, ул. Тверская, 16). Оказывается, дом этот, надстроенный ныне, принадлежал архитектору Баженову, а позже стал владением П.А.Бекетова, дяди Блока. Здесь в годы юности Блока жили двоюродные братья его, и здесь – больше вроде бы негде! – еще мальчишкой Блок навсегда влюбился в Москву. «Ваша Москва чистая, белая, древняя, — писал родственнику. – Никогда не забуду Новодевичьего монастыря вечером…» А другу признался: «Московские люди более разымчивы, чем петербургские. Они умеют смеяться, умеют не пугаться. Они добрые, милые, толстые, не требовательные… В Москве смело говорят и спорят о счастье. Там оно за облачком, здесь – за черной тучей. И мне смело хочется счастья…»
Счастье и случилось! Две январские недели с женой в Москве станут счастьем. Поселятся в двухэтажном доме на Спиридоновке, где стоит ныне памятник ему, – в «необитаемой малой квартирке» на первом этаже у еще одних родственников – у братьев Марконетов (Москва, ул. Спиридоновка, 6). Об их житье здесь вспоминали и Сергей Соловьев, и Андрей Белый.
Из воспоминаний о Блоке. Сергей Соловьев: «Блок переехал на Спиридоновку, и… каждый вечер мы собирались в пустой квартире… просиживали до глубокой ночи… Простота и изящество Люб. Дм. всех очаровали… Ее тициановская и древнерусская красота еще выигрывала от умения изящно одеваться: всего более шло к ней белое, но хороша она была также и в черном, и в ярко-красном… Блок бегал в угловую лавочку за сардинками. Люб. Дм. разливала великолепный борщ…» Андрей Белый: «Я помню, как встретился с Блоком на Арбате – слякотью брызгали сани… сырое пальто, перемокшая на бок фуражка, бутылка, которую нес в руках… “Несу себе пива к обеду, чтоб выпить…” Блок завернул в переулок… Он шел, чтоб обедать; а за обедом, чтоб выпить; и капало с крыш; и шаркали метлы, метущие грязь; и – хотелось смеяться…»
Вот это пиво в руках Блока и «перемокшая на бок фуражка» – разве они не говорят нам больше о жизни, чем иные толстые биографии? Таинственный, темно-мистический символист, и вдруг эта «проза» – пиво в руках, как у вас, как у меня. Хотя, если сопоставить воспоминания, приезд молодоженов напоминал бешено вертящийся калейдоскоп. «Утром приходит Сережа, – пишет Блок матери 12 января 1904 года. – Мы втроем едем на конке в Новодевичий монастырь. Сережа кричит на всю конку, скандалит, говоря о воскресении нескольких мертвых на днях, о том, что антихрист двинул войска из Бельгии. Говорим по-гречески. Все с удивлением смотрят… Из монастыря бродим по полю за Москвой, у Воробьевых гор… Рачинский сказал в восторге, что он не ожидал, что я выше Брюсова (а Бальмонта он не выносит – подробности лично!)…» 13 января сообщает: «Мчусь на извозчике к Бугаеву, чтобы ехать в “Скорпион”. Не застаю, приезжаю один… После чаю едем на собрание “Грифов”; заключаемся в объятия с Соколовым… Ужин… Входит пьяный Бальмонт… Уходим в третьем часу…» Наконец, 16 января: «Мы перешли с Бугаевым на ты. Вернувшись… пошли обедать с Сережей в “Славянский базар”… Люба перешла с ним на ты»… Короче, две недели кутерьмы, снежной круговерти, бесконечных визитов, ночных прогулок, утренних поездок. Сани, конки, возки, пролетки… И ведь адреса, где бывали, известны. У Григория Рачинского были на Садовой (Москва, ул. Садовая-Кудринская, 7). «Скорпион», издательство, располагалось, как мы знаем уже, в «Метрополе». Издательство «Гриф» вообще было на дому у директора его – С.Соколова, я называл его адрес в главе о Бальмонте. Ну, а про «Славянский базар» кто ж не знает – он был в двух шагах от Кремля, на Никольской. Но главные события происходили в ту зиму все-таки на Спиридоновке. Брюсов, Эллис, Петровский – кто только не едал тут борщи из рук Любы! Пили за «русских девушек», в них видели спасение России, кейфовали за чаем (словечко, кстати, из того времени). Бальмонт даже стихи написал Любе: «Я сидел с тобою рядом, // Ты была вся в белом. // Я тебя касался взглядом, // Жадным, но несмелым». Он, пишет Белый, «выбрасывал» строчки, «как перчатки, – с надменством: “Вот вам – дарю: принимайте, ругайте, хвалите!”». Брюсов, напротив, словно подавал «блюдо – в великолепнейшей сервировке: “Пожалуйста-с!”». А сам Белый, как-то боком, точно по кочкам, ходил в черненькой курточке и спрашивал: «Хорошо? Правда? Хорошо, что приехал Блок? Вам нравится Любовь Дмитриевна?» Еще бы! – кричали поэты. Но когда все расходились, когда гасли канделябры, лишь двое оставались до зари: Белый и Соловьев. Один приходил с розами, другой – с белыми лилиями. Тогда и основали они «Братство Рыцарей Прекрасной Дамы». То есть – Любы. «Мы даже в лицо смотреть ей не смели, боялись осквернить ее взглядом, – пишет Белый. – Она, светловолосая, сидела на диване, свернувшись клубком, и куталась в платок. А мы поклонялись ей. Ночи напролет…»
В общем, Москва влюбилась в Блока, а Блок – в Москву. Биографы в один голос твердят ныне: было два Блока. Утренний и вечерний, светлый и темный, добрый и злой. Даже Люба в книге воспоминаний как бы спросит у нас: «Рассказать… другого Блока, рассказать Блока, каким он был в жизни?» Да, было два поэта. Но ярче всего, на мой взгляд, они различались, а лучше сказать – «делились» на Блока петербургского и московского. Он был другим в Москве. Светлым. Он даже мечтал переехать в Москву и всерьез писал об этом Белому. Еще одному другу сообщал: «В Москве есть еще готовый к весне тополь, пестрая собака, розовая колокольня, водовозная бочка, пушистый снег, лавка с вкусной колбасой». Матери в письме скажет: «От людей в Петербурге ничего не жду, кроме пошлых издевательств или “подмигиваний о другом”… Мы тысячу раз правы, не видя в Петербурге людей, ибо они есть в Москве». Любил Москву так, что после двух январских недель «вернулся в Петербург завзятым москвичом». Даже стих сочинил, где изображалась борьба антихриста Петра с патроном Московской Руси святым Георгием Победоносцем, кончающаяся победой последнего: «Я бегу на воздух вольный, // Жаром битвы упоен. // Бейся, колокол раздольный! // Разглашай веселый звон!..»
«Воздух вольный» – не за это ли любил?! Московский, целительный свободой воздух будет жадно вдыхать всю жизнь. А перед кончиной, в те две последние поездки в Москву, когда ни на день не будет расставаться с Надей Нолле-Коган, этот воздух сожмется для него в два предсмертных глотка. Ведь и убьет его отсутствие воздуха. Помните его слова, сказанные за полгода до смерти? Он трижды повторит их и один раз напишет: «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса, – скажет. – Его убило отсутствие воздуха…» Кстати, «воздух» как некое спасение упомянет и Белый. Влюбившись в Любу на Спиридоновке, он через два года напишет Блоку: «Милый Саша, клянусь, что… Люба – это я, но только лучший. Клянусь, что Она – святыня моей души… Клянусь, что гибну без Любы… Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха…»
Да, любовь Белого к Любе разведет друзей-поэтов, тех, кто гордился «близью души». История не только не простая – долгая. Но можно сказать, что конфликт между двумя поэтами и без Любы был, думается, неизбежен. Уж слишком разными были они.
Из воспоминаний Зинаиды Гиппиус: «Если Борю иначе, как Борей, трудно было назвать, Блока и в голову бы не пришло звать “Сашей”. Серьезный… Блок – и весь извивающийся, танцующий Боря… Блок весь твердый, точно деревянный или каменный. Боря весь мягкий, сладкий, ласковый… Блок… исключительно правдив… Бугаев… исключительно неправдив… Блок по существу был верен… Боря Бугаев – воплощенная неверность… Из Блока смотрел ребенок задумчивый, упрямый, испуганный, очутившийся один в незнакомом месте. В Боре – сидел баловень, фантаст, капризник, беззаконник, то наивный, то наивничающий. Блок мало знал свою детскость. Боря знал отлично и подчеркивал ее, играл ею… Но если в Блоке чувствовался трагизм – Боря был… мелодраматичен».
Трагизм и мелодрама лоб в лоб столкнутся в Москве в августе 1906-го. Это случится, когда Люба опомнится, поймет, что думает теперь лишь о том, как бы «избавиться от этой уже ненужной любви» Белого. «Что же это? ведь я ничего уже к нему не чувствую, а что… выделывала!» И тогда же вместе с Блоком решит, что Белому больше не следует приезжать к ним в Петербург. Вот когда Белый, узнав это, бросит Блоку жуткую, вчера еще не мыслимую меж ними фразу – «Один из нас должен погибнуть…»
Решающий разговор случится в нынешней «Праге», в ресторане (Москва, Арбат, 2). Белый вспомнит позже: посыльный; записка: его ждут в «Праге». «Я – лечу, – писал, – я влетаю на лестницу; вижу, что там, из-за столика, поднимаются…» Он увидел ласково посмотревшего на него Блока и – «спокойную, пышущую здоровьем и свежестью, очень нарядную и торжественную» Любу. Она, кого Белый жаждал спасти, сразу поставила ультиматум: «угомониться»! «Я – пишет Белый, – ехал совсем на другое, я думал, что происходит полнейшая сдача позиций мне Блоками…» И, не веря ушам, едва присев за стол, он тут же вскочил: «Нам говорить больше не о чем – до Петербурга, до скорого свидания там…» – «Нет, решительно: вы – не приедете». – «Я приеду». – «Нет». – «Да». – «Нет». – «Прощайте!..»
Вот и вся встреча. Пять минут, не больше. Белый запомнит, что, выпрыгнув из-за стола, увидел лишь открытый рот лакея, который как раз разливал по бокалам токайское. На лестнице ресторана убегавшая с Блоком Люба торопливо обернулась, и Белый прочел в ее глазах ужас, словно у него в кармане был револьвер. У выхода, не прощаясь, разбежались. Блоки – к Поварской, Белый – к Смоленскому рынку…
Оружия, как показалось Любе, у Белого, конечно, не было. Но на другой день он и пошлет Блоку вызов на дуэль. Поединок не состоится. «Поводов – нет, – скажет Блок прибывшему из Москвы секунданту Белого. – Просто Боря ужасно устал…» И найдет какие-то такие слова, что секундант этот, вернувшийся к Белому, только и будет твердить ему про бывшего друга: «Александр Александрович, – он: хороший, хороший!..» Кстати, секундант этот, а им был друг Белого – поэт Эллис, окажется едва ли не первым, кто убедится в «хорошести» Блока. И если ныне Блока справедливо зовут уже «святым русской поэзии», то еще при жизни о нем говорили как о человеке «исключительной душевной чистоты». Да, да! Он, «падший ангел» – беспробудно пил, любил ветреных и стихийных женщин, пропадал в самых грязных заведениях, жадно искал порой продажной любви и впадал в трущобную «цыганщину» – всё это было. Но – лишь канвой, внешним рисунком существования. Душевно оставался высок и чист. «Он и низость, – горячо утверждал потом поэт Георгий Иванов, – исключающие друг друга понятия». Поэт Пяст, который долгие годы был другом Блока, чуть не молился на него: Блок, говорил, «может быть, лучший человек на земле». А Гумилев, отнюдь не друг, признает: «Если бы прилетели к нам марсиане, я бы только его и показал – вот, мол, что такое человек». Так что Эллис, повторяю, оказался лишь первым в славном ряду славящих его.
Помирятся Блок и Белый только в 1910-м, через четыре года после несостоявшейся дуэли. Я даже знаю дом в Москве, где это случится. За четыре года много чего произойдет в их жизни. Будет еще один вызов на дуэль, который пошлет Белому уже Блок, взбешенный его публичными нападками и обвинениями в «предательстве» истинной поэзии. Потом – зыбкое примирение, позже – сухая, почти официальная переписка. А затем – какой-то нечаянный разговор, который, начавшись в квартире Белого на Арбате, шел, вообразите, двенадцать часов и закончился на рассвете у площади трех вокзалов, куда Белый пошел провожать Блока к семичасовому поезду. «Так будем же верить», – скажет доверчиво один из них. «И не позволим людям, кто б ни были, стоять между нами…» – ответит другой. Поезд при последних словах – тронется. «Я шел по Москве, – вспоминал Белый то утро, – улыбаясь и радуясь: просыпалась Москва…» Всё было, короче. Но через двадцать три года, в 1930-м, Белый раздраженно скажет Петру Зайцеву, с которым дружил: «Откуда взялся миф о нашей дружбе с Блоком? Мы с ним были дружны всего два года. Остальные годы изжили всё». И не без издевки добавит о Блоке: «Первая скрипка! Но только первая скрипка!..» Нет, права была Гиппиус, «неверность» Белого и впрямь была его сутью. А Блок именно тогда, после второго несостоявшегося поединка, и напишет Белому, возможно, главные слова. «Я – очень верю в себя, ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность и умение быть человеком – вольным, независимым и честным… Душа моя – часовой несменяемый, она сторожит свое и не покидает поста…»
Только через четыре года после «Праги», 1 ноября 1910 года, они встретятся вполне мирно. Это случится в особняке Маргариты Морозовой (Москва, Смоленский бул., 26), в роскошном здании, сохранившемся до наших дней, на заседании «Религиозно-философского общества». Здесь, где на «Морозовских вечерах» выступали Рахманинов, Скрябин, Кусевицкий, где пел Шаляпин, делали доклады Бердяев и Флоренский, а на «воскресные завтраки» сходились Врубель, Суриков, Коровин и Серов, здесь в тот день Белый как раз читал доклад «Трагедия творчества у Достоевского». Собрание почтит присутствием сам Брюсов, а юный, никому не известный еще Пастернак именно здесь и тогда сойдется с Костей Локсом, будущим профессором литературы. Вот Локс и напишет, что на этом вечере он увидел впервые «трех властителей дум»: Брюсова, Блока и Белого.
Из воспоминаний Константина Локса: «Брюсов, великий поэт, был… в помятом сюртуке… и мало походил на мага. Мне было приятно увидеть Брюсова в таком, можно сказать, домашнем облике… Во время перерыва в зал вошел довольно высокий, плотный молодой человек с копной рыжеватых густых волос. Я узнал его, когда А.Белый бросился к нему, и они расцеловались. – Мы из Шахматова, – услышал я ровный спокойный голос. Здесь они оба отошли. Я смотрел им вслед… Блок внешне мало походил на поэта “Прекрасной Дамы”… В нем не было ничего исключительного. Наоборот, подчеркнутая сдержанность… А между тем, неизвестно – кто по существу был безумнее – он или Белый. Безумие Блока было, во всяком случае, страшнее…»
Точны ли воспоминания Локса – не знаю. Сам Белый утверждал потом, что Блок успел не к перерыву – к началу его лекции. У зала среди вуалей, лорнетов, визиток и сюртуков толпились, гудя, покуривая, перебрасываясь репликами, целуя ручки красавице-хозяйке Морозовой, Бердяев, Булгаков, Степун, Гершензон, Кизеветтер. Какие имена, господи! И вдруг поверх голов Белый увидел улыбающиеся глаза Блока, неловко пробиравшегося к нему. «Как будто бы мы лишь вчера с ним расстались», – напишет через много лет. Не без скрытой зависти напишет. И «мешковато деревенским» выглядел Блок, и пиджак его был короток, и под глазами круги, и конфузился в обществе. Словом – «провинциал». Несколько раз повторит: «провинциал»… И про зависть я сказал неслучайно. Ныне известно: воспоминания свои Белый написал после смерти Блока, а потом – трижды (!) переписывал их. Покойный В.Н.Орлов отмечал: в не раз переработанных мемуарах Белого «разительнее изменились… именно Блок и история их отношений». Если в первой редакции (1922 г.) о Блоке говорится в восторженно-апологетическом тоне, то в последней (1930–1933 гг.) – в «памфлетно-очернительном». Пишут, что Белый всерьез беспокоился, что о нем будут помнить как о писателе, может быть, и с чертами гениальности, но всего лишь – «жившем в эпоху» Блока.
«Мы стояли, – вспоминал Белый о вечере у Морозовой, – среди пробирающихся к стульям людей; и уже над зеленым столом раздавался звонок председателя; и очки его важно облескивали всё собранье: “Ну вот, – сказал Блок, – как я рад, что поспел”. – “И я рад”. – “Знаешь, Боря, я думал, что я опоздаю: ведь я прямо с поезда; ехал, чтобы поспеть”. – “Сегодня из Шахматова?” – “Восемнадцать верст трясся до станции, чтобы не опоздать: перепачкался глиною; вязко: ведь – оттепель, а ты знаешь, какие дороги у нас…”» А потом во время лекции Белый не раз ловил в зале синие глаза Блока, в которых читал: «Но вот встретились: вот – хорошо…» Нет, не три «властителя дум» сошлись в тот вечер. Ни Белый, ни уж тем более Брюсов таковыми не были и не станут уже. Властитель был один – Блок: «провинциал», скромно прятавшийся в толпе. Несменяемый часовой не собственной души – эпохи. «Властитель дум» и прошлого, и даже – нашего будущего…
Блок и Белый увидятся еще раз на другой день. В «Мусагете», в издательстве, где собирались поэты и писатели (Москва, Гоголевский бул., 31). Во флигеле этого дома сходились и сидели порой до глубокой ночи Леонид Андреев, Бальмонт, Брюсов, Бунин, потом Северянин и даже юная Цветаева. Тут, в трех комнатках издательства, читали стихи, устраивали вечера. И сюда на зов Белого явился наутро Блок. Дом цел, но ту гостиную, «косоугольную уютнейшую комнату с палевыми стенами», в которой на серо-синем диване курил Блок, «распуская уютно дымки папиросы», и пил чай из огромной чашки, конечно, не найти. Как не найти сгинувшего под зданием нынешней Госдумы ресторана Тестова, куда оба отправились. Там, у Тестова, за разговорами о Пушкине, цыганах и Варе Паниной, оба пили водку у стойки, и Белый отметит про Блока, что «в жесте его опрокидывать рюмочку – обнаруживается “привычка”, какой прежде не было». Где всё это теперь: и дом, и рюмочки, и разговоры? От того ноябрьского денька только и останется сборник стихов Блока «Ночные часы», изданный «Мусагетом» в 1911-м. Впрочем, книгу эту тоже не найти – раритет из раритетов. Но именно ее Блок через два года и засунет торопливо в муфту одной петербургской красавице, курсистке-бестужевке, которая нахально, чтобы не сказать – нагло, вломится в его квартиру. Не в квартиру – в жизнь. Звали красавицу Надей Нолле-Коган.
«Я такой русский…»
Блок и Надя встретятся в 1912-м. Она, дочь врача, москвичка по рождению, жила тогда в Петербурге (С.-Петербург, 4-я линия В.О., 21). Ее муж Петр Коган (он был учителем литературы в ее гимназии) служил уже приват-доцентом университета, а она, двадцатичетырехлетняя восторженная девушка, училась на филфаке Бестужевских курсов (С.-Петербург, 10-я линия В.О., 33). И вот как-то в мае возвращалась с Островов.
«Я возвращалась с Островов. Уже темнело. Я проголодалась и зашла в кафе. Заняв столик, пошла звонить по телефону домой. Вернувшись, застала сидящего за моим столиком Блока. Но в этот момент соседний столик освободился, и Блок, извинившись, пересел…» Вот и вся встреча. Для Блока. Но – не для нее. Ибо после этого вечера она почти год решалась написать ему письмо. Бросит его в почтовый ящик в марте 1913 года. Правда, обратный адрес (ведь муж рядом!) укажет не свой (С.-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 13). В письме же (нетрудно представить, что пишут девушки любимым поэтам!) была одна необычная фраза. Надя спрашивала, не разрешит ли Блок присылать ему красные цветы. Из любви к стихам! «Да, если хотите. Благодарю Вас. Мне было очень горько и стало легче от Вашего письма», – вежливо, но не больше ответит он. И полтора года, до ноября 1914-го, Блок вместе с Надиными письмами будет получать букеты цветов. А 28 ноября она решится и впервые придет к нему – вломится, именно так.
Из воспоминаний Н.Нолле-Коган: «День был снежный, бурный. Я перешла Дворцовый мост и медленно направилась в сторону Офицерской улицы, где жил Блок… Решительно отворила дверь подъезда, поднялась на четвертый этаж и позвонила… Отворила горничная… Вешалка, висит шуба, лежит его котиковая шапка. “Барина дома нет”, – сказала горничная, но я почему-то не поверила. “Нету? – переспросила я. – Ну, что же, я вернусь через два часа…”»
Взяв извозчика, Надя помчалась в магазин Гвардейского экономического общества. В дом, который ленинградцы годами звали «ДЛТ» – Дом ленинградской торговли (С.-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 21– 23). Поднялась в кафе. Потом, купив букет алых цикламенов, поймала уже лихача и скоро вновь стояла у дверей Блока (С.-Петербург, ул. Декабристов, 57). На этот раз горничная молча помогла ей скинуть шубу, снять ботинки и провела в кабинет. Блока не было в нем, хотя незримо – был. Надя запомнит полумрак, горящую настольную лампу, старый диван, наконец – теплую еще печь в углу и придвинутое к ней кресло. Она положит на стол цикламены и почти сразу услышит легкие шаги. «Так это вы?» – узнает ее по цветам Блок. – «Да…»
Так начался почти семилетний роман ее. Она запомнит его первые вопросительные – украдкой – взгляды, то, как он ходил по комнате, как, закурив, присаживался у печки, чтобы дым вытягивало в трубу. Пишет, что ей сразу стало «привольно, просто и легко». А когда собралась уходить, Блок торопливо сунул в ее муфту, к ее горячим рукам ту мусагетовскую книжечку. Она успеет прочесть на обложке – «Ночные часы»… Потом он подарит ей шесть своих книг. На последней, на сборнике «Седое утро», напишет: «Надежде Александровне Нолле эта самая печальная, а, может быть, последняя моя книга. Октябрь 1920». А она и сама будет помогать ему выпускать книги, искать издательства, вести переговоры с театрами, собирать вечера, слать посылки. Дружба, похожая на любовь, и любовь, напоминающая дружбу.
Вообще в Петербурге у Блока была тьма романов, а в Москве, кажется, – одна она. В год, когда поэт познакомился с Надей, у него как раз состоялась встреча с его «Кармен» – с Андреевой-Дельмас. До того была «Снежная маска» – актриса Волохова. Я не говорю о тайных, но преданных поклонницах поэта, которые порой обцеловывали дверную ручку его квартиры или – известный случай! – незаметно преследовали на улицах, украдкой подбирая за ним окурки и пряча их в «заветную» коробочку. Было, было!.. Что говорить, даже гимназическая еще любовь Блока – Ксения Михайловна Садовская – до самой смерти хранила его письма. Ей, когда в нее влюбился семнадцатилетний Блок, было тридцать семь. Статская советница, мать троих детей, а вот поди ж ты, хранила письма, когда он писал их ей еще на Фонтанку, где жила (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 116). Как стало известно недавно, потеряв в Гражданскую детей, мужа и состояние, она нищей старухой окажется в одесской больнице, где врач узнает в ней «героиню» стихов Блока из цикла «Через двенадцать лет». Совпадет с ее инициалами посвящение: «К.М.С.». «Выяснилось, – пишут ныне, – что неизлечимо больная полубезумная женщина и есть та синеокая богиня… О посвященных ей бессмертных стихах она услышала впервые…» Но, когда Садовская умрет, тогда только и узнают, что, «потеряв решительно всё, старуха сберегла пачку писем», полученных от влюбленного мальчишки двадцать пять лет назад. В подоле юбки найдут зашитыми двенадцать писем его, перевязанных крест-накрест алой лентой. Вот ведь как любили его! А он любил, кажется, одну Любу – «принцессу» из Боблова, «Офелию» из Шахматова, ту «маленькую Бу», как звал ее дома. Может, это и есть – главная тайна? Ведь в 1916-м он запишет в дневнике: «У меня женщин не 100–200– 300 (или больше?), а всего две: одна – Люба; другая – все остальные…» А еще одну запись, и тоже от 1916-го года, без острой жалости к нему читать трудно: «Ночью, – пишет он, – из комнаты Любы до меня доносится: “Что тебе за охота мучить меня?..” Я иду с надеждой, что она – сама с собой обо мне. Оказывается – роль. Безвыходно всё…» Да, сцена мстила ему, и мстил Петербург – тоже, образно говоря, сцена с кулисами-туманами и тяжкими, будто колосники, тучами над водой.
Спасала Москва. Он рвался туда, где испытал когда-то счастье: с женой, друзьями, поэзией. В 1917-м, в самую апрельскую капель, возник в улочках Первопрестольной в «защитке», в форме, очень идущей ему: в фуражке, высоких сапогах, а под шинелью – в перехваченной ремнями гимнастерке с узкими погончиками. Таким видели его прохожие. Более того, видели под руку с изящной женщиной. Нет-нет – пока не с Надей. Блок приехал в отпуск из прифронтовой полосы, где он, табельщик 13-й инженерно-строительной дружины, «заведовал» окопами, траверзами, ходами сообщения, секторами обстрела, строительством и пулеметных гнезд, и блиндажей. Он только что разочаровался в войне (хотя два года назад ребячливо кричал по телефону Зинаиде Гиппиус, что «война – это прежде всего весело!») и только-только впадал в очарование от чуда свершившегося Февраля. Ведь красный флаг над Зимним дворцом – не чудо?! «Сознание того, что всё можно», захватывало дух. В дневнике записал: «Труд – это написано на красном знамени революции. Труд… дающий людям жить, воспитывающий ум и волю и сердце». Матери писал: «Жалеть-то не о чем, изолгавшийся мир вступил… в ЛУЧШУЮ эпоху… Мы устали от вранья». Скоро напишет: «Я подал голос за социалистический блок (с.-р. с меньшевиками)… и был очень рад, что швейцар, кухарка, многие рабочие тоже подали голоса именно за этот список». И допишет вдогонку: «А втайне (склоняюсь) – и к большевизму…» А жене, бывшей в то время на гастролях, побывав на съезде Советов солдатских и рабочих депутатов, напишет про интеллигенцию ну прям как Ленин: «Если “мозг страны” будет продолжать питаться всё теми же ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и перестанет быть мозгом, и его вышвырнут – скоро, жестоко и величаво… Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа?..» Вот когда вызревала его поэма «Двенадцать». Увы, скоро этот «народ» (чернь – конечно) его первого и вышвырнет из жизни. Да что из жизни – из истории литературы! Фадеев, глава Союза писателей СССР, через десятилетия, в начале 1950-х, будет грозить ему, давно мертвому: «Если бы Блок не написал “Двенадцать”, мы бы его вычеркнули из истории советской литературы…» Так будут «любить» его красные. Но ведь и белые за ту же поэму не только отвернутся от него – будут грозить убийством. Сам адмирал Колчак, ныне любимец, почти кумир публики, пообещает: если возьмем Петроград, то сразу же повесим Горького и Блока…
Впрочем, в апреле 1917-го поэмы еще не существовало, а Блока в Москве ждали в Художественном театре, где он должен был читать свою пьесу «Роза и Крест». «Раннее утро, ярко освещенное солнцем большое фойе театра», – вспоминала потом та изящная спутница его, актриса Ольга Гзовская. Вся труппа в сборе. И – минута в минуту – Блок! Видно было, пишет она, что он взволнован, что, щуря «лучистые глаза», чаще смотрел в окно, чем в текст, – читал наизусть. А после чтения, когда все, гремя стульями, станут расходиться, она подойдет к нему. «Боюсь я этой роли, – скажет про героиню пьесы, – но очень хочу ее играть». «Что же вас пугает?» – ласково спросит Блок. «Да вот она испанка, а я не знаю, не очень ли я северная?..»
Вместе выйдут на московские улицы. И – ненадолго влюбятся друг в друга, будут подолгу бродить по городу. «Блок очень любил московские старинные улицы и переулки», – вспомнит Гзовская. Проходя как-то мимо какого-то дворика, он посмотрел на церквушку, на огни свечей сквозь стекла ее, на детей, игравших во дворе и, улыбнувшись, сказал: «Вот странно – ношу фамилию Блок, а весь я такой русский…»
Блоковская Москва. Некоторые дома еще дышат. Не уцелела гостиница «Франция» (Москва, ул. Тверская, 3), где он останавливался в середине 1910-х, но сохранились дома, где бывал вместе с Гзовской. Вместе ходили в гости к великому Качалову (Москва, ул. Малая Никитская, 20), который, зная, что Блок любит цыганское пение, специально звал цыганку Дашу – та пела ему «Утро туманное». Догадывался ли Блок, да и Качалов, что оба, великий актер и великий поэт, еще недавно любили одну и ту же женщину – актрису Волохову, блоковскую «Снежную маску»? Теперь Волохова жила в Москве, недалеко, кстати, от Качалова (Москва, Мерзляковский пер., 6), но Блок и не думал навещать ее. Более того, об этой женщине с «крылатыми», по его словам, глазами говорил уже не просто с раздражением – с ненавистью. В пору влюбленности в нее, в те почти два года петербургского «колдовства» – он едва не бросит ради нее Любу, а позже – даже письма уничтожит. Расстанутся, кстати, в московской гостинице – Волохова, сказав ему: «Зачем вы не такой, кого бы я могла полюбить!» – покинет Петербург. Непонятно другое: знал ли он, что Волохова и до встречи с ним, и после любила единственного – того, кого он навестил в апреле 1917-го, – Качалова? Безумная история эта всплыла недавно. Из-за Качалова не приняла Волохова любовь поэта. Из-за Качалова сначала уехала в Петербург, устроилась на три сезона к Комиссаржевской, где и встретила Блока, и из-за Качалова вернулась в Москву. Она переживет Блока на сорок пять лет, но лишь недавно мы узнаем, что она еще до встречи с ним, еще в 1902-м, будучи ученицей студии МХТ, влюбилась как раз в Качалова. И любила всю жизнь. Так, во всяком случае, признается на склоне лет подруге своей дочери – Н.Сытиной. «Сытина неоднократно видела изображения молодой Волоховой, – пишет москвовед П.Николаев, – и потому, когда попала в дом Качалова, без труда узрела за стеклом книжных полок ее фотографию. Случилось это накануне Великой Отечественной… Она поделилась своей радостью с подругой и ее матерью. Вот тогда шестидесятидвухлетняя Волохова и рассказала девушкам о своем романе сорокалетней давности…»
Оказывается, любовь Волоховой и Качалова была взаимной. Он первый не устоял перед ней, перед этой «раскольничьей Богородицей». Но ко времени знакомства Качалов был женат на актрисе Литовцевой и, как человек порядочный, не стал скрывать от жены своего чувства к юной ученице. Всё шло к разводу, но вмешался случай. На гастролях Литовцева повредила ногу, да так сильно, что всю оставшуюся жизнь вынуждена была носить большой и уродливый башмак. К тому же она ждала ребенка. «При стечении таких обстоятельств Василий Иванович счел неблагородным оставлять жену, – пишет Николаев. – Любовники расстались…» Тогда-то Волохова и убежала в Петербург, к Комиссаржевской, где в нее влюбится Блок. А после романа с ним (романа с его стороны) вновь вернулась в Москву. Жила в Малом Власьевском (я, к сожалению, не знаю дома), но у Качалова не была ни разу. Федор Степун в мемуарах пишет, что видел ее в «Царе Эдипе» в Малом театре в 1919-м, но действительная Волохова показалась ему «не на высоте блоковского образа». Таких ожиданий оправдать не могла уже хотя бы потому, добавляет Степун, что «была замужем за рыжеватым комиком Сашей Крамером и жила не в снежных далях, а в самой обыкновенной квартире с ребенком и гувернанткой…» Блок же в последний раз увидит ее не в апреле 1917-го – в апреле 1920 года: они столкнутся в музыкальной студии МХАТа. Условятся поговорить в антракте. Но встречи этой, видимо, больше хотела она, ибо, когда в зале зажгли свет, Блока в нем Волохова уже не нашла.
Я, впрочем, забежал вперед, ибо в 1917-м он и Гзовская помимо Качалова навестили Станиславского (Москва, Каретный ряд, 4), который и на квартире у себя продолжал репетировать пьесу Блока. К слову, именно Станиславский на собрании труппы вогнал в краску Гзовскую неосторожной шуткой. «Отгадайте загадку, – спросил у актеров, – что общего между Ольгой Владимировной Гзовской и Россией?» И сам же ответил: «И та и другая блокированы…» А кроме Станиславского Блок и Гзовская бывали у «мэтра» – у Вячеслава Иванова еще на Остоженке (Москва, Пожарский пер., 10), куда он переехал из Петербурга в 1912-м. Наконец, не знаю, был ли Блок в 1917-м (в 1920-м – точно был) дома у Гзовской (Москва, ул. Малая Дмитровка, 22)? И водила ли она его в затейливое здание З.И.Перцевой (Москва, Соймоновский проезд, 1), в угловой дом рядом с храмом Христа Спасителя?
Дом Перцевой – место знаменитое! С башенками, балкончиками, с зеленой майоликой, он, типичный северный модерн, принадлежит ныне МИДу. А в начале прошлого века сюда забегали по вечерам писатели, артисты, художники. Здесь была тьма студий. Тут «раскинул свой театральный шатер» знаменитый критик Ярцев, чьи репетиции начинались за полночь. Славный Балиев здесь создавал свою «Летучую мышь»: этот театр переедет вскоре в подвал первого московского небоскреба – в дом Нирензее (Москва, Большой Гнездниковский пер., 10). Поэтесса Нина Серпинская, тогда, впрочем, еще «живописица», в шляпе «абажур» и костюме «директуар», забегала сюда в подвал Московского общества художниц. Шла рисовать обнаженную натуру, но чаще, чтобы «в такт качанию шляпы, – как откровенничала в старости, – учиться бросать острые кокетливые взгляды и фразы…»
Из воспоминаний Н.Серпинской: «Каждый член-основатель имел право водить своих знакомых, внося по рублю за вход и чай с угощением… Подвал, не вмещавший больше ста человек, к десяти часам наполнялся так, что остальные не могли втиснуться». Здесь показывал пародии будущий «кинематографщик» Лев Кулешов и пел под гитару Вертинский. «Беспрерывно варится кофе, кто-то среди ночи глушит коньяк, на низких диванах полулежат зрители и исполнители, и не поймешь, кто за чем пришел. А когда приезжал Леонид Андреев или “треугольный” Мейерхольд, то их встречали победным маршем на бесхозном рояле…»
Именно здесь, в Соймоновском, Ольга Гзовская в 1917-м не просто бывала – вела студию танца. В стиле модной тогда «босоножки» – Айседоры Дункан. Вообще они были почти ровесниками, Блок и Гзовская. Она родилась в семье таможенника, училась в театральной школе при Малом театре, где и играла потом. Дездемона, Марина Мнишек, Клеопатра – все главные роли были ее, как и роли во МХАТе, куда на семь лет пришла она в 1910-м. Потом будут режиссура, съемки в кино, поездки по фронтам Гражданской, а потом неожиданно – эмиграция, преподавательская работа и в 1932-м – необъяснимое возвращение в СССР. Переиграла в театрах, кажется, всё, только роль Изоры у Блока ей не удастся сыграть. Спектакль на генеральной уже забракует Станиславский. Добужинский, оформлявший его, назовет это «катастрофой». «Были обижены все, – пишет, – и Блок, и Немирович, и я…» Да только ли обижены? Для Блока же были еще, так сказать, и меркантильные «последствия», вернее – отсутствие их. Ведь в конце 1915-го он, «проев» наследство отца, записал в дневнике, что положение стало не просто аховым – критическим. «“Честным” трудом прожить среднему и требовательному писателю, как я, почти невозможно, – жаловался сам себе. – Посоветуйте ж, милые доброжелатели, как зарабатывать; хоть я и ленив, я стремлюсь делать всякое дело как можно лучше. И, уж во всяком случае, я честен». Короче, крушение надежд на постановку пьесы «Роза и Крест» вызвало в его душе бурю чувств.
Сцена, сцена! Когда-то он хотел, помните, «умереть на сцене». Теперь в письме Любе прямо написал: «Хуже актерского “быта” мало на свете ям…» Да, розы еще будут вручать ему на сценах, а вот крест, вернее, крестик его, та же Цветаева увидит у Нади лишь после смерти поэта. Фамильный перламутровый крестик Блока, увитый микроскопическими красными розами…
«Человек с ободранной кожей»
«Остановить бы движение, пусть прекратится время», – скажет Блок Горькому за год до смерти. Даже ногой притопнет. Сначала вынесет приговор себе: «Большевизм, – скажет Буревестнику, – неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакциях, в подполье». А потом спросит, что тот думает о бессмертии. Начитанный классик скажет, что Ламенне, ученый, считает: всё в будущем повторится, и через миллионы лет они опять будут сидеть с Блоком и говорить о бессмертии. Тогда мало кто знал о Большом взрыве, о сингулярной точке, о чем знают ныне даже школьники. «А вы, вы лично, что думаете?» – упрется Блок. И когда Горький пробормочет что-то о превращении всего в сплошную мысль, Блок перебьет. «Дело проще, – скажет. – Мы стали слишком умны, для того чтобы верить в Бога, и недостаточно сильны, чтобы верить только в себя». Вот тогда и бросит: «Остановить бы движение…» Да, остановить бы! Может, тогда мы бы поняли, отчего его звали «сфинксом»?..
«Человек с ободранной кожей», – скажет о нем Георгий Иванов. А Цветаева так будет боготворить, что, посвятив ему цикл стихов, не решится сама передать их. Поручит дочери. Все стихи передаст, кроме того, где была страшная строфа: «Думали – человек! // И умереть заставили. // Умер теперь, навек. // Плачьте о мертвом ангеле!..» Да, поэты – пророки! Ведь эти строки она написала в 1916-м, за пять лет до реальной смерти Блока. И слово какое нашла: «заставили»! Всё так и случится: смерть его станет и медленным самоубийством, и – «гугнивым» убийством его. А не передаст ему стих из суеверия, из убеждения, что всё сказанное в поэзии – сбывается…
Всё случится 14 мая 1920 года во Дворце искусств на Поварской, в том доме, где Толстой поселил когда-то семью Ростовых из «Войны и мира». Здание это, я поминал его уже, принадлежало когда-то графу Ф.Л.Соллогубу. В 1919-м откроют Дворец искусств – место встреч писателей, художников, актеров (Москва, ул. Поварская, 52). Тут будут литературный, театральный, архитектурный отделы, будут устраивать концерты и лекции. И здесь состоится вечер Блока, на котором увидит его Цветаева. Впервые увидит.
«Выходим из дому еще светлым вечером, – вспоминала Аля Эфрон, дочь Цветаевой; ей было семь лет. – Марина объясняет мне, что Блок – такой же великий поэт, как Пушкин». Цветаева же, увидев его, запишет: «Худое желтое… лицо с запавшими щеками… большие ледяные глаза, короткие волосы – некрасивый… Одежда сидит мешковато, весь какой-то негнущийся – деревянный! – лучше не скажешь… В народе бы сказали: убитый». Аля вслед за ней повторит: «деревянный». «У моей Марины, сидящей в скромном углу, – вспомнит о вечере, – было грозное лицо, сжатые губы… Иногда ее рука брала цветочки, которые я держала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахный запах листьев… В ее лице не было радости, но был восторг…»
Марина восторгалась: «Всё! всё в мире бы отдала за то, чтобы – ну, просто чтобы он меня любил!» Радовалась, что вокруг него «изумительные уроды», что некрасив – «Слава Богу! Не любить!», что и других не очаровывает: «Значит – больше мой! Захочу – только мой!» Но особо удивилась «магической минуте с Блоком», когда угадала, поймала «волну», на которой он думал. Все в зале стали просить Блока прочесть еще и «Незнакомку». «У меня на губах, – пишет Цветаева, – “Седое утро”! Зала: “Незнакомку”! Я, молча: “Седое утро”! Зала: “Незнакомку! Незнакомку”! Я, окаменев: “Седое утро”!» И в ту же секунду Блок, словно услышав ее, тихо объявляет: «Седое утро…»
Ей очень хотелось подойти к нему. Чего, казалось бы, проще: «Я такая-то…» Но в тетради, которую опубликуют через семьдесят лет, вывела бесповоротно: «Обещай мне за это всю любовь Блока – не подойду…» Когда закончится вечер, попросит Милиоти, знакомого художника, подвести к Блоку Алю с конвертом ее стихов. «Я, когда вошла в комнату, где он был, сделала вид, что просто гуляю, – вспомнит Аля. – Потом подошла к Блоку. Осторожно и легко взяла его за рукав. Он обернулся. Я протягиваю ему письмо. Он улыбается и шепчет: “Спасибо”. Глубоко кланяюсь. Он небрежно кланяется с легкой улыбкой…» А Цветаева из зала жадно подглядывала (не поручусь, что не в щель меж дверей), как синий конверт ее Блок положил сначала на стол, а потом медленно спрятал в нагрудный карман. «Так близко от сердца – в котором я никогда не буду», – запишет в дневнике. И неожиданно добавит: «Боюсь, что скоро умрет. Нельзя – т а к – без радости…»
Больше не увидит его. Но, не увидев, узнает, как Блок – неулыбчивый! – в тот же вечер, читая ее письмо, улыбался. Это расскажет ей Надя Нолле. Расскажет, что письма к нему читала всегда она: «Я их… сама вскрывала, и он не сопротивлялся, – запишет Цветаева ее слова. – Так было и в этот вечер. “Ну, с какого же начнем?” – рассказывала Надя Цветаевой. – Он: “Возьмем любое”. И подает мне – как раз Ваше – в простом синем конверте. Вскрываю и начинаю читать, но у Вас ведь такой почерк… Да еще и стихи… И он очень серьезно, беря у меня из рук листы: “Нет, это я должен читать сам”. Прочел молча… и потом такая до-олгая улыбка. Он ведь очень редко улыбался…»
Воображаю, как слушала рассказ Цветаева, которая в ревности, да к своему «божеству», не уступила бы никому. Ведь, записав это, она, подруга Нади, безжалостно добавит: вот такие – обыкновенные, слабые – всегда будут побеждать; «такие с Блоком, а не я…»
Блока в 1920-м позвала в Москву Надя. Эта была первая из двух последних его поездок в любимую некогда Москву. Поселила у себя в трехкомнатной «не уплотненной» пока квартире на втором этаже дворового флигеля (Москва, Арбат, 51). Здесь жила с мужем – уже сорокавосьмилетним Петром Коганом, критиком-марксистом, теперь, впрочем, профессором МГУ, кого Цветаева назовет потом «ангелом-хранителем писателей». До того жили там же, на Арбате (Москва, Арбат, 31), но незадолго до приезда Блока переехали. И дом, куда переехали, и квартира 89 в правом дальнем углу двора целы. Кто там живет – неведомо; я долго звонил в дверь, но хозяев, видимо, не было. Кстати, вот вам гримасы истории: в соседней квартире жил, представьте, «великий писатель земли русской» Анатолий Рыбаков. В квартире Нади, к примеру, не только дважды останавливался Блок, в ней заночевал как-то Гумилев, а третий великий поэт – Цветаева много раз бывала здесь после смерти Блока. Но доска мемориальная на фасаде дома висит не им – одному Рыбакову. Подсуетились потомки. Как с Алексеем Толстым и Сологубом в Петербурге – помните?..
Бог с ними! История воздаст. Важно, что май 1920 года окажется для Блока феерическим – только феерия будет последняя. Все одиннадцать дней его жизни здесь – звонки, письма, цветы, паломничество молодежи. «Он, – пишет Надя Нолле, – повеселел, помолодел, шутил, рисовал карикатуры». Чтобы не стеснять его, она даст ему ключ от квартиры и по утрам сквозь рассветный сон будет слышать, как тихо хлопает дверь: поэт уходил гулять, чтобы вернуться к завтраку с цветами. Вечерами будет подолгу говорить по телефону со Станиславским; Надя ставила у телефона стакан чая, пепельницу и, положив рядом коробку папирос, слышала потом через стенку приглушенный голос поэта. Говорили о многом, но больше всего – о пьесе «Роза и Крест». Доверчивый Блок и тогда не потерял надежды на постановку ее, хотя известно: Станиславский не первый раз проделывал с ним похожий трюк. За много лет до того так же «волынил» с постановкой другой блоковской пьесы – «Песнь судьбы», по поводу которой тоже рассыпался в похвалах и так же тянул и тянул…
В день первого «программного» выступления Блока в Политехническом всё прошло как нельзя лучше. «Я ожидала оваций, – пишет Надя, – но такого стихийного, восторженного проявления любви к поэту я никогда не видала. Все взоры устремлены на поэта, а он стоит, чуть побледнев, прекрасный, статный, сдержанный, и я вижу, как от волнения лишь слегка дрожит рука его, лежащая на кафедре». После вечера огромная толпа провожала его, а цветов было столько, что унести их не хватило рук даже у провожатых. Да, май был феерическим, но больше все-таки – для Нади. Ходили в театры, в кино, звали к себе поэта Чулкова и того же Вячеслава Иванова. Однажды заглянули к Юргису Балтрушайтису; тот жил то ли еще на Покровском (Москва, Покровский бул., 4/17), то ли уже на Поварской, куда он, ставший послом Литвы, переехал как раз в 1920-м. Да, Надя, конечно, «царила» с Блоком, а он, кажется, лишь не давал воли раздражению. Чуковского не раз спрашивал: «Какого черта я поехал?» А Алянский про успех в Политехническом скажет, что радости от этого Блок не чувствовал, напротив, «жаловался на недомогание и крайнюю усталость». Всё так. Но два события в тот первый приезд в Москву – кукла и скамья – поэта точно обрадовали.
«Как-то утром, – пишет Нолле, – раздался звонок…» Сонная Надя отворила дверь, и ей передали (кто – неизвестно, она пишет – «инкогнито») довольно большой сверток и… ветку яблони в цветах. «Я положила всё это в столовой… около прибора Блока. Когда он вышел к завтраку, то развернул пакет. В нем оказались две куклы: Арлекин и Пьеро». Намек, символ, память о «Балаганчике»? Скорее, всё вместе, но куклы были ужасно красивы. Лилово-черный Арлекин и весь в белом шелке, с черным тюлевым жабо и атласным алым плащом, перекинутым через плечо, Пьеро. Арлекина Блок оставит себе – а красавца Пьеро подарит Наде. А вторым событием станет найденная любимая скамья их прогулок. В сквере на набережной у стен храма Христа Спасителя. Там ныне восстановлено всё: и сквер, и часовня, и даже какие-то скамейки. Но когда мы снимали фильм о Блоке, я не увидел ни одной «белостволой березки».
Из воспоминаний Н.Нолле-Коган: «Кто помнит еще этот сквер и эту скамью над рекой, тот вспомнит, конечно, и тонкую белостволую березку за нею, и куртины цветов… Внизу дымится река, налево – старинная церковь, дальше, на другом берегу, – дома, сады. Блок спокойно, вольно сидит на скамье… Ветер легко играет шелковистыми мягкими вьющимися волосами, кожа на лице уже загорела, обветрилась, он курит, задумчиво глядя вдаль. Мы то говорим, то молчим…»
Здесь он читал ей Лермонтова, Баратынского, куски «Возмездия». И именно это полюбившееся им место будет, верно, манить его, когда он соберется в Москву в последний раз. Он приедет в 1921-м и, кажется, – обманется. Ничего в его жизни Москва поправить уже не сможет. Именно в Москве в тот последний приезд его и назовут при всех «мертвецом». Как приговорят. И он согласится с этим – вот ужас-то!..
«Свобода будет тогда, когда будет всё равно, жить или не жить». Это – Достоевский. Но «серафический», неземной Блок именно эту фразу отчеркнул в книге, когда ему едва стукнуло двадцать два. И тогда же написал: убить себя – это «высший поступок», знак «силы». Да, мысль о самоубийстве, если читать жизнь Блока, сопровождала его всю жизнь. За год до смерти он, как бы размышляя, помните, выведет в «Записной книжке»: «Руки на себя наложить». Предпоследняя запись. До этого писал в ней: «Я уже стар… Затихаю, затихаю…» (17.4.1918), «Как безвыходно всё. Бросить бы всё, продать, уехать далеко – на солнце» (19.8.1918), «Я устарел… Не пора ли в архив?» (15.4.1919), «Работать по-настоящему я уже не могу, пока на шее болтается новая петля полицейского государства… Значит… – конец?..» (4.5.1919). И только после этого возник то ли вопрос, то ли утверждение: «Руки… наложить…»
«Петля полицейского государства». И – «петля», про которую он, как о страшной тайне, сказал в 1920-м Наде. Одно слово, но тайны – разные. Еще в 1907-м написал Белому: «Вы хотели и хотите знать мою моральную, философскую, религиозную физиономию. Я не умею, фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями; некоторых из этих событий и переживаний не знает никто на свете…» В 1908-м о том напишет жене: «…Всё ту же глубокую тайну, мне одному ведомую, я ношу в себе – один. Никто в мире о ней не знает…» Может, эта тайна и стала «петлей» в 1920-м? А может, «петля» – сама Люба? Кстати, «петлей», и в том же 1920-м, назовет тот давний любовный треугольник и Андрей Белый. «Мы очутились в петле, – скажет Одоевцевой. – Ни разрубить. Ни развязать». И признается: он разбил жизни Блока и Любы. Может, действительно всё дело в Любе, в трудной жизни с ней? В метаниях между ссорящимися женой и матерью – между «Райлюбой» и «Раймамой», как горько шутил Блок, когда вместе с советской властью в быт вошли самые дикие аббревиатуры?..
«Люба довела маму до болезни, – пишет еще в 1910-м. – Люба отогнала от меня людей. Люба создала всю ту… утомительность отношений, какая теперь есть… Люба, как только она коснется жизни, становится сейчас же… дурным человеком… Хуже, чем дурным человеком, – страшным, мрачным, низким… Но… я не могу с ней расстаться и люблю ее…»
Ныне – всё открыто: и письма, и мемуары без стыдливых купюр. Но это «всё» лишь подтверждает: ничто не ново под луной. Ссоры, семейные скандалы, ревность друг к другу, явная и тайная борьба – так жили, живут и будут жить люди. Всё похоже, кроме одного: между матерью и женой «несменяемым часовым» стоял разрываемый любовью к обеим живой гений. Он ведь признается, что «близкие – самые страшные… Убежать некуда». А когда у Любы возник совсем уж унизительный для него роман с клоуном Жоржем Дельвари, роман, который обсуждали в Петрограде на каждом углу, Блок, спасаясь от всего, от себя в первую очередь, и согласился на последнюю поездку в Москву. Сцена мстила, методично мстила ему. Сорокалетний Дельвари (на деле – Георгий Кучинский), в прошлом артист цирка, клоун и акробат, служил в Театре народной комедии, играл в «железном зале» Народного дома им. К.Либкнехта и Р.Люксембург, будущего кинотеатра «Великан», который мы, ленинградцы, еще помним (С.-Петербург, Александровский парк, 4). Там служила и Люба – актриса с псевдонимом Басаргина. Ставили, например, пьесу «Последний буржуй», в которой Дельвари, коренастенький, со вздернутым носом и хитрыми глазками, играл наводчика бандитов-налетчиков – то есть делал несколько сальто подряд, летал над сценой на лонжах и… срывал аплодисментов больше всех, из-за чего считал себя премьером. Л.Миклашевская, жена художника и одного из режиссеров театра, напишет в мемуарах о романе Любы и клоуна: «Ничего нелепее нельзя было представить. Ну, Дельвари, возомнивший себя гениальным артистом, мог из тщеславия завести роман с женой знаменитого поэта, но она – что могло ее прельстить в этом уродце, тупом самовлюбленном хаме, умеющем ходить колесом?..» Ну разве не последняя «петля» Блока? И разве не потому Чуковский, уговаривая его ехать в Москву, напишет, что искренне хотел оторвать его от дома, где стены были «отравлены ядом». Ведь Чуковский, возможно, знал то, чего не знал Блок. Что рассказывала всем художница Валентина Ходасевич, племянница поэта, кстати, оформлявшая «Последнего буржуя». Это она, смеясь, выбалтывала компаниям в доме Горького (С.-Петербург, Кронверкский пр., 23) о «дуэли на зонтиках». «Наши “соперницы”, – смешила гостей Буревестника, – дрались зонтиками». А чего? Смешно! Жена Дельвари выследила Любу и прямо на ступенях театра, размахивая зонтом, набросилась на нее, на «Прекрасную Даму»! То-то хохоту было у Горького! Но чем сильнее смеялись они тогда, тем громче хочется выть сегодня. Блок в дневнике от 7 января 1921 года пишет: «Люба веселится в гостях у Дельвари». Веселье, клоуны, комики… А ведь это вновь блоковские совпадения. Ведь и Волохова, «Снежная маска» его, если помнить, что она вышла замуж за комика, и Люба – «Жена, облеченная в Солнце» – обе променяли его на пантомиму, на балаган. Пушкин, кажется, писал: женщины уходят к тем, с кем весело, остроумно, с кем можно смеяться. Увы, с Блоком, с человеком без кожи, с «убитым» уже, смеяться было нельзя. Не оттого ли он и согласится, что сам он – давно «мертвец»? Именно «мертвеца» бросят ему в последней поездке в Москву. И именно в спасительной некогда Москве, куда отправится читать стихи, он и лишится желания писать их…
«Больше стихов писать… не буду»
Он уезжал в Москву 1 мая, в полдень. Уезжал под гром праздника и буханье оркестров бесконечных демонстраций, в которой застревала его пролетка, спешившая на вокзал. Потом долго сидел на чемодане в зале ожидания: поезда ходили еще как придется. Сидел и не знал, что как раз первого мая в селе Кезеве под Петроградом у него родилась дочь Александра. Установленный ныне факт. Матерью стала тоже Александра – Сашенька Чубукова, сестра милосердия и, кстати, жена Константина Тона, сына создателя храма Христа Спасителя. А через месяц и у Нади в Москве родится сын. Тоже Александр, как и Блок. И тоже, я уверен, его сын.
В Москву, как и в предыдущий раз, ехали втроем: Блок, Чуковский и Алянский, издатель, с которым поэт сошелся в последние годы и у которого даже бывал на Знаменской (С.-Петербург, ул. Восстания, 22). Чуковский признается в дневнике: поэт ехал в Москву «против воли». А Алянский подчеркнет: «Я… поехал в Москву по просьбе Александра Александровича и его близких, на случай, если ему понадобится чем-нибудь помочь. Мать и жену беспокоило нездоровье» его. От поездки отговаривала его одна Люба, но он ответил: «Меня зовут, значит, я нужен, а если нужен, значит, надо ехать…»
«Зовут» – сильно сказано. Звала его приехать только Надя. Она же, беременная, встречала его на вокзале. «В 2 часа мы приехали, – запишет в дневнике Чуковский. – Вдруг идет к нам в шелковом пребезобразном шарфе беременная и экзальтированная г-жа Коган. “У меня машина. Идем…”»
Из воспоминаний Н.Нолле-Коган: «Подошел поезд. Я всматриваюсь в выходящих из вагонов… Вижу Чуковского, а вот и Блок. Но он ли это! Где легкая поступь, где статная фигура, где светлое, прекрасное лицо? Блок медленно идет по перрону, слегка прихрамывая и тяжело опираясь на палку. Потухшие глаза, землисто-серое лицо, словно обтянутое пергаментом. От жалости, ужаса, скорби я застыла на месте. Наконец Блок заметил меня, огромным усилием воли выпрямился, ускорил шаги, улыбнулся и, наклоняясь к моей руке, сказал: “Это пустяки, подагра, не пугайтесь…”»
Она спросит: «Как доехали?» – и он, губами, улыбнется: «Бесительно». «Бесительно» – любимое словечко случайной соседки Блока в пути. Снимая фильм о поэте, мы, помню, отправились от вокзала на Арбат к дому Нади той же дорогой, которой, возможно, ехали они: Мясницкая – Лубянка – Воздвиженка. Машину для Блока дал Каменев, а за рулем сидел его сын – «Лютик». «Машина – чудо, – пишет Чуковский, – бывшая Николая Второго, колеса двойные, ревет как белуга. Сын Каменева с глуповатым и наглым лицом беспросветно испорченного хамёнка». «Хамёнок» – не преувеличение. Не так давно в мемуарах Бажанова, секретаря Сталина, мы прочли: сын Каменева уже «широко шел… по пути, который в партии называется “буржуазным разложением”. Попойки, – пишет Бажанов, – пользование положением, молодые актрисы. Написана даже пьеса “Сын Наркома”, в которой выведен Лютик, и пьеса идет в одном из театров». У Сталина якобы спрашивали, как быть с пьесой, ведь высмеивается сын члена Политбюро. Но вождь ответил: «Пусть идет». Вот «сын наркома», да на царской машине, и домчал Блока к Коганам в несколько минут. «У Коганов, – пишет Чуковский, – бедно и напыщенно, но люди они приятные. Чай, скисшая сырная пасха, кулич…» А Надя скажет: «С первого часа… ощутила незримое присутствие какой-то грозной, неотвратимой, где-то таящейся… катастрофы…»
Дневник Чуковского – почти единственное свидетельство последних дней Блока. Он фиксирует: уже после первого выступления поэт понял: приехал зря. «Сбор неполный, – пишет Чуковский. – Это так ошеломило Блока, что он не хотел читать. Наконец согласился – и механически, спустя рукава, прочитал четыре стихотворения». Но публика почти не хлопала. Уйдя за сцену, он даже хотел прервать вечер. Потом вышел и неожиданно прочел чьи-то стихи по латыни. «Зачем вы это сделали?» – спросил Чуковский. «Я заметил там красноармейца вот с такой звездой на шапке. Я ему их прочитал…» Чуковский пишет: «Меня это… потрясло! Вызвав несколько знакомых барышень, я сказал им: чтобы завтра были восторги. Зовите всех курсисток с букетами, мобилизуйте хорошеньких, и пусть стоят вокруг него…»
Кто был тот красноармеец, не снявший свою буденовку перед поэтом, – неизвестно. Но как не вспомнить слова Блока, сказанные как-то поэту Садовскому: «Ненависть – чувство благородное, потому что она вырастает из пепла сгоревшей любви…» Святая ненависть переполняла уже Блока. Он всё понял. И про «Двенадцать», и про революцию, и про «сцену-страну», на которой навсегда поменяли декорации. Не знаю, поведал ли Наде, но Кублицким, родственникам, которых навестил в этот приезд (Москва, Трубниковский пер., 30), уж наверное рассказал про «новую» жизнь свою. Как однажды его арестовала ЧК, и на Гороховой, на забитом людьми чердаке, он спросил у соседа: «Мы отсюда выйдем?» «Конечно! – беспечно сказал тот. – Разберутся и отпустят». «Нет, – ответил Блок, – мы отсюда никогда не выйдем. Они убьют всех…» Как уплотняли в квартире на Офицерской, как заставляли в очередь дежурить у ворот и какой-то шутник, проходя мимо, расхохотался ему в лицо: «И каждый вечер в час назначенный, иль это только снится мне…» Как ходил на общественные работы – разгружать баржу, как голодал, как замерзал… Хотя, думаю, и рассказывать было не надо. Ведь все видели: человек с вечно «упорно-веселым» взглядом, который любил жизнь и всё делал на совесть: косил траву, колол дрова, который повторял, что работа везде одна – «что печку сложить, что стихи написать», так вот этот человек в два буквально года превратился в жалкого старика… Старика в сорок лет!
Про последнюю Москву Блока писать трудно. Слова нейдут. В Москве будет несколько вечеров его. Выступит в Союзе писателей (Москва, Тверской бул., 25), в Обществе итальянской культуры – здании Высших женских курсов (Москва, Мерзляковский пер., 1). Но, несмотря на курсисток, которых нагнал Чуковский, выступал через силу, понимая: никому из новой публики не нужны уже его «бездонности» и «боль несказанная». Публика – «любопытный зверь», – шепнул Наде. И стихи выбирал мрачные. Одно заканчивалось, нет – обрывалось просто страшно: «Что тужить? Ведь решена задача: Все умрем!..» Вот тогда Надя, разбудив на рассвете мужа, уже одетая, и скажет ему шепотом: «Он говорит, что больше никогда не будет писать стихов…»
В то утро она проснулась от шагов поэта за стеной, глухого кашля и, как ей показалось, стонов. Надя кинулась к нему. Блок сидел в кресле спиной к двери. На столе – плетенный из соломки портсигар, смутно белевшая бумага, в руках – карандаш. «В этот предутренний час всё было серо-сумрачно, – пишет она. – И стол, и смутно белевшая бумага, которую я всегда клала вечером на стол, даже сирень в хрустальном стакане казалась увядшей. Услыхав, что кто-то вошел, Блок обернулся, и я ужаснулась выражению его глаз, передать которое не в силах… Подойдя ближе, заметила, что белый лист… был весь исчерчен какими-то крестиками, палочками». Поймав взгляд Нади, Блок отбросил карандаш: «Больше стихов писать никогда не буду…»
Надя, успокаивая его, сказала, что спать уже не хочет, и позвала пройтись. Вот тогда по спящим арбатским переулкам они и двинулись не сговариваясь к скамье у Храма Христа Спасителя. Спящий город, беременная Надя, и он, опиравшийся на палку, сорокалетний старик. Он не шутил по дороге, как когда-то, не осуждал время, не говорил, как сказал накануне поездки художнику Анненкову: «Мы задыхаемся, мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!.. Опротивела марксистская вонь…» Нет, они ковыляли по безжизненному, словно чужому городу, не проронив ни звука, и это, кажется, было еще страшней.
Из воспоминаний Н.Нолле-Коган: «Мы… дойдя до скамьи, сели. Великое спокойствие царило окрест, с реки тянуло запахом влаги, в матовой росе лежал цветущий сквер, а в бледном небе постепенно гасли звезды. День занимался. Как благоуханен был утренний воздух! Как мирно все вокруг! Какая тишина! Мало-помалу Блок успокаивался, светлел… Надо было, чтобы в этой тишине прозвучал чей-то голос, родственный сердцу поэта, чтобы зазвенели и запели живые струны в его душе…»
И тогда Надя, нарушив молчание, стала читать Фета: «Передо мной дай волю сердцу биться // И не лукавь. // Я знаю край, где всё, что может сниться, // Трепещет въявь…»… Вспомнить дальше не смогла. И уже Блок, впервые улыбнувшись, подхватил: «Скажи, не я ль на первые воззванья // Страстей в ответ // Искал блаженств, которым нет названья // И меры нет…» Стихи были и про него: про «сердце», «воззванья», «страсти». Последний, почти счастливый миг. Ибо дальше – мрак, «кошачий концерт» того вечера, когда ему прилюдно бросят, что он – «мертвец». Это скажут в Доме печати, в Домжуре (Москва, Никитский бул., 8). Мы с телекамерой, поднявшись по знакомой лестнице, будучи здесь, может, в тысячный раз, впервые глянули на зал отстраненно. «Кошачьим концертом» назвал скандал Пастернак. Он же напишет и то, что кроме него никто больше не упомянет. Что Маяковский как раз накануне вечера сказал ему: «В Доме печати Блоку готовят разнос…» Выходит, как это ни страшно, но скандал был ожидаем – готовился кем-то. Но почему об этом знал именно Маяковский? Нет ответа. Молчит история, как молчало и бравое советское литературоведение.
Что же случилось на Никитском? Как пишут разные свидетели, после чтения Блоком стихов на сцену выскочил какой-то солдат и проорал, что ничего не понял, что это – форменное безобразие. А потом на эстраду взошел тот, кто, кажется, понял всё: некий А.Струве, завотделом губернского пролеткульта. Вот он-то и гаркнул: «Товарищи! Где динамика? Где ритмы? Всё это мертвечина, и сам Блок – мертвец…»
В зале встала гробовая тишина. Ведущий вечера, молодой тогда Павел Антокольский промолчал. На защиту кинулся поэт Бобров, но так кривлялся при этом, что напомнил клоуна. Потом, «раздувая пики черных усов», за Блока вступился муж Нади – Коган и, ссылаясь на Маркса, стал доказывать, что на деле Блок – не мертвец. Вышло и жалко, и пошло. В зале вспыхнут шум, крики, смех. Пастернак и Маяковский, знавшие о скандале, в Дом печати вроде бы опоздают. Правда, по версии Чуковского, Маяковский был в зале, зевал, подсказывал рифмы, и всё «наше действо, – пишет он, – казалось ему скукой и смертью». Сам Маяковский скажет потом: «Он читал старые строки о цыганском пении, о прекрасной даме – дальше дороги не было. Дальше смерть». Про этот ли вечер сказал? Но особо бузили имажинисты. Они и после смерти Блока устроят нечто уж и вовсе запредельное – поминки по нему с докладом «Слово о дохлом поэте». Есенин, говорят, тогда и порвал с имажинистами. Но самым поразительным станет то, что Блок, услышав про «мертвеца», закивает головой и за кулисами шепнет Чуковскому: «Верно, верно! Я действительно мертвец…»
А дальше – дальше было прощание с Москвой: вокзал, перрон и его лицо, уплывавшее в вагонной раме. И слова его: «Прощайте, да, теперь уже прощайте…»
«Слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка», – скажет про себя в последние дни. А врачи будут гадать: отчего умер? От истощения, психастении, эндокардита? «Слопали» – он же сказал! И Цветаева давно уже написала – «заставили» умереть. А Вяч.Иванов, авторитет, наставник, человек, так боготворивший Блока, что всякий раз, возвращаясь из поездок, посылал ему букеты роз, скажет бесповоротней. Это Гумилева убили, скажет, а Блока – «убило»… Умеют поэты находить слова!
Воспаление сердца
Есть, представьте, такая болезнь – «воспаление сердца». В молодости Блок написал: «Не откроем сердца – погибнем… В таком виде стоит передо мной моя тема, тема о России… Этой теме я сознательно… посвящаю жизнь». И выделил слова: «Сердце», «Россия», «Жизнь». Сердце и не выдержало: «подкрадывающееся воспаление сердца», констатировал врач, лечивший его, или, как подтвердят нынешние, «подострый септический эндокардит».
«Бесстрашие правды» – вот отличие его, скажет о Блоке Чуковский. «Бесстрашие искренности», – не сговариваясь, отзовется и Горький. Другими словами, всё, что иные символисты лишь для красы писали порой с большой буквы (любовь, страсть, ненависть), Блок сейсмографически переживал сердцем. Актер на сцене? Часовой души? Нет, лунатик – так, и опять-таки слово в слово, назовут его несколько человек, – лунатик, идущий по краю жизни, который вот-вот очнется вдруг и – сорвется в пропасть.
Врач А.Г.Пекелис в заключении о кончине Блока напишет странные для медика слова: «Если… нашему нервно-психическому аппарату предъявляются в переживаемое нами время особые повышенные требования, ответчиком за которые служит сердце, то нет ничего удивительного в том, что этот орган должен был стать “местом наименьшего сопротивления” для… глубоко чувствовавшего и переживавшего душой». Особое «время», «требования», «переживания души» – разве для эпикриза эти слова?..
Всё странно в уходе Блока. За сорок лет почти не обращался к врачам, в клиниках не лечился, известно было только, что в шесть лет у него был плеврит, в двенадцать – воспаление среднего уха, в тринадцать – корь и бронхит, в шестнадцать – подозрение на малярию. Всё! Здоровый человек! Он за год до смерти купался в ледяном Финском заливе (специально ездил на трамвае в Стрельну), косил, копал, сам пилил и колол ледяные дрова, таская их на четвертый этаж, и до последнего момента дважды в день совершал десятикилометровые походы на службу – сначала в издательство «Всемирная литература», потом в Большой драматический театр, куда был назначен управляющим. И – в два месяца смерть. В справке уже нынешних экспертов, доктора медицинских наук М.М.Щербы и кандидата наук Л.А.Батуриной, перечисляются все болезни и все врачи, когда-либо осматривавшие Блока. Один, лечивший его, профессор В.М.Керниг, скажет: «Грешно лечить этого молодого человека», другой – приват-доцент Н.Ф.Чигаев – найдет лишь «сильнейшую степень неврастении и, возможно, зачатки ипохондрии», а третий в 1917 году (врач Ю.В.Каннабих) вообще «пропишет поэту» только бром и валерьянку. Словом, человек умирал неизвестно из-за чего. И лишь за полтора месяца до смерти, 17 июня 1921 года, врачи П.В.Троицкий, профессор Военно-медицинской академии, и Э.А.Гизе, заведующий неврологическим отделением Обуховской больницы, поставят диагноз: эндокардит. То, что ныне легко лечат антибиотиками…
Говорят, могла спасти Финляндия, хороший санаторий. Даже деньги нашли в Берлине – пять тысяч марок. О выезде ходатайствовал Горький. 3 мая 1921 года (Блок только что уехал в Москву) Горький написал об этом Луначарскому. Тот почти месяц молчал. 29 мая Горький напомнил: «Сделайте возможное, очень прошу!» Тогда же правление Всероссийского союза писателей обратилось к Ленину. Тот на письмо не ответил, а Луначарский свое передал в ЦК лишь 10 июня. Кроме Блока писатели просили и за Сологуба. Выехать разрешили Сологубу. Луначарский, помните, взорвался: Блок – поэт революции, наша гордость! А Сологуб, кто он такой? Только тогда Блоку разрешили выехать, а Сологубу нет. Но разрешение, увы, опоздало. Убийство? Не знаю, не думаю, хотя именно так считал покойный Владимир Солоухин – он считал, что чекисты «отравили его медленно действующим ядом». Выдумки, конечно. Убила Блока наша «расейская» волокита. Когда в 1995-м открыли протоколы заседаний Политбюро, стало известно: ВЧК, когда дорог был каждый час, лишь 29 июня 1921 года доложит секретарю ЦК Молотову, что вообще-то… «не видит оснований» для выезда Блока. Тогда, и опять только через тринадцать дней, 11 июля Луначарский обратится лично к Ленину: «Я еще раз в самой энергичной форме протестую против невнимательного отношения ведомств к нуждам крупнейших русских писателей и с той же энергией ходатайствую о немедленном разрешении Блоку выехать в Финляндию для лечения». Ленин в тот же день напишет: «Тов. Менжинский. Ваш отзыв? Верните, пожалуйста, с отзывом. Компривет. Ленин». Член коллегии ВЧК Вячеслав Менжинский (кстати, когда-то «участник литературного движения Серебряного века») отозвался сразу. Но как?! «Блок – натура поэтическая, – написал вождю, – произведет на него дурное впечатление какая-нибудь история, и он совершенно естественно будет писать стихи против нас. По-моему, выпускать не стоит…» Именно с этим аргументом: «не стоит» – вопрос был поставлен 12 июля на Политбюро. Троцкий и Каменев проголосовали за выезд. Ленин, Зиновьев и Молотов – против. Тогда с подачи Горького Луначарский уже 16 июля направил очередное письмо в ЦК: «Могу… заранее сказать результат, который получится вследствие (такого) решения. Высоко даровитый Блок умрет недели через две…» Лишь после этого то ли 22-го, то ли 23 июля Ленин примкнет к меньшинству, а Молотов – воздержится. Блоку разрешат выезд, но без жены: ее оставляли заложницей. 29 июля, когда до смерти поэта оставалось восемь дней, Горький телеграфировал Луначарскому о необходимости выезда жены. 1 августа Луначарский вновь обращается в ЦК. И только 5 августа необходимость выезда Любы партия наконец признаёт. До смерти Блока оставалось всего два дня.
Из письма Е.Ф.Книпович – К.И.Чуковскому: «К началу августа он уже почти всё время был в забытьи, ночью бредил и кричал страшным криком, которого во всю жизнь не забуду. Ему впрыскивали морфий, но это мало помогало. Все-таки мы думали, что надо сделать последнюю попытку и увезти его в Финляндию. Отпуск был подписан, но 5 августа выяснилось, что какой-то Московский Отдел потерял анкеты, и… нельзя было выписать паспортов… 7 августа я с доверенностями должна была ехать в Москву… Ехать я должна была в вагоне NN, но NN, как и его секретарь, оказались при переговорах пьяными. На другое утро, в семь часов, я побежала на вокзал, оттуда на Конюшенную, потом опять на вокзал… где заявила, что всё равно поеду, хоть на буфере… Перед отъездом я по телефону узнала о смерти и побежала на Офицерскую…»
На календаре было 7 августа 1921 года.
Умирал тяжело. «Мне пусто, мне постыло жить!» – последняя строчка на земле. Последними словами к Любе стали: «Почему ты в слезах?..» «Жить не хотел, – пишет Андрей Белый, – к смерти готовился». «Гибель лучше всего», – признался тетке. Перед смертью, в чаду болезни разбил голубую вазу, подарок Любы, зеркало, с которым брился, запустил кочергой в Аполлона, стоявшего на шкафу: интересно, «на сколько кусков распадется эта рожа». После испуганно плакал, хватался за голову: «Что же со мной?..» Бредил об одном, пишет Г.Иванов: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? «Люба, хорошенько поищи и сожги, всё сожги…» Этот факт блоковеды полвека звали «злобной клеветой» эмигранта Иванова. Но всё оказалось правдой. Белый вспомнит, что матери Блок тоже сказал: «А у нас в доме “столько-то” (не помню цифры) социалистических книг; их – сжечь, сжечь!..» Алянский добавит: он сам следил, как горели эти книги: кровать его стояла у печки.
«Умер от “Двенадцати”, как другие умирают от разрыва сердца», – скажет позже тот же Иванов. Тот Иванов, который однажды в компании с Блоком бросил легкомысленно: поэзия, дескать, – это забава, искусство веселое и приятное. А Блок, поймав на лету эту фразу, молниеносно ответит: «Да, – скажет. – Не за это ли убили Пушкина и Лермонтова?» И так же молниеносно встанет и уйдет… А из жизни уйдет, так и не узнав, что, как установили ныне, сам был в родстве с Пушкиным: племянник прадеда его, Александра Ивановича Блока, был, оказывается, женат на Надежде Веймарн – праправнучке Ганнибала. Меня, надо сказать, это не удивило: все гении – родня. Хотя в гробу лицо Блока напоминало даже не Пушкина – самого Данте.
А еще он так и не узнает про сына, который родится у Нади. В одном из последних писем напишет ей странные слова – почти завещание.
Из письма Блока – Н.Нолле-Коган: «Во мне есть, правда, 1/100 того, что надо было передать кому-то, вот эту лучшую мою часть я бы мог выразить в пожелании Вашему ребенку, человеку близкого будущего… Пусть… он будет человек мира, а не войны, пусть он будет спокойно и медленно созидать истребленное семью годами ужаса. Если же это невозможно, если кровь всё еще будет в нем кипеть, и бунтовать, и разрушать, как во всех нас, грешных, – то пусть уж его терзает всегда… совесть, пусть она хоть обезвреживает его ядовитые, страшные порывы, которыми богата современность наша и, может быть, будет богато и ближайшее будущее… Жалейте и лелейте своего будущего ребенка; если он будет хороший, какой он будет мученик, – он будет расплачиваться за всё, что мы наделали…»
Мальчика Надя назовет Сашей, как и Чубукова свою дочь. Узнав о смерти Блока, Надя, «кормя сына, вся зажалась внутренне, не дала воли слезам. А десять дней спустя ходила в марлевой маске – ужасающая нервная экзема от “задержанного аффекта”». Знаете, чьи слова? Цветаевой. Она сойдется с Надей после смерти Блока. «В мою последнюю советскую зиму, – напишет, – я подружилась с последними друзьями Блока, Коганами, им и ею». Посвятит Наде стихотворение «Подруга», а сыну ее – стих «Вифлеем». В посвящении напишет: «Сыну Блока – Саше»…
Ну а дальше – дальше начнутся сплошные странности. Тот новый «детектив», который начался для меня в квартире на Черняховского, в доме сына Нади, Александра Кулешова-Нолле, и его курчавой медноволосой дочери. Внучки Нади. Внучки Блока. Пишу и кожей чую, как хватаются за сердце «испытанные» блоковеды! Ведь доказано (правда, неизвестно – кем?): сын Нади Нолле – не сын Блока. Ведь Цветаева – и та отказалась от своих слов.
Давайте остановимся, расставим точки над i. Мне, если честно, ровным счетом наплевать, есть ли дети или внуки у того же Фадеева, который «вычеркивал» Блока из литературы. Это меня не волнует. Но меня искренне интересуют дети, внуки и даже правнуки Блока, Цветаевой, Есенина – великих поэтов ХХ века. Мне не важно, законные они или внебрачные, мне просто важно всё, связанное с ними. Ведь они дети тех, кого боготворит и будет боготворить Россия!
Не так давно в книге о Серебряном веке я рассказал о Марии Сакович, приемной матери дочери Блока – Александры Люш. Сакович, работавшая врачом в БДТ, где Блок был «председателем режиссерского управления», – всю жизнь хранила тайну рождения ее. Может, потому десятилетиями считалось, что у Блока не было и не могло быть детей. Ходили какие-то глухие намеки на дурные болезни, наследственность. И вдруг в «эпоху гласности», в 1990-х, на экранах телевизоров возникла женщина, очень похожая на поэта. Тогда и выяснилось, она – дочь Блока. Ныне, как я говорил уже, – признанный факт.
Просто в далеком 1920 году знаменитый актер БДТ Н.Ф.Монахов позвал как-то Блока к себе на дачу, где тот познакомился с хорошенькой медсестрой Сашенькой Чубуковой. Она была замужем за Константином Тоном, к тому времени расстрелянным большевиками. И вот на даче и случился мимолетный роман ее и Блока. Будут встречаться где-то на Петроградской, Блок будет ездить к ней в Сиверскую, в Кезево, где у Чубуковой был двухэтажный дом. Но она, родив дочь, почти сразу сгорит от чахотки, умрет даже раньше Блока. А Мария Сергеевна Сакович не только удочерит девочку (пишут, что Блок перед смертью попросил ее позаботиться о ней), но уговорит Павла Монахова, брата актера, с которым у нее был роман, дать новорожденной свое отчество – Павловна. Всю жизнь мать и приемная дочь ее проживут на Бородинке, в доме, который мы в детстве, выросшие на этой улице, звали «Домом артистов» (С.-Петербург, ул. Бородинская, 13). И почти всю жизнь обе будут глухо молчать о своей тайне.
Историю допишет Владимир Рецептер, нынешний артист знаменитого театра. В недавней книге «Жизнь и приключения артистов БДТ» он рассказал, что Александра Павловна Люш, повзрослев, также пришла работать в театр, где стала декоратором – работником бутафорского цеха. В театре ее звали Аля-Паля или просто Паля – по отчеству. Но никто не знал, что она дочь великого поэта. Когда в 1965-м Ахматова, за год до смерти, затеяв собственное расследование истории, навестила в Доме ветеранов сцены Сакович, та лишь сквозь зубы признается. «Блок?» – спросит ее Ахматова. «Да», – ответит Сакович. «А кто мать?» – «Я не могу сказать. Это тайна». «Стало ясно, – пишет Рецептер, – она поклялась». Поклялась Блоку никому не говорить этого…
Такая вот история. И не так ли случилось и с сыном Блока, которого тогда же, в 1921-м, родила Надя? Не та ли это «тайна», которую она также поклялась не говорить «никому и никогда»?
Вы спросите, есть ли доказательства, что сын Нади – сын Блока? На мой взгляд, их – море! Я не говорю об имени, данном новорожденному в честь Блока, о том, что ровно за девять месяцев до рождения его Надежда Александровна Нолле-Коган долго гостила у Блока в Петрограде, где подружилась и с матерью поэта, и с Любой. Не говорю о, кажется, последнем письме Блока к Наде, написанном в январе 1921 года, где была необъяснимая фраза: «Вы связываете будущего ребенка с мыслью обо мне. Я принимаю это, насколько умею, а умею очень плохо…» Не говорю, что в архиве Л.Д.Менделеевой-Блок сохранилось последнее, уже после смерти поэта, письмо Нади, где есть странная фраза: «Мне так тяжело здесь одной нести это горе, Вы правы – мой сын – это моя жизнь, всё теперь замкнулось около него, всё в нем и в воспоминаниях», что косвенно, как пишет уже Юлия Галанина, блоковед, может подтверждать отцовство Блока. Не говорю, наконец, о том, что, несмотря на нарочитые, как бы для чужих ушей, утверждения Нади, что отец ребенка – ее муж, сам Коган после рождения мальчика якобы сказал ей: «Ну, пусть это будет наш ребенок». Не говорю, ибо мне хватает цветаевских свидетельств.
Во-первых, Цветаева, подружившись с семьей Коганов, могла знать об отцовстве ребенка от самой Нади. Во-вторых, читала некоторые письма Блока к Наде (всего их сохранилось, повторю, 147, но весь архив Н.А.Нолле-Коган закрыт на полвека, до 2015 года). В-третьих, своими глазами видела мальчика и уверяла: он похож на поэта как две капли воды (я в этом и сам убедился). Наконец, прямое доказательство – письма Цветаевой и мемуары знавших ее. Тех, кого она убеждала, кому страстно, иногда – до слез доказывала: Саша Нолле – сын Блока. 30 марта 1924 года, уже в эмиграции, она пишет Роману Гулю: «Странно, что в Россию поедете. Где будете жить? В Москве? Хочу подарить Вам своих друзей Коганов, целую семью, все хорошие. Там блоковский мальчик растет – Саша, уже большой, три года…» Потом напишет ему же еще одно письмо.
Из письма Цветаевой – Роману Гулю: «Вы спрашивали о сыне Блока… Видела его годовалым ребенком: прекрасным, суровым, с блоковскими тяжелыми глазами (тяжесть в верхнем веке), с его изогнутым ртом. Похож – более нельзя. Читала письмо Блока к его матери… Видела подарки Блока этому мальчику… Видела любовь Н.А.Коган к Блоку… Мальчик растет красивый и счастливый… Будут говорить “не блоковский” – не верьте: это негодяи говорят…»
«Негодяи» – не преувеличение. Цветаева чуть не разрыдалась в берлинском кафе, когда кто-то (уж и не помню кто) позволил себе посмеяться над этим. «Блок и ребенок – ха-ха-ха!..» Но, увы, серьезные блоковеды – молчат. На Черняховского ни один из них не побывал. А лучший из них, покойный Владимир Орлов, даже про питерскую дочь Блока как-то сказал неловкую фразу тому же Рецептеру. Когда на юбилее БДТ к Орлову подвели Александру Люш и «с намеком представили: вот, мол, “дочь юбиляра”», тот, как пишет Рецептер, сказал: «Вы понимаете, я – в курсе. Но я написал книгу о Блоке, и в мою концепцию это не входит…» Такое вот «литературоведение». Цветаеведы же слово в слово приводят лишь один аргумент: да, Цветаева верила в «сына Блока», но позже узнала, что это – миф. «Легенда о том, что сын Н.А.Нолле – сын Блока, бытовала в писательских кругах долго, – пишет Виктория Швейцер, – может быть, не совсем развеялась и до сих пор. Не буду говорить о спорности или достоверности ее – важно, что Цветаева ей верила, хотя несколько лет спустя почему-то изменила мнение об отцовстве Блока (курсив мой. – В.Н.)». Почему изменила – неясно. Ирма Кудрова в только что вышедшем трехтомнике о Цветаевой пишет категоричней: «Долго не хотела этому верить, но – пришлось…» И опять ни слова – «пришлось» почему? Возможно, обе – и Швейцер, и Кудрова – имеют в виду доклад Цветаевой «Моя встреча с Блоком», который она сделала в 1935 году в Париже? Но текст доклада, как известно, не сохранился. Может, сохранились косвенные свидетельства его? Неведомо. Одно неоспоримо: Цветаева почему-то верила в сына Блока в Москве, где общалась с Н.А.Нолле, а разуверилась – через много лет в эмиграции, когда всякое общение с Надей, по понятным причинам, прекратилось. И еще неоспоримо то, на что никто не обратил внимания: самое простое объяснение – глубокая порядочность Надежды Александровны, которая если и дала клятву Блоку молчать о сыне его, то держала ее неукоснительно. Так же, как Мария Сергеевна Сакович.
Порядочность и непорядочность – слова мягкие. Я же думаю, что Блок запрещал говорить о своих детях именно потому, что слишком знал «породу» толпы, черни, слишком изучил «добрые нравы» братьев-литераторов. Он, предполагаю, наперед знал, что будет с ними, его детьми, если «объявят» об их родстве с ним. «Добрые люди – сволочи» (слова Цветаевой) будут сначала высмеивать их, всячески унижая. Потом долго копаться в подробностях, что особенно противно. Потом потребуют «неопровержимых доказательств». Потом – затеют «окололитературную» свару: было – не было. И вот в ней-то – в грязи, в подмигах, в шипении за спиной, мутной воде намеков – попросту «утопят» и детей, и их матерей. Ведь если у Цветаевой невольно брызнули слезы, когда она защищала «отцовство» Блока, то можно представить, что ждало бы «виновницу» происшедшего – Надю. Вот почему, думаю, она твердила, что отец ребенка – муж, и вот почему уже Люба накануне своей смерти, передав в Литературный музей переписку Блока (более двух тысяч писем от 440 корреспондентов), письма Нади как раз уничтожила…
«Добрые люди» не перевелись доныне. Пример? Да та самая сравнительно недавняя статья некоего Марка Тартаковского в «Огоньке», на которую я, разыскивая фотографию Нади, напоролся в Интернете. Она, представьте, называлась «Прекрасная жизнь сына Александра Блока» и имела подзаголовок: «В отличие от отца А.П.Кулешов был счастливым человеком».
Оказывается, Тартаковский, в 1960-х – «молодой литератор», был как бы учеником сына Блока – писателя Кулешова. «Вы не знаете такого писателя?» – ядовито спрашивает он читателей «Огонька» и сам же отвечает: значит, вы не читали сборники «Советские спортсмены в борьбе за мир», где Кулешов был в двух ипостасях: как Кулешов – один из авторов и как редактор-составитель – А.П.Нолле. Великий, по мнению Тартаковского, грех! Оказывается, Кулешов, по его словам, был жутким «приспособленцем», который и ему советовал быстрее становиться членом СП СССР, быть упорнее, придумать себе псевдоним. Про свой же псевдоним, издевался Тартаковский, Кулешов ничего не сказал ему, и лишь однажды от футбольного комментатора Льва Филатова Тартаковский услышал, что Кулешов – сын Блока. И вот тут-то весь пафос автора «Огонька» обрушился на якобы неправедную и далеко не бедную жизнь «самозванца» Кулешова.
О, люди, люди! Оказывается, Кулешов ездил «по заграницам» по двадцать раз в году, причем тогда, когда «приличных людей» (надо полагать – самого Тартаковского!) и один-то раз не выпускали. Оказывается, в домашнем «баре» Кулешова (обычной, кстати, старой стенке, которая и ныне «несовременно» стоит на Черняховского) Тартаковского уже тогда поражали кьянти да мартини. А в туалете – вот преступление! – автора «Огонька» возмутил «небесно-лазурный унитаз». Как можно так шиковать?! А электрический камин, а мебель красного дерева? – прокурорским тоном сплевывает Тартаковский в журнале. А по какому праву, кипятится, пятидесятилетие Кулешова отмечала сама «Литературка», ведь такие даты не празднуют? И как он посмел устроить прием в ЦДЛ по этому поводу, в смысле – откуда деньги? Всё в таком вот духе. И вывод – нет, сын Блока «мучеником не был»…
Ну что тут скажешь – чернь, она и есть чернь! Недаром при воспоминании об этой статье в «Огоньке» покойная ныне вдова сына Блока и ее дочь Надя хватались от ужаса за голову: зачем, зачем пустили его в дом?! И именно это вот и предвидел Блок, умирая…
Мне лично жаль, что я мало пообщался с Анной Наумовной, женой А.П.Кулешова-Нолле, – она умерла вскоре. Но сколько интересного успела она рассказать про свою свекровь – про Надежду Александровну. Оказывается, та была отличной переводчицей – мне даже подарили изданный только что роман «Собор Парижской Богоматери» в ее переводе. Нет-нет, не Анна Наумовна и не внучка Блока издавали его – они случайно (верите ли?) увидели роман на книжном прилавке в перестроечные уже времена. Открыли из любопытства и обомлели: на титульном листе стояло имя Нади Нолле. Кто нашел именно этот старый перевод Надежды Александровны – неизвестно, но что хорошо сделано, то и «проталкивать» не надо, оно само находит издателей. Призналась мне Анна Наумовна, хотя и не сразу, что Н.А.Нолле-Коган оставила воспоминания о Блоке – не те короткие, которые опубликованы, а полные, которые закрыты в архиве до 2015 года. Но самое главное – ни она, ни дочь ее, с курчавой, как у Блока, головой, так и не подтвердили мне отцовства Блока. Молчали, улыбались, вежливо уходили от вопросов. Анна Наумовна дала понять, что много чего знает, но сказала фразу, которая мне особенно понравилась. Сказала: это не ее «тайны» – тайны Нади Нолле-Коган.
Тайна тайн Блока – добавлю от себя. И вновь удивлюсь прозорливости его. Нет, ни доказывать что-либо, ни опровергать я не собираюсь. Блок ведь сказал перед смертью: «Художник платит случайной жизнью за неслучайность пути…» Но один факт из рассказанного Анной Наумовной – любопытный, озорной, житейский – приведу. Как она познакомилась с мужем – с сыном Блока.
Они вместе учились в Военном институте иностранных языков, и она за прогулы была как-то посажена «под арест». А будущий муж ее, Саша Нолле, тоже курсант, но старшего класса, был в тот день дежурным по училищу и приказал привести к нему любого арестованного – полы помыть в кабинете. Привели, вообразите, ее, Аню. Когда она вошла в кабинет дежурного курсанта, будущий избранник ее говорил по телефону. «Что вы хотите?» – оторвавшись от трубки, спросил ее. Она сказала: ее, «арестантку», привели по его приказанию. Так и познакомились. «Но вы знаете, – улыбнулась Анна Наумовна, – первое, что я заметила, когда он говорил еще по телефону – это его безумно красивые руки. Я смотрела только на них. – И, неожиданно рассмеявшись, не без кокетства добавила: – А Саша, как признался потом, смотрел, оказывается, на мои ноги. Я как раз достала тогда очень красивые чулки телесного цвета… Вот так и встретились…»
Красивые руки, я это знал, – у Блока были очень красивые руки. Неудивительно, что у сына его они тоже были красивы. Но лишь уйдя из дома на Черняховского, уже у метро, я вспомнил вдруг, что ведь и Ахматова именно по рукам узнала внебрачного сына своего мужа Николая Гумилева, юношу, которого до того не видела никогда. Его к Ахматовой привела как-то его мать, давняя возлюбленная Гумилева актриса Ольга Высотская. Так вот, ей, глянув на мальчика, Ахматова и сказала: «У него руки, как у Коли…» Ей, Ахматовой, этого «недокументального» подтверждения оказалось достаточно.
Но будет ли достаточно – нам?
Часовщик человечества, или «Доски судьбы» Велимира Хлебникова
Сегодня снова я пойду Туда, на жизнь, на торг, на рынок, И войско песен поведу С прибоем рынка в поединок! Велимир ХлебниковХлебников Велимир (Виктор Васильевич) (1885–1922) – великий русский поэт. Символист, один из основателей футуризма, он стал крупнейшим реформатором языка и провозвестником многих открытий в истории и науке.
«“Гений, гений, гений!” – кричали ему в лицо. А он был “кукушонок”, но никто этого не знал…»
Это, извините, самоцитата. Так я начал когда-то очерк о Хлебникове в книге о Серебряном веке Петербурга. Теперь, в рассказе о хлебниковской Москве, решил вступление повторить. Ведь кукушонком и, уж конечно, гением он остался и в новой столице, куда переехал незадолго до смерти.
«От него пахнет святостью», – скажет о нем Вячеслав Иванов, тоже москвич в последние годы. Мандельштам настаивал: Хлебников – «величайший поэт мира». Малевич, художник, звал его «астрономом человеческих событий», Маяковский – «Колумбом поэтических материков». Его равняли даже с автором «Слова о полку Игореве»! И все: Мандельштам, Маяковский, даже поэт Михаил Кузмин – сравнивали с птицами: цаплей, аистом, воробышком. Он и сам напишет про себя: «Хожу как журавель». Но был, повторяю, кукушонком. Чужим в поэтических «гнездах». И на изысканной «Башне» Иванова в Петербурге, и в «голубом» салоне Кузмина, и – в московской «шайке» Маяковского. Почему? Да потому, что сразу взлетел выше кружков, школ и направлений, стал – самой поэзией. Его ведь так и числят ныне: Ломоносов, Пушкин, Блок, Хлебников. Всё! И действительно – кто мог сказать: «Мы в ведрах пронесем Неву, // Тушить пожар созвездья Псов…»
За год до смерти, уже в Москве, написал: «Всем! Всем! Воля! Воля будетлянская! Вот оно! Наше откровение. И до нас пытались писать законы. Бедные! Главным украшением своей законоречи они считали дуло ружья… Мы, стоя на глыбе будущего, даем такие законы, какие можно не слушать, но нельзя ослушаться. Они сделаны… из камня времени…» «Воззвание» 1921 года. Но и ныне читаешь его, перечитываешь, трясешь головой и – вновь пытаешься понять. Слова – русские. Но что имел в виду, какими законами «из камня времени» грозил нам, да и грозил ли он – поэт, философ, футурист? «Председатель Земного Шара»? «Часовщик человечества», накуковавший срок этой самой «глыбе будущего»?..
Гонорар… для птицы
Будетляне – люди будущего. Слово придумал Хлебников за три года до футуризма, который и вылупится из «будетлянства». «Мы пришли озарить Вселенную!» – выкрикнет однажды друзьям. И, ловя восторг в их глазах, волну азарта, выпалит: «Давайте тогда, давайте пророем канал между Каспийским и Черным морем». Все, ясен пень, онемеют. А Хлебников перебьет уже себя: «Нет. Будетляне должны основать остров и оттуда диктовать условия миру. Будем как птицы. Прилетать весной и выводить разные идеи…» Бурлюк, реалист, наведя на него лорнет, кисло спросит: «А чем станем питаться на этом острове?» – «Чем? – задохнется Хлебников. – Плодами… Мы можем быть охотниками… Мы образуем… племя». – «И превратимся в людоедов, да? – захихикает народ. – Нет уж, лучше давайте рыть каналы. Бери лопату, Витя».
Спор состоялся в 1910-м. А за два года до этой «чумы» в Петербурге возник нелепый юноша: сутулый, в сползающем плаще на одном плече, с «длинным синим глазом» и «длинной» падающей походкой. Поселился на Васильевском (С.-Петербург, Малый пр-т В.О., 17/23), в каком-то коридоре, за занавеской. Студент. Никто не знал, правда, что родился он на дне того самого Каспийского моря, от которого и хотел копать канал. На дне, разумеется, высохшем – в Малодербетовском улусе под Астраханью. «В стане монгольских кочевников, – гордо поднимал палец, – “в Ханской ставке”». И с колыбели был почетным гражданином Астрахани – наследного звания добился для детей и внуков дед, купец первой гильдии. Звание, кстати, освобождало от податей, телесных наказаний и рекрутства. Освобождало, но не освободило, о чем я расскажу еще. А отец поэта, попечитель управления калмыцким народом, ученый, лесовед, основатель первого в России заповедника, – выйдя в отставку статским советником, стал дворянином. Поэта, впрочем, это не вдохновляло – гордился другим. Щепетильностью отца, например, который, подстрелив случайно запретную птицу в своем же заповеднике, сам себе и выписал штраф. А еще гордился, что дядя Александр Михайлов, двоюродный брат матери, вместе с Желябовым и Софьей Перовской, народовольцами, был повешен в Петербурге. Он и сам, оказавшись в тюрьме, нарисовав на стене портрет Герцена, вывел под ним: «Вот мое прошлое, которым я горд…»
Сидел в тюрьме. Был арестован, когда после вечера в честь юбилея Казанского университета он, студент-математик, вырвался с друзьями на улицу и, распевая «Дубинушку», двинулся к театру. И не убежал, когда перед ним встала на дыбы лошадь полицейского и сверкнул палаш. «Надо же было кому-нибудь и отвечать…» Месяц сидел в камере. Но, выйдя на волю, и стал, как заметили окружающие, «вечно обморочным». Даже юная дева, которой очень понравится, оказалась в недоумении.
Из воспоминаний Варвары Дамперовой: «Приходил… ежедневно, садился в углу, и бывало так, что за весь вечер не произносил ни одного слова; сидит, потирает руки, улыбается, слушает. Слыл он чудаком. Говорил… почти шепотом, это было странно при его большом росте… Был неуклюж, сутулился, даже летом носил длинный черный сюртук…»
Близкие тоже удивлялись: «Вся его жизнерадостность исчезла, он с отвращением ходил на лекции и вскоре подал прошение об увольнении». Лишь через год вновь поступит в университет. Но уже на естественное отделение. Запишется на курс общей зоологии и зоологии позвоночных. Асеев, поэт, окрестивший Хлебникова «словождем», пораженный кругозором его, годы спустя напишет: он кончил не один – три факультета: математический, естественный и филологический. Увы, увы. Учился на трех, но не окончил ни одного. Сам скажет: имел «три четверти» университета. Его ведь и из Петербургского университета исключат, как не внесшего плату. Он на это даже не оглянется – он как раз в каморке на Институтском (С.-Петербург, Институтский пер., 4), а может, и на Гулярной уже улице (С.-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, 2) работал «над числами и судьбами народов». Какая уж тут учеба! И что с того, что исключили, если перед ним вставали сами преподаватели. Профессор Василенко вспоминал: они, университетские педагоги, ходили иногда на посиделки студентов – спорить, слушать рефераты. Иногда заскакивал Хлебников. «И, удивительно, – пишет Василенко, – при его появлении все вставали. Непостижимо, но я тоже вставал. Я многие годы уже был профессором. А кем был он? Студентом 2-го курса, желторотым мальчишкой! Нет, это что-то такое, чему нет объяснений…»
Не было объяснений многому. Умению разговаривать без слов, писать иглой дикобраза, способности изжарить, если не было масла, яичницу на расстеленной в сковородке газете или, увлекшись писанием, грызть вместо корки – шишку, раздирая в кровь губы. Наконец, тому, что первой публикацией его стали не стихи, не рассказ с диким названием «Мучоба во взорах» – научная статья. И знаете о чем? О кукушках! То-то друг его Давид Бурлюк назовет его не только математиком и филологом, но – орнитологом. Хотя настоящим знатоком птиц был отец поэта, истый чтец и поклонник Дарвина. Впрочем, и здесь всё не просто. Поэт ведь и сам скажет потом нечто и вовсе загадочное: «Стихи должны строиться по законам Дарвина…»
Короче, зоология, революция, стихи – вот приоритеты. Или наоборот: стихи, революция, зоология. Ведь, живя еще за занавеской, он как-то победно сообщит домой, что был на вечере поэтов и видел всех… «из зверинца»: Сологуба, Городецкого, Кузмина… А в той же «Мучобе во взорах», в первом рассказе, будут «жить» уже у него и «пёс… с языком мысли», и «глазасторогие козлы», и «правдохвостый сом». Зоолог? Да нет, поэт, но – с вывернутыми в сторону зоологии мозгами!..
В литературу входят по-разному. Чаще всего вламываются: с искрами из глаз и грохотом. Хлебников же, задира и буян (шесть вызовов на дуэль только в одном семестре), вошел в нее крадучись, почти на цыпочках, неслышно подымаясь по лестнице. Так, переборов стыд, ступил в подъезд обычного доходного дома, где располагался журнал «Весна» (С.-Петербург, ул. Кирочная, 3), и стал тихо, по стеночке, подниматься. Шаги его, правда, услышал сидевший в редакции Василий Каменский. Тоже поэт. Он сидел при открытых дверях.
Из книги Каменского «Путь энтузиаста»: «Я вышел на площадку – шаги исчезли. Снова взялся за работу. И опять шаги… Я тихонько спустился этажом ниже и увидел: к стене прижался студент в университетском пальто и испуганно смотрел голубыми глазами… “Вы, коллега, в редакцию? Пожалуйста… не стесняйтесь. Я такой же студент, как вы, хотя и редактор. Но главного редактора нет, и я сижу один…” Студент тихо, задумчиво поднялся за мной… “Хотите раздеться?” Я потянулся помочь снять пальто… но студент вдруг попятился и наскочил затылком на вешалку, бормоча неизвестно что… Потом сел на краешек стула, снял фуражку, слегка по-детски открыл рот и уставился на меня небесными глазами. Так мы молча смотрели друг на друга и улыбались. Мне он столь понравился, что я готов был обнять это невиданное существо. “Вы что-нибудь принесли?” Студент достал из кармана синюю тетрадку, нервно завинитил ее винтом и подал мне, как свечку: “Вот тут что-то… вообще…”»
В тетрадке, сразу за цифрами и какими-то вычислениями, была та самая «Мучоба во взорах». Правда, с подзаголовком – «Искушение грешника». Рассказ, где подзаголовок стал заголовком, напечатают. Но что занятно: первый гонорар дебютант спустит буквально за час. Зайдет съесть шашлык под «восточную музыку» и все деньги отдаст музыкантам, которые окружат его, будут играть, петь и кружить вокруг лезгинку. «Ну, хоть шашлык-то съели?» – съязвит Каменский. «Нет, – ответит, – не пришлось, но пели они замечательно. Голоса горных птиц…» Оценила птиц – птица!
«Треугольная» душа
Для нас язык – инструмент. Для Хлебникова – Вселенная. Городецкий перечислял потом: Хлебников «создал теорию значения звуков, теорию повышения и понижения гласных в корнях, теорию изменения смысла корней». Смешно читать! Он не назвал и десятой части. Иные идеи Хлебникова только сейчас, через сто лет, начинают находить признание. Он говорил о связи времени и пространства, цикличности истории, влиянии лунных и солнечных циклов, законах расселения народов. Писал о проблемах экологии, атомной энергии, размышлял об архитектуре будущего (о зданиях в форме цветов), о завтрашнем дне радио и кино. В поэзии же не просто создал «периодическую систему слов» – мир переименовал. И для забавы, шутя, сочинял аналоги иностранным словам: литература – письмеса, актер – игрец, поэт – небогрёз. А слову «автор», хирургически вылущив смысл, дал даже два имени: «словач» и «делач». Гениально, не так ли? Ведь если «словач» звучит как «мастер», то «делач» – как «делец», делец от творчества.
Так вот, в 1910-м, когда наш «небогрёз», пожив на 11-й линии (С.-Петербург, 11-я линия В.О., 48), потом там же – на Васильевском, но в деревянном доме на Донской (С.-Петербург, ул. Донская, 11), в конце концов поселится у Волкова кладбища (С.-Петербург, Волковский пр-т, 54), в доме какого-то купца, его окружали уже исключительно «авторы»: поэты, писатели, художники. Он принят уже в Академию стиха, где преподают Вячеслав Иванов, Брюсов, Кузмин; стихи его вот-вот появятся в изысканном журнале «Аполлон». Он дружит с Гумилевым и Мандельштамом, бывает у Сергея Маковского, поэта (С.-Петербург, Адмиралтейская наб., 12), Алексея Толстого (С.-Петербург, ул. Константина Заслонова, 15), художника Матюшина и его жены поэтессы Елены Гуро (С.– Петербург, ул. Рентгена, 4). Но среди окружавших его можно было наперед вычислить и тех, кто станет «словачом» – мастером, и тех, кто найдет в слове выгоду, хитроватых «делачей». Их, имитаторов души и таланта, с годами будет толпиться вокруг него всё больше и больше.
Тот домик у Волкова кладбища не сохранился. А жаль. Оттуда напишет «простому, как кирпич» Каменскому, что вообще-то они не люди – «новый род люд-лучей». И оттуда выдернет его и увезет к себе в Чернянку, на Украину, Давид Бурлюк. В Гилею увезет, как звал ту местность еще Геродот и как назовут потом свою группу «люд-лучи» – футуристы. Но, главное, в том доме и как раз в день отъезда случится событие ну просто эпохальное.
Давид Бурлюк. «Фрагменты из воспоминаний футуриста»: «Хлебников жил у купца на уроки за комнату. Это был деревянный неоштукатуренный дом, и во все окна, с одной стороны, глядели кресты Волкова кладбища. Витя занимался “за комнату” с двумя вспухшими блондинками, дочерьми купца: как длинные репы, висели на их розовых шеях сзади тугие косицы… Я заявил мамаше, что забираю студента. Быстро собрали “вещи”; что-то очень мало. Был чемоданчик и мешок, который Витя вытащил из-под кровати; наволочка, набитая скомканными бумажками, обрывками тетрадей, листками бумаги или просто углами листов… “Рукописи”, – пробормотал Витя…»
Но, таща поэта к выходу, шагнув уже за порог, Бурлюк увидит у двери бумажонку. Счастье, что нагнулся за ней! Ибо это было «Заклятие смехом». Помните? «О, рассмейтесь, смехачи! // О, засмейтесь, смехачи! // Что смеются смехами, // что смеянствуют смеяльно…» Самое время и нам – усмехнуться. Ведь строчки эти станут не только самым знаменитым стихотворением поэта – всего, почитайте, футуризма. С него начнется слава Хлебникова. И с того часа начнется кутерьма и круговерть его жизни.
Теперь он живет то в Чернянке у Бурлюка, где придумает название сборнику футуристов «Садок судей», который друзья «назло» напечатают на оборотной стороне обоев: 300 экземпляров, но – какой эффект! Лай, свист, кваканье. То болтается в родной Астрахани, где его и будетлян сразу назовут «идиотичами» и «дураковичами». А то натурально дремлет в Москве в красном кресле в «Романовке», на углу Малой Бронной и Тверского, в доме, который стоит и ныне и где тогда было общежитие студентов консерватории (Москва, Тверской бул., 7/2). Дремлет или глупо, блаженно улыбается. Ибо здесь, в «гнезде музыки», как высокопарно звали общагу, обитали «консерваторка» Маруся с мужем Бурлюком и две родственницы их – Надя и Люба. Бойкие, думаю, девицы. Они, если не дули чай с баранками, уютно подхватывали Хлебникова под руки и тащили то за билетами в театр, то по лавкам – за шляпками да нитками. И он, в пальто с поднятым воротом и диком «пирожке», торчавшем на лобастой голове, охотно шел меж ними, не стирая улыбки. Ни разу не улыбнулся только в то утро декабря 1912 года, когда сюда сбежались люди «сурьезные»: Маяковский, Крученых. Сбежались для дела, которое назовут потом рождением футуризма – для составления манифеста «Пощечина общественному вкусу». Вчерне он был готов, и спор пошел за каждое слово. Крученых предложил «выбросить» из литературы Достоевского, Толстого, Пушкина. «Маяк» добавил: «с парохода современности». «Душистый блуд Бальмонта», фраза Велимира, не прошла, остался «блуд», но – «парфюмерный». Зато предложение его «Стоим на глыбе слова мы» вошло целиком. «Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к слизи книг, написанных бесчисленными Леонидами Андреевыми, – взывал манифест. – Этим Горьким, Куприным, Аверченкам нужна лишь дача на реке. С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!..» А когда манифест стал листовкой, Хлебников был назван в нем «гением – великим поэтом современности». И там же, в приложении к манифесту, он за четыре года предсказал революцию. Прозрение? Наитие? Не знаю. Но, шатаясь между «Романовкой» и временным жильем своим на Ново-Васильевской (Москва, ул. Юлиуса Фучика, 11), дословно написал тогда нечто невероятное: «Не стоит ли ждать в 1917 году падения государства?» Как вам? И хоть бы кто обернулся, прислушался бы!..
С Бурлюками, кстати, скоро разругается – не его гнездо окажется. А Давида – шумного, кипящего, наглого – вообще едва не зарежет. Это случится в Петербурге, где снимал комнату брат Давида – Николай и где «футуристы» устроили штаб-квартиру (С.-Петербург, ул. Воскова, 8). Высоченный дом этот целёхонький, футуристы не зря звали его «гилейским фортом». Здесь они кучковались, сюда впервые приехал Маяковский знакомиться с «гопой», и здесь все, от поэта Бенедикта Лившица до Ларионова, художника, толковали лишь об одном – как взорвать к чертовой матери этот прогнивший мир.
Из воспоминаний поэта Георгия Иванова: «Футуристы жили коммуной в пустой и холодной квартире… Мебели не было – сидели на чемоданах, спали на соломе… С утра пили водку – кофе в их коммуне не полагалось. Прихлебывая, стряхивали папиросный пепел в блюдо с закуской. Туда же бросались и окурки. Крученых, бывший по домашней части, строго следил за этим. Насорят на пол – приборка. А так – закуску съедят, окурки в мусорный ящик, и посуда готова для обеда… Крученых совещался, что ему “читать” на предстоящем вечере – просто ли обругать публику или потребовать на эстраду чаю с лимоном, чай выпить, остатки выплеснуть в слушателей, прибавив: “Так я плюю на низкую чернь”. Коммуна была за лимон… Давид Бурлюк, мозг школы… готовился к лекции о Репине. Он надевал куцый сюртук, сжимал в огромном кулаке крошечную лорнетку, вращал одним глазом (другой был вставной) и перед зеркалом репетировал вступление: “Репин, Репин, нашли тоже – Репин. А я вам скажу (рычание), что ваш Репин…” Тут он делал привычное движение локтем в защиту от апельсинов и сырых яиц. Потом, церемонно кланяясь, выходил читать “на бис”…»
Именно здесь тихоня Хлебников едва и не зарезал Бурлюка: связал его ночью, спящего, но, пока искал нож, «мозг футуризма» проснулся и долго не мог поверить: его хотели убить из-за какого-то спора, случившегося перед сном. Знаете, о чем? О славянских корнях. А вскоре «тихоня» едва не зарежет и Лившица… Я еще расскажу, как это было в действительности.
Внутреннее расхождение с будетлянами началось у него из-за Филиппо Томмазо Маринетти, итальянца, поэта-футуриста и будущего отца фашизма. Из-за него порвет с «футурней» и даже вызовет на дуэль натурально генерала – Николая Кульбина. Тот до пятидесяти лет, пишут, жил как все. Пока однажды в мутный январский вечер у Троицкого моста в Петербурге не увидел вдруг лошадь на боку и извозчика, хлеставшего ее по глазам… «И в ту минуту, – рассказывал потом Георгию Иванову, – по всему Каменноостровскому вспыхнули фонари. Еще не стемнело, и вдруг – фонари. Как это прекрасно…» «Ну?..» – не понял Иванов. «Всё. Больше ничего. В эту минуту перевернулось во мне что-то. Стою и думаю: на что ты убил пятьдесят лет, старый дурак?..» Вот тогда-то и переменилось всё в жизни генерала-медика, приват-доцента Военно-медицинской академии – «сумасшедшего доктора» Кульбина. Он стал – художником! На выставках теперь цедил зевакам: «Мы, знаете ли, даем свое впечатление, импрессио. Всё условно. Даже солнце одни видят золотым, другие – серебряным… Право художника видеть, как ему кажется». В ответ летело: «Маляры! Нахалы!» Но с этими «нахалами» Кульбин свяжет себя навечно. Отныне в гостиной генерала (С.-Петербург, ул. Пирогова, 17) ночуют бездомные поэты, в три ночи кто-то по телефону требует денег, другой будетлянин плещется в ванной, а третий гнусаво требует завтрак в кровать – водки, извините, и огурца! Кульбин же среди этого «разврата» порхает – пишет картины на алюминии и, размахивая кистью, витийствует: солнечные пятна влияют на революции, а людям лучше говорить: «Ты – гений!» – тогда человек пройдет по канату. «Следовательно, душа треугольна?» – терзает в углу Хлебникова. «Дддаа, – закуривает, бросает папиросу и снова закуривает наш «небогрёз», – тттрреугольна или пппррямоугольна». «Хорошо, – кивает доктор медицины. – Идем дальше. Жизнь. Смерть. Что потом? Искусство?..» Хлебников сияет: «Искусство – укус-то!» Кульбин тоже сияет: «Находчиво. Укус-то. Браво-браво!..» Так пишет о разговорах двух не от мира сего Иванов. Но именно с Кульбиным у Хлебникова и грянет та ссора из-за Маринетти.
Пик скандала случится в зале Калашниковской хлебной биржи (С.– Петербург, ул. Харьковская, 9). Той биржи, которая (я писал об этом в очерке о Бальмонте) принадлежала и магнату Борису Башкирову, и ему же, но уже – «Борису Верину», поэту и «Принцу сирени». Так вот, скандал случится на Харьковской и – за минуту, считайте, до сенсационной лекции Маринетти.
Вообще визита Маринетти ждали «с придыханием». Газеты воспаряли: «Апостол электрической религии, просветив страны Европы, является просвещать нас…» Бомонд млел! Лишь горячий Ларионов поклялся, что закидает его яйцами (обычно он призывал «орудовать вплоть до графина по голове»), да гордый Хлебников, составив «воззвание» против итальянца, кинется накануне вечера срочно печатать его в типографии. Уж кто предупредил Кульбина «про воззвание», неизвестно, но он до самого начала лекции караулил «кукушонка», нервно поглядывая на дверь. Наконец, когда Маринетти взошел на кафедру, в зал влетел запыхавшийся Хлебников и стал быстро раздавать по рядам листовки. «Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве, – говорилось в них, – из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы… Чужеземец, помни страну, куда пришел!..» Забористо писал. Кульбин же, с проворством явно не старческим, кинулся отбирать у людей и рвать эти листочки, а потом погнался и за автором. «В первый раз я видел Кульбина остервенелым, – пишет Лившиц. – Что там произошло у них… не знаю, но, когда Кульбин вернулся на эстраду, он производил впечатление человека, выпрыгнувшего из поезда на полном ходу…»
Вот после этой эскапады Велимир («повелитель мира», как назвал его Вяч.Иванов) и вызовет генерала на дуэль. Она, к счастью, не состоится, но сохранится письмо Хлебникова к Николаю Бурлюку, поклоннику Маринетти. В нем наш герой назовет Кульбина «слабоумным безумцем», а Бурлюка – не просто «подлецом и негодяем», но совсем уж оскорбительно – «овощем». Так и напишет: «До свиданья, овощ!» И добавит: «С членами “Гилеи” я отныне не имею ничего общего…» Правда, через год, когда его самого превратят даже не в овощ – в «тупое животное», кинется к Кульбину. Пошлет два письма: «Спасите!..»
«Русские, – скажет как-то Хлебников, – главным трудом жизни считают доказательство, что они хорошие люди. Русские! Докажите, что вы злые…» Впрочем, визитом Маринетти возмутился не потому, что тот воспевал кулак и войну – «единственную гигиену мира». Нет, шестым чувством учуял худшее. То, что тот скажет Лившицу. «Странные вы, русские, – скажет Маринетти. – Заметив, что вам нравится женщина, вы три года размышляете, любите ли вы ее или нет, затем три года колеблетесь, сообщить ли ей об этом. Вся ваша литература полна этим. То ли дело мы. Если нам нравится женщина, мы усаживаем ее в авто, спускаем шторы и в десять минут получаем то, чего вы добиваетесь годами…»
Вот что уловил нюхом Хлебников. Он, для кого любовь была трепетом священным, кто на фотографию какой-то боярыни в витрине мог глядеть часами, кто на живую, милую ему деву мог смотреть сутками, неделями. Сидел «птицей с опущенными крыльями, – как подглядит Шкловский, – и смотрел…» Но, думаю, – не было любви верней!
«Я вас зарежу!..»
Интуиция у него была звериная – зоологическая. А ненависть, если можно сказать, – химически чиста. Что там выдуманный Воланд Булгакова, если Хлебников иные штуки «князя тьмы» легко проделывал в жизни. Я говорю даже не о предсказаниях его – о дуэли с Мандельштамом.
Это был, кажется, первый случай, когда не он – его звали к барьеру. Повздорили в «Бродячей собаке». Там, кстати, где Мандельштам, ораторствуя недавно, вдруг осекся: «Нет, не могу говорить, когда там молчит Хлебников…» Преклонялся! Но когда Хлебников 27 ноября 1913 года в пылу спора о деле Бейлиса позволил себе какую-то антисемитскую фразу – не стерпел. «Я как еврей и русский поэт считаю себя оскорбленным и вас вызываю! – крикнул Хлебникову. – То, что вы сказали, – негодяйство!..»
Это случилось на глазах Гумилева, Ахматовой, Шкловского, художника Филонова. Последние двое согласились стать секундантами, хотя… «Я не могу, – кипятился Шкловский, – убили Пушкина, Лермонтова, скажут, в России обычай…» Филонов же, грубо прикрикнув на дуэлянтов («Я буду бить обоих, пока вы не помиритесь!»), вдруг намекнул: повод для поединка ничтожен. По сравнению с его целью. «Какой?» – любопытно сверкнут драчуны. «Я хочу, – скажет Филонов, – написать картину, которая бы держалась без гвоздя». «И как?» – разинут они рты. «Падает», – ответит Филонов. «А что ты делаешь?» – спросит Велимир. – «Я неделю не ем». – «И что?» – «Падает…» Разумеется, рядом с такой «художественной задачей» дуэль показалась мелочью. Но еще до того случилось нечто и вовсе странное. Помните, Воланд крикнул Берлиозу, кому трамвай вот-вот отрежет голову, – не пора ли дать телеграмму его дяде в Киев? И у того «ухнуло»: откуда он знает про дядю? Так вот, Хлебников в пылу ссоры тоже крикнул: «А Мандельштама нужно отправить к дяде, в Ригу!» «Поразительно, – ахал потом тот, – в Риге действительно жили два моих дяди. Об этом ни он, ни кто знать не могли. Он угадал это силою ненависти…»
Да, ненависть у Велимира была химически чиста. И химически чиста была любовь. А уж если эти «химии» вступали в реакцию, мир умолкал. Скажем, почти всех женщин, в которых влюблялся Хлебников, звали Верами. Символично! Их было пять или даже шесть. С одной даже рискнет целоваться. Но человека чуть не зарежет не из-за Вер – из-за Ксаны, Ксаны Богуславской.
Она и муж ее Иван Пуни – их звали «святое семейство» – жили, как и полагается художникам, под крышей, в мансарде на Петроградской стороне (С.-Петербург, Большой пр-т П.С., 56/1). И там, да потом и на новой квартире (С.-Петербург, ул. Петрозаводская, 3), привезя из Парижа «дух Монмартра», учинили настоящий «художественный салон». Маяковский, Бурлюк, Лившиц, даже Северянин – все ходили к ним. Вернее, к ней, Ксане, обаятельной, острой, энергичной. Она, кстати, на свои деньги выпустила уже сборник «Рыкающий Парнас» (его конфискуют потом «за порнографию») и, как пишет Бенедикт Лившиц, «забравшись с ногами на диван», подстрекала компанию выступить и с манифестом «Идите к черту!». Короче, ватага любила Ксану, но «небогрёз» – просто влип! Он, как вспомнит о нем через полвека почти парализованная, умиравшая в Париже Ксана, «сидел, как унылая, взъерошенная птица, и либо упорно молчал, либо часами жонглировал вычислениями. Воображал, что влюблен в меня, но, думаю, оттого, что я рассказывала о горной Гуцулии, о мавках». Да, с Ксаной связаны многие стихи его: «Ночь в Галиции», «Мавка», поэма «Жуть лесная»…. Но правда и то, что реальная «жуть» случилась, когда она шутя нацепила на Лившица свое черное жабо и месяц запрещала снимать его. Тот так и разгуливал в нем под бешеными взглядами Велимира, пока однажды, когда Лившиц уж слишком любезничал с Ксаной, не схватил вдруг скоблилку художников и, подбрасывая ее на ладони, не рванулся к нему: «Я вас зарежу!..» Руку перехватили. Но благодаря реакции «химий» случилось невиданное. Все обрели и тут же потеряли, может, великого художника. Ибо Хлебников кинулся вдруг к пустому мольберту и запрыгал вокруг него.
Из книги Б.Лившица «Полутораглазый стрелец»: «Он прыгал… исполняя какой-то заклинательный танец, меняя кисти, мешая краски и нанося их с такой силой… словно в руке у него был резец… Он раздувал ноздри, порывисто дышал, борясь с ему одному представшим призраком… Наконец… отшвырнув кисть, в изнеможении опустился на стул. Мы подошли к мольберту, как к только что отпертой двери. На нас глядело лицо, довольно похожее на лицо Ксаны. Манерой письма портрет отдаленно напоминал… Ренуара… Забывая о технике… я видел перед собою ипостазированный образ хлебниковской страсти…»
Сам Хлебников, уже, вероятно, поняв это, как бы прикрывая «наготу», прежде чем зрители успели опомниться, густо-густо замазал холст черной краской. Но разве публичное объяснение в любви – не состоялось?..
Позже, в Куоккале, на даче Ксаны, он горько пожалуется молодому тогда Шкловскому: «Что нужно женщинам от нас? Чего они хотят? Я сделал бы всё. Может быть, нужна слава?..» «Море было простое, – как бы отвлеченно пишет Шкловский. – В дачах спали люди. Что я мог ответить?..» А поэт, охладев к Ксане, пропрыгав всю осень по камням залива, влюбится сразу в двух Вер. Одна, дочь писателя Лазаревского, была точь-в-точь Наташа Ростова, а другая столь хороша, что «вся литература не дала ей еще равного образа». Но, увы, он окажется кукушонком и в «гнезде» женской любви.
«Я дорожу знакомством с семьей Лазаревского», – напишет домой. Но через месяц там же, в Куоккале, увлечется другой Верой – «очаруньей» Верой Будберг. С семьей барона Будберга его познакомит Матюшин, и он станет ходить в дом у залива ежедневно. Будет таскать (как люди) цветы, читать (как поэт) стихи и… советоваться, как писать их… Небывалая вещь! «Я сижу рядом с нею, – заносил в потайную тетрадь. – Вера грустна. На ней вязаная желтая рубашка, и вся она хрупкая, утомленная. Я слишком упорно посмотрел на нее, и она поправила край платья. Налила мне вина. “Можно?” Я краснел и смотрел. “Курите, курить мужественно”, – сказала. Рассказывала про охоту. “Я выстрелила; заряд попал, ну, в зад зайцу. И я просто не знаю, как взяла его за голову и стала колотить о приклад. Ну, он так кричал, так кричал, просто не знаю…”» В это время к столу вышла мать Веры и, увидев поэта, «выстрелила»: «Это хорошо – сидеть рядом с невестой: скоро женитесь!» «Как, – задохнулся он про себя, – Вера – невеста? Признаюсь, слезы подступили к горлу…»
Он снова придет к ней. «Я смотрел на эти воздушные волосы севера – облако прически над лицом, большие голубые глаза, похожие на голубой жемчуг, и слушал…» И, перебивая себя, напишет: «Радость! На руке еще нет кольца». Настолько воспрянет, что уже вечером обо всем расскажет другу. «Попытайтесь ухаживать, – посоветует тот, кстати, режиссер и драматург Николай Евреинов. – Не действуйте нахрапом, девушку нужно сломить. Чуть что, звоните мне…» Плоские эти рекомендации приведут Велимира в восторг. «Мы заговорщики!» – кинется целовать конфидента. А в тетради запишет: «Пил за осуществление самых пылких надежд…» Что было дальше, расскажет тот же Шкловский: «Я разыскал его, сказал, что девушка вышла замуж за помощника отца. Дело простое. Волны в заливе тоже были простые». «Вы знаете, что нанесли мне рану?» – спросит Хлебников. Тот опять промолчит. И – строка в тетради поэта: «Больше никогда любить не буду…»
«Русь, ты вся поцелуй на морозе!» – напишет о любви. Вот и весь стих. Но, господи, какая там Наташа Ростова, ну какие две Веры?! Ему подошла бы такая же: сумасшедшая, не от мира сего. Ведь там же, в Куоккале, заночевав однажды у художника Анненкова, он поутру буквально сразит того. «Войдя в комнату, где заночевал Хлебников, – вспоминал Анненков, – я застал его еще в постели. Окинув взглядом комнату, я не увидел ни его пиджака, ни брюк, и… выразил свое удивление. “Я запихнул их под кровать, чтобы не запылились”», – сказал поэт. «Должен сознаться, – пишет Анненков, – что все комнаты дачи содержались в очень большой чистоте, и если нужно было искать пыль, то, пожалуй, только под кроватью…» Ну кто после этого, скажите мне, ну какая женщина связала бы свою жизнь с таким?..
Он будет еще влюбляться. Даже целоваться еще с одной Верой в ветвях цветущей черемухи. Эта Вера будет прятать его от армии, выцарапает из лап белых, но дальше поцелуев дело не пойдет, кажется, и с ней.
Часы века
«Часовщик человечества» – так звал себя. И что-то от реального часовщика в нем было. Филигранный труд, уединенность, терпение, перехват дыхания на миг. Только возился не с винтиками да шестеренками – с суффиксами и префиксами, с датами и числами. «Люди поймут, – писал, – что есть часы человечества и часы отдельной души». Он долго жил в такт с человечеством, пока однажды не разошелся с ним. Пока не грянула война. Вот когда взвоет: «Спасите!..» Слово это напишет рядовой 93-го запасного пехотного полка – генералу. Хлебников – Кульбину. «Я погиб, как гибнут дети», – скажет в стихах про армию, где из него хотели сделать (мыслите?!) – прапорщика. Да, его, почетного гражданина Астрахани и в силу этого свободного от рекрутчины, в 1916-м все-таки призовут в армию. И он, не помня обид, нанесенных им генералу-медику, пошлет ему два жалких письма.
Из письма Хлебникова – Кульбину: «Пишу из лазарета “чесоточной команды”. Среди 100 человек больных кожными болезнями можно заразиться всем до проказы… Пусть так. Но что дальше? Опять ад перевоплощения в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, где ударом в подбородок заставляли меня держать голову выше и смотреть веселее. Как солдат я ничто. Меня давно зовут “оно”. Я дервиш, иог, что угодно, но не рядовой…»
А во втором письме генералу криком кричит: «Освободите. Заклинаю: ваше мнение будет иметь значение. Если Пушкину трудно было быть камер-юнкером, то еще труднее мне быть новобранцем в 30 лет…» Кульбин, близкие добьются освобождения; он вырвется из клетки и, размяв крылья, приземлится под Харьковом, в Красной Поляне, на даче у Синяковых. Из ада попадет почти в рай. Там, кажется, и предскажет: мировая война перерастет в «войну внутреннюю». «Дети! Ведите себя смирно, – напишет в 1916-м. – Это только 1,5 года, пока внешняя война не перейдет в мертвую зыбь внутренней войны…» Никто вновь не услышит его «кукованья»! Наконец, там, у Синяковых, займется давней мечтой – организацией Правительства мира, общества «Председателей Земного Шара». И там не только влюбится в Веру Синякову, но, забравшись с ней на черемуху, будет, кажется, впервые (это в тридцать-то лет!), целоваться…
Синяковых было пять сестер. Он знал их уже три года, еще по Москве, когда все поэты, что ни вечер, захаживали к ним в доходный дом Коровина (Москва, Тверской бул., 9). Сестры были из Харькова. Распущенные волосы, романсы под гитару, какие-то хитоны, грим и за полночь – немыслимо вкусные, шкварчащие отбивные для гостей. Но главное – сестры любили рассказывать «страшные истории». Асеев, Пастернак, Каменский и особо доверчивый Хлебников слушали их развесив уши. Лишь «Маяк», приходя прямо «к отбивным» (то есть к трем часам ночи), делал вид, что интересуется только картами. Тогда трещали распечатанные колоды, густел папиросный дым и всё покрывал бас «первого футуриста». Даже «всеобщую любовь» заглушал – «царицу» здесь. Пастернак, скажем, без ума влюбился в Надю Синякову. Отец устраивал ему скандалы, звал этот дом «клоакой», мать из-за ночных походов сюда натурально лишилась сна, а он не только писал стихи Наде – три года переписывался с ней. Бурлюк влюбился в Машу, Жора Петников, поэт, – в Веру, а Асеев почти немедленно женился на Оксане. Эта Оксана говорила позже, что именно они, сестры, положили начало обществу «Долой стыд!» Было такое, тот же Булгаков даже в 1924-м запишет в дневнике: «Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо “Долой стыд”. Влезали в трамвай. Трамвай останавливали…» Не знаю уж, бегали ли сестры нагишом, но стыд Оксана еще потеряет! Дважды откажет в помощи Цветаевой в 1941-м, потом буквально вытолкнет из дома осиротевшего сына ее и, купаясь в роскоши (Асеев – орденоносец, лауреат Сталинской премии), всю жизнь будет кривить рот: «Разве нормальный человек стал бы вешаться!..» Это о Цветаевой-то?!
Это будет еще. А пока Хлебников, «ошалев от дикой биографии» сестер, влюбится сперва в Машу, потом сделает предложение Оксане («Как же так, Витя, – скажет она ему, – ведь я же замужем!»), а позже, под Харьковом, полюбит уже Веру. Именно с ней и целовался за «занавеской» цветов черемухи (любое шевеление обрушивало целый водопад их). И хотя Вера первой спрыгнет с дерева и убежит, событие это станет, может, самым счастливым в его жизни. Недаром он посвятит сестрам тьму стихов и даже поэмы. Но счастья в жизни его, повторю, больше, кажется, не будет.
«Я боюсь за тебя, – написала ему из Петрограда поэтесса Елена Гуро. – Слишком ты сродни пушистому ростку земляники, вылезающему из земли. И неспроста ты целуешь котят между ушками. Я боюсь, как бы тебя не обидели люди…» Елена скоро умрет, умрет от лейкемии. Они с Матюшиным жили уже на Песочной (С.-Петербург, ул. Профессора Попова, 10), откуда Гуро и написала: «Боюсь за тебя». Не зря написала. По сути, вся жизнь его – сплошная обида от непонимания, непохожести, неумения приспособиться. «Я твердо знаю, – скажет он, – рядом нет ни одного, могущего понять меня». Ведь то, что было важно людям, для него не имело значения, а что считал главным он – не представляло ценности для них. Он мог, например, получив от друзей собранные ему на одежду деньги, купить себе дорогой портсигар. Мог, собравшись в Казань, отправить багажом корзину рукописей и – отказаться от поездки. Рукописи, конечно, пропали. Мог на званом обеде у Юрия Анненкова, в доме, где тот жил еще с родителями (С.-Петербург, ул. Большая Зеленина П.С., 9), протянув руку, ухватить за хвост кильку с тарелки и медленно, по крахмальной скатерти, протащить ее к себе. Чего, дескать, тревожить соседей – «нехоть просить», как сказал… Терял вещи, деньги, ложась спать, натягивал всё на голову и утром вскакивал продрогшим (так и заработает, кстати, лихорадку). Но мог и вызваться идти в Зимний, чтобы дать пощечину самому Керенскому, премьеру, – за Россию, за «сплошной сквозняк». Его отговорят. Но он, еще до выстрела «Авроры», все-таки дозвонится в Зимний из легендарной «Квартиры № 5» в Деламотовом флигеле Академии художеств (С.-Петербург, 4-я линия В.О., 3), где братья Бруни, художник Лев и поэт Николай, собирали у себя, может, самое изысканное тогда общество. Здесь бывали Альтман, Тырса, Митрохин, Митурич, здесь проходило как-то заседание «Цеха поэтов» Гумилева, и сюда сходились Бальмонт, Городецкий, Ахматова, Клюев, Мандельштам, Рюрик Ивнев. А в 1917-м Хлебников даже жил здесь. Вернее, или дремал, но уже в вольтеровском кресле, или «зажигал», как сказали бы ныне, ораторствовал, да так, что неграмотная кухарка дома Акулина тараторила хозяевам дома: «Ах! Какой он горящий! Какой горящий!..» Конечно, «горящий»; ведь он, «левый» по убеждениям, именно отсюда и будет полдня терзать телефонную барышню с требованием «дать ему Зимний дворец». А когда его соединят с Временным правительством, спросит: когда же вы, министры, уберетесь из дворца? И не помочь ли – не прислать ли грузовики?..
А вообще от всех бед убегал на юг, в Астрахань, в калмыцкую степь. Там, казалось, было гнездо его. Убегал даже от денег! Маяковский, устроив как-то в Москве издание стихов его, удивлялся: «Накануне дня получения денег, – сказал, – я встретил его на Театральной с чемоданчиком. “Куда вы?” – “На юг, весна!..”» – свистнул Хлебников. И уехал. На крыше вагона уехал.
Да, куковал без денег, не берег и не ценил вещей. Ценил символы: дудку из тростника, куклу тряпичную, деревянную игрушку из Сергиева Посада (с ней, говорят, и умрет), какое-то грошовое колечко, которое ему дали и тут же отняли. Это случилось в Харькове, где он застрянет после революции. На его беду, туда явятся вдруг Есенин и Мариенгоф. Эти бежали из голодной Москвы, мечтая «о белом хлебе, сале, сахаре, о том, чтобы хоть недельку поработало брюхо…» Разыскали Хлебникова; тот жил в какой-то старой мастерской. Явились: один в меховой куртке, другой в английском пальто. А Хлебников, в штанах, сшитых из портьеры, сидел на голом матрасе и чинил сапог. Мариенгоф пишет: «Он встал нам навстречу и протянул руку с штиблетой. Я, улыбаясь, пожал старую дырявую подошву…» Издевался, изгалялся «делач». И ведь не знал: поэт только что закончил поэму «Разин», всю, в четыреста строк, написанную палиндромами. Уникальный случай в поэзии. «Палиндромы» – слова и строки, которые можно читать и слева направо, и справа налево. «Двояковыпуклая речь» – звал их Хлебников. Великий Державин прославился одной строкой «Я иду с мечем судия», а Хлебников, повторяю, написал четыреста строк: «Сетуй утес! // Утро чорту! // Мы, низари, // летели Разиным…» А ведь было три редакции поэмы, значит, палиндромов было еще больше… Но что до того было франтоватым москвичам? Зная, что Хлебников объявил себя Председателем Земного Шара, Есенин и Мариенгоф решили подшутить над ним: устроить вечер в местном театре и прилюдно «короновать» его на «председательство». Хлебников принял «дело» всерьез. В холщовой рясе, босой, он стоял на сцене со скрещенными на груди руками, выслушивал акафисты себе и после каждого, как было условлено, шептал: «Верую…» «В заключение, – пишет Мариенгоф, – как символ земного шара надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника – Бориса Глубоковского». А когда занавес упал, тот, ухмыляясь, подошел к поэту: «Снимай кольцо». Хлебников глянул на него и спрятал руку. «Брось дурака ломать, – зарычал Глубоковский, – отдай кольцо!..» Москвичи за кулисами подыхали от смеха. «Это… это Шар… символ шара, – губы Хлебникова побелели. – Я… вот… меня Есенин в Председатели…» Но шутник, потеряв терпение, грубо, пишут, что с кровью, содрал кольцо. У Хлебникова чуть слезы не брызнули.
От боли, конечно. Разумеется, от боли…
Доски судьбы
«Трудно тебе умирать?» – спросила его за день до смерти Фонка, няня, жившая в деревенском доме художника Митурича. «Да», – ответит он. Это станет последним словом «короля слова» на этой земле.
А за пять дней до смерти на окно бани, где умирал поэт, – в сорока километрах от ближайшей станции – прилетел ворон. Клюв его стучал в стекло, как в аду – метроном. Птица прилетела к птице, ворон – к кукушонку. Он, гениальный поэт, автор законов времени и космоса, остался кукушонком – чужим не только в гнездах салонов и собраний, в домах друзей и любимых, он оказался (это трудно и произнести!) – чужим в необъятном гнезде Родины.
За два месяца до смерти сказал Мандельштаму, что не хочет уезжать в глушь, куда тянет его Митурич. Но жить негде. Мандельштам, деливший с ним в те дни жалкую кашу, кинулся к Бердяеву, тогда председателю Союза писателей. Перед Хлебниковым, кричал, «блекнет вся мировая поэзия, он заслуживает комнаты хотя бы в шесть метров». Увы, Бердяев был бессилен. И поэт, ночевавший то в каморке у брата Александра на Башиловке (Москва, ул. Нов. Башиловка, 24), то у Рюрика Ивнева (Москва, Трехпрудный пер., 10), то в студенческом общежитии, в восьмиэтажном доме за китайским магазином «Чай», где жили Крученых и Асеев (Москва, ул. Мясницкая, 21), не излечившийся еще от малярии, уехал в Санталово, в Новгородскую губернию, к Митуричу, где у того была жена, корова и огород. Митуричу и сказал как-то: «Люди моей задачи часто умирают в 37 лет; мне уже 37 лет». Столько же было и Пушкину, и Байрону в час – мы помним! – смерти. И Хлебникову – когда умрет…
«Когда будущее становится прозрачным, теряется чувство времени, – объяснял за три месяца до смерти открытый им закон времени, – кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения. Чувство времени исчезает, оно походит на поле впереди и поле сзади, становится своего рода пространством…» Это было сказано в унисон с Эйнштейном, и только ныне мы подбираемся к пониманию этого феномена. А у поэта впереди были лишь поле у Санталова, а позади – поле упорного труда, ростки открытий и урожай предвидений. Одна идея Всемирного правительства чего стоит!
Мысль эта родилась еще весной 1914-го, когда он написал Каменскому: «Всё готово. Мы образуем Правительство Председателей Земного Шара. Список присылай». И сформулировал задачи: «Преобразование мер. Преобразование азбуки. Предвидение будущего. Исчисление труда в единицах ударов сердца», поясняя, что интернационал людей мыслим лишь через интернационал идей наук. Людей, правда, делил теперь не на «словачей» и «делачей» – на изобретателей и приобретателей. «Пусть Млечный Путь расколется на изобретателей и приобретателей, – писал в Декларации. – Мы зовем в страну, где говорят деревья, где научные союзы похожи на волны, где человек в переднике плотника пилит времена на доски…» Обвинит «приобретателей» в гибели Пушкина и Лермонтова, в травле Гаусса и Монгольфье, в непризнании Лобачевского. «Вот ваши подвиги!» – и подпишется: «Король Времени Велимир 1-й». А в Председатели помимо Каменского позовет Вяч.Иванова, Флоренского, Кузмина, Маяковского, Асеева, Малевича, Татлина, Кульбина, каких-то летчиков, посла Абиссинии и даже одну из Синяковых. Собирался привлечь Горького, Тагора, Нансена, Уэллса и самого Вудро Вильсона – двадцать восьмого президента США. Не успел…
Фантаст, утопист, «гениальный кретин», как не без зависти назвал его Ходасевич. Писал чудновато, а уж что мыслил про себя, «за занавеской», – этого мы и не узнаем. А и узнали бы – не поняли. Он вещал, что мировую войну надо закончить «полетом на Луну», что следует создать общий для человечества язык, что озера на земле нужно превратить в котлы пусть сырых, но «озерных щей» и ввести, вообразите, обезьян в семью людей – дать им «некоторые гражданские права». Бред, скажете? Возможно. Но так была устроена его голова. Так вообще устроены головы гениев. И я, надо сказать, не удивился, когда в 2008 году прочел вдруг в «Известиях», что в Испании, представьте, подготовлен закон о предоставлении обезьянам (зоопарковым – их триста пока) прав, сопоставимых с правами человека. «Это исторический шаг, – говорилось в преамбуле закона. – Обычные законы о гуманном обращении с животными не решают проблему», не запрещают «пытки, содержание в неволе, опыты и насильственную смерть». А ведь – идея Хлебникова! От нее друзья ну просто «зенки» выкатывали от изумления! Да и мы – выкатываем!
Но это не всё! Хлебников толковал уже о пульсации мира: солнца, атомов, электронов – и утверждал, что, когда пульсацию измерят, откроют волновую природу электрона. Через два года после его смерти, в 1924-м, физик Луи де Бройль откроет именно эту – волновую – природу электрона. А пульсацию Солнца ученые установят вообще в 1979-м, через шестьдесят лет после него. «Теперь так же легко предвидеть события, как считать до трех», – напишет «часовщик человечества» в выведенных им «Законах времени». И считал! За шесть лет предсказал войну с Германией, за четыре года – революцию, за полтора – войну Гражданскую. Потом, заметив, что никто не слушает его, стал «столбить» свои пророчества. Жива, скажем, бумага, выписанная ему в Баку. «Настоящее удостоверение выдано в том, что он 17 декабря 1920 года читал доклад “Опыт построения законов времени”, причем указал, что 21 января 1921 года должно возникнуть Новое Правительство». Невероятно, но ровно 21 января 1921 года был образован Советский Азербайджан – дата эта станет даже официальным Днем республики…
В год смерти, в Москве, заглядывая в свое будущее, написал: «Я умер и засмеялся. Большое стало малым, малое большим. Просто во всех членах уравнения бытия знак “да” заменился знаком “нет”». И я узнавал вселенную внутри моего кровяного шарика. Всё остается по-старому, но только я смотрю на мир против течения…» И смотрел – добавлю, и жил – против течения. «Поперек времени» (как называлось одно из самых сложных произведений его), поперек всего, поперек, главное, обычных представлений о людях. Он не замечал, что костюм его из-за свалявшегося сукна стал скорее оперением, что рукава рубашки разорваны до плеч. В последний раз приехал в Москву из Баку зимой в одной рубашке, в каких-то опорках и с наволочкой, набитой рукописями. Фасонистые уже поэты рядом чувствовали себя неуютно. Но всем не расскажешь, что на юге его держали в психушке (ради куска хлеба выдавал себя за трубача в оркестре), что деникинцами был принят за шпиона, потом, напротив, угодил в ЧК (комиссар «чеки» написал про себя, что он «из всех яблок больше всего любит глазные»). Что под Хасавюртом был ограблен и на полном ходу выброшен из поезда, что месяц мерз в теплушке с эпилептиками, где его и раздели до последней рубахи. В Москве Маяковский, Каменский, Крученых кое-как приодели его и повели выступать во ВХУТЕМАС, в нынешний Архитектурный институт (Москва, ул. Рождественка, 11). Тут горланили ничевоки, презантисты, биокосмисты, конструктивисты, ерундисты (в последнюю группу входил только один поэт – Серафим Огурцов) – в Москве было уже сорок девять литературных школ и две тысячи поэтов. Но такой, как Хлебников, был один – таких ведь и дальше не будет. Над сценой висел огромный «Маяковский», быстро сделанный шустрыми вхутемасовцами. Кумир революции! А еще утром того дня Крученых, играя с Маяковским в карты, крикнул ему: «Вот ты, Витя, насчет всяких битв делаешь вычисления, сделай вычисления, на какие карты ставить…» Маяковский кивнет: «Да, да. Что там было у египтян, нас мало интересует. Если сделаешь вычисления, каждый вечер будешь получать червонец…» Это он-то, кто еще недавно вздыхал: «Если бы я умел писать, как Витя». Может, потому в Санталове, когда Митурич писал письма о помощи умиравшему, сам поэт запретил ему обращаться к Маяковскому. Сказал о нем и о Бриках: «У них жесткие зубы…»
Свою смерть видел в деталях. За девять лет до нее напечатал странный стих «Памятник». «Уткнувши голову в лохань // Я думал: кто умрет прекрасней? // Не надо мне цветочных бань // И потолке зари чуть гаснущей // Про всех забудет человечество // Придя в будетлянские страны // Лишь мне за мое молодечество // Поставит памятник странный…» Ни точек, ни запятых. Тряси не тряси башкой, мы ничего бы не поняли, если бы он не умер как раз в деревенской бане, куда местные жители, ему, умиравшему, несли и несли цветы. Более того, и умер на заре, как предсказал, и на могиле его спустя сорок лет действительно встал «странный» памятник – каменная баба из скифского кургана, которой было полторы тысячи лет. Вот его «невеста» – один из центральных образов его поэзии; у него есть даже поэма – «Каменная баба». А у древних эти бабы каменные, фантастика – символы вечной цикличности и взаимоперехода жизни и смерти… Словно сами древние советовались с ним…
«Я пропал. Лишился ног. Не ходят, – написал Хлебников знакомому врачу в последнем письме из Санталова. – Хочу вернуть дар походки». На деле кроме паралича у него были уже и парез кишок, и гангрена – открытые раны, которые не бинтовали уже. Но дар походки он, великий пешеход, «урус дервиш», исходивший всю страну, хотел вернуть. Мечтал побывать в Индии, в Польше, нагрянуть к монголам. А еще хотел «писать вещь, в которой бы участвовало все человечество, 3 миллиарда». Ведь «мировая революция требует мировой совести…» Наконец, составлял «Доски судьбы» – итог жизни. Но не знал: последней «доской» его судьбы станет лавка в бане, на которой умрет…
На крышке гроба его Митурич вывел голубой краской: «Первый председатель земного шара». Опоздают в Санталово деньги, медикаменты, продукты, собранные друзьями, не дойдет американский паек АРА, простоит пустой спецпалата в больнице, приготовленная по приказу самого Троцкого, и не успеет, увы, литерный поезд, которому велено было забрать его в Москву. Гении иначе и не уходят: человечество всегда опаздывает – отстает от них…
А потом опубликуют письма Митурича, и в санталовском еще письме я через полвека прочту, что после смерти поэта жена Митурича, учительница, сказала про Хлебникова: «Какой он таинственный человек, как-то странно, как он жил…» И долго дивилась, приставала к мужу: «И откуда явился такой простой, но прекрасный человек?..»
Откуда являются кукушата, хочется спросить у нее через годы. Разве не очевиден ответ? Их подбрасывают в чужие гнезда…
Лицо и маска, или Смерть от «огня» Андрея Белого
Золотому блеску верил, А умер от солнечных стрел. Думой века измерил, А жизнь прожить не сумел… Любил только звон колокольный И закат. Отчего мне так больно, больно! Я не виноват. Пожалейте, придите; Навстречу венком метнусь. О, любите меня, полюбите — Я, быть может, не умер, быть может, проснусь — Вернусь! Андрей БелыйАндрей Белый – псевдоним поэта, прозаика, мемуариста Бугаева Бориса Николаевича (1880–1934). Символист, экспериментатор, автор первой формалистской прозы, он, став до революции фактически классиком, приход советской власти встретил лояльно, но творчески – неизменно отвергал и посягательства на человеческую личность, и ограничения свободы творчества.
«Да, я – огонь! – сказал он однажды. – И первое слово, что я произнес, было “огонь”…» Так ли это – неведомо. Мы знаем лишь, что он будто бы напророчил себе смерть от огня – от «отравления солнцем». Он, кого при жизни звали чудаком, клоуном, фигляром, позером, действительно иногда пророчествовал. Предсказал атомную бомбу – куда дальше? И действительно – так пишут! – на улицах перед ним «расступались толпы», а в разговорах не всё и понимали, хоть и говорил по-русски. Меня же поразило, помню, что он, уже в годах, с лысиной в полголовы, коллекционировал, представьте, горелые спички. Прятал эту «коллекцию» под кроватью. Нравилось ему, как спички извивались, сгорая, – «кривлялись». Звал их не горелыми – «сожженными». Он и про себя скажет перед смертью: «сожженный талант». Хотя, по словам Ходасевича, голова его была всего лишь заряжена «миллионами вольт электричества». Тоже сравнение то еще… Дескать, не подходи – убьет!..
Но в детстве – в детстве чуть не умер от огня. Поставил как-то друг на друга четыре стула, забрался на них с горящей лампой и, к ужасу няньки, – водрузил ее на голову. Лампу керосиновую, которая, упади, вмиг превратила бы ребенка в факел. А перед смертью вдруг сказал: поэты в будущем станут «высвобождать творческие энергии» человечества, а сами будут «искрой к взрыву этих энергий»… Вот такой искрой, кажется, он и сумел стать.
Золотой мальчик
По Арбату катилось колесо. Не колесо – золотой обруч. Обруч катил золотой палочкой золотой мальчик: блестящие локоны, белые чулки, туфли с играющими в лучах пряжками. «Так вечность, “дитя играющее”, катит золотой круг солнца», – напишет тот же Ходасевич. Словом, не мальчик – чудо! Он родился на Арбате, проживет здесь полжизни, но когда уедет отсюда, когда уже советская власть закроет для него журналы и издательства, вдруг вообразит себе «престранную картинку» – себя, стоящего как раз на Арбате с протянутой рукой: «Подайте бывшему писателю!..» Так проедется по его судьбе не обруч золотой – железное колесо века.
Мальчика звали Боря Бугаев. Имя «Андрей Белый» ему придумают тоже на Арбате, в доме 55, в доме Рахманова, где родился. Угловой дом этот стоит и поныне. И в нем, как и тогда, – аптека. Аптеки не умирают. Впрочем, прочитав пудовые мемуары Белого, я не удивился бы, встретив на углу и вечного городового на посту. Фамилия его была Староносов. Белый пишет: нос у него был сизый, а усы – моржовые. А вообще – комфортно: и лекарства рядом, и – охрана. Но, увы, ни аптека с Иогихесом, тишайшим фармацевтом, ни Староносов «с усами» не спасут сначала от инфлюэнцы, а затем от прогремевшего выстрела соседей Белого, живших под ним. Выстрел прогремит глубокой ночью. Белый даже не проснется, хотя умерший от простуды человек и застрелившаяся следом жена его, может, как никто, окажут на него влияние. Они и псевдоним ему придумают, и, главное, – разбудят в нем поэта.
Белый родился в семье ученого-математика Николая Бугаева и широко известной в Москве красавицы – «Звездочки», как звали ее, Александры Егоровой. Квартира ученого, которого, как утверждали, могли понять в мире разве что десяток-другой математиков, была знаменита. Толстой, Тургенев, Чайковский – вот кто бывал в ней. Белый запомнит: он запросто взбирался на колени академиков Грота, Веселовского, социолога Ковалевского (письма тому писал еще Карл Маркс), а однажды – и к Льву Толстому. Но когда гости уходили, в квартире начиналась тихая война. Отец, весь в абстракциях, некрасивый, красивший волосы (вечно в протертом халатике или в коротком пиджаке), и мать-прелестница (которую, говорят, настолько обуревали земные страсти, что и Борю-то она родила не от мужа – от некого адвоката Танеева) начинали «битву за сына». Белый не без усмешки скажет: мать вышла замуж «за уважение» (отца в обществе уважали), а отец женился на математических «пропорциях красоты» (искал «идеальный носик»). Но ни «уважаемых пропорций», смеялся, ни «пропорционального уважения» не сложилось. И в доме до двадцати двух лет его, до смерти отца, родителей связывал, но и развязывал он.
«Что есть нумерация?» – строго спрашивал пятилетнего сына отец. А сын и хотел, и мог знать, но – не смел. Ибо мать, не желая иметь в семье второго математика, грозила: «Если выучишь эту нумерацию, помни: не сын мне». Убивалась, что он, «башковитый лобан», пойдет в отца, и назло до восьми лет наряжала его в девичьи платья, отращивала кудри до плеч. Била, вообразите, за то, что любил отца. А тот посмеивался: «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом – в меня». «Каждый тянул в свою сторону, – напишет поэт. – Они разорвали меня пополам, – и шепотом добавлял: – Я с детства отцеубийца. Да, да! Комплекс Эдипа… извращенный любовью…»
Стоит ли удивляться, что он всё чаще в теплые вечера выносил на балкон столик, зажигал свечу («устраивал кабинетик») и ночи напролет, под грохот запоздалой конки, под стук каблучков первых прохожих писал стихи. «Бормочу над Арбатом». Балкон на третьем этаже и сейчас торчит, окажетесь рядом – закиньте голову, вообразите свечу на балконе и юношу над рукописью – «со взором горящим». Так начинается земная слава. Оттуда, кстати, с этого балкона – вечные закаты в стихах Белого; их будет так много, что Вяч.Иванов, мэтр, назовет его потом «закатологом», человеком, «измерившим» едва ли не все московские зори. А женщина, в которую он скоро влюбится, будет писать, что любимыми темами разговоров его были закаты, «похожие на “барсовую шкуру”». Видимо, время было такое; Белый всерьез уверял потом, что не он один – вся художественная и писательская элита делилась тогда на «наших» и «не наших» в зависимости от того, кто улавливал «зоревую сущность» мира и насколько чувствовал «зоревое откровение». И конечно, отсюда влюбленность его в солнце – в «ускользающий солнечный щит», в «путь к невозможному». Нынешний знаток жизни и творчества поэта Моника Спивак, кстати, директор квартиры-музея Белого в доме Рахманова, утверждает: согласно его «концепции» влюбленные в солнце являются детьми Солнца. И будущие «аргонавты» Белого (несколько молодых поэтов, собиравшихся в его квартире) мечтали не просто полететь к Солнцу – переселиться туда. Это на Солнце-то!..
А вообще обруч, серсо, потом крокет его детства сменили в жизни Белого сначала танцы, которыми увлекся, затем фокусы, которыми пугал бабушку, и даже – акробатика. «Пойди я по этому пути, – писал, – я очутился бы в цирке». Уже в годах, по словам второй жены, он мог, к примеру, мгновенно изобразить хорька, слона, курицу. «Хочешь видеть ленивца?» – спрашивал ее, и тут же, на спинке кровати, вцепившись руками, ногами и воображаемым хвостом в перекладину, повисала пред ней, сонно помаргивая тупыми глазками, натурально обезьяна. Но особо обожал маскарад, когда из тряпок матери наряжался то древним греком, то мавром, то пэром. Кривлялся, как те спички горящие. «Баловень, фантаст, капризник, беззаконник, то наивный, то наивничающий», он отлично знал свою детскость и «играл ею», – напишет о нем Гиппиус. А Ходасевич, знавший его с юности, говорил, что ссоры, споры, стычки его родителей сформировали в нем «совместимость несовместимого», «правду в неправде, может быть – добро в зле и зло в добре. Это создало ему славу двуличного человека». Вот и верь после этого Белому, что он дважды выходил в астрал, что лично видел каких-то единорогов и что в предыдущей жизни был ни много ни мало… Микеланджело! Правда, про черную маскарадную маску матери известно точно: он просидел в ней однажды чуть ли не неделю. Считал, что «отгородился от мира», что в маске он – уже не он. Хотя страшней, думаю, было другое – маска души.
Из дневников Андрея Белого: «Если ты желаешь, безумец, чтобы люди почтили безумие твое, никогда не злоупотребляй им! Если ты желаешь, чтобы твое безумие стало величественным пожаром, тебе мало зажечь мир; требуется еще убедить окружающих, что и они охвачены огнем. Будь хитроумной лисой! Соединяй порыв с расчетом, так, чтобы расчет казался порывом и чтобы ни один порыв не пропал даром. Только при этом условии люди почтят твое безумие, которое они увенчают неувядаемом лавром и назовут мудростью… Озадачивай их блеском твоей диалектики, оглушай их своей начитанностью, опирайся, насколько это возможно, на точное знание!..»
Хитроумный безумец? Или все-таки – безумный хитрован? Ведь все «хитрости» его умела разгадывать лишь первая гувернантка, француженка Белла Раден. Только она, и только – в «молочном» возрасте его. Может, потому он и помнил ее до старости. «Зачем ты, Боря, ломаешься под дурачка? – говорила. – Ведь ты совсем другой». «Но мама приревновала меня к ней, – скажет. – И я остался один – в четыре года. И с тех пор уже не переставал ломаться. Даже наедине с собой… Я всегда в маске! Всегда…»
В маске искал «идею» себя, в маске дружил и ссорился, в маске влюбился впервые, в маске писал стихи и уж не в маске ли – умер?
Ночной выстрел
Его манила высота. Балкон, небо, закаты. Ребенком в темной комнате забирался на подоконник и с этой высоты наблюдал ход событий. «Эпохи сменяли друг друга, – вспоминал, – я жил в тысячелетиях». Позже, уже взрослым, оказавшись в Египте, ночь провел на вершине пирамиды Хеопса («сам себя обволок Зодиаком») и написал: это стало «главным ощущением жизни». А в университете он, студент-естественник, любил с друзьями выбираться на плоскую крышу химической лаборатории. Я нашел эту крышу в тесных кварталах университета, сразу за Зоомузеем (Москва, Никитский пер., 2). Внизу трехэтажного здания был кабинет знаменитого Зелинского, химика, кривые коридоры, где студиозы сваливали в кучу пальто, тужурки, пиджаки, аудитории, пропитанные запахами реактивов, а на крыше образовался форменный клуб – «Кружок плоской крыши». Здесь юные химики, которые звали себя «пиротехниками», выбравшись на крышу через окно (я спустя сто лет проделал тот же путь!), часами гоняли чаи с калачами, спорили о Дарвине, Ламарке, модном Ибсене, веселились в «дурашных» забавах. Белый был «отчаянным зачинщиком». Не без гордости пишет, как ходил над бездной со стаканом чая на голове, как прыгал на одной ножке по перилам (по перилам крыши!), как лазал по вертикальной стене. Хвастал: никто не может обогнать его в беге, скачках, плавании. Но когда однажды, сунув любопытный нос в вытяжной шкаф, нечаянно глотнул цианида, то, струхнув, кинулся к лаборанту: «Я не умру?..» Странный был человек. Даже экзамены сдавал по собственной методе.
Из мемуаров Андрея Белого: «Я, к изумлению, курс анатомии всё ж одолел, педантичнейше следуя методу запоминанья, который придумал себе: перед каждым экзаменом засветло я раздевался, как на ночь; и мысленно гнал пред собою весь курс; и неслись, как на ленте, градации схем, ряби формул; то место в программе, где был лишь туман, я отмечал карандашиком; так часов пять-шесть гнался курс; недоимки слагалися в списочек; в три часа ночи я вскакивал, чтоб прозубрить недоимки свои до десятого часа, когда уходил на экзамен; вздерг нервов, раскал добела ненормально расширенной памяти длился до мига ответа; ответив, впадал в абулию-безволие: весь курс закрывался туманом…»
В «абулию-безволие» впадал и без экзаменов. В университете его вообще звали то «князем Мышкиным», а то вообще – «идиотом». Зайцев, писатель, вспоминал: когда кто-то дал Белому пощечину, он, в духе Алеши Карамазова, тут же подставил вторую: бей! А когда затевал свои водопадные монологи, умные, но бесконечные, то слушатели шлепались порой в обморок. Ей-богу! Хотя трудней, думаю, было понять не речи – поступки его.
То он мечется, о чем писать курсовую: о негритянских мотивах у Пушкина или о «прагматике» – о росте оврагов, которые губят почву? То с Каменного моста «аффектированно» бросает только что вышедшую книгу стихов Брюсова. «Свергаю в желтые воды Москвы-реки». Брюсов спросит: «За что гневались?» – «Я?» – невинно округлит взгляд. – «Вы же свергли книгу в воду?» – «Свергал… Хотел уничтожить декадентство для символизма…» А ведь Брюсов, поговорив с ним, запишет: «Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости…» Наконец, то хитро избегает дуэли, а то в университете, когда в 1905-м студенты взбунтовались, становится связным между ними и внешним миром и столь же хитро проходит сквозь оцепления. Да еще не очень и прячет от друзей и женщины, в которую был влюблен, украденный отцовский «бульдог».
Маргарита – так звали эту женщину. Они «встретились глазами» на симфоническом концерте. Четыре года следил за ней, тайно провожал экипаж ее – «дамы с султаном», в лицо знал не только каждого кучера – «каждую лошадь» ее. Воображал, что она, «тициановская» красавица с «бледнопалевыми плечами» и в «вуалевой шали» – «мистическая» встреча на всю жизнь. Она была на семь лет старше, была из рода купцов Мамонтовых: легендарный Савва, промышленник и меценат, был двоюродным братом ее отца, а тетка – женой другого, не менее легендарного купца-мецената – Павла Третьякова. Муж ее, Михаил Морозов, от которого у нее было уже трое детей, тоже был из купцов и тоже меценат – фантастически богатый наследник текстильной империи России. А друзьями были Шаляпин, Рахманинов, Скрябин, Бердяев. Белый познакомится с ней только в 1905-м, уже автором книги, в которой выведет Маргариту под именем Надежды Зариной. Пошлет ей письмо и подпишется: «Ваш рыцарь». «Вы – моя зоря будущего, – написал в первом письме, – Вы – философия новой эры… Вы – запечатленная! Знаете ли Вы это?.. Если Вы спросите про себя, люблю ли я Вас, – я отвечу: “безумно”. Но из боязни, что Вы превратно поймете мою любовь, – я объявляю, что совсем не люблю Вас… Мои слова – только коленопреклонение…»
Читать эти письма ныне, на мой вкус, почти невозможно – похоже на бред. И дело тут не в стиле эпохи – в стиле Белого. «Я иду в водопадах времен сквозь туманы пространств», – писал ей. «Вечером умирает юный серп и смеется. Я смеюсь. Мы смеемся вместе. Хорошо смеяться на закате, когда умирает юный серп…» «Что-то дрожит в груди. Точно оснеженные крылья – крылья голубя. С утра вьется надо мной голубь. Духа… Как мне радостно, что Вы такая!..» Подобных пассажей даже она, тонкая, умненькая, не выдержит и (через четыре года, когда познакомятся лично), тысячу раз извинившись, скажет ему однажды: «Лучше не пишите ничего, но, ради Бога, не лгите!.. Меня больше всего пугает и беспокоит в Вашем состоянии вот этот намеренный демонизм. Будьте демоном… но не играющим в демонизм». Увы, он, «экстазный», долго будет играть в демонизм, оккультизм, в запредельное и неизреченное. Но, читая его письма, многое можно, думаю, простить ему за то, что еще во втором письме к ней (в анонимном еще!) он впервые назвал ее Сказкой. «Вы – туманная сказка, а не действительность… Позвольте мне… мечтать о Вас, как о светлой сказке…» И имя это, Сказка, с легкой руки его станет именем Маргариты на всю жизнь. На мой взгляд – заслуженно станет.
Морозова, как и он, жила на углу, но в собственном дворце на Смоленском, в доме 26, о котором я писал уже в главе о Блоке и который после революции станет Дворцом пролетарской культуры. Позже его присвоит райком партии, а ныне прикарманит какой-то банк. А она, если помните, держала здесь салон, где Белый будет читать ей стихи или, внимая ей, кутавшейся в белую тальму, удивленно открывать рот и почти беззвучно поддакивать всему: «да, да, да…» Мог, пишет Морозова, залезть под стол и, выглядывая из-под скатерти, положив книгу на пол, что-нибудь читать вслух или, напротив, – метаться по дворцу, двигаясь боком и почему-то озираясь. Но в письмах писал: «Хочется тихо сидеть рядом с Вами, по-детски и смеяться, и плакать… Душа моя душе Вашей улыбается…» Любовь, как вы догадались уже, останется чистой платоникой; он скорей себя любил в этой любви и, может, потому, рисуясь, пришел сюда в дни смуты 1905 года.
«С раннего утра я пропадал, обегая квартиры, митинги, а поздней ночью нахлобучивал на лоб старую отцовскую шапку, сжимая рукою в кармане отцовский “бульдог”… Я шагал в кромешные тьмы, думая, что вооружен до зубов; впоследствии выяснилось: дуло “бульдога” было залеплено дрянью; выстрели я – он бы тявкнул в лицо…» Агитировал рабочих завода «Дукат», собирал «с шапкой» деньги для бастующих в каких-то кафе, с друзьями-химиками, которые-таки оказались пиротехниками и спешно лепили динамит и бомбы для восставших, готовился лить с крыши знакомой лаборатории кислоту на головы черносотенцев. Играл с огнем! Однозначно был на стороне восставших, рядовым свободы, «мистическим большевиком», как назвали его на одном из заседаний Религиозно-философского общества. Но – не забыл и Маргариту, Сказку свою. Накануне восстания, в ноябре еще, послал ей записку: «Захотелось безумно сказать Вам – нет, крикнуть через пространство, что Вы свет для меня. Не знаю, чему радуюсь, чему улыбаюсь, глядя на Вас, – но смеюсь, улыбаюсь, радуюсь. Душа моя сияет…» А в разгар декабрьских боев, когда Маргарита прятала уже четверых к тому времени своих детей в задней комнате, подальше от окон, от случайных пуль, не без рисовки завернул к ней.
Из воспоминаний Маргариты Морозовой: «Кругом гремели выстрелы и небо было красным. Вдруг приходит швейцар и говорит, что Бугаев просит меня в переднюю. Я вышла и увидела его, стоявшего внизу лестницы, в пальто с поднятым воротником и надвинутой на глаза высокой барашковой шапке, из-за пазухи пальто был виден револьвер. Он зашел узнать, как мы, благополучны ли?..»
Не сомневаюсь, рукоятку «бульдога» выставил из кармана специально для нее. Их знакомство сохранится до 1934 года, до смерти Белого. Он будет бывать у нее в Мертвом переулке, где она отстроит себе особняк, куда переберется жить в 1914-м и где будут собираться и «сбитые» ею Религиозно-философское общество и Музыкальное общество (Москва, Пречистенский пер., 9). Будет забегать на Знаменку, в ее издательство «Путь», которое вырастет из Религиозно-философского общества (Москва, ул. Знаменка, 11), и до конца будет писать Сказке длинные письма. И если про дом в Мертвом, где ныне посольство Дании, Белый еще узнает, что после революции его займет Отдел по делам музеев Наркомпроса, а его заведующая, жена Троцкого Наталья Седова, вытеснит Маргариту с сестрой и дочерью в две комнатки в подвале, то про конец Сказки не узнает ничего. Маргарита переживет его на четверть века; умрет в 1958-м. Будет жить сначала в деревянном домике-развалюхе в Лианозове, куда перевезет ее сын Мика (тот Мика, чей детский портрет кисти Серова и ныне висит в Третьяковке), где она, светская до кончиков ногтей, научится пилить мерзлые дрова, таскать воду из колодца, готовить и обстирывать семью. А потом – тридцать лет ютиться «под лифтом» на Покровке (не знаю, увы, номера дома), где и начнет воспоминания о Белом.
Это еще будет, я опять забежал вперед. А сначала надобно сказать, что не было бы ни любви Белого к Маргарите Кирилловне, ни первой книги его, ни, возможно, самого поэта, если бы в жизни его не случилось другого револьвера, который, как и ружье в пьесе, должен был выстрелить. Это как раз тот выстрел в квартире нижних соседей…
Я говорю о семье Михаила Соловьева, сына великого историка, которая жила этажом ниже. Или – о «форточке в жизнь», как образно назвал ее Белый. Именно здесь, еще до «кружка плоской крыши», образовался «кружок чайного стола». У Соловьевых сходились Ключевский, Трубецкой, поэт Фет, уже известный всем Мережковский и малоизвестный Брюсов, и сюда Борю, который только и мог поражать всех тем, что умел вертикально держать на носу палку, пригласят как равного. Вообще в нижней квартире всё было не как у всех. Картины, ассирийские фрески, обои и кресла цвета «бискр» и – вечный «художественный беспорядок». Особо оригинальным был брат хозяина квартиры, знаменитый философ и поэт Владимир Соловьев, человек с лицом апостола, с душой «беса из пекла» и с глазами, как у «василиска», – то зелеными, то фиолетовой синевы. Бог и дьявол, святость и кощунство – вот что удивит Белого в нем. Он не мог не поразиться, что философ, как отметит еще Амфитеатров, легко брался доказать, что даже дважды два – пять. «Чувствуем, что это шутка, – вспоминал Амфитеатров, – а жутко как-то. Логика острая, неумолимая, сарказмы страшные… Умолк – мы только руками развели: видим действительно дважды два… пять…»
Баснословное было время! Век оригиналов. Брюсов, к примеру, любил исчезать в темноте. Гасил в компании свет, а когда его зажигали, поэта и след простыл. Гиппиус любила поднять бокал и сказать: «Ну, за конец света!..» А поэт Пяст подсчитывал количество ударений в цоканье соловья. Неудивительно, что и Белый мог сидеть на уличной скамье и искать «идею» прохожего, автомобиля, фыркнувшего мимо, или дерева рядом. Удивительно, что «идею» себя не мог найти. «Кто я? Композитор, философ, биолог, поэт, литератор или критик?» Больше думал, что – критик. Первые стихи показал отцу – тот высмеял, другу – тот не понял. И лишь два человека сразу сказали: «Вы писатель». Сказали – и почти сразу погибли.
Ими и были Соловьевы – он и она. Белый познакомился сперва с сыном их Сережей, который был на пять лет младше. Но его сразу поразила она, его мать, жена Михаила, Ольга – красавица с глазами «не в себе». Художница, правдоискательница, пытавшаяся «поймать тайну жизни», готовая «и на монастырь, и на взрыв». Она, пишут, так молилась на мужа и за него, что кожа на ее коленях совсем огрубела. «Порывистая, умная, цельная», – скажет о ней Гиппиус, а Фет назовет «поклонницей и жрицей красоты». Именно Ольга, кстати, двоюродная сестра матери Блока, не только читала Белому первые стихи «Саши из Петербурга», которые ей присылали, но и первая, угадав истинное лицо Белого, сказала: «Вы – наш…» А через два года оба – и Ольга, и Михаил – добавят: «Вы – писатель». Ведь именно Соловьев не только придумает Боре псевдоним Андрей Белый (сам поэт хотел взять имя Буревой), но и возьмется за издание его первой книги. И вправду в «лучах этой семьи» вырос он, и от этих лучей, рискну предположить, и вспыхнула в нем «искра» творческих энергий.
«Лучи» эти судьба погасит в одну ночь. Простудившись, умрет Соловьев. Ольга, не отходившая от него, крикнув «Кончено!..», кинется в соседнюю комнату и выстрелит в себя. Сонный Белый, вытащенный отцом из постели, спустится в их квартиру в половине четвертого. Когда увидит клок обоев, вырванный пулей, его начнет колотить. И – «вздерг нервов» – тогда же ночью по пустому Арбату горестным гонцом он пойдет к сыну Соловьевых, Сереже, ночевавшему у знакомых. Они были друзья, а станут – почти братьями. Даже женятся потом на сестрах.
Куклы и… сумасшедший
В серенький, мокрый день августа 1911 года Андрей Белый вспыхнул от «самовозгорания». Просто тем полднем у дома в Никольском (Москва, Плотников пер., 21) остановилась пролетка, полная сундуков и картонок. С подножки экипажа соскочил тридцатилетний Белый и помог сойти тонкой, узкой женщине с «грудью-дощечкой» и в черном бархатном платье. Белый приехал домой, здесь пять лет уже после смерти отца жил с матерью и вот – привез сюда Асю. Почти жену. Тоже – адрес его любви. Приехал жить. Но в передней грудью встала тетка поэта: «Вы? – удивилась и, сказав, что мать его в отъезде, добавила, сверкнув на Асю: – И я не знаю как… право». Вот тут он и вспыхнул и, подхватив сундуки, кинулся с Асей в первые попавшиеся меблирашки на Тверском. В тот день и раскололась окончательно его жизнь между «любимой мамочкой» и – Асей. Еще недавно именно в этом доме в пору своей влюбленности в жену Блока, в «Прекрасную Даму», он и просидел, как я говорил уже, неделю в маске. Теперь же весь мир кругом, так почудилось, надел вдруг маски. И хуже: в маске оказалась и Ася – его «блеск, песня»…
Вообще, если вы хотите понять Белого, то вот вам история его дуэли с неким Тищенко. 27 января 1909 года газеты сообщили: накануне вечером в Литературном кружке на Дмитровке, в бывшем дворце генерал-губернатора князя Д.В.Голицына, а ныне – в перестроенном здании Генпрокуратуры, беллетрист Тищенко обвинил поэта Белого «в беспринципности». Белый в ответ со сцены крикнул: «Вы подлец. Я оскорбляю вас действием!..» Всё – правда. Был такой писатель Тищенко, невидная «мышка», но известная тем, что сам Лев Толстой, представьте, объявил его первым прозаиком и чуть ли не наследником своим. Был и скандал в кружке, была и виртуальная «пощечина», которую влепил обидчику Белый. Тот же Зайцев запомнит: занавес на сцене суетливо задернули, из зала кричали: «Безобразие!», «Еще поэтами называются», а Белого в полуобмороке увел из кружка Бердяев. Всё это означало дуэль – как иначе. Но когда утром Зайцев явился в Никольский к Белому, тот (он так и не лег в ту ночь) почти стонал: «Это не Тищенко, – крутился на месте. – Это личина, маска. Я не хотел его оскорбить… Он даже симпатичный… Враги воспользовались Тищенкой. Карманный человек, милый карлик, я даже люблю Тищенку…» Словом, пишет Зайцев, окажись тут Тищенко, Белый кинулся бы целовать его, а не стреляться. Таким был с друзьями, с поэтами, с «модными» тогда революционерами. У М.О.Гершензона, литературоведа и соседа (Москва, Плотников пер., 13), почтительно размышлял о роли интеллигенции в революции, а настоящего революционера Николая Валентинова, с которым познакомился в 1905-м и который, возможно, у себя дома (Москва, ул. Петровка, 26) пытался заставить его прочесть, наконец, «Капитал», высокомерно учил, представьте, вести беседу не просто на корточках, непременно – «на цыпочках». «Не так сидите, – учил. – Нужно опираться не на всю ступню, а только на цыпочки». – «Зачем?» – удивлялся марксист. «Когда вы на цыпочках, тогда, удерживая равновесие, нужно на это направлять какую-то часть духовной энергии; вы ее заимствуете из… имеющегося у вас духовного запаса…» Вот ведь как…
Из мемуаров Валентинова (Вольского). «Два года с символистами»: «“Люди не умеют разбираться в состояниях своей психики, – говорил Белый. – Я писал некоторые вещи верхом на лошади и убежден, что никогда их не написал бы не в этом положении. Иногда я пишу, ложась среди моей комнаты на пол, животом вниз или на левый бок, где сердце, а это совсем не то, как если бы сидел с пером в руке у стола. В этом положении приходят другие слова, какие-то оттенки слов – значит, и оттенки мыслей… Ведь в этом мире множество всяких шепотов, нюансов, шорохов, образов, неожиданностей и неизвестностей. Мы, символисты, их знаем… а вот всякие Потапенки, Тургеневы… ничего не знают и не хотят знать…” Я, – пишет Валентинов, – честно старался вникнуть в то, с чем галопировал Белый. И вдруг почувствовал: что-то колет в затылок…
В полуоткрытой двери, смотря на нас, стояла его мать… и зло, с кривой усмешкой проронила: “Я думала: здесь один сумасшедший, оказалось, двое”…»
Таким «сумасшедшим» поэт был и с любимыми женщинами. И не отсюда ли иные обиды его – настоящие, мнимые или вообще приснившиеся ему под утро?.. «Для меня любовь всегда… трагедия», – скажет поэтессе Одоевцевой в 1921-м. А Берберовой пожалуется: «Запомните: у Белого не было ни одной женщины, достойной его. Он получал от всех одни пощечины…» И назовет трех женщин, якобы сгубивших его: поэтессу Нину Петровскую, будущую любовь Брюсова, Любу Менделееву, жену Блока, и – Асю Тургеневу. Совпадение, конечно, но со всеми тремя (нет, что я говорю, – с четырьмя, если вспомнить его влюбленность в Маргариту) его сведет как раз 1905-й. В 1905-м, после четырех лет воздыханий, он познакомится с Маргаритой, в 1905-м обидно порвет с Петровской и смертельно влюбится в Менделееву, и тогда же, в 1905-м, впервые увидит Асю. Маргарите было уже тридцать два, а Асе, которую впервые отметит меж сестер Тургеневых, – едва пятнадцать.
Думаете, был донжуан? Отнюдь. Был не от мира сего. Оттого и жаль его – беспомощного, неуживчивого, ранимого. Ну, какая женщина стала бы жить с человеком, который в тридцать лет держит войско оловянных солдатиков и часами играет в них, кто назло заводит себе визитные карточки, на которых вместо имени пишет: «Кит Китович Кентавров»? Наконец, кого в газетах обзывают «бешеным скандалистом» и, главное, кто скоро и сам напишет про себя: «Давно поломанная вещь, давно пора меня в починку…»
Белый не искал женщин – бежал их. В Плотниковом, где жил с матерью, где оборудовал себе «зеленый кабинетик» (зеленые диван, кресла, столик, даже пепельницы), специально прикреплял записку на входных дверях: «Бугаев занят и просит не беспокоить». «Это я от девиц», – говорил. Да, время наступало, как говорили тогда, «огарочное». «Трын-травизм», или – «пофигизм», если по-нашему. Смерч эротики, ураган адюльтеров, гордость «напоказ» изменами всех со всеми. «Ах, зачем же нам даны лицемерные штаны!» – распевала элита, жаждущая чуть ли не свального греха, модные строчки поэта Кузмина. Так что девицы, курсистки, дамы-эмансипе штурмом брали нашего синеглазого. Писали о чувствах («Люблю солнце, ем шоколад, для тебя на всё готова»), слали смелые фотографии и смело сообщали свои адреса. Однажды явилась курсистка и, объявив, что зовет его из «душных» стен, сняла вдруг шляпку, распустила волосы и без лишних слов кинулась ему на грудь. В другой раз, провожая на извозчике какую-то даму, он, средь восторгов стихам, вдруг уловил: «Хотите ко мне? Выпьем чаю…» И когда, не чуя подвоха, кивнул, услышал: «Так не будем же терять драгоценного времечка…» Увернувшись от объятий, весь в испарине, он довез ее до дома, «косолапо», как пишет, простился и со всех ног припустил прочь…
Да, от женщин получал «одни пощечины». Фигуральные, конечно. Но и сам раздал их довольно. Он умело кружил головы, пишет Ходасевич, но при этом заставлял девиц штудировать Канта. Говорил: «Она мне цветочек, а я ей: сударыня, если вы так интересуетесь символизмом, то посидите-ка сперва над “Критикой чистого разума”». Что говорить, Мариэтта Шагинян, автор будущих книг о Марксе и Ленине, а тогда курсистка, так влюбилась в него, что сначала посылала ландыши, а потом, вооружившись толстенной палкой, ночи напролет, в мороз и метель, просиживала у его подъезда в Никольском на каменной тумбе. «Как дворник!» – возмущался Белый. Хотя сам не только навещал ее и сестру ее Лину в маленькой комнатке (Москва, Успенский пер., 7), где, «завиваясь в пустоту», кружил им головы, но и не без удовольствия писал длиннейшие философские письма, за которые бедная Мариэтта готова была хоть навек замерзнуть. Он и ей задаст «холодный душ», напишет, что «1) я должен проделывать оккультную гимнастику, 2) следить за десятками книг, 3) писать и мистерию, и гносеологический трактат, и стихи, и статьи, и т.д. 4) общаться: а) с людьми, у которых могу учиться, в) с друзьями, с) вести переписки, 5) я опутан срочными обязательствами, 6) должен помимо всего еще и зарабатывать деньги. Видите? А Вы, милая Мариэтта, требуете, чтобы я Вам писал каждый день, бывал у Вас каждый день… Неужели Андрей Белый есть приятная игрушка для его друзей… Нельзя же требовать, чтобы Андрей Белый был в десяти местах одновременно… А пишу я Вам вовсе не по обязанности, а потому что люблю Вас. Вы и Ваша сестра мне теперь близки…»
Из очерка Ходасевича «Андрей Белый»: « Тактика у него… была одна: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным… как бы исключающим всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах… Затем он внезапно давал волю этим домогательствам и, если женщина, пораженная… а иногда и оскорбленная, не отвечала взаимностью… приходил в бешенство. Обратно: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед “падением” ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, – но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили…»
Именно так порвет с Петровской, так влюбится в Любу Менделееву. Тот же Ходасевич утверждал потом, что, когда Люба, поддавшись обаянию Белого, выстрадала решение «отдаться ему», он сделал вид, что его «не так поняли». А когда выразила ему и гнев, и презрение, тогда-то и полюбил ее. Да, «постели» с ней не случилось, случились годы любовной «мороки», вызов Блока на дуэль, попытка самоубийства Белого. Он запомнит, как в питерских меблирашках десять дней ждал решения Любы и как она позвала его запиской в Гренадерские казармы, где жила тогда с Блоком (С.-Петербург, наб. р. Карповки, 2/44). Позвала, чтобы «уничтожить его». «Я не оправдывался. Не защищался, – напишет потом. – И оскорбленный, раздавленный – о, как она меня презирала! – я побежал топиться – броситься в Неву. Но – насмешка рока – там баржи, гнусные живорыбные садки. И все кругом рыбой провоняло. Даже утопиться нельзя. Прилично утопиться…»
Не смейся, читатель, жалобы его только звучат комично. Он ведь даже ногу перекинул через парапет, даже письмо матери написал – прощальное. А наутро получил новую записку от Любы: не писать и не видеться целый год. «Так всё и кончилось. Для нее… Но не для меня», – вспоминал. Кончилось ли? Он кинется в Париж, где, сняв впопыхах какую-то комнатку в случайном пансионе (Париж, ул. Ранеляг, 99), не только все уши прожужжит Мережковским о Любе, но и доведет себя на нервной почве до больницы, до болезненной операции, до воспалившегося геморроя. Кончилось?! Да лучше бы не знать нам, чем заканчиваются великие романы, оставляющие дивные стихи, офигенные по искренности мемуары и «переживательную» переписку. «Она оказалась картонной куклой, – рассказывал Белый о Любе через два десятилетия. – С кукольной душой. Нет, и кукольной души не было. Ничего не было. Пустота…» Он встретит ее в 1921-м: «Несет кошелку с картошкой, ступает тяжело пудовыми ногами. И что-то в ней грубое, мужское появилось. Я распластался на стене, пропуская ее. Она взглянула незрячим взглядом. И прошла. Не узнала…» Так кончилась «любовь» для него. А она, «Прекрасная Дама»? А она за четыре года до смерти его, услышав рассказ о нем, лишь равнодушно спросит: «Он всё такой же, сумасшедший?..» И – всё! Мыслишь, читатель? И вся любовь: «кукла» да «сумасшедший»!..
К жизни его вернет Ася Тургенева, девочка с точеным профилем, с боттичеллиевской головкой и красивыми пальчиками. Хотя ее «пощечина» ему станет, может, самой оглушительной. Вообще-то ее звали Аней, Асей величали в честь двоюродного деда – великого Тургенева. Была, говорят, похожа на него, хотя в жилах ее текла кровь и анархиста Бакунина, и даже потомков самого Петра. «Тучка золотая», – звали ее в Москве. Белый увидел ее, когда Асе было пятнадцать, причем когда начал при ней читать свой бред поэтический, вернее, петь его: «Несется за местностью местность, // Летит: и летит – и летит», Ася, выросшая на Пушкине, укрывшись за спину матери, будет помирать от смеха. А через четыре года сама позвонит: «Вы согласились бы мне позировать для рисунка?..» Так начался месяц «посидов» их, как он сказал, когда оба тонули не в креслах – в разговорах. Сойдутся на разочаровании – в идеях, людях. На отрицании, на «нет» – всему и вся, не зная еще, что из «нет» ничего и не родится. Оба были в ссоре с матерями, обоим грозила бездомность, только она была дитя со взрослой душой, а он – взрослым дитятей. И оба были с «сумасшедшинкой». Знаете, где, например, они заговорили о соединении своих путей? На верхушке огромного дерева. Часами она, девчонка и «лазунья», и он, тридцатилетний мужик, взобравшись к самому солнцу, под «твиканье зяблика» говорили о Духе, «о наших возможных путях к невозможному». «Выговаривал я всё это Асе из зеленых ветвей, овевавших меня, в те зеленые ветви (чуть-чуть надо мной), из которых высовывала свое личико Ася». Короче, Ася, с которой у него даже сны оказались общими, станет его женой, а сестра ее Таня выйдет замуж за друга детства Белого – за поэта Сергея Соловьева.
Увы, счастье молодых почти сразу начнет ломать быт: ни денег, ни жилья. Поселятся в тесноте у третьей сестры Аси – Наташи и ее мужа (Москва, 6-й Ростовский пер., 11). «Жить в комнатке, пространство которой 4 шага, где 2 постели, 2 стола, вещи, одежда, книги» – невыносимо, жаловался он. Спасали смех, шарады, танцы молодежи – друзей сестер Тургеневых. Гиппиус, видевшая его в Ростовском, говорила, что хоть и был он уже бритый и лысый, но оставался тем же Борей: «не ходил – а танцевал, садился на ковер, пресмешно и премило скашивал глаза». «А главное, – пишет, – чувствовалось, что он так же не отвечает за себя и свои речи, ни за один час не ручается, как и раньше». Сам же Белый считал, что молодеет среди юности, что благодаря Асе опять омытыми от слез глазами смотрит на мир. Это потом он назовет ее «невежественной» и сравнит почему-то с вороном, закружившим над его головой. А тогда «опасной» ее увидела лишь Маргарита Морозова: «От всего ее существа веяло холодом; она была какая-то непроницаемая… и как-то змеевидно глядела на вас в бок». Да еще Цветаева отметит жесткость Аси: эта «хрупкая прелесть», скажет, умела, когда нужно, говорить «нет» так же веско, как «первая капля дождя перед грозой»…
Такое «нет» она и скажет Белому, когда откажется вдруг от супружеской близости. Не хотелось бы влезать в их «постельные дела», но поэт сам в «Материале к биографии», как подчеркнул: в «интимном» материале, всё перетирал и перетирал эту тему.
Из «Материала к биографии (интимного)» Андрея Белого:
«Ася перестала быть моей женой, что при моей исключительной жизненности и потребности иметь физические отношения с женщиной – означало: или иметь “роман” с другой (что при моей любви к Асе было для меня невозможно), или – прибегать к проституткам, что при моих антропософских воззрениях и при интенсивной духовной работе было тоже невозможно… Я должен был лишиться и жизни, т.е. должен был вопреки моему убеждению стать на путь аскетизма; я и стал на этот путь; но этот путь стал мне “терновым”…»
Чтобы не «пасть» вконец, он стал усиленно заниматься «упражнениями, но они производили лишь временную анестезию чувственности; плоть я бичевал: она корчилась под бичом, но не смирялась». Сердце его расстроилось, он ощущал подступы падучей, а по ночам его преследовали «эротические кошмары и низкие сны». Наконец, крайней формой стало его «инцестуальное влечение» к Наташе, сестре Аси. «Совершенно обезумев, – пишет он, – я стал серьезно мечтать об обладании Наташей и стремился в моем грешном чувстве признаться Асе…» Хуже того (время ведь было «огарочное»), Наташа и сама стала нападать на него с «низменным кокетством, умело, рассчитанно растравляющим чувственность». «Она… отчаянно кокетничала со мной… умела атаковать меня, не стесняясь присутствием Аси…» Наташа даже сказала: «со своими не церемонятся», и ему стало казаться, что она «подстрекает» его к тому, чтобы он «взял ее, как мужчина; взял насильно!» Даже подтрунивала над его «трусостью… ее взять!» А когда он там же, в Ростовском, признался в своих «преступных желаниях» Асе, та, как пишет, отказалась принимать меры «к изоляции нас друг от друга…» Нет, читать это, воля ваша, невозможно, хотя весь этот душевный эксгибиционизм не только написан лично им, но явно – для посторонних глаз, для нас с вами…
Второй раз свое «нет», веское, как первая капля дождя, Ася скажет ему через семь лет. Он, вечно говоривший свое вечное «да, да, да», умирая от любви, считая, что уже само ГПУ хочет помешать ему вернуться к Асе, вырвется к ней из красной России в Берлин. Там-то Ася, которая была не просто адресатом стихов – целых книг его, и уйдет от него демонстративно. Так уйдет, словно хотела причинить ему «наиболее острую боль, за что-то его наказать». Вот тогда у Белого и начнется в Берлине его знаменитый «танцевальный запой» – танцы-истерики в местных пивных. Реальные пляски, реальный фокстрот. Танец его «превращался в чудовищную мимодраму, порой непристойную, – пишет Ходасевич. – То было символическое попрание лучшего в себе, кощунство над собой. Он словно старался падать всё ниже…» Возвращаясь с танцплацев, он, пишут, «раздевался догола и опять плясал, выплясывая свое несчастье…» И длилось это месяцами. Ходасевич, глядя на эту «историю», назовет Асю кратко: «стерва». А Берберова подметит: на Белом, как «маскарадная маска» (именно так!), тогда и возникла, будто приклеенная, вечная улыбка. Особенно возмутит «берлинскую колонию» русских, что ушла Ася к ничтожному поэту, к Кусикову – Сандро Кусикяну, кавказцу, который, по словам Белого, «никогда не видел кавказского кинжала…» И впрямь, хоть и виртуальная, но уж больно звонкая получилась оплеуха…
Из письма Аси Тургеневой – Александру Кусикову от 1922 г.: «Ты спрашивал, люблю ли я Анд. Б. Как ребенка, который потерялся и плачет, – душа разрывается от жалости. И то, что мы с ним столько прекрасного вместе прожили. И то, что он не выдержал и отшатнулся если не в основном, то всё же в очень большой доле своей души, – этого я не могла ему простить. Но я сама поставила его в такие трудные условия. Ломаясь, он и меня надломил. Малейшее мужское в нем ко мне вызывает негодование, чтобы не сказать больше. Жить – не с ним – а просто рядом с ним – было бы для меня немыслимо…»
Конечно, всё было сложнее. Константин Локс, друг и Белого, и Пастернака, напишет потом, что когда в 1921-м встретил поэта Нилендера, то невольно спросил его и о Белом. «Он в Берлине, – ответил тот, – с ним такое несчастье, – здесь Нилендер закатил глаза. – Ася ушла от него». «Да с кем же?» – спросил Локс. «С Кусиковым. Вы подумайте, гитарист, пьяница, бьет женщин…» «“По-видимому, нормальная женщина”, подумал я… Зная Белого, – заканчивает Локс, – я понял Асю и не осудил ее…»
Говорят, за минуту до отхода поезда Берлин – Москва, когда Белый решил вернуться в красную Россию, он, словно не в себе, вдруг выскочил из вагона, бормоча: «Не сейчас, не сейчас, не сейчас!» Жуткая ведь сцена. Чистый Достоевский. Накануне в ресторане, на своих проводах в Москву, он, подняв бокал, крикнул собравшимся, что едет в Россию – «на распятие»! И вот спохватился: «не сейчас»… Кондуктор, пишут, чуть ли не на ходу втянул его в вагон. Поэт крикнул что-то провожавшим, но что – никто и не услышал…
Он, который только до революции выпустил тринадцать книг, действительно будет распят в СССР. Когда-то в юности, обыгрывая псевдоним «Белый», он призывал исследовать «белые начала жизни». А в 1923-м имя его грозно «обыграет» сам Троцкий: «Псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции, ибо эпоха революции прошла в борьбе красного с белым». А ведь поэт принял советскую власть. Но, поразительно, и через двенадцать лет после смерти его Жданов в знаменитом докладе «достанет» его еще раз, заклеймит «мракобесом», «ренегатом в политике и искусстве»… Впрочем, ныне, когда опубликованы даже тайные доносы на Белого, я бы не поручился, что он и впрямь принял советскую власть, как широко оповещал всех. Уж не было ли это опять маской? Уже – спасительной маской его?
Вальсок для «Невелички»
«Человек – выше звезд!» – написал однажды. Написал, когда понял: даже Вселенная ему – «по грудь». Но сам – вот ужас-то! – последние пятнадцать лет реально, не образно, прожил не по грудь – по горло в земле. В сырой подвальной комнате на Плющихе (Москва, ул. Плющиха, 53). Считайте – в могиле…
«О, обступите – люди, люди: меня спасите от меня!» – взмолился после революции. В ответ услышал: «Проходи, гражданин, проходи! Не положено!..» Эти два слова «не положено» будет слышать всю оставшуюся жизнь. А первый раз услышит их в Петрограде, в 1919-м.
Это случилось – картинка та еще! – в предутренний снегопад на Невском. Белый, Блок и Анненков, художник, шли по домам из гостей – от Самуила Алянского из Толстовского дома (С.-Петербург, наб. р. Фонтанки, 56). Блок – в тулупе, а Белый, как пишет Анненков, весь в каких-то «тряпочках вокруг шеи, тряпочках вокруг пояса». У канала Грибоедова, на углу, где должны были разойтись, виднелась лишь фигура одинокого милиционера. Широко расставив ноги, с винтовкой за плечом, он «пробивал желтой мочой на голубом снегу автограф: “Вася”»…» Что в этот миг случилось с Белым, Анненков не знает, но тот заорал вдруг на весь спящий проспект: «Черни-и-л!.. Чернил!.. Хоть одну баночку чернил… Я не умею писать на снегу!..» Утро, снег, ветер, седые локоны Белого, рвущиеся из-под шапки, синие безумные глаза и тряпочки, тряпочки вокруг тела. «Проходи, гражданин, проходи, не положено», – лениво пробурчит милиционер, застегивая штаны…
Чернил! Конечно, чернил. Что еще нужно поэту? Какая, казалась бы, малость! Но скоро он не закричит – завоет по поводам куда более серьезным. Он, «солнечный луч», мечтавший согреть Вселенную, скоро напишет в статье: «Жить личной жизнью в России я отвыкал; наша жизнь чаще всего определялась термином “не”: не ели, не спали, не имели тепла, денег, удовольствий…» Добавит, правда, но, кажется, лишь для того, чтобы статью пропустила цензура: «Но это не было предметом слезливых жалоб, потому что громадное “да” осмысленно-духовной жизни с радостью преодолевало все эти “не”…» Напрасно парился – цензура не пропустит ни тех, ни этих слов…
Как он жил в то время – не пересказать. Представьте немое кино. Улицы, гололед, выбеленные инеем дома, на фоне которых бежит черная фигурка: скользит, оглядывается, размахивает руками, спотыкается. Зал в таком кино просто умирал бы от смеха. Но так или примерно так метался по Москве Белый в поисках хоть какого заработка. Немое кино я вспомнил, ибо в мемуарах дочери Вяч.Иванова прочел: Белый, еще до революции, очень любил изображать именно «кинематограф». Подскакивал к чистой стене в квартире Ивановых и начинал двигаться вдоль нее, комически жестикулируя. Это должно было смешить, пишет мемуаристка, но, видя глаза его, устремленные куда-то, со стыдом ощущалось, что зрелище это «скорее пугает»… Вот так и жил теперь по знакомым в разных концах Москвы: то у писательницы Жуковской (Москва, Большой Конюшковский пер., 25), то у знакомого врача Петра Васильева (Москва, 1-й Неопалимовский пер., 12). Так и бегал по городу: лекции, семинарий с рабочими, обучение молодых поэтов в Пролеткульте, разработка программы Театрального университета. А когда в 1919-м поселился у Бориса Григорова, приятеля-антропософа, а в миру – экономиста (Москва, ул. Садовая-Кудринская, 6), в доме, где жил когда-то Чехов, то печку в своей комнате пять месяцев растапливал рукописями своими, сваленными в углу, и, несмотря на разыгравшуюся экзему, на крики какого-то тифозного за стеной, на тьму одолевших вшей, из-за которых и началась экзема, он, посреди мусора и хлама, в вечных шапке и перчатках (в комнате семь градусов мороза) до четырех утра просиживал за столом, готовясь к лекциям, составляя программы, работая над «Записками чудака». Сидел до рассвета, понимая сквозь слезы, что опять встанет после десяти и опять останется без горячей воды, а значит, вновь, не напившись чаю, дрожа от холода, побежит черной побежкой по скользкой панели, по ледяным кочкам сначала учить взрослых балбесов уважать Пушкина в «Школе стиховедения», где преподавали, как я рассказывал уже, и Бальмонт, и Брюсов, и Вяч.Иванов, потом на рынок за лепешками, потом в Театральный отдел Наркомпроса, где подрядился разрабатывать какие-то «проекты» (Москва, ул. Неглинная, 6), потом, уже вечером, – к поэту Амари, Михаилу Осиповичу Цетлину, на Поварскую, где хоть накормят (Москва, ул. Поварская, 9). Вспоминал ли, интересно, прыгая озябшим кузнечиком по вымершей Москве, свое участие в бунте 1905 года, вечера в пользу ссыльных большевиков, вскрики у Гиппиус в 1917 году: «Да-да-да, теперь русский флаг – будет красный флаг? Правда? Правда, надо, чтоб он был красный?..» Не бежало ли за ним эхо этих слов? «В январе 1919-го я всё бросил, лег под шубу и пролежал в прострации до весны, – напишет Асе, еще жене, в Берлин. – Вы, сколько вам о России не рассказывай, всё равно ничего не поймете. Ощущение при первых снежинках 19-го, 20-го года, например, что – засыпает, засыпает, засыпает выше головы… что вся многомиллионная страна – страна обреченных, что это остров, отрезанный навсегда… Холод, голод, аресты, тиф, испанка, нервное переутомление сводило вокруг в могилу целые шеренги людей…»
Он вырвется в Берлин, как я говорил уже. Но как, какой ценой? Берлин отнимет у него Асю, она навсегда останется за границей. А Москва, пока будет там, отнимет мать: она скончается в 1922-м. Конечно, «мамочка» стихи его называла «блажью», а самого – «дармоедом», но это ведь она, провожая его в Берлин, сунула ему на дорогу сверток, из-за которого он навзрыд расплачется.
Вообще в Берлин его не пускали. Помог ему невольно Блок. Не отпустив того на лечение за границу и тем самым погубив, власти (так утверждают ныне) перепугались и от греха подальше выпустили Белого. Так это или нет, не знаю. Знаю, что за ним почти сразу кинется в Берлин Клодинька, Клавдия Васильева, знакомая его по Антропософскому обществу еще с 1913 года. «Тонкогубая монашка в черном», – назовет ее злая Берберова, и, напротив, – прелестное существо с «лучистыми глазами», в которых виден был «жар души», как скажет о Васильевой ее подруга. Вот с ней-то, с этим замужним уже «существом», Белый, когда Ася бросит его в Берлине, и свяжет свою жизнь. Назовет ее Невеличкой и будет жить с ней до самой смерти.
А что же, спросите, возможно, сверток, который дала ему в дорогу мать? Так вот, он сунул его в чемодан и – забыл. Когда поезд тронулся, когда он понял, что опять свободен, он, как признался, настолько «воспрял», что, переезжая границу, вдруг поймал себя на том, что всю дорогу насвистывает и даже напевает про себя «современную русскую песню». Знаете какую? «И как один умрем в борьбе за это…» Не смейтесь, не смейтесь опять! Он ведь почти сразу разрыдается. Когда пересечет границу, когда увидит, что магазины по-прежнему ломятся от «всяческой еды», вдруг вспомнит про сверток. «Уже в Ковно, – напишет позже с его слов Клодинька, – сверток он раскрыл. Выпали черные сухие комочки “чего-то”. Пригляделся, и… к горлу поднялся комок: “Ведь это лепешки! Мама дала… в дорогу. Милая… Это – гостинец!.. И все они там – так”. И рванулось: “Куда же я еду от них? Мое место с ними…”»
С ними – с кем? Увы, на этот вопрос ответа нет. С кем он был, когда пятнадцать лет провел в подвале на Плющихе, где на восемнадцати «квадратах» жили его жена, ее бывший муж и мать жены? С теми, кто арестовал здесь его Клодиньку? Кто, нагрянув с обыском, увез сундук с его рукописями? Или – с теми, кто сопротивлялся им по мере сил? Нет ответа. Есть неожиданные слова Цветаевой. «Как я хотел быть офицером! – признался ей как раз в Берлине. – Даже солдатом! Противник, свои, черное, белое – какой покой…» В определенности видел покой. Пусть хоть в бою, но пусть будет ясно, кто враг, кто – друг… До революции был раздвоен. Теперь стал – расчетверен. Его, разодранного отцом и матерью, именем и псевдонимом, лицом и маской, теперь рубила на куски сама эпоха. Эмиграция считала «продавшимся большевикам», а большевистские писатели и вожди открыто звали «беляком». Куда было деваться ему – тихому чудаку, оригинальному мыслителю, «юродивому», по словам Эренбурга, «вибрирующему» поэту с «внутренним беснованием», по замечанию Рюрика Ивнева? Правда, и Эренбург, и Гумилев, и Ремизов, а потом и Ивнев, и Пастернак – все звали его гением. Конечно, гений! За десять лет предсказал революцию, за двадцать пять – атомную бомбу. Но над ним, над «Архимедом русской поэзии», над черной фигуркой, мелькавшей на лекциях, в издательствах, в театрах, почти не стесняясь, смеялись уже…
Как было не смеяться, если, выбегая из комнаты, он по рассеянности хватал вместо палки – швабру? Если, несясь по залам в поисках выхода, легко мог «вбежать» в зеркало? «Натолкнувшись с размаху на себя самого, – пишет актер Михаил Чехов, – Белый отступил, дал дорогу своему отражению и прошипел раздраженно: “Какой неприятный субъект!”» «В другой раз, – пишет Чехов, – завидев знакомого издали, Белый, дружески вытянув руку, пустился навстречу, но, поравнявшись, забыл о знакомом, прошел мимо, держа руку в воздухе и удивляясь: зачем же рука?..» Как не смеяться, если даже верная Невеличка писала о чудовищной бестолковости его: «Вдруг начинались шумные поиски очков, незаметно сдвинутых на лоб, или шапочки, крепко зажатой в руке. А сколько раз собирался подлить в стакан с вином “воды” или “поперчить” из… чернильницы». Для него всё было проблемой: как заполнить анкету, как развязать узел на ботинке. Ни навыка, ни сноровки, ни даже житейской догадливости не было, и он очень ценил это в других. «Вот ведь как просто, – удивлялся, – а мне невдомек…» Но зато, как написал один его знакомый, у него, не имеющего, казалось бы, корней, были крылья. А раз были крылья, значит, был и полет. Луч солнца – он ведь тоже в полете!..
Из книги Бориса Зайцева «Мои современники»: «Белый встретил меня очень приветливо… Он был в ермолочке, с полуседыми из-под нее “клочковатостями” волос, такой же изящный, танцующий, приседающий… Очень скоро, конечно, разговор перешел на антропософию, на революцию… Он быстро расчертил разные круги, спирали… Разумеется, понял я четверть, может быть – треть, самое большее… “Видите? Нижняя точка спирали? Это мы с вами сейчас. Это нынешний момент революции. Ниже не спустится. Спираль идет кверху и вширь, нас выносит уже из ада на простор…”».
Зайцев назовет его «не то алхимиком, не то астрологом». А он, любивший высоту, но живший по горло в земле, видя в окошке под потолком лишь снующие ноги прохожих, звал себя в те дни «кочегаром», ибо, как написал, не мог ни на шаг «отойти от разведенных котлов». Так сравнивал свою работу над книгами, когда подвал заполняли сотни разложенных листов, когда лавина идей и образов напирала и он должен был держать в голове десятки, сотни ниточек сюжета. Ума не приложу, как он мог работать в комнате, где помимо стола, кровати за какими-то шкафами стоял еще и огромный рояль Клоди? Как мог поймать мысль, если в окне с утра и до ночи – ноги? «На беду за углом дома была молочная, – вспоминал художник Кузьмин, – где выдавали творог. Очередь шла мимо окон Белого, закрывала свет – в комнате становилось темно». Тогда он подскакивал к окну и, задрав голову, кричал в форточку: «Здесь живет писатель! Не мешайте ему работать!..» Вот когда взвыл по-волчьи: «Я живу под хвостом!» «Хвостами» называли бесконечные очереди. Вот когда, как пишет Цветаева, взмолился: «У меня нет комнаты! Я не могу писать!.. Я писать хочу! Но я и есть хочу! Я – не дух!.. Я хочу есть на чистой тарелке, селедку на мелкой тарелке, и чтобы не я ее мыл! Я заслужил! Я с детства работал! Я буду кричать, пока не услышат: “А-а-а-а!..”».
Думаете, опять «играл»? Вряд ли! В подвале «маски» были без надобности. Здесь он был прост и почти беспомощен. Жена умилялась, как он любил подметать комнату и, стоя с веником в руках, удивляться: откуда вдруг «из ничего» собралось столько мусора. Как любовался коллекцией камушков коктебельских, которые по цвету были разложены в коробки из-под папирос и к которым не позволял дотрагиваться. «Варварство! – возмущался. – Ведь не колупаем же мы красок в картине…» А когда кто-нибудь нахально «выгребал» из коробки приглянувшийся камешек, отчего рассыпалась «композиция», то на лице Белого «проходила вся гамма чувств от неподдельного ужаса до грозного негодования». «Абстрактные люди», – возмущался, и это было самым страшным ругательством в его устах, почти таким же, как слово «нечеткий». Нечеткий человек на его языке означало – непорядочный.
Бесхитростное дитя, святой, почти блаженный – какая, к черту, маска? И тем не менее, я убежден, она – была. Вот смотрите: сразу после Берлина он, навестив Петра Зайцева, поэта и друга (Москва, Староконюшенный пер., 5), говорит, что ему нравится на родине всё: «и новая форма на пограничниках», и молодежь, и то, что советской России теперь «всё по плечу». Вот, выступая на пленуме писателей, просит хорошенько, как следует, учить его марксизму. Читая лекцию «Ритм как диалектика» на «Никитинских субботниках» (Москва, Газетный пер., 3), даже пытается связать поэтическое творчество с марксистской философией. И наконец, побывав после случившегося обыска на Лубянке, да еще у Якова Агранова, самого страшного людоеда из ОГПУ, говорит вдруг, что вернулся «окрыленным» и что Агранов умный и он, конечно, прав, да, прав! Всё это было! Но когда ныне опубликовали доносы на Белого, когда в архивах той же Лубянки нашли выписки из дневника писателя, то там мы и прочли то, что скрывалось под этой «маской».
Из дневников Андрея Белого: «Огромный ноготь раздавливает нас, как клопов, с наслаждением щелкая нашими жизнями, с тем различием, что мы не клопы, мы – действительная соль земли, без которой народ – не народ. Нами гордились во всех веках, у всех народов, и нами будут гордиться и в будущем… Только в подлом, тупом бессмыслии теперешних дней кто-то, превратив соль земли в клопов, защелкал нами: щелк, щелк – Гумилев, Блок, Андрей Соболь, Сергей Есенин, Маяковский. Щелкают револьверы, разрываются сердца, вешаются, просто захиревают от перманентных гонений и попреков. И мое сердце, мужественно колотившееся, ослабевает. Не могу, не могу вынести тупого бессмыслия, раздавливающего лучших… Дышат на ладан Соловьев, Иванов-Разумник, Волошин, Орешин, Пастернак – сколькие, щелк, щелк – “клоп за клопом”! Скоро мы, аллегорические “клопы”, будем все передавлены… Дух… “чиновников”, играющих роль коммунистов, – действует на меня, как синильная кислота. С этими людьми возможны только два жеста: или хватить палкой по голове, или махнуть рукой: “грабьте, сколько влезет!”…»
Вот где истина, вот где страдающее лицо – не маска. Но – «проходи, гражданин, проходи!..» Известно, Белый писал Сталину. Но сохранилось лишь письмо прокурору Катаняну, написанное за три года до смерти. «То, что я переживаю, напоминает разгром… Деятельность литератора становится мне подчас невозможной…» Власть не пощадит его и после смерти. Даже с некрологом о нем в «Известиях», который подписали Пастернак, Пильняк и Санников, назвавшие его классиком мировой литературы, случится вещь небывалая. Некролог – с ума сойти! – осудят в другой газете. В «Литературке», представьте. Автором публикации, написавшим, что Белый и не классик вовсе, а всего лишь «индивидуалист и манерен в своем творчестве», стал (страна должна помнить своих «героев»!) некий Болотников – тогда ответсек газеты. Как не сказать, что с Белым только так и могло быть…
«Жить не умею! – горько плакался Белый в последние годы, понимая, что ни постоять за себя, ни отодвинуть плечом, ни влезть без очереди не мог и уже не сможет. – Чем же я виноват. Не умею проскальзывать…» Правда, подумав, неизменно добавлял: «Но отчего же, отчего те, кто умеют жить, – так неумелы в искусстве?..» Великое сопоставление, если вчитаться!..
За день до кончины, пишут, прошептал: «Удивительна красота мира!» Считается, что умер от солнечного удара, от «отравления солнцем», как и предсказал в стихах. Но смертельный инсульт получил, кажется, от другого – от предисловия, которое к его книге «Начало века» написал бывший член Политбюро ЦК партии Лев Каменев. Этот (конечно же, спасая себя), назвав жизнь Белого «трагикомедией», прямо написал, что Белый всю жизнь «проблуждал… на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы». Что оставалось поэту? Он, пишут, бегал по магазинам, «скупал свою книгу и вырывал предисловие. Ходил по книжным, пока не настиг инсульт…»
Умер на руках Клодиньки, его Невелички. Сестра ее вспоминала, что иногда, в «ликующее настроение», поэт и Невеличка вставали посреди своей каморки, клали на плечи друг другу руки и начинали медленно, но легко переступать ногами, «наподобие неуклюжего вальса». Незатейливый танец. Но если помнить его безумный выпляс одиночества, если знать, что само существование обоих десятилетиями было психологическим адом, то нехитрый вальсок этот становился воистину светом солнца в темном подвале, танцем-победой над такой жизнью! Они танцевали, пишет сестра жены его, и лицо Белого при этом – «сияло блаженством»…
Что ж, красота мира и впрямь удивительна.
«Парламентер Любви», или Последняя дуэль Максимилиана Волошина
По ночам, когда в тумане Звезды в небе время ткут, Я ловлю разрывы ткани В вечном кружеве минут. Я ловлю в мгновенья эти, Как свивается покров Со всего, что в формах, в цвете, Со всего, что в звуке слов. Да, я помню мир иной — Полустертый, непохожий, В вашем мире я – прохожий, Близкий всем, всему чужой. Ряд случайных сочетаний Мировых путей и сил В этот мир замкнутых граней Влил меня и воплотил… Максимилиан ВолошинВолошин Максимилиан Александрович (1878–1932) – поэт, критик, художник. Всю жизнь стремился помогать окружавшим его людям. И если главными глаголами его эпохи были: заставить, отобрать, поделить, посадить и расстрелять, то он жил словами иными: понять, помочь, укрыть, помирить. Но главное – спасти! Любого – любой ценой!
Первым же выстрелом крейсер «Кагул» в щепки разнес кафе «Бубны», приют художников и поэтов. Коктебель, голубое побережье (дачники, рыбаки, татары, косившие сено) – всё замерло в ужасе. Крейсер не шутил, бил по людям. А когда полыхнул второй залп, Волошин, первым пришедший в себя, кинулся разгонять зевак: «Прячьтесь! Ложитесь на землю!..»
Июнь 1919-го. Гражданская война. Три дня назад в бухту Коктебеля вошли крейсер, два английских миноносца и баржа с белым десантом генерала Слащёва. Целью их была Феодосия. Стреляли по Старому Крыму: снаряды летели через головы мирных жителей – за горизонт. Но неожиданно нервы сдали у кордонной стражи Коктебеля (не красной и не белой!), и шесть человек пальнули по кораблям. Вот тогда крейсер и ответил огнем. Он сровнял бы поселок с землей, если бы Волошин, наскоро прицепив к трости белый платок, не прыгнул в лодку и не поплыл навстречу пушкам. «Когда мы огибали “Кагул”, нам дали знак, – удивился, – что сходня спущена с левого борта (так встречают почетных гостей). Взобравшись по лестнице, я снял шляпу и тотчас же был проведен к командиру». А через полчаса в кают-компании ему устроили овацию. Почти все офицеры «Кагула» знали его по стихам, лекциям в Севастополе, по вечерам и концертам. Неведомо, читал ли он в тот вечер на крейсере стихи, но из газет известно: ни один человек на берегу в тот день не только не погиб, но не был ранен.
«Шар шара…»
«У него была тайна, – напишет о нем Цветаева. – Это знали все, этой тайны не узнал никто». Напишет после смерти его. А при первой встрече с ним она, семнадцатилетняя, вдруг скажет: «Знаете, мне хочется сделать одну вещь». «Какую?» – спросит ее уже почти знаменитый поэт. Она помолчит, а потом, пугаясь дерзости, выпалит: «Погладить вас по голове». И вспомнит: «Я и договорить не успела, как огромная голова была подставлена моей ладони. Провожу раз, два, и изнизу сияющее лицо: “Ну что, понравилось?” И вежливо добавил: “Вы, пожалуйста, не спрашивайте. Когда вам захочется – всегда…”»
Такой вот первый, отнюдь не «деловой» контакт! Но соль в другом. В том, что, фигурально, по голове погладил ее – он. Он первым заметил ее первую книгу, первым написал о ней и – первым пришел к ней в дом. Так началась эта дружба на всю жизнь.
Из очерка Цветаевой «Живое о живом»: «Макс был настоящим чадом, порождением, исчадием земли. Раскрылась земля и породила: такого, совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко быка, немножко бога, на коренастых, точеных как кегли, как сталь упругих, как столбы устойчивых ногах, с аквамаринами вместо глаз, с дремучим лесом вместо волос… Со всем, что внутри земли кипело и остыло, кипело и не остыло… Это был огромный очаг тепла, физического тепла, такой же достоверный… очаг, как печь, костер, солнце. От него всегда было жарко…»
А еще она напишет: «Макс – шар… Шар вечности, шар полдня, шар планеты, шар мяча, которым он отпрыгивал от земли (походка) и от собеседника, чтобы снова даться ему в руки, шар шара живота, и молния в минуты гнева, вылетавшая из его белых глаз, была, сама видела, шаровая. Разбейся о шар, – как бы предложила нам. – Поссорься с Максом…»
Поссориться с ним было невозможно. «Всё понять, всё – простить!» – вот девиз, которому он следовал. Но про «шар живота» написала догадливо. Не знала, что гимназистом (еще «шариком») он, разбежавшись в коридоре, с размаху влетел в еще больший шар. В живот Льва Толстого. Поднял глаза, опять «изнизу», и услышал: «Ну, ты меня мог убить своей головой!» Тоже – контакт поколений! Уходящего и – влетающего в литературу. Он ведь еще в гимназии написал: «Странно! Если я не буду писателем, то чем я буду?..»
Учился в 1-й гимназии, в доме, который и ныне стоит против храма Христа Спасителя (Москва, ул. Волхонка, 18/2). С четырех до шестнадцати лет жил с матерью в Москве. На Долгоруковской, на Грузинской, в Проточном переулке. Домов этих нет, даже адреса утеряны, а гимназия – вот она! – стоит. Символично: в ней ныне Институт русского языка. Я, к примеру, оказавшись в нем даже случайно (забегая за книгами в местный киоск), хожу здесь, как бы озираясь. Пушкин ведь бывал, преподавал Аполлон Григорьев, поэт, а в актовом зале, где устраивались городские вечера и концерты, выставляли впервые холст Иванова «Явление Христа народу» – восемь метров в ширину. А вот «явление» народу Волошина тут если и заметили, то как последнего ученика. Двойки по всему, а по греческому – единица. «Сударыня, мы, конечно, вашего сына примем, – скажет матери директор гимназии в Феодосии, куда переведут Волошина, – но должен предупредить: идиотов мы исправить не можем…» Вот ведь как! Впрочем, мать и сама была виновата: «принципом» ее было давать ребенку любые книги, какие захочет. Он и читал – любые. С утра и до утра. И писал «дерзкие» стихи: «Пускай осмеян я толпою, // Пусть презирает меня свет, // Пускай глумятся надо мною, // Но всё же буду я поэт…» Прочел их матери, та бросит: «А у Пушкина лучше!..» Странная у них была любовь, о чем рассказ впереди. Но вот вам пример: воюя с его добродушием, мать (кошмар!) подкупала мальчишек, чтобы они… колотили его! Профессор Стороженко, сверстник его, помнил, как по наущению ее укусил Макса за пятку, когда тот сидел на дереве. И знаете, что ответил Волошин? «Я бы мог дать тебе тумаков, но не хочу». Однажды лишь дал сдачи, но противник, растянувшись на полу, только и запомнил: глаза-шарики над ним да мольбу в них – оставить его наконец в покое…
Впрочем, что детские драчки. Здесь, в 1-й, учились те, кого разведёт сама история: «державники» – великий историк С.М.Соловьев и не такой великий, но тоже историк Погодин – и «антидержавники»: анархист князь Кропоткин и первый драматург России Островский. Будут учиться и те, кого уже Волошин будет стараться как бы примирить: Бухарин, большевик, и беляк Милюков – будущий министр Временного правительства. Наконец, здесь, в 1-й гимназии, уже получил золотую медаль тот, кто уведет у Макса первую жену, поэт и «учитель поэтов» – Вячеслав Иванов. Да и она, жена его, Маргарита Сабашникова, тоже не раз, но после революции, будет бывать тут. Дом станет штабом Пролеткульта, и она, «утонченка», чтобы не сдохнуть с голоду, пойдет сюда «взращивать» незамутненную «пролетарскую культуру»…
В брак Волошин вступит не мальчиком, но в любви мальчиком будет, кажется, всегда. Ныне и первоклашки ахнут, узнав, что первую обнаженную женщину он увидел, вообразите, в двадцать четыре года. Натурщицу на Монпарнасе. Он жил тогда в Париже в мастерской художницы Елизаветы Кругликовой, где кучковались авангардисты (Париж, ул. Буассоннад, 17). «Я в первый раз видел голое женское тело, – записал в дневнике, – то, чего страстно жаждал в течение стольких ночей, и оно меня не только не потрясло, но напротив, я смотрел на него как на нечто в высшей степени обычное…» Правда, в тот же день, и вряд ли случайно, на бульваре Сен-Жермен у памятника Дантону он знакомится вдруг с проституткой, за которой пошел, как в тумане.
Из дневника Волошина: «Мы поднимаемся по лестнице… Я чувствую около себя юбку, дотрагиваюсь до нее робко пальцем и думаю: “Неужели это и есть?” Она зажигает спичку, и мы входим. Комнатка крошечная, с большой постелью, как во всех отелях… Неужели она… разденется?.. Мне хочется, чтобы она разделась… Я делаю робкое движение, чтобы расстегнуть ей кофточку. Она говорит: “Погоди, я сама”. И потом спрашивает деловым тоном: “ Ты хочешь, чтобы я разделась совсем?” Я киваю… Она одним движением сбрасывает с себя все платье и остается только в черных чулках выше колен да с газовым бантом на голой шее. И меня опять поражает обыденность голого тела. Я гляжу на низ ее живота, и меня удивляет присутствие волос. Их я никогда не видел на картинах и статуях… Она говорит: – Раздевайся… Мне теперь не стыдно раздеваться, но я… боюсь, чтобы она не догадалась, что я это делаю в первый раз… “Зачем ты снял ботинки?” – говорит она. И я чувствую, что она догадывается, что я еще не имел дела с женщинами…»
Девушку звали Сюзанн. Он встретит ее вновь в танцзале, куда ходил рисовать с натуры. «Мы идем к столикам, – запишет. – Она подвигается близко ко мне, касается меня коленями и закрывает мои ноги своей юбкой. Я чувствую, что во мне просыпается животное… И вот мы идем вдоль сырой аллеи. Она через два шага подпрыгивает и напевает. Я хочу принять развязный вид. Но не могу: “А вдруг меня увидят мои знакомые?” – “ Ты мне дашь опять 20 франков?” – спрашивает она нежно. У меня всего 20…»
Впрочем, скован он почему-то лишь с уличными женщинами, с кем другие развязны. С остальными он, «воздушный шарик», общается на каком-то «воздушном наречии». «Пропариженный» юноша с львиной головой, в пенсне на ленте, в бархатных рабочих брюках и при этом в модном жилете, он невероятно общителен. Это и возмущало. «Помилуйте! – ворчала одна матрона. – На что похоже? Мужик – косая сажень в плечах, бородища – как у есаула, румянца – на целый хоровод деревенских девок. А не разберешь – ломается или бредит взаправду? Чудодей какой-то!..» Чудодей, потому что водится с богемой, болтает о раскольниках, о террористах. То шлет в редакции малоизвестные стихи Пушкина, заверяя, что автор их – «аптекарь Сиволапов». То подруге, отчаянно желающей отравиться, дает английскую соль. А то, божась, уверяет, что у антиквара на улице Сэн «откопал» один из тридцати серебреников. Тот самый! «Поэт, – говорил, – должен быть нелеп». Он и был таким: любил вечно ходить в сандалиях, как древний грек, брил ноги, носил чулки, перевязывал голову венком из полыни и, как никто, умел готовить черепаховый суп. Всю жизнь, даже в старости, не любил электричества, радио, кино, ненавидел кровати: «Зачем эти семейные недра?» – зато любил спать на снегу в горах Испании, на свернутых канатах кораблей, на кошме в барханах, а в Париже – и когда жил в комнатке друга-художника на Кампань-Премьер (Париж, ул. Кампань-Премьер, 9), и когда снял себе целое ателье (Париж, бул. Эдгара Кине, 16), – обожал бегать на остров Иль де Жюиф, где «слушал» только ему слышные голоса тамплиеров из XIV века. «Разве вы не знаете, – спрашивал Амфитеатрова, писателя, – что 11 марта 1314 года на Иль де Жюиф были сожжены гроссмейстер Жак де Моле со всем капитулом?..» И до сияния любил ходить «в гости». Мог день просидеть, скрестив ноги, как Будда, и цедить прописные истины, а мог часами говорить о какой-нибудь греческой миниатюре. Понятно, отчего женщина, в которую влюбится, сравнит его с грациозно-неуклюжим сенбернаром, теребящим попавшую в зубы тряпку. Она скоро станет женой его, с ней у него всё будет не просто, но в Париже он первым делом поведет ее к царице Египта Таиах, в музей Гимэ (Париж, пл. Иены, 6). «Она похожа на вас», – скажет у мраморной головы царицы Маргарите Сабашниковой. Но в тот день ему покажется, что каменные губы Таиах что-то прошепчут ему. Правда, одна предсказательница, которая посулит ему смерть от женщины, уже сказала, глянув на Таиах: «У нее губы жестокие…» Вот эти-то слова он и не свяжет с Маргаритой, с ее похожестью на царицу. И – зря не свяжет.
«Вы живой – я мертвая…»
С Маргаритой познакомится у Сергея Щукина, коллекционера. Тот в своем изящном, что игрушечка, особняке соберет как-то «всю Москву» на выставку новых приобретений: на Ренуара, Дега, Гогена (Москва, Большой Знаменский пер., 8). Все подкатят сюда, в нынешнюю резиденцию министра обороны, в собственных экипажах, и только он придет пехом. Все будут в смокингах и бабочках, он – в свитере да в штанах до коленей. «Пур эпате ле буржуа» – эпатировать мещан – это он обожал. В толчее, на лестнице, встретит знакомую свою, Катю Бальмонт, жену поэта. А рядом – тонкую девушку с раскосыми глазами. Катя скажет: «Знакомьтесь! Моя племянница Маргарита Сабашникова». «Очень приятно, – улыбнется он. – Максимилиан Кириенко-Волошин. Впрочем, это… длинно. Для близких друзей я просто Макс». Но девушка улыбки его не примет: «Вы уверены, что мы станем близкими друзьями?» «Непременно станем», – еще шире расплывется он…
В свои двадцать Маргарита, дочь чаеторговца, двоюродная племянница братьев-книгоиздателей, была уже известной художницей, ученицей Репина. Юная, грациозная, с лицом, выписанным «кисточкой старого китайского мастера» (в ее роду был бурятский старейшина), она нравилась всем. Но ей никто не нравился – вот беда. Брезговала людьми – это именно то слово. В Париже, когда в 1905-м она жила в каком-то пансионе (Париж, бул. Монпарнас, 123), а Макс – уже в новом художественном ателье (Париж, ул. Октава Фьюле, 24), Маргарита, забравшись как-то на какую-то колокольню и глянув на человечков внизу, вдруг сказала: «Мне бы хотелось вымести этих людей. Взять метлу и вымести…» И не терпела, когда в нее влюблялись: «Я люблю, чтобы меня не любили. Ведь это борьба. Если передо мной склоняются, я хочу добить!» Максу сказала это, тому, кто перед любым ковром расстилался. И не странно ли, что после встречи заметит: «Познакомилась с очень противным художником на тонких ногах и с тонким голосом». Странно, что через два года, когда они проведут в Страсбурге десять счастливых дней, вдруг признается: «Откуда ты такой хороший? Нет, это не я сделала, ты был такой…»
В чем-то они были похожи. Скажем, Макс мог ночью ворваться в дом, где жили художники, разбудить их и потащить глазеть на восход. Но ведь и она, прочитав как-то роман Гёте, прямо в ночной сорочке пошла поднимать спящих друзей: «Как же спать, когда узнаёшь сокровенное в любви…» Но если он, радостный, думал о жизни, то Аморя (так нежно стал звать ее) вечно размышляла о смерти. «Вы благородный, честный, – говорила. – А что – я? Вы живой – я мертвая…» Чудеса, но он умрет в пятьдесят пять, а она – в девяносто лет. Словно думать о смерти – полезнее для долголетия.
Когда-то, когда он был ребенком, мать нашла его утром спящим на подоконнике. «Что это значит?» – глянула строго. Он разрыдался: «Я не спал! Я ждал. Она не прилетела!» – «Кто не прилетел?» – «Жар-птица! Мне обещали, если буду хорошо вести…» Так вот, через двадцать лет под звон колоколов Святого Власия, церкви, что и сейчас стоит в арбатском переулке (Москва, Гагаринский пер., 20), он вел под венец реальную «Жар-птицу» – Аморю. Это было 12 апреля 1906 года. Ради этого он («семь пудов мужской красоты») даже сюртук сшил. Сюртук не помог; рядом с Аморей стоял вылитый дворник. Цветаева пишет: одна маленькая девочка, глядя то на него, то на Маргариту, громким шепотом спросила мать: «Почему эта царевна вышла замуж за дворника?» И не обиделся, пишет Цветаева, никто: «Маргарита смеялась, а Макс сиял…» Аморя походила на царевну, ее и на улицах звали порой ангелом. Но ангел, добившись со скандалом разрешения семьи на брак, тем не менее запишет: «Я будто отсутствовала и даже венчание воспринимала как сон. Я не чувствовала себя счастливой…» Она измучила его еще до свадьбы. Отказывалась писать ему при расставаниях, смеялась над «фразерским романом» его к ней и, что хуже, прилюдно фыркала на его стихи. «И всё неправда! – тянула капризно. – Не звал ты меня прочь! Ты лгун, Макс». – «Я поэт», – отвечал он. Но она давила: «Ах, ты всё путаешь, путаешь». Он не сдавался: «Но как же, только из путаницы и выступит смысл…» Увы, из путаницы их брака рождалась только еще большая путаница.
Жар-птицу он потеряет. Через год она уйдет к тому, перед кем он трепетал, – к Вячеславу Великолепному, поэту Иванову, филологу, философу. Совпадение, конечно, но после свадьбы, уехав в Париж, сняв чудную квартирку на пятом этаже на улице Сингер (Париж, ул. Сингер, 17), Волошин и Аморя будут радушно принимать у себя и Бальмонта, и поэта Минского, и Гиппиус с Мережковским, и… чету Ивановых – будущих разлучников своих. Те жили еще в Париже. А если я скажу, что задолго до этого именно на улице Сингер Вячеслав Иванов и уводил от первого мужа свою будущую жену Лидию Зиновьеву-Аннибал – она жила там же, но в доме напротив (Париж, ул. Сингер, 10), то встреча двух этих пар и впрямь покажется мистикой. И не в Париже ли Макс станет вдруг для Амори каким-то «недовоплощенным», а Иванов, по ее будущим словам, – «почти Богом»?..
Роман Вячеслава Великолепного и Амори (при живых жене и муже!) случится на «Башне», в квартире Ивановых. Волошин, преклоняясь перед Вячеславом, сам снимет две комнатки прямо под их квартирой и сразу же вызовет из Москвы Аморю. Не влюбиться в Ивановых, пишут, было трудно. У них привечали всех, на «Башне» царили стихи и философия, собирались самые талантливые люди России. Пили вино, декламировали, шутили, дурачились, разыгрывали друг друга. А надо всем царил и вещал он – Вячеслав. «Всё трещит, – пророчествовал. – Поэзия… нисвергается. Пушкин пережит – невыносимо холоден и искусствен… Тютчев – гениальная бездарность… И литература, и скульптура – шарлатанство, музыка тоже…» И ведь – верили! И именно здесь Ивановы (и он, и его жена Лидия, тоже писательница) и изберут Сабашникову как бы третьим членом своего брака. Обычное дело тогда: богемные нравы, свободная любовь – как продолжение мистики, видений и гаданий. Ведь почти всё сводилось Вячеславом к Эросу, а всё, что рождено эротикой, не просто законно – свято… Ну как было Аморе не влюбиться?
«Комната Вячеслава, – пишет она, – узка, огненно красна, в нее вступаешь, как в жерло раскаленной печи. Я чувствую себя зайчонком в львином логове». Когда поймет, что и он любит ее, расскажет об этом Лидии и сообщит, что решила уехать, что слишком «заигралась». «Ты вошла в нашу жизнь, – возразит та, – ты принадлежишь нам. Если ты уйдешь, останется – мертвое…» Такой вот треугольник! Кстати, Иванов, не в лоб, но внушал ей, что она и Макс «существа разной духовной природы», что брак между ними… «недействителен». И говорил, что он с женой «в состоянии любить третьего»: «Подобная любовь, – говорил, – начало новой церкви…»
А что же Волошин, спросите? «Я радовался, что Аморя любит Вячеслава, но не будет принадлежать ему», – запишет в дневнике, когда оба в конце концов переселятся в квартиру Ивановых. Но через несколько дней, вернувшись из Москвы, вдруг не найдет жены в своей комнате. «Мне обидно и больно, как ребенку, – запишет, – что меня не встретили, не ждали. Мне хотелось видеть ее, говорить только с ней…» Потом – новая запись: «В мою комнату вошла Лидия и удивилась, что я приехал. Я пошел в ее комнату, где спала Аморя. Она уже встала и была в красном хитоне, который был мне чужд. Я не мог при Лидии ничего сказать ей, но когда мы ушли в нашу комнату, я почувствовал, что вся тоска моя снесена волной счастья… Я чувствовал рядом с собой это милое детское лицо, эти ласковые руки». «Макс, он мой учитель, – сказала ему Аморя о Вячеславе. – Я пойду за ним всюду и исполню всё, что он потребует. Макс, я тебя никогда так не любила, как теперь. Но я отдалась ему. Совсем отдалась. Понимаешь? Тебе больно? Мне не страшно тебе делать больно… Он, может быть, единственный человек, вполне человек…» И она медленно крестила Волошина. «Значит, ты уже не будешь моей», – сказал он. «Она опустила голову и заплакала… Я не мог отличить, плачет она или смеется. Мы долго целовали и крестили друг друга. Потом потушили лампу и заснули. Когда скрипнула дверь и вернулся Вячеслав, Аморя накинула шубу на рубашку и ушла. Я зажег лампу и стал читать. Мне не было ни грустно, ни радостно. Я был совершенно спокоен и равнодушен и с интересом читал о динозаврах…» Он не знал, что Вячеслав, «златокудрый маг», упрекал в это время Аморю в трусости, в том, что она не может любить до конца. «Он даже бил меня, – признается она, но добавит: – Мне было сладко, когда он бил…» Может, после этих слов Макс, прихватив нож, и ринется к Вячеславу. «Он спал, – запишет в дневнике. – Я сел на постель, и, когда посмотрел на его милое, родное лицо, боль начала утихать. Я поцеловал его руку, лежавшую на одеяле, и, взяв за плечи, долго целовал его голову. “Макс, ты не думай про меня дурно, – сказал проснувшийся Вячеслав. – Ничего, что не будет свято, я не сделаю. Маргарита для меня цель, а не средство…”»
Лукавая «Башня», лукавые люди. «Поскольку вино налито, – убеждали себя, – надо его выпить… Бог налил нам нашего вина. Вот и всё!..»
Конец «браку втроем» положит смерть Лидии от скарлатины. Вячеслав женится вновь, но не на Аморе – на юной падчерице своей. Аморя, которая уже десять раз предала Волошина, одиноко жившего в каких-то меблирашках «Эрмитаж» (С.-Петербург, Невский пр., 73), поспешила, конечно, на «Башню», но… «Я не узнала Вячеслава, – напишет. – Он был в чьей-то чуждой власти…» Злые языки посмеются: «место» было занято уже. Она уйдет в живопись, будет рисовать Зайцева, Бердяева, актера Чехова, Андрея Белого, даже (по фотографиям) – Ленина. «На заказ». Революцию вроде бы не примет, но – вот уж факт так факт! – в апреле 1917-го возвратилась в Россию в тех же бронированных вагонах, что и Ленин с отобранными, «штучными» большевиками. Те взяли ее с собой вроде бы потому, что она имела… «заслуги перед рабочим классом». Какие – не сообщается… Кстати, тогда же, после революции, напишет портрет и Вячеслава Иванова. «Эта новая встреча не была встречей, – скажет. – Как куча пепла походит на пламя, так этот Иванов походил на прежнего…» И почти сразу навсегда уедет в эмиграцию… Но если уж говорить о пламени и пепле, то ведь именно Волошин, как никто, умел раздувать в людях огонь. Так скажет о нем Анатолий Федорович Кони, адвокат. «Встретит человека – человека нет, один пепел. Он подует – уголек затеплится. А дальше – смотришь, какой там уголек, пламя, костер!..»
Нарочно не придумаешь, да? Человек, раздувающий пламя! Через год (и на «Башне», представьте!) он раздует такой костер, что языки его опалят сам Серебряный век. А в центре его окажется дама, которой он придумает чудное имя и с помощью его начнет мистифицировать Петербург. Опять невинная шутка? Да! Но дело дойдет до дуэли. К счастью, бескровной. Правда, один, и очень крупный, поэт из-за этой истории и погибнет.
Смерть… от осечки
«Первая задача поэта – выдумать себя», – сказал как-то Иннокентий Анненский, тот самый крупный поэт ХХ века. Увы, внимавшие ему поэты, и более других Волошин, кажется, поймут его призыв слишком буквально.
Всё началось с того, что Волошин на одном из вернисажей познакомил Николая Гумилева с юной поэтессой Елизаветой Дмитриевой. Втроем поехали в «Вену», в модный ресторан, где Гумилев стал вещать об Африке, куда рвался. «Я тогда сказала очень серьезно: “Не надо убивать крокодилов”…», – вспомнит она. Гумилев отвел в сторону Волошина и спросил: «Она всегда так говорит?» – «Да, всегда». «Эта глупая фраза, – пишет Дмитриева, – повернула ко мне Гумилева. Он поехал меня провожать, и… мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это… “встреча”, и не нам ей противиться…» Пишет, что Гумилев не раз звал ее замуж, но ей хотелось мучить его. «Он ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал мне край платья». А позже, на свою беду, увез ее в Коктебель, в дом к Волошину. Там-то Лиля, как стал звать ее Гумилев, и поняла: самая большая любовь ее, «недосягаемая», был Волошин. А когда и Макс объяснился в любви, легко оставила Гумилева и – «до сентября жила лучшие дни жизни». Вот тогда и родилась Черубина де Габриак…
Лиле было двадцать два. Немецкий поэт Гюнтер, живший в Петербурге, писал: «Она была скорее маленькая, довольно полная, но грациозная и хорошо сложена. Рот был слишком велик, зубы выступали вперед, но губы красивые. Не была хороша… и флюиды, исходившие от нее, сегодня, вероятно, назвали бы “сексом”». Работала учительницей, жила с матерью, старшим братом и сестрой на Васильевском, сначала на Малом проспекте (С.-Петербург, Малый пр-т В.О., 15), потом – на 6-й линии (С.-Петербург, 6-я линия В.О., 41). Брат, страдавший падучей, в детстве заставлял ее просить милостыню, но полученные деньги выбрасывал: «стыдно было» ему, дворянину. Сестра же требовала приносить в жертву огню самое любимое, и они жгли игрушки. Когда нечего было жечь, бросили в печь щенка, его еле спасли взрослые. У Лили – костный туберкулез, хромота. «Раз ты хромая, – смеялись дети, – у тебя должны быть хромые игрушки», – и отламывали ноги у ее кукол. Восемь лет не вставала с постели, на год теряла зрение. В тринадцать ее изнасилует любовник матери. Жуткая, страшная жизнь. Но гимназию окончит с медалью, а стихи станет писать как раз с тринадцати. Но именно стихи ее и отвергнет Сергей Маковский, редактор только что созданного изысканного журнала «Аполлон». Тогда-то и явится миру Черубина де Габриак. Просто в «Аполлон» придет вдруг письмо со стихами от некой дамы, подписанное буквой Ч. В стихах незнакомка как бы невзначай сообщала и о «своей пленительной внешности, и о своей участи – загадочной и печальной». «Адреса для ответа не было, – вспоминал Маковский, – но вскоре сама поэтесса позвонила по телефону. Голос у нее оказался удивительным: никогда, кажется, не слышал я более обвораживающего голоса». Короче, Гумилев, Волошин, Кузмин, вся редакция решает: стихи печатать. Когда же открылось, что Черубина – испанка, что ей восемнадцать, что отец у нее – деспот, а духовник – строгий иезуит, чуть ли не все поэты влюбились в нее. Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзины роз. Художник Сомов предлагал ездить к ней с повязкой на глазах, чтобы рисовать ее. «Где собирались трое, там речь заходила только о ней». Потом и город раскололся: за и против. Желчный Буренин из «Нового времени» обозвал ее «Акулиной де Писаньяк». Но особо злобствовала хромая поэтесса Дмитриева, у которой в снятой ею квартире там же, на Васильевском (С.-Петербург, 7-я линия, 62), собирались к вечернему чаю аполлоновские поэты. Она даже смеялась, что «их Черубина» уж наверное безобразна, иначе давно показалась бы своим «тающим от восторга почитателям».
Надо ли говорить, что всё это придумал Волошин. Имя взял из романа Брет-Гарта, фамилию – от корня виноградной лозы, похожего на человечка, которого прозвал когда-то Габриахом. Но первым узнал тайну Черубины, кажется, тот же Гюнтер. Она сама призналась ему.
Из воспоминаний Иоганнеса фон Гюнтера: «Когда, перед ее домом, я помогал ей сойти с извозчика и хотел попрощаться, она вдруг сказала, что хотела бы немного пройтись… Рассказала, что летом у Макса познакомилась с Гумилевым. Я насторожился. У нее, значит, было что-то и с Гумилевым – любвеобильная особа!.. “И теперь вы преследуете своим сарказмом Черубину… потому что ваши друзья, Макс и Гумилев, влюбились в эту испанку?” Она остановилась. Я с удивлением заметил, что она тяжело дышит. “Сказать вам?” Я молчал. Она схватила меня за руку. “Обещаете, что никому не скажете?” – спросила она, запинаясь. Помолчав, она, дрожа от возбуждения, снова сказала: “Я скажу вам, но вы должны об этом молчать. Обещаете?..” Она отступила на шаг, решительно подняла голову и почти выдавила: “Я – Черубина де Габриак!” Отпустила мою руку, посмотрела внимательно и повторила, теперь тихо и почти нежно: “Я – Черубина де Габриак”. Безразлично-любезная улыбка на моем лице застыла. Что она сказала? Что она – Черубина де Габриак, в которую влюблены все русские поэты? Она лжет, чтобы придать себе значительности! “Вы не верите? А если я докажу?” Я холодно улыбнулся. “Вы же знаете, что Черубина каждый день звонит в редакцию… Завтра я позвоню и спрошу о вас…”»
Назавтра именно так и случилось. Потом будет подстроенная Гюнтером встреча Лили с Гумилевым на квартире у Лилиной подруги (С.-Петербург, Ординарная ул., 18). Там Гумилев, который, хоть и звал Лилю замуж, бросит ей при свидетелях: «Вы были моей любовницей. На таких не женятся!..» Потом Гюнтер сообщит об этом Волошину. Что тут правда, что – нет, уже и не разобрать. Известно лишь, что через день наш «мирный увалень» Волошин даст в Мариинском театре звонкую пощечину Гумилеву, что не могло не стать поводом к дуэли – может, самой громкой дуэли Серебряного века…
Стрелялись на Черной речке, где дрался и Пушкин. Гумилев требовал биться в пяти шагах, до смерти одного из них. Сошлись на пятнадцати. «Когда я стал отсчитывать шаги, – пишет Алексей Толстой, секундант, – Гумилев… просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил шаги… и начал заряжать пистолеты. Гумилеву понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Он взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоящего, расставив ноги. Я в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил: “Я приехал драться, а не мириться”. Тогда я начал громко считать: раз, два… три! У Гумилева блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: “Я требую, чтобы этот господин стрелял”. В. проговорил в волнении: “У меня была осечка”. “Пускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Гумилев, – я требую этого…” В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал стоять. “Я требую третьего выстрела…” Мы отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям…»
Так закончилась эта «игра». Так Волошин навсегда ввел в поэзию Черубину. Но мораль очевидна: не раздувай угольков чужого честолюбия.
«Рыцарем без страха и упрека» назовут его сторонники, но большинство – отвернется. Гумилев, например, сказав о дуэли Ахматовой, мгновенно получил от нее согласие на брак, хотя до того четыре раза слышал отказы. А Волошин, напротив, когда позовет замуж Черубину, получит отказ. Она напишет ему: «Я никогда не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя…» Позже добавит: «Это мое последнее письмо, от тебя больше не надо ни слова. Ты дал мне много-много радости. Дай ее еще кому-нибудь…»
Она выйдет за профессора медицины, переедет сначала на окраину (С.-Петербург, ул. Старорусская, 5), а потом, напротив, – в самый центр города (С.-Петербург, Английская наб., 74), никогда не сможет уже читать стихов Гумилева (будут мешать слезы), начнет писать пьесы, книги, а после 1917 года будет трижды арестована и умрет в ссылке. Арестуют «за антропософию» – она станет «гарантом» первого Антропософского общества в России. На открытие «штаб-квартиры» общества в Могильцевском переулке (Москва, Большой Могильцевский пер., 7) в сентябре 1913 года поспешит специально даже Маргарита Сабашникова. Там, в Могильцевском, и встретятся две дорогие Волошину женщины, две любви его. Но самого его, кстати, Лиля предаст. Когда уже он захочет вступить в «антропософы», она – «гарант» – откажется поручиться за него. Макс простит ей и это и будет писать ей письма, пока она будет жить. Он переживет ее на четыре года, она умрет где-то в Средней Азии от рака. Но вот факт: на столе ее после смерти найдут последний, но незаконченный стих: «Нет вещи на земле прекраснее, чем я. // Ведь красота сама – Господь влюблен в меня…» Тут уж не «уголек» самовлюбленности, который раздул в ней Волошин, – пламя, поднявшееся чуть ли не до небес…
А что же Анненский и его призыв «выдумывать себя»? Так вот, он, «высокий, прямой старик с головой Дон Кихота», умрет в Петербурге на ступенях Витебского вокзала. «Упал мертвым в запахнутой шубе», – напишет его сын. Считается, что умер из-за Черубины. Двенадцать ее стихов вместо его подборки тиснул в «Аполлоне» влюбленный в нее Маковский. Анненский порвет с ним. И вдруг после этого узна́ет про розыгрыш, про пощечину, про дуэль. Какое сердце выдержит это? Словом, «выдумка», к которой он звал поэтов, победила жизнь. Его жизнь. Бескровная дуэль Волошина и Гумилева рикошетом убила третьего поэта – общего учителя их.
«Обормотская пастушка»
Этот дом со львами у входа и ныне цел (Москва, ул. Малая Молчановка, 8). Кого здесь только не было! Писатели, художники, актеры. И всех их, по слову Алексея Толстого, прозвали «обормотами». «Обормотник» – так этот дом и вошел уже в историю нашей литературы.
«Тяжелые двери, а справа и слева по огромному льву. Мы, три актрисы Камерного, – пишет участница шабашей, – усталые после спектакля, пружинисто идем по ковру к лифту». На седьмом этаже, где жили они, обитали пианистка, учительница, один профессор, две сестры мужа Цветаевой и – Елена Оттобальдовна, мать Волошина. Ее звали Пра, «праматерь». А за глаза – «обормотской пастушкой». Членами «Ордена обормотов» стали Цветаева, ее сестра Ася, ее муж Сергей, а кроме того Фальк, Сарьян, Лентулов, какие-то филологи, чтецы – все, кто забегал сюда. За стульями, когда сходились на кухне, кидались как угорелые, боясь пропустить и новости, и остроты. Лишь Пра сидела в единственном старом кресле, но, покуривая тонкую папиросу в янтарном мундштуке, тоже громко, по-молодому хохотала. Особенно смешил всех Сережа, муж Цветаевой. Он учился на актера в Камерном театре, и его что ни день просто распирало от пикантных историй. Его прозвали тут «Какахилом», ибо в спектакле у Таирова ему никак не давалась реплика «Ах, коль сейчас не подкрепят мне силы, я удалюсь в палатку, как Ахилл». Впрочем, для смеха и повода было не надо. Здесь, и в Кривоколенном переулке, где Волошины жили раньше (Москва, Кривоколенный пер., 4), и особо, разумеется, в Коктебеле, куда все уезжали на лето, были бесконечны обманы, обряды, мистические танцы, магические действия. Всё, что зовут «черти в свайку играют». «Это было лучшим из всех моих взрослых лет», – напишет об этом времени Цветаева. И все в этом ежедневном веселье словно забыли: так смеются только перед очень большой бедой…
Первой бедой стала Первая мировая. Макс в самый канун ее как раз собрался на Запад. И по дороге – разве не символ? – государства, которые проезжал, одно за другим вступали в бойню. Будто стоило ему, парламентеру любви, покинуть ту или иную территорию, как людей скопом покидал разум и в мгновение ока под ними взрывалась сама земля.
«Едешь. Думаешь лучше стать – не станешь. Ты весь ложь и трус, – крикнула ему мать. – И не пиши мне. Ты для меня не существуешь…» Макс уезжал, скорей – убегал на Запад фактически от нее. Полный разрыв. Они даже не простились. Через годы, пережив ужасы войн и революций, он горько признается: «Самое тяжелое в жизни: отношения с матерью. Тяжелее, чем террор…» Невероятно! Что же произошло между ними? И не эта ли тайна жила в его, как пишут, никогда не улыбавшихся глазах?..
Пра, Елена Оттобальдовна, властная женщина с орлиным профилем, родом из обрусевших немцев, работница телеграфа, а потом служащая на железной дороге, была, конечно, слишком оригинальна. Ходила в штанах, которые тогда носили лишь велосипедистки. Осанка, лицо старого Гёте, самокрутка в серебряном мундштуке, казанские сапожки. В четыре года ее брал на колени сам Шамиль, великий чеченец, доживавший дни в Калуге, – она напоминала ему его сына. Любила скакать на лошадях, спорить по любому поводу. От мужа ушла, когда сыну исполнилось два года. Но и ревновала сына безгранично. Он вспомнит потом, что в детстве его была какая-то ссора с ней, со скандалом, обвинениями, что он взял какую-то серебряную спичечницу, что больше-де некому. С этого мгновения, с шести лет, «все любовные отношения» между ребенком и матерью исчезли. Мать – «его крест, – напишет учительница Макса, с которой он дружил, – жизнь с нею – пытка…» Когда Максу исполнится восемнадцать, Пра скажет: женись, пуговиц пришивать тебе больше не буду. И он всё станет делать сам. Он даже на «ты» перейдет с матерью, когда ему стукнет тридцать шесть. И если в детстве она звала друзей сына бить его, то когда в него, уже пожилого, влюбится одна юная дева, Пра скажет ей: «Ну зачем вы его выбрали? Толстый, с проседью! Любить никого не может…» А когда грянет военная мобилизация, кивая на мужа Цветаевой, упрекнет: «Вот мужчина! Война – дерется. А ты?..» – «Мама, не могу я стрелять в людей потому, что они думают иначе». – «Думают, думают… Есть времена, когда нужно не думая – делать». – «Такие времена, мама, – ответит он, – всегда у зверей…» И не пойдет в солдаты. Дерзко напишет военному министру: «Лучше быть убитым, чем убивать…»
Из письма Волошина – военному министру Д.С.Шуваеву:
«Я отказываюсь быть солдатом, как европеец, как художник, как поэт… Я преклоняюсь перед святостью жертв, гибнувших на войне, – и в то же время считаю, что для меня, от которого не скрыт ее космический моральный смысл, участие в ней было бы преступлением. Я знаю, что своим отказом от военной службы в военное время я совершаю тяжкое и сурово караемое преступление, но я совершаю его в здравом уме и твердой памяти, готовый принять все его последствия…»
Трусом вообще-то не был, нет. «Был беспредельно смелым, – скажет его друг. – Но это не была внешняя смелость». Просто он, «шар шара», вечно «круглил» с людьми. «Брюсов “углил”, – проницательно заметит Андрей Белый, – а Волошин “круглил”» – спрямлял углы между соперниками. Ведь вражда, как и дружба, считал Макс, требует взаимности, оба врага должны воспылать ненавистью. Так вот, он согласия «на вражду» не давал и этим разоружал любого. Он, по Цветаевой, был что солнце, светящее всем. «Ты не понимаешь, Марина, – говорил ей про очередного обидчика ее. – Это совсем другой человек, чем ты. И по-своему он прав – так же, как ты – по-своему». «Вот это, – пишет она, – было первоосновой… Не двоедушие, а воедушие…» И добавляет: не став ни на одну сторону, он невольно был осуждаем обеими. Так что, когда грянула революция, а потом и война гражданская, новые беды, он спасал не красных и не белых, нет: любого человека – от любой «своры людской»…
Революцию не примет. Умная женщина Рашель Мироновна Хин-Гольдовская, писательница, с которой дружила и к которой забегала вся поэтическая компания (Москва, Староконюшенный пер., 25), запишет в дневнике: «Забегал Бальмонт. Он в экстазе… Не человек, а пламень. Говорит: “Россия показала миру пример бескровной революции”. Мрачный Максимилиан на это возразил: “Подождите! Революции, начинающиеся бескровно, обыкновенно оказываются самыми кровавыми…”»
Да, Волошин про революцию поймет всё и – сразу: «Мы стоим на пороге Великой Разрухи», – запишет, но помогать при всём при том будет всем. Газеты будет звать его псом, скулящим «из подворотни на нашу революцию». А он, представьте, дважды откажется от эмиграции. Первый раз его звал уехать Алексей Толстой. Волошин ответил: «Когда мать больна, дети ее остаются с нею». Второй раз остался, когда на Крым надвигался Фрунзе – красная лава красных войск. Остался «спасать людей». «Кряжистый мужик, Кашалот, Приап», по словам Бунина, он (в отложном воротничке, в коротких штанах, застегнутых, как у детей, на пуговки под коленками, в пенсне и сандалиях на босу ногу) был «необыкновенен на площади, забитой деникинскими офицерами, греческими и итальянскими матросами, суетливыми спекулянтами и испуганными беженцами с севера…» Таким и спасал людей. Позже вдохновитель большевистского террора в Крыму Бела Кун, поселившись, говорят, в доме Волошина, по какому-то капризу стал давать ему расстрельные списки, «разрешая вычеркивать одного из десяти». Волошин и вычеркивал, ибо уже видел в Феодосии, как деловито убивал людей начальник местной ЧК – «палач-джентльмен». «Очень вежливый. Все делает собственноручно, без помощников. Если пациент протестует… отвечает: “Простите, товарищ. Мне некогда. Будьте добры, разденьтесь и лягте. Я вас сперва разменяю, а потом вы будете разговаривать”. Сам обходит лежащих носом в землю и каждому аккуратно пускает пулю в затылок…» Вот от таких – спасал. Спас Мандельштама (вытащил из тюрьмы белых), спас от расстрела поэтессу Кузьмину-Караваеву, ту, которая станет в Париже знаменитой матерью Марией, помог поэтессе Майе Кудашевой, будущей жене Ромена Роллана, и умиравшему в Ялте Недоброво – поэту и другу Ахматовой. Его хватало на всех. В Одессе взялся подсобить красным в подготовке к Первому мая. Бунин вспоминал: Волошин загорелся. «Хорошо, например, натянуть над улицами полотнища, расписанные ромбами, конусами, цитатами. Я, – пишет Бунин, – напоминаю, в городе нет воды, хлеба, идут облавы, обыски, расстрелы по ночам… Он в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине сокрыт страждущий Серафим. Побежал… А на другой день в одесских “Известиях” слова: “К нам лезет Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться”…» Форменная оплеуха. Но поэт – неисправим. Не дает «согласия на вражду» и уверяет того же Бунина, что уж у одесского председателя ЧК – «кристальная душа, он многих спасет!» «Мы отдали – и этим богаты», – эту фразу Волошин повторял со времен дуэли с Гумилевым. Когда спрашивали, отвечал: он за революцию, но – за революцию духа. И побеждать в этом мире надо не кого-то – себя. Когда одна девушка спросила, к какому крылу, красному или белому, его отнести, он ответил: «Я летаю на двух крыльях». И летал – вообразите…
Всех спас, но не мать, «обормотскую пастушку» с орлиным профилем. Она умрет в Коктебеле, в «горькой купели» их. Не помогут и любимые ею орлы. Волошин пишет, что в голод она «ела орлов, которых старуха Антонида ловила для нее на Карадаге». Накрывала их юбкой и – ловила. Но меня поразило не это и не то, что во время погребения над могилой ее низко-низко «чертил круги» именно орел. Поразило, что она, как напишет Волошин, и в гробу будто прятала в губах «торжествующую усмешку». Ему показалось – над ним торжествующую…
«О всех и за вся…»
Вторую жену он подберет на пыльной дороге. «Она была маленькая, стриженная после тифа и производила впечатление больной “вертуном” овцы, – пишет Волошин. – Когда я спросил Асю Цветаеву: “А кто это?”, она ответила: “Так – акушерка какая-то”… Это была, – заканчивает он, – моя первая встреча с Марусей». Вторая встреча случится через три года как раз на дороге к Коктебелю. Там, в канаве, валялся труп убитой собаки, а над ним в голос ревела женщина. «Марсик, – завывала, – Марсик, любимый мой!..» 1922-й. В Крыму голод. Едят людей, а лошадей и бродячих собак – и подавно. Забиты морги, по детям, ворующим из вагонов кукурузу из Америки, охрана стреляет без предупреждения, а тут… истерика из-за пса! Но это было, и с этой встречи Макс и Маруся не расстанутся уже никогда.
Маруся – это Мария Заболоцкая. Фельдшерица. Она приехала в Крым на эпидемию холеры, да так и застряла. Тоже, если хотите, парламентер любви! «Зачем тебе я? – спросит она поэта. – Я ведь ершистая. Я только Маруська нелепая…» Не ершистая, ласково поправит он, «пламенная». «Юродивая. Самозабвенная, – сообщит о ней своей знакомой. – Раздает и деньги, и вещи, и себя на все стороны…» Напишет о ней даже Сабашниковой.
Из письма Волошина – Маргарите Сабашниковой: « Хронологически ей 34 года, духовно 14. Лицом похожа на деревенского мальчишку этого же возраста (но иногда и на пожилую акушерку или салопницу). Не пишет стихов и не имеет талантов. Добра и вспыльчива. Очень хорошая хозяйка, если не считать того, что может все запасы и припасы подарить первому встречному. Способна на улице ввязываться в драку с мальчишками и выступать против разъяренных казаков и солдат единолично. Ей перерубали кости, судили в Народных трибуналах, она тонула, умирала ото всех тифов. Она медичка, но не кончила, т.к. ушла сперва на германскую, потом на гражданскую войну. Глубоко по-православному религиозна. Арифметике и грамматике ее учил Н.К.Михайловский (критик)… Ее любовь для меня величайшее счастье и радость…»
Они должны были встретиться, непременно должны. Но, «подобрав» ее на дороге, Волошин не знал еще, что в прошлом она была знакома с самим Горьким, что Чехов лично читал ей когда-то «Каштанку» и сама Комиссаржевская присылала ей, четырнадцатилетней девчонке, подарки из-за границы. Просто от нужды и унижений она, сирота, живя у дяди в трущобном районе столицы (С.-Петербург, Обводный кан., 56), в десять лет от полной беспросветности выпила однажды сулемы. Травилась от жизни. По счастью, случай попал в газеты и ее спасал весь, еще дореволюционный, Петербург. Ее взяли на воспитание две сестры, две учительницы. Отмыли, одели, поселили у себя на Троицкой (С.-Петербург, ул. Рубинштейна, 24). Потом – лучшая гимназия, знакомство с известной издательницей, у которой бывали и Чехов, и Горький, и Станиславский с Лилиной, потом Бестужевские курсы и, наконец, – медицинский институт. Но это, повторяю, было до революции, позже о ней, как водится, забыли. А вот она не забыла добра и, несмотря на колючий характер свой, всю жизнь как бы возвращала людям его. Платила по счетам совсем как Макс.
Да, Волошин и Заболоцкая не могли не встретиться. Он когда-то на вопрос «Что такое счастье?» ответил: «Владеть толпой». Но и она ведь, сказав, что в институте ее звали «живой протест», вдруг выпалит: «Меня любили ребята. Я могу зажечь толпу…» Неудивительно, что они, близнецы духа, проживут в трогательной любви целых десять лет, до смерти поэта. Он будет рисовать свои акварельки и писать стихи («контрреволюцию», конечно). А она будет при нем «и кухарка, и прачка, и доктор». Но, главное, в их отношениях не будет той «путаницы», от которой страдала его душа..
Казалось бы, где Волошин и где – «Маруська нелепая»? Интеллектуал и почти tabula rasa, кладезь мировой культуры и – фельдшерица; тончайший духовный инструмент, извлекающий бесподобные звуки, и, пардон, конечно, – неоструганная табуретка рядом. Но если специалистов по Волошину интересует мое мнение, то скажу: в их отношениях, точнее, в ней, не было ни грана того изощренного лукавства духовной «элиты», от которого он, прямой по сути человек, не только мучился всю жизнь, но которое с годами легко научился распознавать. Белое в Заболоцкой было белым, а не «как бы белым», доброта была добротой, а не оправданием собственного эгоизма, а правда – правдой, а не демагогическим приемом в «философском» якобы споре. Он только не сразу убедился, что и новая власть, звавшая себя «высшей справедливостью», как и всякая власть, в глубине своей столь же лукава и хитра, как и знакомые ему по жизни «духовные тусовки»…
В книге о Серебряном веке Петербурга я уже писал, что, приехав в Москву, Волошин однажды осмелился самому Каменеву в Кремле прочесть свои «контрреволюционные» стихи. И Каменев не просто слушал – хвалил стихи, восторгался и как бы не замечал содержания их. Потом эффектно начертал записку в Госиздат, что всецело поддерживает просьбу Волошина об издании этих стихов. Но стоило поэту уйти, Каменев вызвал по телефону Госиздат и, не стесняясь присутствующих, сказал в трубку: «К вам придет Волошин с моей запиской. Не придавайте этой записке никакого значения…» Александр Бенуа, узнав, какие стихи читал в Кремле Волошин, просто ахнул: «Как же так? Да вас расстрелять могут!» Наивный поэт улыбнулся: «Нет, ничего! Даже благодарили». Вот «благодарностью» этой ему и забьют рот до самой смерти…
В тот год, остановившись с Марусей в Москве, кажется, у Сергея Шервинского, поэта и переводчика (Москва, Померанцев пер., 8), Волошин навестил друзей: Георгия Шенгели (Москва, Борисоглебский пер., 15), Вересаева (Москва, Шубинский пер., 2/3), братьев Горнунгов (Москва, Садовническая наб., 1), философа Густава Шпета, тот жил тогда еще на Долгоруковской (Москва, ул. Долгоруковская, 17), сестру мужа Цветаевой Веру Эфрон в Нащокинском (Москва, Нащокинский пер., 6), старую знакомую по Крыму писательницу Софью Федорченко, которую последний секретарь Льва Толстого В.Ф.Булгаков пустил жить, пусть и в подвал, но в дом-музей великого классика (Москва, ул. Пречистенка, 11), а также давнего приятеля – профессора-санскритолога, филолога-экспериментатора А.М.Пешковского (Москва, ул. Сивцев Вражек, 35).
Были и в Петербурге, вернее, в Ленинграде уже. Жили у Лидии Аренс, близкой знакомой (С.-Петербург, Невский пр-т, 84); навещали парижскую еще подругу Волошина Лизу Кругликову (С.-Петербург, пл. Островского, 9); читали стихи и даже пели (Заболоцкая чудесно исполняла народные песни) у Корнея Чуковского (С.-Петербург, Манежный пер., 6); ходили в гости к художнику Евгению Лансере (С.-Петербург, ул. Глинки, 15); к знаменитому адвокату и писателю Кони (С.-Петербург, ул. Маяковского, 3); к поэтессе Марии Шкапской на улицу Широкую (С.-Петербург, ул. Ленина, 11). А однажды, в 1924-м еще, поселились тоже на Невском, но в квартире некоего Карла Ивановича Бернгарда, знакомого Маруси и в прошлом – владельца фабрики музыкальных инструментов и «депо роялей» – магазина по продаже их. В этом-то «депо», где сплошь стояли трехногие рояли, Бернгард и пристроил жить (С.-Петербург, Невский пр-т, 59) и наш, образно говоря, «рояль», и нашу «табуретку» – рядом.
Из воспоминаний Марии Заболоцкой: «Макс долго не ложился спать, сидел в кресле перед окном, смотрел на Невский. “Макс, отчего ты не ложишься? Ведь поздно”. – “Я не могу, Маруся, здесь лечь спать. Я не могу раздеваться при них”. – “Какие глупости, ложись!” – “Не могу я раздеться в присутствии рояля! Нет, нет, ни за что не разденусь. Ты представь себе: они стояли в концертных залах, за ними сидели прекрасно одетые люди, они так прекрасно и благозвучно звучали. Посмотри, какие они строгие и нарядные”. – “Ну, Масенька, перестань. Это Бог знает что такое!” – “Нет, нет, Маруся. Я не шучу… Я не могу раздеться”… Так… и просидел всю ночь у окна. Это не было оригинальничанием… Живое и моральное отношение к вещам…»
В этот приезд – уж не потому ли и не ложился «при роялях»? – ему нужно было решить вопрос посложней: «ложиться», грубо говоря, или нет под новую, набирающую силу власть. Елизавета Полонская, поэтесса, видевшая его в доме у Шкапской, как-то коротко, впроброс, сообщает: ему только что отказали в издании книги – «а он, якобы, приезжал за этим…»
Ни строки не напечатают ни при жизни, ни десятилетия спустя. Какие сборники, когда почти накануне печать дважды «выстрелила» в него. Сначала «Правда» в статье «Диктатура, где твой хлыст?» назвала его «бесцветным подголоском» буржуазного искусства. А позже, через четыре месяца, Б.Таль, будущий редактор «Правды», тиснул статью, которую без обиняков назвал уже «Поэтическая контрреволюция в стихах М.Волошина». Самого поэта заклеймил при этом «последовательным, горячим… контрреволюционером-монархистом». Что стихи его, если в Ленинграде, уже в 1929-м, когда художники решат устроить выставку невинных пейзажиков его, ему не разрешат даже этого. Из 700 отобранных акварелей вернут Волошину только 450 работ. Остальные украдут. «Пламенная» Маруся будет рвать и метать, а Макс спокойно заметит: «Не огорчайся, в ближайшие десять лет мы их увидим на стенах у наших друзей…»
Ни власти, ни ее «идеологии» наш парламентер уже не признавал. В Коктебеле из-за марксизма, представьте, при всех поссорился с Андреем Белым; у того, пишет свидетель, марксизм каким-то таинственным образом уживался в уме с антропософией. С Белым кое-как помирятся, хотя тот больше ни разу не приедет в Коктебель. А вот с «марксизмом» всё будет хуже. Заболоцкая и после смерти Макса всем будет показывать палку поэта с отбитой ручкой. У него было много палок, с которыми он карабкался по горам. Но у одной, любимой, было отколота ручка. «Ее отбил Макс в бешенстве, ударив об конторку… когда узнал, что Союз писателей, которому Макс подарил дом, отдал его в аренду на 10 лет Партиздату»… «Партизанам», как назвал их Волошин. После обмена телеграммами он даже крикнул: «Я их вызову на дуэль, как они смеют! Я им подарил, а они сдают в аренду…» Потом приехала какая-то Сулимова, от Партиздата, которая была женой секретаря Сталина. Началось мощное давление, которое кончилось тем, что она прислала Марусе телеграмму: «Беру вас заведующим домом приобретите необходимую мебель на 40 человек». Маруся, конечно, взорвалась, она ведь хозяйка дома, а Макс, успокаивая ее, вдруг сказал: «Тебе дома, что ли, жалко? Ну, отнимут его у нас – так это нас с тобою освободит только… Возьмем котомки и пойдем ходить по России, как мы с тобой мечтали!..»
Коля Чуковский, сын Корнея Ивановича, пишет, что Макс в эти годы часто вспоминал Гумилева. Коля, правоверный коммунист, написавший злые, почти издевательские воспоминания о Волошине, назвавший его навсегда «отставшим» от «крепнувшей молодой советской литературы», не знал, не мог знать, что и дуэль Гумилева, и его расстрел Волошин вспомнит, но позже и – в интимном дневнике. Оказывается, он, вечный «миротворец», незадолго до смерти готов был, как когда-то с Гумилевым, снова встать к барьеру для поединка, но не с человеком – с властью, с жестоким государством. Когда после инсульта, уже в 1931 году, Волошин задумается вдруг о самоубийстве, то запишет: «Смерть, исчезновение – не страшны. Но как это будет принято оставшимися – эта мысль неприятна. Лучше “расстреляться” по примеру Гумилева. Написать несколько стихотворений о текущем. О России по существу. Они распространятся в рукописях. Пока никому об этом не говорить. Но стихи начать писать…» Разве это не предсмертный вызов «парламентера любви» надвигающейся лаве равнодушия и молчания?..
Оба – Макс и Маруся – будут в Коктебеле до конца. Летом станут принимать друзей: писателей, ученых, поэтов (до пятисот человек порой) – такой вот, по его словам, «волхоз» – Волшебное, Вольное, Волошинское хозяйство. А зимы – коротать вдвоем. «Нам стыдно, что нам так хорошо, – признается Заболоцкая в письме к Остроумовой-Лебедевой, художнице. – Бывают дни как Божья улыбка: тихие, тихие…» И все десять последних лет в новогоднюю ночь поэт, запалив свечу, будет выходить к морю молиться. За людей. «О всех и за вся» молиться, – напишет Маруся. Ну и за нее, посланную ему судьбой. Она похоронит его в 1932-м. А через четверть века, став хранительницей музея его, будет упрямо твердить, что его не только «разрешат», но он станет всесветно известным поэтом. И будет рассказывать, как в новогоднюю ночь он всякий раз шел молиться к морю. Библейская вообще-то картина! Ночь, звезды, прибой, одинокая фигура в балахоне и рука, прячущая от ветра пламя свечи.
«Я – огонь», – написал как-то в стихах. Как и Белый когда-то. Сам раздул в себе уголек, от которого зажигались люди. Но мало кто знает, что «огонь» умер, представьте, от жажды. Отказали почки, и врачи запретили Волошину пить воду. Когда перед смертью ему дали глоток воды на ложке, он вдруг спросил: «Что это?» Вода, сказали. «Вода? – переспросил. И выдохнул: – Какие прекрасные вещи есть на свете. Вода…» Последние слова поэта…
«В жизни – всё символ!» – любил повторять он. В молодости, таская Цветаеву по горам Крыма, учил ее: лучшее спасение от жажды – камень во рту. Он так и лазал по скалам: балахон, сандалии, палка в руках и камень во рту. Но если всё и впрямь символ – то умер он, образно говоря, как раз с камнем во рту – с забитой глоткой. Ведь ни строки его не напечатают и после смерти. Семь десятилетий будут молчать – невероятно! Он, правда, всё равно победит. Напишет в будущее, уже нам: «Теперь я мертв, я стал листами книги, и можешь ты меня перелистать…»
Перелистайте его, перечитайте! В его книгах написано главное: то, что любовь – вечна. А раз так – значит, вечны и парламентеры ее.
«Деревья растут в небо», или Цветаева и пустота
Пригвождена к позорному столбу Славянской совести старинной, С змеею в сердце и с клеймом на лбу, Я утверждаю, что – невинна. Я утверждаю, что во мне покой Причастницы перед причастьем. Что не моя вина, что я с рукой По площадям стою – за счастьем. Пересмотрите всё мое добро, Скажите – или я ослепла? Где золото мое? Где серебро? В моей руке – лишь горстка пепла! И это всё, что лестью и мольбой Я выпросила у счастливых. И это всё, что я возьму с собой В край целований молчаливых. Марина ЦветаеваЦветаева Марина Ивановна (1892–1941) – великий русский поэт. Дочь основателя и собирателя первого в России музея изобразительных искусств И.В.Цветаева. Автор прозаических и драматических произведений, блестящих эссе о поэтах, она, не приняв революции, уехала вслед за мужем в эмиграцию. Через семнадцать лет, вернувшись в Россию, не смирившись с арестами мужа, сестры и дочери, с бедностью и бесконечным одиночеством, – покончила с собой.
«Человеку, в общем-то, нужно не так уж много, – скажет она за три дня до смерти, – всего клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться. Только клочок твердой земли, за который можно зацепиться…» Не зацепилась! Погибла в петле, как раз оттолкнувшись от земли – от земляного пола в деревенских сенях Елабуги…
Из странных, мистических совпадений состояла ее жизнь. Родилась в ночь с субботы на воскресенье, повесилась – в воскресенье днем. Еще в 1919-м написала: «Между воскресеньем и субботой я повисла, птица вербная». Теперь кажется, что и жила на земле не сорок восемь лет – не дольше этих полусуток. От ночи к полдню, от тьмы к свету, от безвестности к славе… Поразительно, но княгиня Шаховская, парижская знакомая ее, вряд ли знавшая час рождения Марины, вдруг скажет: «У нее глаза ночной птицы, ослепленные дневным светом». Увы, после возвращения в СССР ее немеркнущие, «цвета спелого винограда» глаза назовут просто «выплаканными». И не совпадение ли самое кошмарное, что и место, где родилась, – «шоколадный домик» в Трехпрудном, и кладбищенский холм в Елабуге, – не сохранились? Нет их в мире подлунном. И впрямь – не зацепилась! Ни колыбели, ни могилы…
«Чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных», – сказал как-то Фридрих Великий. Великая Марина, едкий мужской ум, скажет иначе: «Чем больше узнаю людей – тем больше люблю деревья!..» Любила дерева, всю жизнь любила. Елку, посаженную в ее честь отцом в Тарусе («моя елка», здоровалась и прощалась с ней), серебристый тополь у дома, где родилась, каштан под окном парижской комнаты, рябину в Голицыне, где кормилась у писательской столовой. «Деревья! К вам иду! Спастись // От рева рыночного! – написала в стихах. – Вашими вымыхами ввысь // Как сердце выдышано!.. // Зеленых отсветов рои, // Как в руки – плещущие… // Простоволосые мои, // Мои трепещущие…» А в прозе еще в юности призналась: «У меня ничего нельзя отнять. Раз внутри – значит мое. И с людьми, как с деревьями…»
Она и сама была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами. И в любом лесу или роще всегда – наособицу…
«За мое перо, – написала незадолго до гибели, – дорого бы дали, если бы оно согласилось обслуживать какую-нибудь одну идею, а не правду: всю правду. Нет… ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, а зато… А зато в мире сейчас – может быть – три поэта, и один из них – я…»
«Мятежница с вихрем в крови…»
Начну с конца. С того, что я – истый поклонник вещных и вечных домов на земле – верю в сумасшедшую, непредставимую пока идею: в то, что когда-нибудь – не завтра, конечно, и даже не послезавтра – но огромный, красный, многоэтажный дом в Трехпрудном в Москве все-таки снесут. Ныне этот «кирпич» очень даже крепок и пригоден для долгой жизни (Москва, Трехпрудный пер., 8). Но его, верю, сровняют и поставят на его месте то, что и было: одноэтажный деревянный домик в семь окон по фасаду, с крыльцом в красно-белые полосы, звонком-колокольчиком и одиннадцатью комнатами, с теплыми кафельными печами. И шторы, попомните, оливковые повесят, и белые с золотом обои поклеят. Таким был дом, где сто двадцать лет назад родилась великая Цветаева. Мы, порушившие это гнездо в 1919-м, сами и восстановим его! Так было с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Блоком, Есениным – их дома мы подымали с нуля. И так будет с Цветаевой, ибо только она, одна она – равновелика им в ХХ веке!..
Цветаева. Из «Записной книжки № 1»: «Я не знаю женщины талантливее себя… Смело могу сказать, что могла бы писать и писала бы, как Пушкин… В детстве – особенно одиннадцати лет – я была вся честолюбие… “Второй Пушкин” или “первый поэт-женщина” – вот чего я заслуживаю и, может быть, дождусь при жизни. Меньшего не надо…»
Знаете ли вы, что в доме, где она родилась, не было электричества? Свечи были, как у Пушкина, керосиновые лампы – как у Блока. Но когда я прочел, что сосед Цветаевых как раз в их дворе, в сарае, держал в те годы корову, я, обомлев, вновь, в который раз уже побежал в Трехпрудный. Зачем? Вообразить, как там, в двух шагах от Пушкинской площади, «пастух с рожком» (именно так!) гнал по утрам к Петровскому парку стадо коров. Буренки на Тверской. Каких-то сто двадцать лет назад. Невероятно!..
Кстати, Марина (уж не оттого ли, что в доме не было электричества) еще ребенком решит вдруг, что это ее глаза «зажигают по Москве фонари». Глянет на них вдоль переулка, и они – вспыхивают. Может, и зажигала. С ней ничему нельзя удивляться. Жила, будто у нее всегда была температура за сорок. Какой там Цельсий или Фаренгейт – сама была мерой житейской магмы: и дел, и чувств, и идей! Ее мать запишет в дневнике, что, когда Мусе (так звали ее в семье) было полтора года, она, если что интересное увидит за окном (да тех же коров), брала голову матери ручонками и поворачивала туда, куда ей было надо. Так всю жизнь (и даже – ныне!) каждым словом «наклоняет» уже нас, вертит властно головами человечества. Чем не миссия поэта?! И всю жизнь – первенствует. Вечно набыченная, упругая, с тощей косицей, она с детства привыкла ни с кем ничего не делить, всем и сразу завладеть (тополем, красивым облаком на небе, лучшей картинкой в книге) и за право это – тыкать кулачком, кусать до крови сестру и драться даже с гувернантками. Вот вам и Муся! Она, дававшая прозвища всем (мать – «пантера», сестра – «мышка»), себя звала, представьте, – «овчаркой».
Овчарка, конечно! Звереныш. Ибо одна умела сложить язык трубочкой, шевелить ушами и, вызывая «круглую зависть» детей, разведя пальцы на ногах, двигать любым по желанию. И она же, на четверть полька по крови, на одну восьмую немка и сербка, да еще вскормленная какой-то шалой (по ее слову – «крутой») цыганкой, – у матери не было молока, – с детства угадывала в будущем что-то такое, чего не видел никто. Однажды, найдя стихи пятилетней Марины, мать за обедом громко прочла их: «Ты лети, мой конь ретивый, // чрез моря и чрез луга. // И, потряхивая гривой, // отнеси меня туда…»
– Куда туда? – насмешливо спросила мать. Все засмеялись. «Мать (торжествующе: не выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репетитор брата студент-уралец (го-го-го!), смеется на два года старший брат (вслед за репетитором) и на два года младшая сестра… А я, – вспоминала, – я красная, как пион, оглушенная забившейся в висках кровью, сквозь закипающие слезы – сначала молчу, а потом – ору: “Туда – далёко! Туда – туда!..”»
Не знала, не знала еще слова «вечность»… Вощеные полы, блики рояля, отцовская треуголка для парадных выездов, музыкальные шкатулки, книги в коже, бульон в толстых чашках, простые холстинковые платья для сестер – вот ее детство! Отец, «дворянин от колокольни», как смеясь звал себя за дарованное дворянство, профессор в двадцать девять лет, потом – директор Румянцевского музея, заведовал кафедрой искусства в университете. И мать – пианистка; она так виртуозно извлекала из рояля звуки, что великий Рубинштейн, возможно на Женских музыкальных курсах (Москва, ул. Поварская, 13), как-то растроганно пожал ей руку, и она, пишут, два дня не снимала перчатку. Может, потому первым словом Марины – вообще первым! – станет слово «гамма». Так напишет позже муж Цветаевой Сергей Эфрон. И добавит: проживи ее мать чуть дольше, быть бы Мусе пианисткой: абсолютный слух, растяжимая рука, упорство и дикая жажда славы. Стоило матери выйти из комнаты, она, дитя, сползала с табуретки у рояля и делала воображаемой публике реверанс. Но бредила – бредила одними стихами.
Цветаева. Из «Записной книжки № 8»: «Скульптор зависит от глины… Художник от холста, красок, кисти. Музыкант: от струн, – нет струн в России, кончено с музыкой… У ваятеля, художника, музыканта может остановиться рука. У поэта – только сердце…»
Первый раз сердце ее замерло, когда в семь лет в музыкальном училище Зограф-Плаксиных, в доме, который цел и поныне (Москва, Мерзляковский пер., 9), она, ангел с бантом, с отмытыми пемзой чернилами на пальцах, играла взрослым свою пьеску. А второй – когда мать там же, в училище, вдруг назвала ее «совершенной дурой». Это случилось, когда после рождественского концерта, после романсов, дивертисментов и арий Марина на вопрос матери, что ей понравилось, честно выпалила: «Татьяна и Онегин». «Что? – изумилась мать. – Не “Русалка”, где леший? Не “Рогнеда”?» – «Татьяна и Онегин», – тупо повторил ребенок. – «Но что там может нравиться?» – завелась мать. – «Татьяна и Онегин»! Вот тогда мать и крикнула: «Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов. Прямо не знаю, что делать!..»
А что тут поделаешь? Это – любовь. «Когда жарко в груди, в самой грудной ямке… и никому не говоришь – это – любовь». Всё понимала, но кого любила тогда? Куклу с глупыми глазами в витрине, кота из ситца, набитого соломой, пикового туза в колоде (это был таинственный «он»), да еще волка в басне, а не только ягненка («и волк – хороший, – упрямо бубнила, – он ест глупого ягненка»). А однажды, едва научившись писать, отдала письмо гувернеру брата, студенту, где призналась ему в любви. Студент подчеркнул ошибки и смеясь вернул бумажку. Из-за смеха у нее и брызнули слезы. Но и он, и мать, и отец-профессор в страшном сне не могли увидеть, что через три года, в десять лет, она, ангел с бантом, будет лихо чиркать спички о подошву и, не без вызова, нахально курить. Это случится в Италии, где мать будет лечиться от туберкулеза, а обе дочери ее хлебнут вдруг неслыханной свободы. Выберут себе атамана, сына русского хозяина пансиона (он «мой», сразу приватизирует его Марина), и под его водительством будут носиться по скалам, жечь костры, печь рыбу в золе, выходить на утлой лодке в море, а потом, бросив на камни мокрые платьица, пускать по кругу и трубку, и пиво. Вот это – жизнь! Недаром на вопрос, что больше всего любила в молодости, сама же и ответит – «превозможение»: «Опасные переходы, скалы, горы, 30тиверстные прогулки… Чтобы все устали, а я нет! Чтобы все боялись, а я перепрыгнула!.. И чтобы все жаловались, а я бежала! – Приключение! – Авантюру!.. Чем труднее – тем лучше!..» А в чинном пансионе, куда отдадут девочек, увлечется вдруг… социализмом. Вернее, полюбит две вещи: строить сверстниц в шеренги, чтобы, сходясь в лоб, вышибать друг друга, и – в фантазиях – в тринадцать-то лет! – социализм, ради которого готова была умереть. И шеренги, и социализм у нее свяжутся: из строя сторонников социализма она к семнадцати годам перейдет в ряды яростных врагов его. А после революции вспомнит, что мать на вопрос ее, что такое социализм, ответит: это «когда дворник придет у тебя играть ногами на рояле!..»
«Вы, госпожа Цветаева, должно быть, в конюшне с кучерами воспитывались?» – скажет ей инспектор Сыроечковский, зачитав при всех ее сочинение, в котором звала к бунту. Уж не за это ли ее впервые выгнали из гимназии? Это было в 1907-м. Когда ее вызвали к директрисе, гимназистки с ужасом таращили глаза, подслушивая у дверей ее ответы. «Знаю, горбатого могила исправит! – грубила она педсовету. – Не боюсь ваших предупреждений и никаких угроз… Хотите исключить – исключайте. Пойду в другую гимназию. Уже привыкла кочевать. Это даже интересно…» В прошлом у нее и впрямь были три пансиона и две гимназии, из которых одна – московская, на Кудринке (Москва, ул. Садовая-Кудринская, 3). Впереди будут еще две – знаменитая Алферовская (Москва, 7-й Ростовский пер., 7) и гимназия М.Г.Брюхоненко (Москва, Большой Кисловский пер., 4). Но лишь из гимназии фон Дервиз в Гороховском (ныне в ней 325-я школа) ее, «мятежницу с вихрем в крови», исключат впервые (Москва, Гороховский пер., 10). Я, разумеется, поперся и в эту школу; в ней почти всё сохранилось: коридоры, где девицы чинно гуляли на переменах, актовый зал, куда на балы звали кадетов из Лефортова, и дортуар – большая спальня, где Марина, «экзотическая птица», дождавшись, когда уйдет «ночная дама», тихой тенью перелетала в кровать к подруге – Вале Перегудовой. Дружба ее с Валей вспыхнет с рассказа Марины «Четверо», который ходил по рукам и начинался фразой: «Их было четыре, – четыре звезды класса». К изумлению Вали, в одной из них она узнала себя. Но ее, в куклы игравшую еще, Марина вывела небывалой героиней. «Это же не я». – «А мне захотелось сделать вас такой», – шепнула ей Цветаева. Она будет украшать людей всю жизнь, тянуть их до небес. «Что я любила в людях? – скажет. – Их наружность. Остальное – подгоняла…» Но так начались ее ночные шепоты с подругой о стихах, о Наташе Ростовой, которая ведь стала «наседкой», о созерцателях и борцах. О том, чтобы «смело идти, влечь толпу за собой». Даже против всех. А куда – неважно. Туда – «далёко»!..
Нет, она не желала походить на людей. Плевала на нормы, условности, не ею придуманные «правила». То с верхнего яруса в Большом театре, чистя апельсин, швыряет кожуру вниз – в партер, да еще провожает глазами летящие корки. То в Тарусе уговаривает Валерию, сводную сестру, «ночевать на кладбище», и обе, промаявшись в траве до рассвета, являются домой в мокрых платьях и ботинках, полных росы. То в гостях у какого-то художника она, уже гимназистка, тащит под платьем (фактически крадет!) пачку этюдов, чем ставит отца в жуткое положение. То зачем-то сдает в ломбард одеяло и подушку, хотя в деньгах ей не отказывают. То бреет голову, то ест одни шампиньоны, чтобы похудеть, то так озвереет, что будет гнать с утра дворника Лукьяна за рябиновой настойкой, а пустые бутылки (не корки уже!), не глядя, выбрасывать из окна мезонина. А то, ради смеха всего, даст однажды объявление в брачную газету, из-за чего в их солидный дом будет ломиться толпа пожилых женихов. Наконец, забросив учебу (гимназии так и не окончит), сядет за перевод пьесы Ростана «Орленок» (о кумире – сыне Наполеона), да так влюбится в него, что каким-то таинственным образом уговорит отца отпустить ее, шестнадцатилетнюю, в Париж – слушать курс старинной французской литературы в Сорбонне. И снимет там комнатку-пенал у какой-то мадам Гэри (Париж, ул. Бонапарта, 59), так и не узнав, конечно, что на той же улице через два года, в 1910-м, поселятся Анна Ахматова с Гумилевым, только что ставшим ее мужем (Париж, ул. Бонапарта, 10). Прослушает пятимесячный курс в Сорбонне (Париж, ул. Экколь, 47). А потом признается: и Париж, и Сорбонна были «придуманы» лишь для того, чтобы «поклониться гробнице Наполеона» и из «первых рук» узнать про герцога Рейхштадского, про сына его, про «Орленка». Из-за страсти этой решится однажды на шаг, от которого меня просто затрясло. Она, молясь на своего кумира, вставит портрет Наполеона в киот вместо иконы. И когда отец, ахнув от кощунства, потянется вырвать его, она, девчонка еще, «голубка» его, шагнет ему навстречу и, сведя брови, молча возьмет в руку тяжелый подсвечник. Ужас! Не тронешь – не трону, упрет взгляд в глаза отца. И что вы думаете? Он отступится. «Это был жест отчаяния, – оправдывая ее, скажет на старости лет Ася, сестра. – Самозащита зверя…» Может быть. Но отца она именно тогда, кажется, и потеряет…
Да, человек вырос. Какой? Не нам обсуждать. Вырос поэт, желавший стать Пушкиным. Дитя-чудовище, готовое и на убийство, и на самоубийство. «Я умру молодой», – скажет подруге еще в гимназии. И покажет, как затянет петлю. Так начнется ее долгий «роман со смертью». А скоро не скажет – реально будет стреляться.
Камень любви и… камешек
«Что бы вы предпочли: чтобы вас любили или любить самой?» – спросит Цветаева за два года до смерти Машу Белкину, молоденькую знакомую свою. «Я бы хотела, – пролепечет та, – взаимно…» – «Ну, это от молодости, – усмехнется Цветаева. – Я спрашиваю о другом – вы или вас?» – «Меня», – еле слышно скажет Маша и поймет: она окончательно упала в глазах поэта. «Понимаете, – скажет Цветаева, – роман может быть с мужчиной, с женщиной, с ребенком, может быть с книгой. Лишь бы не было этой устрашающей пустоты!..» Пустота, поняла в тот день Белкина, это – гибель…
Первую книгу свою, в зеленой обложке с золотой надписью «Вечерний альбом», Марина выпустит еще гимназисткой – в семнадцать. Цветаеведы вскинутся: в восемнадцать, как же, в восемнадцать лет!.. Нет, в первый месяц своего восемнадцатилетия, в холодный октябрьский вечер 1910 года она лишь заберет готовый тираж из типографии А.И.Мамонтова (Москва, Леонтьевский пер., 5). И сама будет грузить его у ворот (у шлагбаума – ныне) – на телегу. А сдавала рукопись, вычитывала ее – «держала корректуру», как говорили тогда, – все-таки в семнадцать. Кстати, издавать книги гимназистам в те годы строго запрещалось. Но она, мы знаем уже, плевала на запреты и про затею с книгой не сказала никому – всё сделала в тайне. Еще потому, что уже год как была влюблена в одного человека. Более того, вся книга ее (111 стихов, тиражом в 500 экземпляров) была не эпатажем, не вызовом и даже не посланием «граду и миру» – нет! – «объяснением в любви» к этому человеку, с кем была тогда в ссоре. Любовное письмо в пятьсот экземпляров – а что? не круто? Не «по-цветаевски»? Имя этого человека – Владимир Нилендер. Тоже поэт тогда, филолог, переводчик Гераклита (он в том же 1910-м выпустит в свет свои переводы), а ныне – окончательно забытый литератор. Но: «Не было, нет и не будет замены, мальчик мой, счастье мое!» – написала ему в книге. А вскоре из-за него будет и стреляться, и, как пишут, чуть ли не вешаться…
Вообще-то он ее, кажется, не любил. В нее влюбится взрослый и «первый живой» поэт – «чародей» с фосфорическими глазами Лев Эллис – Лев Львович Кобылинский. Друг звеневших уже Андрея Белого и Блока, человек, смело прятавший от полиции нелегалов, устраивающий вечера в пользу боевиков, а в доме своем не раз собиравший поэтов. Он, к слову, только что помирил Белого и Блока, когда у них дошло дело до дуэли. Про его лицо, «гипсовую маску», Белый напишет, что оно могло бы принадлежать Савонароле или даже Великому Инквизитору. Во как! Вот он-то, Эллис, который был старше Марины на тринадцать лет, и ввел ее «в литературу».
Он возник в Трехпрудном у отца Марины, тот поначалу благоволил к нему, но засиживаться стал у дочерей профессора – иногда допоздна. Марине было тогда еще четырнадцать, а Асе вообще двенадцать, но он общался с ними как со взрослыми. Стихи, философия, шелест фольги шоколадной, беготня за чайником (не пропустить бы «интересного»!), и опять леденцы, и опять – стихи. Какие, к черту, уроки?! Потом обе в темень шли провожать его. Отец, чтобы покончить с «безобразием», даже прятал пальто девочек – но, как пишет Валерия, разве это «помеха»? Сестры «на извозчичьей пролетке, забыв о всяком пальто, с развевающимися волосами», едут-таки провожать его. А когда он как-то должен был проводить Марину, тогда она и схлопочет по лбу. Он выберет провожать давнюю знакомую дома Цветаевых, зубную врачиху, Драконну (именно так – с двумя «н»), как прозовут ее Марина и Ася.
Из «Сводных тетрадей» Цветаевой: «Первый образец мужского хамства я получила из рук – именно из рук – поэта. Возвращались ночью откуда-то втроем: поэт, моя дважды с половиной старшая красивая приятельница – и 14-летняя, тогда совсем неказистая – я. На углу Никитского – остановились. Мне нужно было влево, поэт подался вправо – к той и с той. – “А кто же проводит Марину?” – спросила моя совестливая приятельница. – “Вот ее провожатый – луна!..” – и жест занесенной в небо палки… Из-за этой луны, ушибшей меня как палкой в лоб, я м.б. не стала – как все женщины – лунатиком любви. Но… с этого мгновения луна взяла на себя заботу обо мне…»
Через три года как раз Эллис позовет Марину замуж, правда, сам письмо передать не решится, пошлет друга – Нилендера. Тот проговорит с Мариной всю ночь, поминутно вскакивая: «Лев ждет», имея в виду Эллиса, но именно в него к утру и влюбится Цветаева. Нилендер первый заставит ее плакать, мучиться, тосковать. И из-за него, как раз к годовщине их встречи, она и выпустит первую книгу, которую заметят и отметят Брюсов, Волошин, даже Гумилев в Петербурге. Из-за Нилендера Марина и попытается покончить с собой. Сначала якобы решится на выстрел в театре на ростановском «Орленке», где мальчишку, сына Наполеона, играла старая, на протезе уже, Сара Бернар, но револьвер даст осечку. А по другой версии, будет вешаться. Как было на деле – неизвестно. Темная история. Но не удивлюсь, если и стрелялась, и вешалась. До нас дошли лишь слова ее из письма Асе: «Только бы не оборвалась веревка! А то – недовеситься – гадость, правда?..» Через тридцать лет, перед самоубийством в Елабуге, напишет о том же: «Не похороните живой! – предупредит в записке. – Проверьте хорошенько!..»
От Нилендера у нее останется лишь эпиграф из Гераклита, который в Париже, в эмиграции, поставит к статье «Поэты с историей и поэты без истории», слова «Никто дважды не ступал в одну и ту же реку». Хотя в реку по имени «любовь» сама будет вступать тысячу раз. И тогда же в Париже вдруг признается: «Я бы хотела, чтобы меня любил старик, многих любивший, меня – последнюю. Не хочу быть старше, зорче, грустнее… Не хочу, чтобы на меня смотрели вверх. Этого старика я жду с 14 лет…» Да, ждала старика, а замуж выскочила за мальчика, гимназиста младше себя. Просто камешек вмешался в ее жизнь, камешек, ставший, образно говоря, – камнем на шее.
Цветаева. Из «Записной книжки» № 5»: «Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители… Разлюбить – видеть вместо него – стол, стул… Что главное? Слышали ли вы когда-нибудь, как мужчины – даже лучшие – произносят два слова: “Она некрасива”. Не разочарование: обманутость – обокраденность. Точно так же женщины произносят: “Он не герой”…»
В тот год, в 1911-м, она встретила сразу двух героев. И случилось это в Крыму, на море. Там влюбилась в будущего мужа и там же, на море, всего за месяц до этого, впервые узнала, как хотела бы, чтобы любили ее.
В Коктебель ее позвал Волошин. Но она, завернув в Гурзуф, сняла вдруг на месяц комнату в домике над морем, на сумасшедшей скале, которую звали «генуэзской крепостью». Думаю, тянула время, ждала, пока у нее после кори хоть чуть-чуть отрастут волосы. Но там, в Гурзуфе, она и встретила Османа, татарчонка. Ей восемнадцать, ему – едва одиннадцать, но любовь его назовет потом – непредставимо! – «главным выигрышем в жизни»… В Крыму апрель; гимназия брошена навсегда; она уже поэт, как мечтала, а главное – свободна как птица. Волошину написала: «Со скалы в море, с берега в комнату, из комнаты в магазин, из магазина снова на Генуэзскую. Курю больше, чем когда-либо, загораю, читаю без конца…» Умолчала лишь о лихорадочных глазах Османа, следящих за каждым шагом ее. «Мы лазили с ним на мою крепость, – вспоминала, – на опасных местах, без веревки. Он протягивал ногу, и я держалась – а наверху – площадка: маки, я просто сидела, а он смотрел, я на маки, а он на меня…» Она в платье с крупными розами – стриженая, гибкая, как «египетский мальчик» (талия без корсета – шестьдесят три сантиметра), с вечной папиросой «Кефу» в уже ироничных губах. И он – востролицый, черный, некрасивый. Она ничего не дарила ему и почти не говорила с ним. И тем не менее это была – любовь. Он водил ее на татарское кладбище, на свои табачные плантации (он был без отца уже – хозяин!), покупал ей хурмы на копейку, «горсть грязи», которую она тут же, не задумываясь, съедала. А когда уезжала, сказал: «Я буду приходить к тебе в сад и сидеть». – «Но меня не будет?» – «Ничего, камень будет…» В последний вечер твердил: «Я не буду спать». В двенадцать все-таки заснул на ее кровати, и она тихо ушла на свою скалу. А утром – понес ее вещи к пароходу до Судака. Да, это была любовь! Не поверите, но в Судаке он и встретит ее! Как окажется там, можно лишь гадать. Но поступок был не мальчика – героя. Через два года, уже с мужем и дочкой, она специально заедет в Гурзуф и отыщет Османа. Он скажет: «Когда ты уехала, я всё приходил к тебе в сад, сидел на том камне и плакал…» А она и через десять лет, в эмиграции уже, напишет: «Не смейтесь. Этот мальчик любил меня так, как никогда уже потом никто». И доскажет: хотя спросить его «ты любишь?» – было бы глупостью. «Дикари не знают, как это называется…»
А вторым героем тем летом станет в Коктебеле Сергей Эфрон, тоже мальчик, но глазами синей моря. И если Осман готов был взять ее на руки, фигурально говоря, и нести, то Сергей, напротив, – сам «пошел в ее руки, как голубь». Так скажет о нем Ася. И прибавит: этого «голубя» вот так, «на руках», Марина и будет «нести всю жизнь…»
Вообще, всё было жутко красиво. Он в ослепительно белой рубашке сидел на коктебельском пляже. «Я, – вспоминала Цветаева, – обмерла: ну можно ли быть таким прекрасным? Взглянешь – стыдно ходить по земле! Это была моя точная мысль…» В тот день, 5 мая, она валялась на берегу и как раз говорила Волошину, что выйдет замуж за того, «кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень». Волошин вкрадчиво, сладчайшим голосом объяснял: Мариночка, влюбленные глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, «принесет тебе булыжник, ты искренне поверишь, что это – любимый камень». Так вот, Эфрон с глазами в пол-лица, с «жестами принца», про кого скоро напишет, что он «тонок первой тонкостью ветвей», и про кого, как про тополь свой, скажет – «он – мой», чуть ли не в первый же день нашел ей в прибрежной гальке «величайшую редкость» – сердолик. Марина будет хранить его всю жизнь. Но камень, на который молился Осман, и камушек Сергея – это, если хотите, символы любви разной. Не ошибся Волошин. Когда через двадцать лет Сергей – ее герой, ее беззаветный «астральный юнкер» – станет беззаветным агентом ГПУ-НКВД, сердоликовый камушек его обернется для нее увесистым булыжником. И не он ли – страшно сказать! – «подтянет» ее в петле под потолок в 41-м?..
Две иконы
Их икону я нашел чудом. Когда занимаешься чем-то «по делу», всё как-то, знаете, само приходит, «лепится» к теме. Так и с иконой этой. Ее историю я случайно встретил в посторонней, казалось бы, книге одного краеведа. Что называется, напоролся! Когда-то икона эта украшала церковь Рождества Христова, что в Палашах (Москва, Малый Палашёвский, 3). Церковь снесли, построили, как водится, школу. А икону, содрав оклад из серебра, раскололи и выбросили. Будто мусор. Пишут, что нашла ее в каком-то подвале безвестная старуха. Доску склеили, дописали и вернули патриархии. А теперь – слушайте: Брюсов переулок, храм Воскресения на Успенском Вражке (Москва, Брюсов пер., 15). Запомнили? Здесь возникла из небытия, воистину воскресла та самая икона. Имя ее – «Взыскание погибших». Увидеть ее, верьте мне – стоит! Перед ней 27 января 1912 года венчались Цветаева и Сергей Эфрон…
Из «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой: «Кто посмеет при мне утверждать, что жизнь Марины – трагедия, что Марина была несчастна? Шли не дни, шли годы – и счет я им знаю, – нет, они бесконечны – Марина была счастлива!.. Никто, кроме меня, ее полублизнеца, не помнит тех лет ее жизни… Но я их помню, и я говорю: Марина была счастлива…»
«Глупо быть счастливой, – напишет Цветаева Волошину в тот год, – даже неприлично…» Наперекор, конечно, ибо была – слишком счастлива. Во-первых, она не только талантлива (о ней говорят и пишут), но уже дружна с самыми известными поэтами. Правда, войдя в поэзию, тут же надерзила тому, кому остерегались возражать и Хлебников, и Гумилев, и сам Блок, – Вячеславу Иванову. Ее не удивляет, скажет, что ее стихи непонятны ему, – ей тоже непонятна его поэзия. Это мэтру-то! А Брюсову, назвавшему ее первую книгу «пресной», в курилке какого-то театра, пустив дым от папиросы в лицо, ласково, с издевкой, улыбнется: «Фимиам?»! Во-вторых, она по-настоящему красива: к девятнадцати годам очень похорошела, и даже волосы стали виться, чего упорно добивалась, десять раз кряду брея голову. В-третьих, просто богата (ей и сестре мать завещала 150 тысяч, оговорив, правда, до сорока лет жить на проценты – боялась, что спустят капитал на революцию). Но главное – главное, она счастлива, потому что уже жена: любимая и любящая.
Кем же был Сергей, избранник, встречу с которым назовет «чудом»? «Одарен, умен, благороден. В нем блестяще соединены две крови: еврейская и русская… Если бы Вы знали, – напишет писателю, философу, другу отца В.В.Розанову, – какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша!» Правда, «глубокий» юноша с детской непосредственностью тогда же признается сестре: «У меня сейчас такая грандиозная жажда, а чего, сам не знаю!..» Слова, многое объясняющие в нем. Жаждал быть писателем и издал-таки книгу прозы; потом жаждал стать актером – играл на вторых ролях в театре Таирова, пока не выгнали (он не «по роли» рассмеялся на сцене). Потом рвался в журналисты, искусствоведы, редакторы, кинооператоры, даже в каскадеры в Париже (о чем я еще расскажу). Но стал – никем. «Наводчиком-вербовщиком» НКВД, как официально будет называться его последняя должность. «Он был очень хороший человек, но безвольный, – скажет о нем парижская знакомая его. – С ним каждый мог сделать всё, что хотел…» Эренбург, знавший обоих, добавит: Марина «лепила» Сергея, тащила на головокружительную высоту и строила его жизнь: «Она была поэтом, и он стал писать… Писала монархические стихи, и Эфрон пошел воевать – ну зачем этому еврею Белая армия?!» А когда в эмиграции она напишет «Тоску по родине», он, доскажет Эренбург, тут же создаст «Союз возвращения в СССР…»
Отец Сергея был сыном раввина, а мать, Лиза Дурново, – дочерью флигель-адъютанта Николая I, но оба стали членами партии «Земля и воля», а потом – эсерами-террористами. Дружба с самим Азефом, казнь какого-то провокатора – у отца, каземат Петропавловки – у матери, затем Бутырка и снова прокламации, явки, оружие, побеги – вот семья, где и дети не могли не пойти в революцию. Одна сестра Сергея будет строить баррикады с женой Баумана, другая, названная в честь друга дома Веры Засулич, угодит в тюрьму. А Сергей, младший, возможно, в сохранившемся ныне доме, где и жила вся семья (Москва, Гагаринский пер., 29), вообще, как хвастался потом, в семь лет «прятал в штанах бомбу». При обысках. Но так, с «бомбой в штанах» (пардон за сарказм!), и проживет всю жизнь. Впрочем, для Марины, бредившей бунтом, история его семьи была музыкой. И выйдя замуж, ей больше всего захочется защитить этого туберкулезного мальчика. Как мать, будет искать гимназию, где проще сдать экзамены, возить «на кумыс», а позже – даже выбирать воинскую часть, где легче служить. Но и как мать заботиться будет чаще о внешнем (накормить, отмыть, вылечить, одеть), не вникая или, лучше сказать, – не считаясь с чувствами глубинными.
Из воспоминаний О.Колбасиной-Черновой: «Марина не выносила атмосферы благополучия, ее стихией была трагедия – героизма, жертвенности, бедности и гордыни, непревзойденной Марининой гордыни: Я есмь – и я иду наперекор… Мне она говорила: “Пока не научитесь всё устранять, через все препятствия шагать напором, хотя бы и во вред другим – пока не научитесь абсолютному эгоизму… большой работы не дадите…”»
Первый дом «свой», снятый на Сивцевом (Москва, ул. Сивцев Вражек, 19), назовет «уродом». Но именно сюда, на шестой этаж, привезет красавца-мужа. Четыре комнаты, итальянские окна. «У меня окно на Кремль. Вечером ложусь на подоконник, – напишет, – и смотрю на огни и темные башни». Ныне из тех окон Кремля не видать, я подымался в их квартиру – весь вид давно застроен новыми домами-уродами. И нет уже комнат, которые были vis-a-vis: зеленая у Сергея, малиновая у нее. Шкаф, стол письменный, диван («ненавижу спальни! люблю спать на диване»), глобус на полу, на сундуке – граммофон. В квартире жили и сестры Сергея – Лиля и Вера. А на кухне что ни день – компании: актеры, художники, музыканты. Те, кого молодой еще Алексей Толстой обзовет «обормотами». Обормотник – дым коромыслом! В очерке о Волошине я писал об «обормотнике» на Молчановке с теми же действующими лицами. Литературоведы не спорят, пишут, что «обормотник» был не один, а сивцевский – может, самый главный. Конечно, главный: ведь здесь жила она – центр и интеллекта, и веселья! Тут царили молодость, любовь, сумасбродство, опять шоколад и стихи, остроты и хохот до слез, до икоты! Одна актриса, пишут, смеясь, разрыдалась от того, что не может прекратить как раз смеяться. Марина, серая и вялая по утрам, вечерами становилась фантазеркой и сказочницей. Пьет абсолютно черный чай (это вредно, но «только в волнении я настоящая»), ест стоя (чем меньше человек ест, тем умнее), на шее носит аметистовое сердечко (талисман с одиннадцати лет), а за пазухой – нож, портсигар и маленькую кукольную головку. Жена, но жить еще не умеет. «Странно, Макс, почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной, – напишет Волошину. – Для меня это сюрприз – мне всегда казалось, что кто-то другой будет устраивать мою жизнь». С Асей, сестрой, ссорясь, делят наследство покойной матери: веера, канделябры, подносы, даже совсем уж пустяк – раковину перламутровую. А к настоящим драгоценностям обе, напротив, равнодушны: серьги бриллиантовые, разделив, продают, разумеется, за гроши. Или – история с диким вепрем. Дико смешная! Когда кухарка спросила однажды, что готовить на ужин, Марина, юркнув к себе, сунулась в Молоховец, поваренную книгу. «Вчера что готовили? – строго спросила прислугу и, отдав книгу, рассеянно бросила: – Готовьте следующий номер…» Кухарка вернулась к вечеру: «Заморилась! Все мясные обошла! Как спрошу, дайте мне голову дикого вепря, так все продавцы за животы и схватятся!.. “Бабка! Да где ты его видела? Кто он, веприй-то? баран аль козел?”» – «Ну, придумайте что-нибудь сами!» – вспыхнула Марина и сначала давилась от смеха у себя, а потом до истерики хохотала со всеми. Да, была счастлива. И – любима. Но три фразы уже здесь, в этом «облаке счастья», отзовутся раскатами воистину громовыми.
Первую, после венчания Цветаевой, скажет мать Волошина: «Жаль Сережу… Марине он скоро прискучит… пропадет мальчишка». Ошибется! Всё случится ровно наоборот. Пропадет не он из-за нее, она – из-за него! Вторую фразу Марина скажет Майе Кудашевой, коктебельской подруге, не только будущей жене Ромена Роллана, но, как пишут ныне, агенту НКВД. «Ты и я, – скажет ей, – мы – не как другие. Мы никогда не будем мыть посуду…» Кудашева и не будет – такие тарелок не моют. А вот Цветаева, та, увы, в 41-м, в Чистополе, за пять дней до смерти, проситься будет судомойкой в столовую писателей, да ее не возьмут. Наконец, третью – самую жуткую фразу! – скажет отец Марины. Он незадолго до смерти, уже всемирно известный собиратель и строитель своего музея на Волхонке, придет на Сивцев с молотком, гвоздями и домашней иконкой. Марина, увидев икону, крикнет: «Не надо! Пожалуйста, не надо!..» И тогда он, уже старик, суетливо спрятав иконку в портфель, шепнет дочери уходя: «Делай как хочешь. Только помни: те, кто ни во что не верит, в тяжелую минуту кончают самоубийством»…
«Запретная» любовь
«Вы думаете, что живете праздником? Ошибаетесь!.. Пошлыми буднями, – грубо напирая, выгнали Цветаеву из одного дома. – И ваши стихи – одна инструментальность. У вас нет ничего человеческого. У вас внутри – пустота».
Так, вытолкнув ее из квартиры на Поварской (Москва, ул. Поварская, 10), кричал ей Павлушков, врач. Она успеет бросить в ответ, что ноги ее у них не будет, и, прежде чем дверь захлопнется, крикнет: «Хам!» Всё это в августе 1913 года она опишет в письме Лиле Эфрон, сестре Сергея. Речь шла о муже Драконны, помните, – давней приятельницы семьи Цветаевых Лидии Александровны Тамбурер. Это ее семь лет назад пошел провожать Эллис, бросив Марину один на один с луной. Драконна жила тогда еще на Арбате (Москва, Арбат, 19), и у нее в доме бывали не только сестры Цветаевы и Эллис, но и Волошин, и Белый. И вот теперь из нового дома Тамбурер ее грубо, взашей выгнал Павлушков, новый муж Драконны. Но, описывая ссору с ними, Цветаева не знала еще, что через следующие семь лет, в 1920-м, из-за них, из-за Павлушковых, и погубит Ирину, вторую дочь свою. Да и сама едва не умрет…
Вообще «читать» жизнь Цветаевой жутковато, подражать ей – немыслимо, а верить словам – будто заглядывать в бездну. Конечно, любой талант одинок, знаем, знаем. И чем крупнее, тем обособленней. Но гений – это же одиночество Вселенной. Надзвездная пустота, пустота именно бездн.
Цветаева. Из «Записной книжки № 5»: «По внешнему виду – кто я?.. Я не дворянка (ни гонора, ни горечи), и не благоразумная хозяйка (слишком веселюсь), и не простонародье… и не богема… Я действительно, АБСОЛЮТНО, до мозга костей – вне сословия, профессии, ранга. – За царем – цари, за нищим – нищие, за мной – пустота…»
«Первой жизненной катастрофой» назовет любовь к Софье Парнок. И не потому, что сразу после замужества это была первая любовь-страсть, не потому, что любовь лесбийская, а значит – запретная, и даже не потому, что та была поэтессой и слагала стихи, может, не хуже ее. Катастрофой назовет потому, что не она бросила – ее бросили впервые…
Законы ей были не писаны. Когда-то сказала, что ее глаза «зажигают» фонари в переулках. Теперь скажет вдруг, что даже солнце взойдет там, где она захочет. Это случится в том единственном доме, который они приобрели с Сергеем на Полянке, когда родилась Аля, первая дочь (Москва, Щетининский пер., 1). Дома того нет ныне, но именно в нем она и скажет мужу, что по утрам будет выбегать во двор греться на солнце, а он, поддразнивая ее, поднимет бровь: «А вы уверены (они всегда были на “вы”), что солнце всходит с этой стороны?..» Вот тогда и отрежет: «Когда мне понадобится, оно взойдет!» И там же, почти сразу влюбившись в Парнок, всё от той же от безмерности, сморозит (как напишешь иначе?) еще одну глупость. Скажет, что никогда не бросит Сергея и никогда, до смерти – Парнок. Будет твердить это и тому, и той и, кажется, всерьез верить в это. Да, «роман» может быть с ребенком, даже с книгой. Но как вам такое «признание» ее: «Любить только женщин (женщине) или только мужчин (мужчине), заведомо исключая обратное, – какая жуть! А только женщин (мужчине) или только мужчин (женщине), исключая необычное, – какая скука!..»
Парнок была старше ее почти на восемь лет. Вообще-то фамилия ее была Парнох, но она переделала ее («букву х ненавижу»). За спиной ее было немножко юрфака, чуть-чуть филфака и даже консерватории в Питере. Была поэтом, но была и жестким критиком – статьи подписывала псевдонимом «Андрей Полянин»: «Я чересчур еврейка для того, чтобы творчество у меня могло быть наивным». Оказавшись в Москве, поселившись в Большом Каретном (Москва, Большой Каретный пер., 20), нюхнув гривуазной литературной жизни, напишет: «Ассортимент великолепный… Андрей Белый истеричен и глуп до грации, у Кречетова лоб в 1 сант. Бердяев с высунутым языком; на всем печать золотухи и онанизма… Мерзко». В прошлом была, «сходила» уже замуж, но быстро разочаровалась. Среди любовниц ее, «трибад» (чтоб было «красиво»), были, как пишут «специалисты» по этой части, и балерина Гельцер, и Фаина Раневская. А с Цветаевой встретилась то ли в салоне Толстого и поэтессы Крандиевской, в доме кн. С.А.Щербатова, где они сняли квартиру после ссоры с Сологубом в Петербурге (Москва, Новинский бул., 11), то ли у Аделаиды Герцык (Москва, Сверчков пер., 4а), где бывали и Волошин, и Вяч. Иванов, и Бердяев. «Я Вас люблю, – почти сразу в стихах призналась Цветаева Парнок, – Как грозовая туча // Над Вами – грех – // За то, что Вы язвительны и жгучи // И лучше всех…»
Соня, в белом свитере с высоким «крылатым» воротом, казалась ей роковой, загадочной – в этом и был соблазн. Когда, знакомясь, Парнок протянула руку, то Цветаева, назвав движение «длинным», саму руку сравнила с «осколком льда». Недаром будет звать Соню «Снежной королевой», а себя – Каем. И в первый же вечер, когда та вынула папиросу, Марина, входя в роль то ли пажа, то ли рыцаря, тут же поднесла спичку. Кстати, добиваться любви в этом «поединке своеволий» будет Цветаева, а не наоборот, как считают «специалисты». Хотя и общего между ними было много. Обе были «недолюблены» рано умершими матерями, обе ни в грош не ставили мнение «общества», обе жили поэзией и обе – странное, но совпадение! – в разное время, но теми же словами написали буквально: «Я не люблю любовь». Парнок уложит фразу в стихи, а Марина, позже, – в одно из писем. И обе не уточнят – какую «любовь»? Но не важно. Важно, что почти сразу они, не стесняясь никого, всюду сидели обнявшись и по очереди курили одну сигарету. Помните романс на стихи Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа»? Это как раз про них. И это Парнок, и тоже в стихах, напишет Сергею, что не он разбудил в Марине женщину, «расколдовал» ее, а как раз – она.
О, поверьте, эта любовь не была проходным эпизодом в жизни Марины – роман длился почти два года. Она таскала к Соне свою двухлетнюю дочь, потом вообще переехала к ней, та жила уже на Садовой (Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 2). Вместе были в Коктебеле, Харькове, Петрограде. В Питер ездили к редакторам «Северных записок» Чацкиной и Сакеру (С.-Петербург, Саперный пер., 21). В Москве ходили даже на цыган в «Яр», в нынешнюю «Советскую», откуда и родились их «цыганские» стихи. А однажды вообще отправились в Ростов Великий, где у иконы Богородицы, уловив шепот Сони: «О, я ее хочу!», безрассудно влюбленная Марина, «беззаконница», как звала себя, тут же пообещала «сегодня же ночью украсть» ее…
Всё было непросто в этом романе, я потому так долго и пишу о нем. И не из-за «скуки» возник он – о бисексуальности Цветаевой кто только не пишет ныне. «Непросто» было в детстве, когда Марина, помните, перелетала в кровать к гимназической подруге (та глухо напишет, что Марина странно «прижималась» к ней). «Непросто» и столь же «глухо» было с Сонечкой Голлидей, актрисой, потом с Ниной Берберовой (читайте ее «Курсив»). А в Париже уже седая почти Цветаева напишет даже статью о «запретной» страсти, знаменитое «Письмо к амазонке». «Богу нечего делать в плотской любви, – напишет. – Его имя, приданное или противупоставленное любому любимому имени – мужскому либо женскому, – звучит кощунственно…» Но меня в «Письме» поразит, помню, сравнение страсти к женщинам с бегом коня. «Что трудней, – спросит Цветаева в статье, – сдерживать скакуна или дать ему ходу, и коль скоро мы – тот же скакун – что из двух тяжче: сдерживаться или дать сердцу волю?..» Ведь она в цикле стихов к Парнок когда еще уравняла себя со скакуном, а «погоню» за подругой – со скачкой. Так, если хотите, цельно и рвалась с раннего детства за ограды предрассудков, барьеры запретов, даже за частокол зубов – чтобы крикнуть, охлестнуть, приказать коням отнести ее «Туда – далёко! Туда, туда!..»
А что же Сергей? А он, ловя едкие взгляды друзей, шепотки за спиной и зная, что Соня бросит ее, сначала шутил, что вызовет Соню на дуэль, потом избегал попадаться «подругам» на глаза, даже выдумал себе какой-то роман, а затем – ведь вокруг бушевала уже Первая мировая – попросту сбежал медбратом в санитарный поезд. Но рваться, бросив университет, рваться будет на фронт, в действующую армию. То ли от жены, то ли – от себя. Но чем больше хотел стать героем в жизни, тем меньше был героем в семье. Образно говоря, он, ее любимое «деревце», тогда и станет расти не в небо, как мечталось ей («Деревья, растите – в небо!»), а всё куда-то вбок, в сторону… Но его ли в том вина – вот вопрос…
«Ненормальная» жена его (среди поэтов поэт – нормальный!) преодолеть не сможет двух вещей. О первой я уже сказал, о первой напишет в 1915-м сестре Сергея: «Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду…» Но добавит: и Соню люблю, «и это вечно, и от нее я не смогу уйти…» А про вторую Марина скажет только Парнок: на полном серьезе признается ей, что хочет от нее… ребенка. Ненормальная, конечно! Это и станет причиной разрыва – Соня, «Снежная королева» ее, окажется не холодней – нормальней. И однажды, придя к Соне, Марина застанет у нее другую, «большую, толстую, черную» – актрису Эрарскую, ту, которая будет с Парнок долгих шестнадцать лет. «Сонет дописан, вальс дослушан, – напишет Соня в стихах, – и доцелованы уста…» Правда, пишут, что Парнок, и когда жила потом на 4-й Тверской-Ямской (Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 8), и в Неопалимовском (Москва, 1-й Неопалимовский пер., 3), и в последней своей квартире на Никитском (Москва, Никитский бул., 12а), где и умрет, до конца, до разрыва сердца в 1933-м, держала фотографию Марины у постели. Цветаева же, если печатно, не назовет ее имени ни разу. «Первая жизненная катастрофа» – этим всё сказано…
Ребенок у нее появится, сразу после Сони родится дочь Ира. Но смерть дочери, а если прямо говорить – убийство ее Цветаевой я бы назвал второй крупнейшей катастрофой поэта. Это случится в приюте, куда отдать и Алю, первенца, и трехлетнюю Ирину уговорит Марину как раз тот самый Павлушков, муж Драконны, выставивший ее когда-то из собственного дома. Всё сойдется в жизни Цветаевой. Она ведь даже хоронить Иру не поедет. Дочь закопают в общей яме. И яма эта станет первой из трех утерянных могил ее семьи. И ее ведь могилы. Четвертой!..
Всё потеряет после Октябрьского переворота. А однажды, возвращаясь как раз от Павлушковых, едва не погибнет и сама. Ей в ту ночь, которая лишь случайно не поставит точку в ее «романе со смертью», будет всего двадцать семь. Поможет случай, больше похожий на провидение. Точнее: спасут две бабы из деревни Аминьево. И, представьте, лошадь, которая даже не остановится!..
«Благая весть…»
Она впервые плакала на людях. Слезы текли, даже когда зажгли свет. Платка не было, и она, уже мать двоих детей и известный поэт, не стесняясь, зло утирала щеки кулаком. В каком ряду сидела, не пишет, но случилось это в «Синема», в нынешнем кинотеатре «Художественный».
Крутили ленту про Жанну д’Арк. «Она немножко напоминала меня, – пишет Цветаева, – круглолицая, с ясными глазами, сложение мальчика. И моя повадка. Смущенно-гордая». Узнавание душ… Жанна – «вот мой дом и мое дело в мире, всё остальное – ничто!» – напишет в дневнике после фильма. Через год, в 1920-м, допишет: «Литература? Нет! Все книги мира, чужие и свои, отдам за один, один маленький язычок костра» Жанны!..
Цветаева. Из «Записной книжки № 5»: «Вчера, возвращаясь домой по Арбату, было так черно, что мне казалось: я иду по звездам… Я – бродячая собака. Я в каждую секунду своей жизни готова идти за каждым. Мой хозяин – все и – никто… Я, конечно, кончу самоубийством, ибо всё мое желание любви – желание смерти. Это гораздо сложнее, чем “хочу” и “не хочу”… Смерть страшна только телу. Душа ее не мыслит. Поэтому – в самоубийстве – тело – единственный герой… Героизм тела – умереть, героизм души – жить…»
Жить! Это написала, когда само существование ее превращалось в тихую борьбу с зажатым ртом. В немое кино. В триллер – дикий и бессловесный.
«…Мама! Я не могу спать! У меня такие острые думы!.. – теребила ее шестилетняя дочь Аля. – Ты замечала, что горе – уютное? Какой-то круг…» «Уютное горе». Можно было бы улыбнуться лепету ребенка, если бы не знать, какими острыми были думы в том памятном 1919-м у ее матери – у Цветаевой.
Пик несчастий наступил к Вербной субботе. Накануне в одночасье она потеряла старинную овальную брошку, потом башмаки (сожгла ненароком), ключ от дома и последние 500 рублей. 500 р. – это 50 фунтов картошки, или почти башмаки, или на худой конец калоши плюс 20 фунтов картошки. В дневнике запишет: «Я… совершенно серьезно – с надеждой – поглядела на крюк в столовой. – Как просто!..» И какой соблазн! А уже в пасхальную ночь, убитая людским и дружеским равнодушием, «пустотой дома и пустотой сердца», скажет Але: «Когда люди так брошены людьми, как мы с тобой, – нечего лезть к Богу… У него таких и без нас много! Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос Воскресе не будет – а ляжем с тобой спать!» – «Да, конечно, милая Марина! – кинется к ней Аля. – К таким, как мы, Бог сам должен приходить! Потому что мы застенчивые нищие, правда?» И обе легли спать на единственную кровать, обе, как были – в платьях. Аля заснула, а Цветаева «жгла себя горечью» первой в жизни Пасхи «без Христос Воскресе». Она, так старавшаяся всю зиму превратить быт в бытие: и дети, и очереди, и служба, и топка, и иней на обоях, и каша в самоваре, и три пьесы – «и столько стихов – и такие хорошие – и ни одна собака…»
Что ж, пусть поспят… А я расскажу о единственной хорошей новости, полученной ею за последние полгода, о ее муже, о Сергее. Тоже, кстати, триллер, и тоже бессловесный, ибо почти никому в красной Москве не могла она рассказать о нем – о своем юнкере, который сражался на юге в Белой армии… Но однажды и – как раз в Благовещенье, в пустой и холодной квартире в Борисоглебском, в доме, снятом с Сергеем еще в 1914 году и когда-то любовно обставленном, вдруг раздался поздний телефонный звонок. Звонил Кандауров, художник, знакомый семьи:
– Марина Ивановна, я получил известия из Крыма, – он взял паузу, – и должен вам сказать, что Сережа…
«Убит», – мысленно подсказала она ему.
– Жив и здоров и просил вам кланяться…
«Минут пять спустя начинаю плакать, – пишет. – Точное чувство до краев переполненных глаз… Колени дрожат. Чувство легкой… тошноты. Благовещенье! – Благая Весть! – Недаром это мой любимый праздник!..»
Увы, через два года в театре Таирова под всеобщий радостный вскрик зала ее сердце точно так же «окаменеет от страха»: «Убит? Жив? Ранен?..»
Из дневников Цветаевой за 1919 год: «Сила человека часто заключается в том, чего он не может сделать, а не в том, что может… Мое “не могу” – некий предел… “Не могу” священнее “не хочу”… Мое “не могу” – это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям… все-таки не хочет… Я говорю о смертном “не могу”, о том… ради которого даешь себя на части рвать… Не могу… даже если весь мир вокруг делает так и это никому не кажется зазорным… Утверждаю: “не могу”, а не “не хочу” создает героев!..»
Сергей «не мог» переступить через себя и не оказаться на Дону, в стане белых. Как «не могла» и она (хоть на части рвите!) встать на сторону большевиков. Она, жадно ждавшая революции в 1907-м, звавшая пожар восстания даже на родительский дом («Неужели эти стекла не зазвенят под камнями? С каким восторгом следила бы, как горит наш милый старый дом!»), после 1917-го четко выскажет, может, самую великую мысль свою про все прошлые и даже будущие революции: «Сколь восхитительна проповедь равенства из княжеских уст, – скажет, – столь омерзительна из дворницких…» «Князья» и «дворники» здесь, конечно, условные, она никого не хотела унизить, но для непонятливых пояснила: «Две расы. Божественная и скотская. Первые всегда слышат музыку, вторые – никогда. Первые – друзья, вторые – враги…»
Сергей, окончив юнкерскую школу в Нижнем Новгороде, а затем – ускоренную школу прапорщиков в Петергофе, после Февральской революции посещал занятия в Александровской офицерской академии и одновременно – командиром роты – служил в 56-м пехотном запасном полку, который стоял в Покровских казармах (Москва, Покровский бул., 3). Друзьям, сослуживцам, знакомым, даже случайным девушкам, которых вызывался проводить до дома, не без пафоса твердил: «Россия должна спасти мир от “ига духовного рабства”, а русский народ – избранник и пойдет впереди всего человечества…» Пока однажды, точнее – утром 26 октября 1917 года, развернув за одиноким чаем газету (Марина была в Крыму, в Коктебеле), не увидел вдруг жирно выделенной строки на первой полосе: «Переворот в Петрограде. Арест членов Временного правительства. Бои на улицах города…»
Кровь бросилась ему в голову. «То, что должно было произойти со дня на день и мысль о чем так старательно отгонялась всеми, – вспомнит в очерке об этом дне, – свершилось… Я знал наверное, что Москва без борьбы большевикам не достанется… Их поражение казалось мне несомненным…» Предупредив сестру, он торопливо нацепил шашку, машинально сунул в боковой карман шинели револьвер «Ивер и Джонсон» и полетел в полк, в казармы, где, конечно, должны были уже собраться офицеры. В трамвае, пишет, дрожал, как в лихорадке, и, не перенеся всеобщего молчания, вытащив газету, на весь вагон вдруг громко сказал: «Посмотрим. Москва – не Петроград. То, что легко было в Петрограде, на том в Москве сломают зубы…» Никто не отозвался. Лишь старик напротив тихо шепнул: «Дай-то Бог!»
Что было дальше, читать без дрожи нельзя. Уйдя с бестолкового офицерского собрания, он и еще один прапорщик стали демонстративно срывать со стен только что расклеенные воззвания Совдепа, призывающие следовать за Петроградом. На них – двух «золотопогонников» в длинных кавалерийских шинелях и звенящих шпорах – смотрели с ужасом. На углу Охотного и Тверской у тумбы с объявлением гудела уже целая толпа: солдаты в расхристанных шинелях, с винтовками и без, рабочие, испуганные горожане. Увидев офицеров, все, пишет он, «как по команде смолкли». Сергей, чуя холодок, скользнувший по спине, понимая уже, что это самоубийство, решительно сорвал воззвание и, круто развернувшись, нарочито спокойно шагнул вверх – по Тверской. «Позади – тишина, – пишет. – Помоги, Господи!..» И почти сразу – крик: «Держи их, товарищи! Утякут, сволочи!..» Нащупав револьвер в кармане, Сергей и смертельно бледный прапорщик останавливаются и резко оборачиваются к догнавшим их преследователям. «Что с ними разговаривать? – орут напирающие сзади. – Бей их, товарищи!..» Сергей, уже решивший, что застрелит первого же прикоснувшегося к нему, а потом – и себя, поднимает руку: «Убить нас всегда успеете. Мы в вашей власти. Вас много – нас двое… – и, пользуясь секундной передышкой, почти кричит: – Присягали вы Временному правительству?» – «Ну и присягали! – кричат в ответ задние. – Мы и царю присягали!» – «Царь отрекся от престола… Отреклось Временное правительство от власти?.. Какую же вы власть признаете?» – «Известно какую! Не вашу – офицерскую! Советы – вот наша власть!..» И только тут в голове его мелькает мысль о спасении: «Если Совет признаете, – орет и он, не узнав своего голоса, – идемте в Совет! Пусть там нас рассудят…» Спасло и то, что Совет был рядом – в двух шагах на Тверской, в доме нынешней мэрии.
Из очерка Сергея Эфрона «Октябрь (1917 г.)»: «На генерал-губернаторский дом я рассчитывал… Я знал приблизительно расположение комнат, ибо ранее приходилось несколько раз быть там начальником караула. К этому времени вокруг нас образовалась большая толпа… прибывающие были гораздо свирепее прежних. Одни кричали, что с нами нужно здесь же покончить, другие стояли за расправу в Совете… Никогда не забуду взглядов, бросаемых нам вслед прохожими и особенно женщинами. На нас смотрели, как на обреченных… Но ни одного слова, ни одного движения в нашу защиту…»
Им повезло. Ярость толпы улеглась у порога нынешней мэрии, а тех солдат, которых пропустили, дежурный член исполкома, предложив написать объяснительные, поблагодарив «за исполнение революционного долга», отпустил. И – неожиданно улыбнулся офицерам: «Что же мне с вами делать? Скажу вам правду. Я не вижу в вашем проступке причин к аресту… Я сам недавно, подобно вам, срывал воззвания Корнилова». И, взяв конвой, не без труда не только вывел их из здания, но – посадил на трамвай…
Обо всем этом Цветаева узнает позже. А пока, летя в поезде с юга в Москву, обмирая от страха за него, напишет мужу письмо, которое дошло до нас. «Если Бог сделает это чудо, – напишет, – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака…» Газеты, купленные ею на станциях, вопиют. В Москве бои, горы трупов на улицах: изуродованные тела офицеров, кадетов, медсестер, юнкеров. 56-й полк, где служит Сергей, защищает Кремль. В письме – слова Сергею, живому или мертвому: «Разве Вы можете сидеть дома? Вы бы один пошли. Потому что безупречны…» Она не знает еще, что Кремль сдан, но муж – жив. Он и сотни офицеров окружены в Александровском училище на Арбатской площади. Это – почти могила. Еще вчера он отбивал на Ходынке пушки у красных, брал телефонную станцию в Милютинском, охранял делегацию офицеров к Брусилову в Мансуровском, когда того звали возглавить войска. И вот – в актовом зале училища услышал вдруг возникшего на трибуне Прокоповича, бывшего министра. «Положение безнадежно!» – прокричал тот осажденным. В ответ – шум, гвалт, давка. Сдаваться? А может, пробираться на Брянский? На юг, к казакам? Сквозь орущую толпу к Сергею протиснулся прапорщик Гольцев. «Ну что, Сережа, на Дон?» – «На Дон!» «Мы, – пишет Сергей, – обмениваемся рукопожатием, самым крепким за жизнь». А ночью, отыскав в каптерке училища рабочие полушубки, папахи солдат и сапоги невероятных размеров, решаются на побег. На проходной Сергей нагло толкает дверь. «Стой! – кричат красногвардейцы. – Ты кто?» – «Да это, кажись, свой», – говорит один. «Морда юнкерская!» – возражает другой. Но – выпускает обоих. «Секунда, – вспоминал Сергей, – и мы на Арбатской площади»…
Через час он обнимал уже Марину. А через день, 4 ноября, она увезет мужа в Коктебель. Потом почти сразу решит вернуться в Москву за детьми, чтобы все были при ней. Но куда там. Теперь, пишет она, «в вагонном воздухе – топором – три слова: буржуи, юнкеря, кровососы…» И – страх, ненависть, зверство, матерщина. Она ехала в Москву за детьми, не зная еще: обратно на юг ей уже не пробраться. Сбудутся слова Волошина: Россия в одно мгновение превратится в две страны – Север и Юг. На долгих три года растянется ее разлука с мужем, который все-таки окажется на Дону. И ровно через три года – 20 ноября 1920 года – ее сердце вновь замрет, «окаменеет от страха» за мужа: «Убит? Жив? Ранен?..» Именно в таком порядке, помните, мелькнут в ее воспаленной голове эти три слова на премьере Таирова.
В тот день здесь, в Камерном театре (Москва, Тверской бул., 27), где в «Сирано» играл когда-то ее Сережа (об этом, кстати, поминает даже Алиса Коонен), давали пьесу Клоделя. Знаете, как называлась она? «Благовещенье»! Благая, казалась бы, весть. Но, прервав спектакль, на сцену перед задернутым занавесом вдруг шагнул режиссер и, выкинув кулак в потолок, в зазвеневшей тишине крикнул: «Гражданская война окончена! Войска Врангеля разгромлены. Остатки Добровольческой армии сброшены в море!..»
Что тут началось! В едином порыве зал встал, и из сотен глоток, не сговариваясь, грянул «Интернационал». А она?.. А она в открытой всему залу ложе прессы одна осталась сидеть. Одна – на виду у всех. И не из обычного протеста – о, нет! От страха за мужа… Убит? Ранен? Жив?..
Ждала, ждала благой вести. Флирты, влюбленности, адюльтеры и романы – всё было в прошлом. Она любила только его. Всех других (ну, не смешно ли?) назовет потом «стручками», а одного вообще – «кочерыжкой». И когда весной уже 1921 года услышит, что Эренбург едет на Запад, наугад, во тьму напишет: «Мой Сереженька! Если вы живы – я спасена. Все мысли о Вас. Умру ли я завтра или до 70 проживу, я знаю – нет на земле второго. Да я и не хочу никого, от всех брезгливо. Я знаю, у нас будет сын, чудесный героический сын, ибо оба мы – герои…»
«Лучше бы я… умерла»
Собака лает, кошка ловит мышей, мельник… Мельник – кто ж не знает – мельник мелет муку! Но Цветаева в восемь лет еще из протеста, из «отвращения к общим местам», из ярой ненависти к диктантам (лучше сказать – к диктату!), назло учителю тогда же написала: «Собака лает, кошка – ловит… Мельник? Мельник играет на виолончели…» В этом вот – она вся!..
Собака, кошка, мельник… А поэт? Что делает поэт? Думаете, пишет стихи? Нет. Сначала поэт – любит. Даже когда налетают окаянные дни, когда страна колется пополам, когда общество делится на божественную и скотскую расы, а между любящими глубже бездн ложатся фронты войны Гражданской.
Цветаева. Из «Записной книжки № 8»: «Слушайте внимательно, я говорю Вам, как перед смертью: – Мне мало писать стихи!.. Мне надо что-нибудь – кого-нибудь – любить – в каждый час дня и ночи… Была ли я хоть раз в жизни равнодушна к одному, потому что любила другого? По чистой совести – нет… Одна звезда для меня не затмевает другой – других – всех! – Да это и правильно. – Зачем тогда Богу было бы создавать их – полное небо!..»
Этот человек всего дважды поминается в письмах Сергея. Но он пять лет был рядом с Цветаевой. Первый раз Сергей написал о нем только одну фразу: «Надеюсь, Никодим, как всегда, вас спасет». Сам Сергей с армией Корнилова в те дни как раз одолел 700 километров легендарного Ледяного похода на Екатеринодар. 65 верст в сутки. В «красном кольце», под артобстрелом, они шли по колено в замерзающей грязи, три месяца спали, не раздеваясь. Сорок пять боев. Кажется, тогда Сергей и возглавит пулеметную команду (как ему простят это потом, взяв в агенты ГПУ, ума не приложу). Кстати, сражаясь, считал: Россия «выздоравливает», верил, что к Рождеству они будут в Москве. Но ей написал: «Моя последняя и самая большая просьба к Вам – живите!..» И вспомнил Никодима: он спасет! А уже в Праге, когда у нее вспыхнет новый, самый большой роман ее, Сергей, предложив ей развод, вновь помянет Никодима. Напишет Волошину, что в день бегства из Москвы, в том ноябре 17-го года, когда рвался на Дон и на всё смотрел «последними глазами» («Ты знаешь, – напишет, – на что я ехал…»), Марина «делила время между мною и другим…» Этим другим и был как раз Никодим Плуцер-Сарно.
Он жил в Николопесковском (Москва, Большой Николопесковский пер., 4), и здесь, рядом с нынешним театром Вахтангова, она всегда чуяла еле слышный запах хороших сигар. Их курил он. Дым сигары попал потом в ее стихи, как и окно его квартиры. Помните: «Вот опять окно, где опять не спят…»? Окно и ныне на втором этаже этого дома. Вот за ним, вместе с женой, и жил смуглый черноглазый доктор экономики Плуцер-Сарно. Отсюда в день знакомства, еще в 1915-м, он послал ей корзину нежных незабудок. Романтик, «эталон мужества», пишут о нем, авантюрист, жадный до жизни. Он был старше ее на десять лет, а ей всегда хотелось, чтобы кто-нибудь гладил ее по голове. «Маринушка, – писал он, – я держу в руках Вашу светлую головку и… чую явственно весь меня поглощающий ритм Вашей души… Как Вы мне необходимы… Мы с Вами, Маринушка, двое БЛАГОРАЗУМНО несчастных БЕЗУМНО счастливых людей…» Ныне говорят: любовь – это феромоны, игра гормонов, люди просто выдумывают свои неистовые чувства. Но так, как «выдумывала» их Цветаева, – не выдумывал никто. Более того, в отличие от нас, она вообще, кажется, жила не в реальном мире – в параллельном, своем, но столь же живом и огромном. Вот уж где точно и фонари вдоль переулков, и даже солнце вспыхивали по ее хотению…
Как-то, размышляя о любви, она напишет: «Мне нужно понимание. Для меня это – любовь. Я хочу никого не держать и чтобы никто не держал!» Но Никодиму, поперек себя, напишет иначе: «Милый! Когда я вхожу к Вам в дом, я всем существом в праве на Вас. Нельзя оспаривать право человека на воздух. Я Вами дышу, Вами…» Через полгода от любви к нему будет уже, что называется, на стену лезть: «В любую минуту я о Вас думаю… Это ныло у меня два года, а теперь воет… Люблю Вас и без сына, люблю Вас и без себя, люблю Вас и без Вас – спящего без снов! – просто за голову на подушке!..» А он к осени 1918 года принимал ее у себя почти равнодушно: «Ах, это Вы!» Говорил: «Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю…» Приходил к ней сначала в четыре часа, потом в шесть, в восемь, потом – вообще перестал приходить. В последнем сохранившемся письме она напишет: «Я Вас больше не люблю… Не думаю о Вас ни утром, ни ночью, ни под музыку». И скажет слова про все прошлые и даже будущие романы свои: «Вы первый перестали любить. Я люблю до последней возможности…»
Параллельный мир поэта! Мир абсолюта! Может, он и спасал? В нем не была нищей, пусть и ходила теперь порой босиком. В нем не замечала ничего. В нем, как написала в дневнике, отпадали людские предрассудки: «Евреи, высокие каблуки, чищеные ногти – чистые руки! – мытье головы через день», вся та – «непереносная… жизненная дробь». В нем, наконец, уживались Сергей, Никодим и сколько, сколько еще. Наконец, в нем – даже сказать тяжко! – еще до смерти умерла для нее Ирина – ее вторая дочь.
Писать о Цветаевой и впрямь жутковато, перекреститься тянет, усаживаясь у компьютера. Ну можно ли, скажите, ежедневно бросать вызов судьбе, обществу, самому Богу? В воображении она – стремление к совершенству. «Тонкая, легкая… Нежный голос… Живу, как другие танцуют: до упоения – до головокружения – до тошноты! Я – Танцовщица Души…» А в реальности – «баба кулак», с «решительными, дерзкими до нахальства манерами», – как отзовется о ней одна знакомая. И не из-за этой ли раздвоенности самые ужасные события ее жизни случались, когда она «воображенная» сталкивалась вдруг с собой – реальной?..
Через пять лет после рождения Али, первой дочери ее, на свет появилась Ирина. Аля, которая в четыре года свободно читала, в пять писала, а в шесть вела дневник, была «лучшим стихом» ее. «О, как тебя будут любить! – напишет Цветаева о ней. – Ты будешь красавицей, будешь звездою… Ты уже сейчас умна и очаровательна до умопомрачения». Захлебываясь от восторга, скажет: «Такого существа не было и не будет», были юные гении в музыке, в живописи, но не было столь юного «гения Души!» Но тогда же, еще до рождения Ирины, вдруг запишет: «Легче быть запертым в клетку со львом, чем в комнату с грудным ребенком». Через годы, опомнившись, припишет над этой фразой два слова, но уже точно про вторую дочь: «Ирина, прости!..»
Ирину рожала в доме для подкидышей. Нет, родильное отделение там, на Солянке (Москва, ул. Солянка, 2), было вполне пристойным, были даже платные одноместные палаты, где она и лежала, но к дочке – вот к дочке, появившейся на свет, она почти сразу отнеслась именно как к подкидышу. «Случайный ребенок», – почему-то по-немецки запишет в тетради. Будет стыдиться гулять с ней, уходя, иногда на всю ночь, привязывать к ножке кресла (та, не привязанная, съела однажды полкочна сырой капусты!) и, сияя, соглашаться с любым: дочь – дефективна. «Я никогда не любила ее в настоящем, всегда в мечте… – напишет. – Меня раздражала ее тупость (голова точно пробкой заткнута!), ее грязь, ее жадность, я как-то не верила, что она вырастет…» А в 1919-м, в самый голод, будет гадать: «Кому дать суп из столовой? Ирина слабее, но Алю я больше люблю. Кроме того, Ирина уж всё равно плоха, а Аля еще держится…» Жуть! Впрочем, меня убило другое: она за три года жизни Ирины брала ее на колени, как сама призналась, раз десять всего, отчего та только тогда и смеялась. «Маена, Маена моя!» (Марина моя! – В.Н.) – и – начинала петь от радости…
Спасение, казалось бы, пришло неожиданно. От Павлушковых, от Драконны, из дома которой ее выгнали семь лет назад. После революции Цветаева вновь сошлась с ней, и именно Лидия Александровна – Драконна сказала, что рядом с госпиталем в Кунцеве, где ее Павлушков служил главврачом, открылся приют американской благотворительной организации: рис, шоколад, супы. Правда, приют для сирот, своих детей там придется выдать за чужих. И если Цветаева накануне расставания всю ночь штопала панталоны и платьица дочерей, то Драконна, встретив их наутро, скажет, что нужно было, напротив, разодрать их, ведь дети – «круглые сироты». На Иру Цветаева внимания не обращала, а Алю вечером наставляла. «Понимаешь, – вбивала ей в голову, – всё это игра. Ты играешь в приютскую девочку. У тебя будет стриженая голова… грязное платье – и на шее номер. Ты должна была бы жить во дворце, а будешь жить в приюте. – Ты понимаешь, как это замечательно?.. Это – авантюра, это идет великая Авантюра твоего детства… Если тебя будут бить – бей. Не стой, опустив руки, а то тебе проломят голову!.. Главное – ешь, не стесняйся, объедай их вовсю!..» Аля в ответ кивала: «Да, Марина, они враги – я буду их объедать!» – и клялась: «Я смогу Вам откладывать еду», а если дадут компот – «выловлю весь чернослив и спрячу». «О, Марина, как жаль, что нельзя засушивать еду, как цветы!..» Наивные, дорого обойдется им и этот мифический «компот», и «засушенная еда»…
Короче, ранним утром 15 ноября 1919 года они уселись в сани и отправились в приют. У Поклонной Ирина, пригревшись на коленях у Драконны, раздражая мать, начала талдычить: «Тюдесно сидеть!» Потом завела песню: «Ай, дуду, дуду, дуду…» Вообразите: сугробы, ветер, одиноко плетущиеся сани. И никто из четверых не знает: самая маленькая из них едет на смерть. Более того, смерть не в параллельном мире – реальная – будет ждать в Кунцеве и саму Цветаеву… Да, ровно через два месяца метельная ночь едва не поставит точку в ее вечном «романе со смертью». Спасут две бабы из деревни Аминьево – я обещал рассказать об этом.
Цветаева. Из «Записной книжки № 7»: «Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – ведра – тряпки… Пилю. Топлю… (Хожу и сплю в одном и том же коричневом, бумазейном платье… Всё прожжено от углей и папирос…) Потом уборка… Маршрут за обедом – оттуда – по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и бидонами, – ни пальца свободного – и еще ужас: не вывалилась из корзинки сумка с карточками!.. Все обеды – в одну кастрюльку: суп вроде каши… Кипячу кофе. Курю. Пишу… Появились некоторые совсем старческие жесты. Сижу одна на кровати – пилила, устала – руки некрасиво и бессильно лежат на коленях. Не жалко и не страшно. – Пусть! (Тем более, что мне 27 лет, а с виду и 20-ти нет!)… В 10 ч. день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 10 ч. или в 11 ч. – в постели. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросами, – иногда – хлебом… Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, радости от малейшей удачи, планов пьес – все стены исчерканы строчками стихов и NB для записной книжки!..»
В ту ночь в Кунцеве она действительно едва осталась жива. Но – потеряла дочь. Какой там шоколад и рис – в приюте, как оказалось, давали лист капусты в супе и ложку чечевицы, которую голодные дети, растягивая радость, ели по зернышку. А спали – по трое в кровати. Все это Цветаева увидит, когда через две недели, услышав, что Аля заболела, примчится в приют.
«…Дети. Большие животы, идиотские лица», – напишет о посещении. Воды нет, нет врача, лекарств, кругом безумная грязь, полы, как сажа, и лютый холод, ибо отопление испорчено. “Ирина всё поет?” – спрашиваю надзирательницу. “Поет. Дефективный ребенок”. Я почти радостно: “Чудовищно неразвита”… Идем по темной лестнице… Несу Але 2 куска сахара. Какая-то девочка: – “Аля! К тебе тетя приехала!..”» «Страшное, нищенское ватное одеяло. Из-под него воспаленные ярко-красные от слез Алины огромные глаза. Бритая голова… “Мамочка! Я была у вас совсем сыта, а здесь – ни капли! Я погибаю. Ирина, я с ней спала, сегодня ночью обделалась три раза…” Тут только замечаю Ирину. Не улыбается. Узнаю ее гнусность… Взглянув на меня, отвертывается… Даю Але сахар. “А что же маленькую-то не угостите?” Делаю вид, что не слышу. Господи! Отнимать у Али!.. Ирина в злобе колотится головой об пол. “Ирина!!!” – окликаю. Послушно встает… Через секунду вижу ее над лестницей. “Ирина, упадешь!” – кричу. “Не падала, не падала – и упадет?” – спрашивает какая-то девочка. “Вот именно, – говорю спокойно и злобно, – не падала – и упадет…”»
Не упадет. Умрет от голода, когда Цветаева, схватив Алю в охапку, увезет ее, больную, домой. Но в тот вечер, едва оторвав Алю от себя, чуть не погибнет сама. Покинув приют, угодит в дикую метель, в снег по колено. Спокойно и, как пишет, безнадежно подумает: «Замерзну…» А когда поймет, что вдобавок заблудилась, услышит вдруг из темноты голос какой-то старухи: «Барышня! Вы куда?..» – «В Кунцево». – «Ох, не дойдете, – ишь дорогу-то как замело…» – «А вы куда, тоже в Кунцево?» – «Нет, я здешняя». «Надежда, – пишет Цветаева, – пропадает…» К счастью, через минуту, издалека уже, услышит тот же бабий голос: «Милая! Подвези-ка их! Им тоже в Кунцево! Ты ведь на станцию?» Цветаева даже не увидит саней, услышит крик: «Что ж, садитесь, пожалуй, коли сядете, только лошадь я остановить не могу, спешно мне!..» «Вскакиваю на ходу, – пишет Цветаева, – в первую секунду не понимаю, в сани или в снег – нет, снег движется – значит в сани. Спасена!..»
Из письма Цветаевой – поэтессе Вере Звягинцевой: «Я даже на похороны не поехала… Чудовищно? Да, со стороны. Лучше было бы, чтобы я умерла!.. Но я не от равнодушия не поехала. – У Али было 40,7… и… сказать правду?! – я просто не могла… К живой не приехала… – Ах, господи!.. Живу с сжатым горлом, на краю пропасти… Во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям… Когда самому легко, не веришь, что другому трудно. И – наконец – я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат – у меня была только Аля… И вот Бог наказал… Если можно, никаким общим знакомым – пока не рассказывайте, я, как волк в берлоге, прячу свое горе…»
А в тетради, в потайном дневнике, запишет прямо: «Иринина смерть… Если от голода – немножко хлеба! если от малярии – немножко хины – ах! – НЕМНОЖКО ЛЮБВИ…» И, оставив чистые страницы, – оборвет запись…
Не быт, но — бытие…
Страшно рассказывать о Цветаевой. Но ведь и жизнь ей выпала страшная. Жизнь обвиняла, но ведь она же и оправдывала ее… Мир души и мир реальный, мир абсолюта и мир хаоса – всё сгорало в костре поэта. О Цветаевой много всякого можно рассказать, отчего любой человек счел бы ее чудовищем. И столь же многое докажет: перед нами не просто поэт – святая…
Из воспоминаний Павла Антокольского: «Через плечо перекинута желтая кожаная с умка вроде офицерской полевой или охотничьего патронташа – и в этой сумке умещаются и сотни две папирос, и клеенчатая тетрадь со стихами. Куда бы ни шла эта женщина, она кажется странницей, путешественницей. Широкими мужскими шагами пересекает она Арбат и близлежащие переулки, выгребая правым плечом против ветра, дождя, вьюги, – не то монастырская послушница, не то только что мобилизованная сестра милосердия…»
Стол, стул и два любимых тополя за окном. Ныне напротив ее дома в Борисоглебском, напротив музея ее – остался один. Но, если прокрутить пленку назад, в 1920-й, то можно увидеть, как там, на втором этаже дома, она среди тьмы, пепла, ломаной мебели, битой посуды записывает: «Мои два тополя перед крыльцом мне дороже больших лесов, они – волей-неволей за шесть лет успели привыкнуть ко мне… – кто так часто глядел на них на рассвете?..»
Восемь лет проживет она тут до отъезда в эмиграцию, до встречи с Сергеем (Москва, Борисоглебский пер., 6). Они сняли квартиру здесь в 1914-м. «Дом-корабль» в два этажа, с закоулками, окном в потолке и «каютой-чердаком» – семь только светлых комнат, не считая темных, – и – 300 «квадратов», как сказали бы сейчас. Когда в 1966-м я, еще солдатом, вырвавшись в увольнение, пришел сюда впервые, тут была коммуналка, где обитало, как пишут ныне, сорок жильцов. Еще ничего не было, кроме первой тоненькой книжки ее стихов, выпущенной в 1961-м. Не было «биографии» ее, не было никакого «цветаеведения», да и сам дом был приговорен – это известно! – к сносу. Я поднялся по той еще лестнице (если б вы видели ее в 1966-м!), позвонил в дверь (ныне она – перенесена!) и начал объяснять какой-то тетке, зачем пришел. Она, колюче глянув на меня через цепочку, буркнула: «Цветаева? Нет, не живут, не живут здесь такие». Через щель я только и успел разглядеть тогда какие-то тазы, кривую вешалку и часть швабры с грязной тряпкой… Тряпки, как и аптеки, – вечны. Но даже в нынешнем, залитом светом музее, даже если вы попадете в руки лучшего в мире экскурсовода – и тоже, кстати, поэта! – Галины Данильевой, вам всё равно никто не покажет ни тарусского рояля, ни «волшебной» елизаветинской люстры, ни настоящей шкуры того волка, которая лежала у дивана. Нет их, как нет ни чугунной фигурки «Нюрнбергской девы», которая служила Цветаевой пресс-папье, ни скрепки для бумаг в виде двух ладоней, ни глиняной посеребренной «птицы Сирин». Это и до революции-то не всё дожило, а уж тем более – до суматошного отъезда Цветаевой в эмиграцию.
Тогда, в 1914-м, в доме были кухарка, дворник, няньки для Али. Тогда Марине, не умевшей, как сама признавалась, отличить вырезку от требухи, а манную крупу – от муки, случалось, подавали завтрак на подогретых тарелках, а после каждого блюда полагалось полоскать рот. Через три года, в революцию, она всю добытую в разных местах «требуху» (кашу, похлебку и – о, удача! – селедку) сваливала в одну миску и хлебала. Когда-то душилась тонким «Корсиканским жасмином», теперь, сидя без воды, вылизывала руки языком (да-да, именно!), ибо не могла писать стихи грязными. Наконец, когда-то, собираясь «в люди», цокала тут высокими каблучками в красной пелеринке, отороченной светлым мехом. Теперь же не ходила – «жила» в чем-то вроде подрясника из какой-то зеленой портьеры, а, уходя из дома, подпоясывалась не офицерским даже – юнкерским ремнем мужа и шнуровала башмаки веревочками, которые даже не закрашивала чернилами. «Такие делишки!» – заканчивала теперь монологи свои, что Асе, сестре, давно не видевшей ее, показалось не просто «чужеродной» – вульгарной фразой…
Да, чудовище и святая! Из шести картофелин три могла отнести другу Бальмонту, но могла и бесстыдно продать чужую мебель, отданную на хранение. Воровала хлеб в гостях (не надо просить), но тут же чужому человеку легко дарила антикварную, небесной красоты чернильницу. Запросто знакомилась с мужчинами, даже нагло навязывалась им («Чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом»), но к приехавшему в Москву Блоку даже подойти не решилась. Да, жизнь обвиняла ее, но жизнь и оправдывала. Невероятно, но вор, ворвавшийся к ней, не ее испугался – пишут! – бедности ее. И, просидев до утра, сам дал ей денег. Пришел взять, но захотел – дать. Ну не святая ли? Что говорить, одного красноармейца, коммуниста с глазами ребенка, который колол ей дрова, носил и кусок мыла, и морковку и кого назовет «самой Россией», она так «распропагандирует», что он навсегда порвет с партией. В порыве чувств назовет ее даже – «квалифицированной женщиной». Блеск! А она именно ему, навещая его в доме врача Доброва, где, кстати, жили сыновья писателя Леонида Андреева Вадим и Даниил (Москва, Малый Левшинский пер., 5), и скажет однажды: «Я люблю, чтобы деревья росли прямо. Растите в небо. Оно одно: для красных и для белых»… Считайте, сказала самой России – имела право!..
Из предисловия к книге «Быт и Бытие» кн. С.М.Волконского:
«Милая Марина. Почему я Вам посвящаю эту книгу?.. Вы помните, как мы жили? В какой грязи, в каком беспорядке, в какой бездомности… Помните жуткие звонки, обыски, оскорбительность “товарищеского” обхождения? Помните… шум автомобиля мимо окон: остановится или не остановится? О, эти ночи!.. А женщины-расстрельщицы? А… четырнадцатилетний палач, который на площадке лестницы с револьвером поджидал проходящих осужденных и выстрелом в затылок спускал их вниз?.. И мы дышали тем воздухом… И мы выжили… Какое смешение быта и бытия. Как тяжел был быт!.. Как напряженно было бытие, как героически напряженно!.. О, сколько в нас такого, что ни отнять, ни украсть, ни реквизировать нельзя!..»
«Выгребая правым плечом» – сначала против ветра и дождя, а потом – и против вьюги, ровно так, как скажет о ней Павлик Антокольский, тогда юный поэт, она пропадала у Волконского, помогая ему переписывать эту книгу, он жил тогда у Стаховича, актера (Москва, Страстной бул., 8), навещала писателя Зайцева и особо его жену, которая, напротив, помогала уже ей (Москва, Кривоарбатский пер., 4), бывала у Игоря Грабаря, тогда еще директора собрания картин братьев Третьяковых, будущей Третьяковки, – в его доме собиралась богема и полубогема (Москва, ул. Пятницкая, 2), у молодого поэта Евгения Ланна (Москва, ул. Большая Дмитровка, 9), наконец – вы удивитесь! – поднималась на седьмой этаж в дом к гимназической подруге Гале Дьяконовой (Москва, Трубниковский пер., 26), которая, уехав в Париж, станет скоро женой поэта Поля Элюара, а потом той самой Галой – всесветно известной женой Сальвадора Дали. Но, главное, чуть ли не ежедневно «выгребала» в Мансуровский к Вахтангову – в III студию Художественного театра (Москва, Мансуровский пер., 3). Антокольский и привел ее туда, водил на репетиции, читки, междусобойчики, где Цветаева почти сразу подружится и с Завадским, тогда актером, и с актрисой Сонечкой Голлидей, которую обессмертит в «Повести о Сонечке».
«Всю эту зиму, – занесла в тот год в тетрадь Цветаева, – я сердечно кормилась возле III студии. Плохо кормиться возле чужого стола!..» Хотя, строго говоря, скорей студия «кормилась» ею. Шесть пьес подряд пишет она для театра: «Метель», «Фортуна», «Каменный ангел», «Червонный валет», «Феникс», «Приключение». Друзья, «банда комедиантов», как назвала Вахтангова, Завадского, Сонечку, Стаховича и Мчедлова, с восторгом принимают эту «романтическую героику», но ни одна из пьес, несмотря на шумный успех в узких кругах, до подмосток так и не доходит. Ничего, она не горюет, ей ведь надо выговориться, выкричаться в онемевшей от цензуры Москве. И – вновь «выгребает плечом» в студию, где ей рады, где встречает беды и праздники и где однажды под Новый год, подняв стакан с разведенным спиртом, тряхнув челкой, весело выкрикнет: «За почетную рвань, за Тамань, за Кубань, за наш Дон русский – старых вер Иордань, грянь кружка о кружку!..» Это были стихи из потайной тетради, их писала в честь мужа-белогвардейца. Кому еще могла прочесть их в красной Москве? Ведь даже близкие, родственные, казалось бы, души оборачивались вдруг «врагами». Я имею в виду Мейерхольда и чуть позже – невероятно, но – влюбленного в нее когда-то Мандельштама. Мейерхольд, когда она отказалась переделывать «Гамлета» для его Первого Театра РСФСР (эту аббревиатуру, РСФСР, Марина, смеясь, звала «Расфуфыркой»), тиснул в «Вестнике театра», считайте, донос на нее. «Вы знаете, – написал, – как отшатнулся я от этой поэтессы… Вы помните, какие вопросы задавала нам Марина Цветаева, выдававшие в ней природу, враждебную всему тому, что освящено идеей Великого Октября…» На дворе стоял февраль 1920-го, и скоро, совсем скоро за такие обвинения в нашей «Расфуфырке» начнут сажать. А Мандельштам, и тоже в печатном органе – в журнале «Россия», правда, в 1922-м, уже после отъезда Цветаевой за границу, предаст ее круче. Назвав ее стихи «богородичным рукоделием», которое «оскорбляет слух», он, кого она всего шесть лет назад назвала «молодым Державиным» и «божественным мальчиком», напишет: «Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России – лженародных и лжемосковских – неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды…» Как вам пассаж? Аделина Адалис была к тому времени, если кто забыл, не только ректором поэтического техникума, но правой рукой самого Брюсова. И скоро в сборнике своем с говорящим названием «Власть» Адалис воспоет в стихах и Сталина, и «родного луганского слесаря» – то бишь Ворошилова. Этот сборник тоже восторженно похвалит (было, чего уж там!) сам Мандельштам…
С Адалис Цветаева тоже столкнулась. На эстраде Политехнического, на вечере поэтесс, устроенном Брюсовым. Ее и уговорит Адалис, ибо Цветаева не хотела выступать с коммунистками. Но коммунистки в 1920-м были уже в лодочках, ажурных чулках и даже вечерних платьях. А Цветаева вышла перед залом, заполненном в основном красными курсантами, в валенках, в диком своем подряснике и юнкерском ремне. Но когда Брюсов, предваряя читку, сказал, что женщина «умеет петь» только о любви и страсти, Марина, закусив губу, вызвалась выйти первой. Семь стихотворений подряд, и ни одного – о любви. Стихи о Белой армии, о добровольцах, о Доне. И после каждого – шквал аплодисментов. Вот это было «кино» и, если хотите, почти костер Жанны. Она бросала в зал стих за стихом из «Лебединого стана». «Довольно, довольно», – поднялся из-за стола побелевший Брюсов. А она выговаривала, выкрикивала красноармейцам последнюю правду жены белого офицера: «Чем с другим каким к венцу, – чеканила, – так с тобою к стеночке!..»
Через шесть лет, уже в Париже, поселившись на авеню Жанны д’Арк (ну разве не совпадение?), проводив мужа на съемки фильма про Жанну д’Арк, где он за сорок франков играл в эпизодах (это даже не совпадение уже – просто мистика!), она в письме подруге подобьет итоги своих отношений с людьми.
Из письма Цветаевой – Анне Тесковой: «Скажу по правде, что я в каждом кругу – чужая, всю жизнь. Среди политиков так же, как среди поэтов. Мой круг – круг вселенной (души: то же) и круг человека, его человеческого одиночества, отъединения. И еще – забыла! – круг: площадь с царем (вождем, героем). С меня – хватит. Среди людей какого бы то ни было круга я не в цене: разбиваю, сжимаюсь. Поэтому мне под Новый год – пустынно…»
«Родись она в Средние века, за нее было бы страшно», – скажут о ней в Париже. Сожгли бы на костре! И назовут – ведьмой. А ведь ведьмой ее можно было бы назвать еще в Москве. Худую, с огромными глазами, вечно смеющуюся, «когда нельзя» (это ведь она написала, что лишь на могиле ее, возможно, напишут – «Уже не смеется!»), и вечно встающую, когда надо бы сидеть, не высовываться и прятаться за чужие спины… Именно такой запомнят ее два последних дома в Москве: дом на Поварской, где ныне Союз писателей, и дом на Кузнецком Мосту, где в Наркомате иностранных дел она будет получать заграничный паспорт.
В первом доме она – «товарищ Эфрон», как звали ее официально, – сначала пять месяцев служила помощником информатора в Наркомнаце (заполняла какие-то карточки, а на деле – писала свои пьесы), а потом, когда в этом же здании открыли Дворец искусств, тут же, на вечере поэзии и прочла, может, самые дерзкие стихи свои. Кстати, из пьесы, которую сочиняла чуть ли не в этом же Розовом зале, во время первой за жизнь и последней своей службы. Теперь на вечер в Розовый зал соберутся красные поэты, партийцы, сам Луначарский, да-да! А она, тряхнув кудряшками, тронутыми уже легкой сединой, с вызовом закончит: «Так вам и надо за тройную ложь Свободы, Равенства и Братства!..» Речь в пьесе шла о Французской революции, но она, прочитав ее, ликовала: «Вот это жизнь!.. Монолог дворянина – в лицо комиссару. Жаль только, что Луначарскому, а не… всей Лубянке, 2»!..
А на Кузнецкий Мост придет через год после того, как в июле 1921-го получит письмо из Константинополя – от Сергея, живого и невредимого. «С сегодняшнего дня – жизнь, – запишет в тот день в тетради. – Впервые живу!» В ответном письме напишет: «Мой Сереженька! Если от счастья не умирают, то – во всяком случае – каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. Последние вести о Вас: Ваше письмо к Максу. Потом пустота»… Однако до отъезда пройдет почти год. На Кузнецкий придет, продав всё, что можно, собрав двенадцать миллионов за разрешение на выезд и уже упаковав сундучок с рукописями, чемодан, портплед и корзину, куда уложит «драгоценность» – подстаканник мужа (свадебный подарок ее). Смешно, но сунула в чемодан и советский букварь, где на букву «И» был стишок: «Ильич железною метлой сметает нечисть с мостовой». Под стишком был нарисован Ленин в дворницком фартуке, из-под метлы которого летели царь, генералы, капиталисты. В последний день там, в Наркоминделе (Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21), угодит в дикую очередь как раз таких же «выметаемых»: дворян, интеллигентов, недобитков. Судьба, но через семнадцать лет, вернувшись в Москву, встанет в очередь здесь же, на Кузнецком, только в доме напротив – в приемной НКВД (Москва, ул. Кузнецкий Мост, 22). Будет сдавать передачи арестованным мужу и дочери. И, представьте, – это уже совсем не смешно: в той очереди будут стоять всё те же – недобитки, дворяне, интеллигенты…
Про дорогу на Запад не напишет ни слова. «Чует мое сердце, – скажет Эренбургу, – что там люди жестче. Здесь рваная обувь – беда или доблесть, там – позор… Примут за нищую и погонят. – Тогда я – удавлюсь…» Промолчит про дорогу, но всё расскажет потом Аля. Как в поезде мать не спала всю ночь, как, просыпаясь, дочь видела бессонный профиль ее на фоне вагонного окна, за которым, не отставая, «катилась большая белая луна». Немое черно-белое кино ее жизни катилось. «За царем – цари, за нищим – нищие, за мной – пустота…» Пустота и одиночество. Цветаева не знала лишь, что и впереди ее ждали всё те же одиночество и пустота. Да еще огромное небо, которое и во Франции окажется одним на всех – и для красных, и для белых.
«Гора» и горе
Ах, карусель, карусель – детская забава. Давно ли вы катались на ней? И любите ли вы ее, как люблю ее я?.. Шучу! Но так, вообразите, могла спросить, да и спросила нас Цветаева! Не ребенком, не девочкой, даже не девушкой – женщиной в тридцать лет записала: «Что может быть волшебнее карусели? Эти геральдические львы и кони точно с французского герба, эта музыка, эти невинно-блаженные лица взрослых и – наконец! – этот полет…»
С одиннадцати лет обожала вертеться на карусели. Но я немало удивился, узнав, что и в 1919-м, в голод и разруху, она до посинения кружилась с дочкой на какой-то уцелевшей вертушке. Объяснения этой затянувшейся любви к каруселям, «впадения в детство» я бы, наверное, не нашел (да и не глупость ли – искать его?), если бы не слова Пастернака. Именно он, и влюбленный корреспондент, и заочный конфидент ее, написал как-то: «Талант есть детская модель вселенной для постижения мира с его лучшей и ошеломляющей стороны…» То есть талант – это всегда немножко детство, первичность его в творчестве и младенчески чистые чувства художника. Не потому ли Блок незадолго до смерти так влюбился в американские горы, что съехал с них однажды восемьдесят раз по точному счету? Не оттого ли и Хлебников так полюбил с юности «раздвижные» деревянные игрушки из Сергиева Посада, что в руках с одной из них даже умер? И не отсюда ли – цветаевские карусели?
Да, в мае 1919-го, оседлав истертых детскими задницами лошадок на Воробьевых горах, Цветаева и Аля беспечно смеялись и веселились. Война, пропавший на фронте муж и отец, аресты и расстрелы вокруг, а они, летая по кругу, ликовали. Через три года в мирном и сытом Берлине, наткнувшись в луна-парке на богатую, как торт, розово-малиновую карусель, обе, напротив, не улыбнулись ни разу. Даже – друг другу. «Гордо и грациозно сидела в позолоченном седле моя строгая мама с каменным лицом, – напишет Аля, – отнюдь не веселясь, а как бы выполняя некий… обряд…»
Вот и всё! Не начало эмиграции – вся эмиграция ее! Не жизнь – обряд жизни в Берлине, Праге, Париже, семнадцать лет скитаний: верчения судьбы, круговерти быта, колеса забот. А по сути – адской карусели разочарований, обид, предательств. И «на круг» – сплошная работа. По утрам – обливание холодной водой до пояса, варка кофе на весь день и на «поджарый живот» – многочасовые поиски одного порой слова. Лоб в ладонь, пальцы в волосы, а простую ручку – в тетрадь. И впрямь – «Герой труда», – как скажет про себя. Но если без высоких слов, то заграничная «карусель» ее разорвет не «детскую модель вселенной» – хребет ей переломает. Погубит, может, единственное, что осталось ей в жизни, – семью…
Хотите анекдот? Тоже грустный, но зато – оттуда. Так вот, в 1922-м в Берлине собралось вдруг столько беженцев из России, столько открылось русских кафе, редакций и театров, что какой-то немец повесился. От «тоски по родине»!.. Не очень смешно, особенно ныне, в эпоху мульти-культурализма. Но если серьезно, то русских в Берлин съехалось тогда свыше ста тысяч. Это факт! Но и в кафе, и в забитых по крыши отелях среди гогочущей или рыдавшей эмиграции Цветаева не нашла одного – того, ради кого и рвалась на Запад. Сергей, муж, учился в Праге, в университете, и приезд его в Берлин затягивался. Вот когда три года разлуки с ним показались короче трех недель ожидания, когда сразу и от всех она оказалась, по словам Али, далека «как солнце», а всё «существо ее» превратилось в «сдержанность и сжатые зубы…» Берлин ведь принял ее даже не литератором, напишет Роман Гуль, – «Божьим ребенком в мире людей. И этот мир своими углами резал ее и ранил…»
Аля запомнит, как они отправились в самый большой универмаг, где мать, к ее удивлению, купила себе простенькое платье «дирдели-клейд» в талию, какие носили немки-подростки, и ботинки на толстой подошве, хотя все щеголяли в лаковых туфельках. Она ведь и в нэпманской Москве запретила себе «пялиться» на сияющие стекла богатых магазинов. И вдруг, уже в Берлине, в каком-то кафе услышала от русского офицера, что в уставе гвардии России была, представьте, строка, прямо запрещавшая заглядываться на витрины. Даже гадала потом: уж не было ли в роду ее реальных гвардейцев? А своему гвардейцу, Сергею, в том же универмаге, напротив, щедро накупила подарков: теплое белье, носки, шарф и «для души» – портсигар. Как рысь, рыскала по забитым прилавкам в ожидании своего льва: так насмешливо – Рысь и Лев – звали они друг друга до разлуки. Только вот к поезду мужа, из-за поздней телеграммы его, Рысь, увы, опоздала.
Когда ворвались на вокзал, он был гулок и пуст. Поезд Сергея, пишет Аля, ушел: ни пассажиров, ни встречавших. Обмирая от ужаса, обежали перроны, залы ожидания, потом камеры хранения, даже ресторан. Цветаева в синем платье, девятилетняя Аля в новой матроске – такие нарядные и такие несчастные!.. На слабеющих ногах выползли на белую от солнца площадь. «Марина, – вспомнит Аля, – стала слепо и рассеянно нашаривать в сумке папиросы… Лицо ее потускнело! И тут мы услышали: “Марина! Мариночка!..” С другого конца площади бежал… высокий худой человек, и я, уже зная, что это – папа, еще не узнавала его…» Он летел к ним с чужим от счастья лицом и, добежав, – раскрыл руки навстречу рукам жены. «Долго, долго, долго, – пишет Аля, – стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез…» Плачут ли львы и рыси, не знаю, но стойкие гвардейцы, бывает, плачут. Второй раз разрыдаются оба, когда она, влюбившись, обезумев от страсти, уйдет из семьи к другому.
Из дневника Цветаевой (запись от 30.7.1923 г.): «Просьба: не относитесь ко мне как к человеку. Как к дереву, которое шумит Вам навстречу… Вы же дерево не будете упрекать в “избытке чувств”… Мне всё скучно. Заранее и заведомо. Когда я с людьми, я несчастна: пуста… Я – выпита. Я не хочу новостей… гостей… вестей. У меня голова болит от получасовой “беседы”… Я становлюсь жалкой и лицемерной, говорю как заведенная и слушаю как мертвая. Я зеленею. Чувства, что люди крадут мое время, высасывают мой мозг (который я в такие минуты ощущаю как шкаф с драгоценностями!) наводняют мою блаженную небесную пустоту… всеми отбросами дней, дел, дрязг…»
Она по-прежнему в Берлине, а потом и в Праге «выдумывала» себе «героев». Увлекалась выдуманным, разочаровывалась и – вновь увлекалась. В Берлине впопыхах влюбилась в Вишняка, издателя по прозвищу «Геликон», кого через пару лет даже не узнает; здесь, получив из Москвы первое письмо Пастернака, начала долгий эпистолярный роман с ним; здесь же закончила и опять-таки заочный роман в письмах с юным критиком Бахрахом. Пока, наконец, не встретила невыдуманного – «очного». «Люблю вертикаль, гору», – твердила в юности. А в Праге вдруг признается: «Горе началось с горы…»
Имя этому «горю» – Константин Родзевич. Человек-загадка. Вернее, загадок, не разгаданных и поныне. О нем, кого муж ее презрительно назовет «маленьким Казановой», а дочь – «ничтожеством», она напишет две великие поэмы. Сын петербургского генерала, выросший на Песках (С.-Петербург, ул. 7-я Советская, 36), дворянин, мичман тогда, он, перейдя в революцию на сторону большевиков, стал красным комендантом Одесского порта, потом – одним из командующих Нижнеднепровской флотилии, затем, попав в плен к белым, был приговорен к смерти, но помилован и вместе с армией Врангеля (за что уже красные приговорили его к расстрелу) оказался в эмиграции. Кстати, учился в Пражском университете с Сергеем, был другом его. «Лукавый краснобай», «обаятельная посредственность», «мотыльковый позер» – так пишут те, кто знал его. Но почти все добавляют: красавец и отъявленный донжуан. «Чья же я преемница?» – смеясь, спросила его Цветаева в первые дни любви. «Ах, так, одна рвань, – усмехнулся он. – Всё, что не вы, – рвань…» Знала бы, что из-за него и семья ее погибнет, и – сама. Это, кажется, так. И, благодаря открытым ныне свидетельствам, я попробую доказать это…
От первого поцелуя с ним на пражской площади ее удержала слишком белая луна. «Идя домой, – напишет ему в ту ночь, – я думала… слава мудрым богам, что я этого прелестного, опасного, чужого мальчика – не люблю! Если бы любила… не оторвалась». Ей тридцать, ему – двадцать восемь. И ничего, даже поцелуя не случилось бы, если бы Сергей не уехал из Праги на четыре дня. Они и решили всё. Тогда и запишет в тетрадь: «Я встретилась с никогда не бывшим в моей жизни: любовью – силой», тогда и попросит Родзевича в письме – «Держите меня крепче, не отпускайте, не возвращайте Жизни… После вас – лучше смерть… Я в первый раз… ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать!.. Вы сделали… чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли… Мой Арлекин! Господи, прости меня за это счастье!..»
Дожди, мосты, фонари, отражающиеся в лужах, какие-то ночные кафе, рассветные рабочие забегаловки. И – губы на груди до зари, и «поцелуи в ладонь», и долгая «совсем уже невыносимая нега», которой никогда не знала, и сон на рассвете в его халате, и уж совсем молодая записка ему, перед новым свиданием: «У меня новая сумка – р-раз, новая зажигалка – два, новое платье – три (в нем приду), новая душа в теле – четыре…» И как с горы на бегу – в «воровскую страсть» с ним. И – уже в гору – долгие проводы до реальной, до Смиховской горы ее, горы-сводни, где стоял ее дом с комнатой в одно окно под самой крышей. Я видел в Праге и этот холм, и дом, где она прожила почти год. Спецкором «Комсомолки» отыскал его в начале восьмидесятых на Шведской улице. И – стоял на том полу, где она, «истерзанная и полубезумная», затылком, плашмя, отлеживалась после свиданий; и – выглядывал за окно, из которого был виден весь город и у которого полвека назад ждал ее ночами Сергей, мучаясь только одним: как же это случилось?..
Из письма Цветаевой – Александру Бахраху: «Как это случилось? О, друг, как это случилось?! Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет… “Связь”? Не знаю. Я и ветром в ветвях связана… От руки до губ, где ж предел?.. Я скажу вам тайну… Женщины любят ведь не мужчин, а Любовь. Потому никогда не изменяют. Измены нет, пока ее не назовут “изменой”. Неназванное не существует. “Муж” и “любовник” – вздор. Тайная жизнь – и явная. Тайная – что может быть слаще?..»
Через три месяца жизнь тайная – ее «жизнь под веками» – была кончена. В последнюю встречу, выйдя из ночного кафе, не могли расстаться до утра. «Наша улица!» – сказал он. «Уже не наша», – ответила. «Ничего, ничего не понимаю! – бормотал Родзевич. – Мне с вами хорошо!..» Ей тоже было хорошо; она, как последнюю молодость, себя последнюю, будет любить его и после прощания. Об этом «Поэма Горы» и «Поэма Конца». Она так любила его, что ревновала к толпе на улице, даже к любимому костелу его («больно, как от чужой жены»). Горевала, что не брал подарков – ни кольца, ни книги («мне нужна вся вы, а не часть»). Ходила с ним в какие-то отели («стыдно, платный Содом») и даже мирилась, что ее стихам он предпочитал стихи Гумилева. Ей вообще было любо, что он первый не подчинялся ей. «Всегда мечтала слушаться, ввериться, быть в надежных руках…» А еще хотела общей крыши с ним. «Мой родной… Я НЕ МОГУ больше с Вами по кафэ! – написала. – От одной мысли о неизбежном столике между нами – тоска. Это не по-человечески… Дом, где можно сидеть рядом… куда я всё смогу приносить: от бытовых уютных пустяков – до последних бурь своей души!.. Я хочу лампы, тепла, круга, чуть ли не кота на коленях. (У нас будет кот?) Я хочу… знать, где Вы спите и куда глядите, когда глядите в окно. И… чтобы Вы, возвращаясь домой, возвращались ко мне, в меня…»
Увы, дом у нее был один, где ждал Сергей и где отпрыгнуло уже от стен слово «измена», которого страшилась. Вот тогда, написав Родзевичу: «Живу в аду, но люблю вас!», она и переехала к знакомым. «Две недели была в безумии, – напишет Сергей Волошину. – Рвалась от одного к другому, не спала ночей, похудела, впервые я видел ее в таком отчаянии. И наконец объявила… уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не дает ей ни минуты не только счастья – покоя…» «Счастье на чужих костях, – запишет и она, – этого я не могу…» Он почти кричит Волошину: «Марина рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног… Уверена, что лишилась своего счастья… Ко мне… раздражение, почти злоба». А она тихо плачется в тетрадь: «Личная жизнь… не удалась. Это надо понять… Причин несколько. Главная в том, что я – я. Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных – прекраснейшим, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке… Попросту: слишком ранний брак с слишком молодым…»
Да, доля и воля, семья и любовь, абсолют – ее Сергей и обольстительный хаос – Родзевич. И впереди не жизнь – «обряд» ее. Кастрюли, переезды, стирки, рынки, чай для гостей, штопка одежды – тряпья, и вечные долги, и вечный вечер с помойным ведром. И – «Не любить! Никому не писать стихов!» Ну разве не петля, не кружение механической карусели?..
Цветаева. Из «Записной книжки № 14»: «У меня было имя… была внешность… у меня был дар – и всё это вместе взятое… не принесло мне и тысячной доли той любви, которая достигается одной наивной женской улыбкой… Я – остаюсь одна. И это всегда одна и та же история. Меня оставляют. Без слова, без “до свиданья”… И вот я… смертельно раненая… не способна понять – ни за что, ни почему… Но что же я все-таки тебе сделала??? – “Ты не такая, как другие”. – “Но ведь именно за это и…” – “Да, но когда это так долго”. Хорошенькое “долго” – вариант от трех дней до трех месяцев…»
Именно три месяца и длился роман с Родзевичем. Потом напишет, что при виде его «ничего не чувствовала». Нет, они будут встречаться до отъезда ее в СССР; он станет другом семьи, почти братом Сергея и товарищем его по работе на НКВД. К слову сказать, она только ему признается, что муж, кажется, изменяет ей. А он купит ей браслет, заранее выбранный ею, – браслет с двумя львиными мордами. Как символ того, что она, Рысь, обрела уже Льва второго – тайного. Он, правда, усмехнется позже: «Она меня выдумала. Быть таким героем, каким она меня придумала, я не мог…» Но скажет это, замечу, тот, кто реально станет героем-легендой: разведчиком, тайным агентом Советов в Париже, затем – команданте Луисом Кордесом, командиром батальона подрывников в Испании, потом – бойцом французского Сопротивления и узником фашистских концлагерей. Даже Аля, назвавшая его ничтожеством, ближе к старости восторженно напишет: он оказался истинным – настоящим рыцарем… Переживет всех и – Алю. Умрет в 1988-м, в девяносто два года, в богадельне под Парижем. И, может, на том только свете и узнает, что сын Цветаевой, как всё упорней говорят ныне, был его сыном. Этим его донимали всю жизнь, перед смертью он даже скажет, что да – мог быть отцом.
Загадка? Несомненно! Но еще большей загадкой станет первопричина гибели всей семьи ее – гибели, в истоках которой, вопреки мнению всех цветаеведов, стоял, как мне кажется, всё тот же «второй Лев» ее, Родзевич – человек, как и она, никогда не менявший взглядов.
Шаг назад
Сына рожала в кругу огня. Невероятно! Посреди реально полыхнувшего пламени. Будто на костер взошла, как боготворимая Жанна. Рожала в обычной избе, которую снимала под Прагой. В избе и вспыхнул огонь. «Только не двигайтесь! – отчаянно крикнул ей Альтшуллер, врач. – Пусть горит!..» И поднял младенца, явившегося на свет. А она, лежа в кровати, курила и улыбалась. Ни крика, ни стона. Как в детстве, когда мать, ставя ей компресс при воспалении легких, нечаянно пришила его к ее коже и обнаружила это только наутро. «Что же ты молчала?» – спросила. «Я думала, так надо». Позже скажет: «Чувство стыда боли. Отец этому чувству – Дьявол…» Вот так и при родах – устыдилась крика. И лишь дьявол, наверное, сказал бы: откуда знала, что родится сын. Ведь пять лет назад, еще в Москве, легко обронила: у нее будет именно сын, а на протесты подруги: «Ну, как это можно знать?» – весело рассмеялась: «И назову его – Георгием…»
За порогом в ту ночь бушевала снежная буря, как когда-то в Кунцеве, когда едва не погибла. Рожая, тоже чуть не погибла – спас Альтшуллер, врач-студент. Он писал: «Я оглядел комнату в поисках какой-нибудь чистой ткани и куска мыла. Не оказалось ничего: ни носового платка, ни тряпки». Набежавшие женщины, «целые полчища дам, – по словам Али, – с бельем, тряпьем, флаконами и лекарствами», вынесли мебель, вымыли пол, выдвинули в центр кровать и всё вокруг просто залили спиртом. «Он-то и вспыхнул! – восторгалась Цветаева. – Взрыв синего пламени!..» Но куда символичней другое: рожала, образно говоря, в «кругу» русской литературы. Альтшуллер был сыном врача, который лечил Толстого и Чехова. Помогала ему жена Чирикова, писателя, чистую рубашку дала вдова Леонида Андреева, а крестным отцом сына стал сам Ремизов.
Впрочем, всё это, фигурально сказать, было «шагом назад». И Чириков, и Андреев, и Ремизов – это была литература вчерашнего дня. У Цветаевой действительно была странная привычка: входя куда-нибудь, в любой дом или зал, она реально делала шаг назад. Это заметил один молодой поэт, и она похвалила его: «Вы предельно зорки: я, действительно, шагнув – отступаю – перед тьмой всего, что не я… Шаг назад – после всех вперед, мой вечный шаг назад». Так вот, что касается не старой – новой русской литературы, которая в Париже мнила себя единственной, то как раз она и не приняла Цветаеву. «Моя внешняя литературная неудача – в выключенности из литературного круга… Некому прочесть, некого спросить, не с кем порадоваться…» Круг огня, круг литературы, круг одинокого подвига…
Из письма Цветаевой – поэту Н.Гронскому: «Я думаю, что в жизни не встречала такого непротивленца как я. Что ни заставьте делать – буду, где и как ни заставьте жить – вживусь, втянусь и в этот сон… Точно я чужую жизнь живу… Друзей у меня нет, говорю это спокойно… Я к себе беспощадна, поэтому и другие. Это я задала тон. И не пеняю…»
Если б вы знали, как встречал ее Париж в 1926-м! Первый вечер и сразу – триумф! Ломились, как на Шаляпина. Так не встречали здесь ни Бунина, ни Мережковского, ни Ходасевича, ни Тэффи. В проходах зала Союза молодых поэтов и писателей, в доме, который и ныне цел (Париж, ул. Данфер-Рошро, 79), – толпы, над головами стулья, пот, крики, визг! Картина грандиозная! Цветаева даже к сцене не могла пробиться. Милюков, бывший министр, думец, так и простоял весь вечер в дверях. И почти триста безбилетников, не протиснувшись и к открытым готическим окнам зала во дворе, ушли. А она в чьем-то репсовом платье (своего просто не было), близоруко щурясь со сцены на овации, читала тридцать восьмой, тридцать девятый, сороковой стих. «Вот поэт! – запишет студент Сорбонны и герой Белой армии Владимир Сосинский. – После Блока – одна у нас здесь – Цветаева…» А Сергей, пробе́гавший весь вечер за спинами толпы во дворе, нервно куривший папиросу за папиросой, вернувшись в их первый парижский дом – они всей семьей жили у знакомых (Париж, ул. Руве, 8), – и напророчит: этого успеха ей не простят поэтики. Зависть? Да! Но ведь и костер ее справедливости! То небо ее – одно на всех…
«Царь-Дура», «кошка драная», «распущенная кликуша», «белая ворона», «дикарка», «позерка» (как отозвался Ремизов, крестный отец ее сына), «вывихнутая бабенка» (Ходасевич), «шалая баба» (по отзыву за глаза Зинаиды Гиппиус), даже «психопатка с оловянными глазами» (по словам Бунина). Так звала ее эмиграция. А она раз и навсегда ответила: «Никакая любовь не может погасить во мне костра справедливости, в иные времена кончившегося бы – иным костром!» Вот этой справедливости и к красным, и к белым – не простят…
Уезжая из Москвы, чуть ли в последний день встретила на улице Маяковского. «Ну-с, – тряхнула головой, – что передать от вас Европе?» – «Что правда – здесь», – ответил он. В эмиграции, найдя новые стихи его, всё поймет про него: «Маяковский ведь бессловесное животное, в чистом смысле слова СКОТ… Сплошной грех перед богом… Было – и отняли (боги). И теперь жует травку (любую)…» Но – вот и шаг назад, и справедливость ее! – в 1928-м, попав в кафе «Вольтер» (Париж, пл. Клоделя, 1) на вечер Маяковского, она, уже на его вопрос: «Что скажете о России теперь?» – прямо ответит: «Сила – там». То есть – в России. Сила, давящая всё, и впрямь исходила уже из СССР. Но слова эти, тогда же напечатанные, – плевок в эмиграцию – станут роковыми. На четыре года закроются для нее русские издания. Закроются даже не газеты – источники средств. Она ведь, не Сергей, опять была главной кормилицей в семье.
«Мы очень плохо живем… и конских котлет уже нет. Мясо и яйца не едим никогда», – пишет в письме из нового дома своего, из двух комнаток в Бельвю (Париж, бул. Вэр де Сен-Жульен, 31). Картошку на второе варит в супе, чтобы был хоть какой-то навар; зелень покупает увядшую – подешевле. Смеется: «у меня от истощения вылезла половина брови». Не-докуренные папиросы не выбрасывает (докурю!). Не стыдясь, просит у подруг то пару чулок, то восемьдесят франков на башмаки, то костюмчик на вырост для Мура – сына. А телятину не за месяцы – за годы впервые пожарит, когда приедет Ася, сестра ее, оказавшаяся на Западе по приглашению Горького. Встреча их станет последней. Асю арестуют в Москве, в ее доме (Москва, Мерзляковский пер., 18), и лишь в лагере узнает она, что Марина повесилась. Но запомнит и парижские слова Марины: «Я ненавижу пошлость капиталистической жизни. Мне хочется за предел всего этого. На какой-нибудь остров Пасхи», и последний вопрос, услышанный от сестры: «Ты еще любишь людей?», и – последний ответ: «А я уже давно ничего, кроме животных и деревьев…»
Любить людей?! – материться хочется… Да на нее и исподтишка, и в лоб, наезжали и «авторитеты»: Гиппиус, Бунин, Осоргин, критики Адамович и Айхенвальд, и совсем уж «мелочь»: Яблоновский, Фохт какой-то и сколько еще. «Ни одного голоса в защиту», – перечислит их подруге и восхитительно, как мог бы Пушкин, добавит: «Я удовлетворена»! Как было любить людей, если тот же Владимир Сосинский, вступившись за нее однажды, даже вызвал обидчиков Цветаевой на дуэль и, не получив удовлетворения, отдубасил тростью одного из них прямо на улице. Большой был скандал: привод в полицию, жалоба на драчуна, поданная в прокуратуру Мережковскими, Ходасевичем и Берберовой, Адамовичем… Как было любить даже друзей, если Пастернак, кого звала братом «в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении» и за кого умерла бы «без великого сознания жертвы», легкомысленно, чтобы не сказать – легко, предаст ее в конце концов. Эту историю расскажет после смерти Марины Ася. Как еще в Сорренто Горький спросил у нее, как живет Марина, и, узнав правду, сказал: он будет помогать ей, но не от себя, а через «Международную книгу». И помог бы, не сомневайтесь, если б не Пастернак. Тот, услышав про это от Аси, желая решать с Горьким свои проблемы, написал ему письмо, где просил его не беспокоиться насчет Марины, ибо сам возьмет «обеспечение» ее. «Умоляю Вас, откажитесь вовсе от денежной помощи ей… В этом сейчас нет острой необходимости. Мне уже удалось кое-что сделать, может быть, удастся и еще…» Цветаева как раз ему написала в это время, что когда ее зовут в какие-нибудь гости, то первая мысль: «А накормят? Если нет – не иду…» Он же и ее, как Горького, убеждал: «Верь мне… тебе заживется легче! Я отвечаю перед тобой за эти слова: в них – клятва… Я знаю, как вы живете. Этого позора на нас больше не будет. Облегченья пойдут с разных сторон, вот увидишь». И пел, что устроит их общий перевод «Фауста», что получит еще деньги за свои книги на Западе и всё это вместе «обеспечит» ее. «Думаю, – заканчивал ей в письме, – я найду способ периодически переводить деньги… Но только не торопи меня…»
«В результате, – вспомнит перед смертью Ася, – Марина не получила ни рубля». Каялась перед памятью сестры: «Что Марина голодала – МОЯ ВИНА. Моя нелепая гордость мою родную сестру повергла в пучину. Почему я не пошла к Пастернаку и не потребовала объяснить мне это письмо… Марина голодала с 1927 по 1937 годы. Я виновата…» Да, дружба и уж, конечно, любовь, не раз говорила Цветаева, – это не «словесные кружева» – действие, поступок. И написала то, что и ныне читать почти невмоготу, – про тюрьму.
Цветаева. Из «Записной книжки № 13»: «Что дальше? Есть ли долговая тюрьма?.. Если была бы – была бы спокойна. Согласна на 2 года… одиночного заключения (детей разберут “добрые люди” (сволочи) – Сережа прокормится)… С двором, где смогу ходить, и с папиросами – в течение которых, двух лет, обязуюсь написать прекрасную вещь… А стихов! (и сколько, и каких)… Париж ни при чем – то же было и в Москве, и в Революцию. Я никому не нужна: мой огонь никому не нужен, потому что на нем каши не сварить. 15 мая 1932 г. – Точка…»
Встала бы, конечно, встала бы вровень с Пушкиным, как мечтала, если жила бы в его условиях, имела бы хоть каплю его «покоя». «Штиль души» обретала лишь в считаных домах считаных друзей. У Лебедевых в их гнезде (Париж, ул. Данфер-Рошро, 18 бис), у петербургской красавицы, доброго ангела Цветаевой Саломеи Андрониковой (Париж, ул. Колизе, 44), у великого Бердяева (Париж, ул. Мулен-де-Пьер, 83), у художников-лучистов Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова в их квартирке на четвертом этаже (Париж, ул. Жака Калло, 16). Наконец, у молодого еще композитора Сергея Прокофьева (Париж, ул. Валентина Гау, 5), где ее угощали как-то самым вкусным за жизнь каштановым тортом. И ни одного близкого поэтического «гнезда». Не брать же в расчет «поэтический салон» Амазонки, той самой Натали Клиффорд Барни, которой напишет свое знаменитое письмо и в доме которой читала порой стихи (Париж, ул. Жакоб, 20). Она ведь в эмиграции, не в Москве выпустит четыре книги из семи прижизненных, напишет тринадцать поэм, пять прозаических вещей, включая «Повесть о Сонечке» и «Мой Пушкин», трагедию «Федра», статьи, эссе. А – стихов! И каких! Вот по большому счету ее шаги вперед. Колоссальные шаги, несмотря на вечный шаг назад…
Сын после смерти Цветаевой скажет: трагедия их семьи была в том, что мать жила прошлым, а отец будущим – «светлым завтра», социализмом. Увы, слова эти, радостно цитируемые биографами, верны лишь на первый взгляд. Парадокс, но в будущем с нами оказалась как раз она, «жившая прошлым», а вот муж ее, «гвардеец» НКВД, чем больше проходит времени – уходит шаг за шагом в прошлое. Отгадка проста: всё то же небо, которое оказалось одно: и для белых, и для красных. Для очарованных и разочарованных, верующих и циников, героев и подлецов, даже – для зла под ликующим ликом добра и добра, обернувшегося злом. И не странно ли, что она, далекая от политики, оказалась в итоге куда прозорливей и пророков, и вождей?
«Вплоть до пролития крови…»
Впрочем, один «шаг вперед» Сергей сделал. Шаг с моста. В самом центре Парижа. Представьте: утро, холодная рябь Сены, зеваки случайные и Сергей, балансирующий на парапете. Секунда – и, взмахнув руками, человек нелепо летит в воду. Самоубийство? Нет-нет, господь с вами! В их семье один он, кажется, даже мысли не допускал об этом. Просто снималось кино, и по сценарию ему нужно было сигануть в воду. Каскадер, короче. Сестре в Москву написал: «Презреннейший из моих заработков, проституция лучше…» Но просил прислать книги про кино, мечтал «протиснуться» (его слово) в кинооператоры, а брали, увы, статистом за сорок франков или – каскадером. Кстати, тогда и сообщил сестре, что будет сниматься в фильме о Жанне д’Арк. Так, в эпизоде. И, без всякой связи (нашли, дескать, дешевую квартиру), просил писать им теперь по новому адресу: на авеню Жанны д’Арк…
Авеню Жанны!.. Ее совпадения. Ныне этой улицы нет, у нее другое имя, но дом Цветаевой сохранился (Париж, ав. Дю Буа, 2). И если Сергею было всё равно, где играть (в ленте «Казанова» или в «желтом» фильме «Мадонна спальных вагонов»), то ее думаю, радовало даже название улицы. Жанна – «вот мой дом, – помните, – мое дело в мире!»? И хотя в реальном мире давно изменилось почти всё (люди, привычки, моды, обряды, названия городов и даже стран, даже системы политические), она, как стойкий гвардеец, взглядов своих не меняла. А Сергей – тот, надо признать, и взгляды, и убеждения менял, будто жизнь была игрой, опасной, но – игрой. За революцию, потом с оружием в руках – против нее, потом опять – за и, кажется, вновь, еще в последний месяц в Париже – против. По большому счету не выбор – трагедия половины белой эмиграции и – почти всего поколения ровесников Эфрона. Не «кино» про Казанову – драма шекспировского почти замеса!
Из книги Ариадны Эфрон «Воспоминания дочери»:
«“И всё же это было совсем не так, Мариночка, – сказал отец… – Была братоубийственная… война, которую мы вели не поддержанные народом… Лучшие из нас. Остальные воевали только за то, чтобы… вернуть себе отданное ему большевиками…” – “Но как же Вы – Вы, Сереженька…” – “А вот так: представьте себе вокзал военного времени… все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга… Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается – минутное облегчение, – слава тебе, Господи! – но вдруг узнаёшь и со смертным ужасом осознаёшь, что в роковой суете попал – впрочем, вместе со многими и многими! – не в тот поезд… Что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет – рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком – по шпалам – всю жизнь…”»
Ну не Шекспир ли? В 1923-м, споря с тем же Романом Гулем в Берлине, Сергей кричал, что «Белая армия спасла честь России». В 1925-м печатно клялся: «То, за что умирали добровольцы, – эту правду я не отдам даже за обретение Родины. Не страх перед Чекой останавливает, а капитуляция перед чекистами – отказ от правды…» А уже в 1931-м, как раз с авеню Жанны, пишет сестре в Москву, что подал прошение о советском паспорте и что нынешние убеждения дают ему право «просить о гражданстве». Вскользь сообщит, что почти год лечился и отдыхал в чудном горном ша-то на юге. Но промолчит, конечно, что Шато д’Арсин, как известно ныне, было гнездом советской разведки, где он и станет чекистом. «Наводчиком-вербовщиком», как будет называться на Лубянке его должность. Это уже не кино, не прыжки в Сену. Впрочем, Шекспир был в том еще, что если Сергей и его друзья, наивно поверив в СССР, помогали ему, чем могли, вошли в «Союз возвращения на родину» и тащили туда даже детей, то родина руками спецслужб, провокациями, интригами хитро «играла» с ними. Все ли и теперь знают, что «Союз возвращения» был инспирирован еще Дзержинским через Екатерину Пешкову, бывшую жену Горького? Хотели «зарыть ров» между эмиграцией и СССР. Все ли слышали про «кровавые тайны» того еще Коминтерна, циклопическая кладка которого существует, кажется, по сей день? Наконец, все ли читали, что многих из тех, кому Эфрон помог вернуться в Москву, тихо арестовывали и отправляли в лагеря, а чаще – на смерть? Такой вот конвейер не в «царство социализма» – на тот свет! И что тогда, в те годы, могли знать они, что знала Цветаева?..
Знала, знала, не могла не знать! – твердят цветаеведы-любители. А она до середины 1930-х знала лишь, что стареет и что семья ее разваливается. «Ни одного поцелуя никому – 4 года, – напишет Пастернаку. – Мне нужен физический стук чужого сердца в ухо, иногда завидую врачам…» Какие там «поцелуи»? Когда на бульваре Монпарнас в 1933-м к ней и Але пристал вдруг какой-то хлыщ и она пожаловалась прохожим на «преследование», то в ответ услышала: «Вас я не преследую, вы отвратительны! Я преследую другую». То есть Алю, страшно похорошевшую дочь ее. «Вот всё признание меня Парижем, – запишет Цветаева. – “Отвратительна?” Не думаю, ибо знаю, что не урод и что при желании… Но больно, так в “солнечное сплетение”, перед всеми… И, вывод – пора: что? Что-то пора…»
«Ушла Аля, – пожалуется скоро в письме Вере Буниной, – ушла внезапно…» Пожалуется в 1935-м. Хотя отношения были испорчены еще раньше, когда все они жили сначала, недолго, в кламарской квартирке (Париж, ул. Кондорсе, 101), потом там же в предместье, но на соседней улице (Париж, ул. Лазар Карно, 10), где Цветаева вдруг спросит себя в дневнике: «Допустимо ли, в каких угодно случаях жизни, говорить матери: стерва и сволочь? Спрашиваю бывших и будущих…» – и, наконец, в последнем общем доме Цветаевых-Эфронов, откуда сперва уйдет, а потом и уедет в СССР Аля, а через год после нее – в таком вот порядке! – и Сергей (Париж, ул. Жана-Батиста Потэна, 65). Именно этот дом станет для Цветаевой домом разрывов, предательств, прощаний.
В тот день, как горько призна́ется Буниной Цветаева, она всего лишь попросила Алю сходить за лекарством для Мура. «Да-да», – кивала та и не двигалась с места. «Позор так измываться надо мной», – не выдержала мать. «Вы и так уж опозорены, – огрызнулась дочь. – Вашу лживость все знают…» Это Аля-то?! «Лучший стих», «гений Души»?! Вот тогда она и дала ей пощечину. Сергей, взбесившись, вскочил, сказал Але, чтобы она ни минуты не оставалась дома, и дал денег на жизнь. «Моя дочь, – ставит точку в письме Цветаева, – первый человек, кто меня презирал…»
Из показаний Ариадны Эфрон на допросе в НКВД: «Лично моя жизнь… складывалась неудачно… Мне удалось… найти работу медсестрой в зубоврачебном кабинете. На почве этой работы мы окончательно поссорились с матерью… ей была нужна моя помощь дома… Работа была трудная… часов по двенадцать… Хозяин, проэксплуатировав меня некоторое время, воспользовался моей болезнью, чтобы выставить меня на улицу… Признаться себе… что мать была права, я не хотела. Мне было уже около 20–21 года, а я оказывалась неспособной жить самостоятельно… и… написав записку… открыла на кухне газ. Но домой случайно вернулся отец, выволок меня из кухни в полубессознательном состоянии… Отец мне сказал, что глупо… стыдно в моем возрасте… считать, что жизнь кончена… Я ему ответила, что ему жаловаться нечего, что он живет как хочет, ведет большую работу на свою страну, а мне в этой работе отказывает…»
Про «большую работу» его Аля узнала годом раньше, когда однажды отец вдруг расплакался при ней: «Я порчу жизнь тебе и маме». Спросил, не лучше ли ему оставить семью, сказал, что жизнь его пойдет «только хуже и труднее», и, беззвучно зарыдав, признался: «Я запутался, как муха в паутине…»
Эх, эх, в эту «паутину» он запутает скоро и дочь, и даже двенадцатилетнего сына. Мур напишет потом в дневнике, что еще в Париже стал «откровенным коммунистом» и, тайно от матери, ходил с отцом на сотни (именно так!) рабочих митингов. А вообще Сергей завербует для работы на СССР 24 человека, хотя на Лубянке будет доказывать, что больше тридцати. Как вербовал – запомнит тот же Сосинский. «Вот как я мыслю… голубчик, – вкрадчиво внушал ему как-то бессонной ночью Сергей. – Оба мы крепко… согрешили перед родиной: проливали народную кровь, кровь трудящихся в защиту буржуазного дерьма и монархической сволочи. И вот… когда мы так мучительно жаждем вернуться на родину… честными и чистыми… мы должны потрудиться для нее, подвергая себя и семью свою опасности, и если того требует дело… требует Москва – вплоть до пролития крови…» – «Согласен, до пролития крови, – ответит Сосинский, – но своей – не чужой!..» И откажется сотрудничать. А про встречу эту, узнав потом об убийствах, похищениях людей и слежках, скажет прямо: «Со мной говорил чекист, наемный убийца, палач…»
Впрочем, для Али, для глупой мечтательной девчонки, он был не просто любимым папой – романтическим героем, рыцарем без страха и упрека. Он приведет ее в «Союз возвращения на Родину», в те семь комнат на втором этаже, которые на годы станут их вторым домом (Париж, ул. де Бюсси, 12) и где Сергей был главным. Внешне всё было почти невинно – «культурная работа»! Семинары, лекции, хоровой кружок, театральная студия (в одном спектакле играла и Аля), шахматный кружок, выставки советских художников, просмотры новых кинокартин из СССР, даже льготная подписка на газету «Правда» и журнал «Огонек», даже своя столовая – дешевая и вкусная. Здесь Сергей выпускал журнал «Наш Союз», в котором печаталась Аля, и здесь даже Цветаева не раз читала стихи. Но это – внешне. А на деле, как в закрытом письме на имя генпрокурора СССР Руденко с гордостью напишет Аля уже в 1954 году, в «эпоху реабилитантства» «Союз возвращения» был одним «из замаскированных опорных пунктов нашей контрразведки в Париже…» Она, Аля, как верно заметит один из исследователей, слова «контрразведка», «разведка», «невидимый фронт» повторяла до конца дней, считая, что они «красивее», чем слова «агент», «сексот», «шпион»… И она, как через много-много лет напишет ее парижская подруга, дочь писателя Зайцева, уже «ни с кем и никогда не была полностью откровенной. Никогда…»
Да, всё темно и ныне в делах НКВД в Париже. Вербовал Сергея, как я думаю, Волович, скромнейший делопроизводитель генконсульства СССР, а на деле с 1928 года – резидент ОГПУ, матерый агент НКВД Захар Волович (он же Янович, он же – Вилянский). Кстати, близкий «дружбан» Маяковского и Бриков; они у себя в «салоне» (Москва, пер. Маяковского, 15/13) будут звать его просто Зоря. Зоря был резидентом еще в Праге, а в Париже – это точно! – именно он организовал громкое похищение председателя Русского общевоинского союза генерала Кутепова. Того похитили нагло, схватили прямо у дома, где жил (Париж, ул. Руселе, 26). Парижские газеты сразу (слышите, цветаеведы!) указали на Яновича, то есть на нашего Воловича, и уточнили: «Янович – начальник парижского ГПУ (при полпредстве)». Участвовал ли в этом громком деле Сергей, неизвестно, но ныне пишут: он всё чаще оказывался в круге самых сомнительных дел ГПУ-НКВД. Всего, что было, никто, конечно, не знает еще, но некоторыми не дорожками – еле видными тропками спецслужб уже сегодня пройти можно. Пишут, например, что Эфрон руководил слежкой за сыном Троцкого – Львом Седовым, который выпускал в Париже «Бюллетень оппозиции». Однажды пришел во Франко-Славянскую типографию, где вместе с другими русскими изданиями печатался бюллетень, и попытался взять у Седова якобы «интервью». Тот, малоразговорчивый, а может, и осторожный – попросту выгнал Эфрона. Потом, получив «наводку», где живет Седов (Париж, ул. Лакретель, 26), Сергей со своими людьми почти демонстративно поселился рядом (Париж, ул. Лакретель, 28). Кстати, Родзевич, подельник Эфрона, который вместе со всеми жил здесь на конспиративной квартире, позже, уже в 1970-х, по какому-то странному капризу снимет квартиру как раз в доме, где жил когда-то Седов. Наконец, потом, и это, как пишут, уже точно, в ночь на 7 ноября 1936 года (в годовщину русской революции), Сергей окажется в толпе громил, которая с факелами ворвется в помещение Института социальной истории, где хранился архив Троцкого (Париж, ул. Мишле, 7), и выкрадет сорок пачек документов. Сам же Седов позже явится к своим друзьям, к французскому писателю Андре Мальро (Париж, ул. Бак, 44) и попросит помочь ему уехать в Испанию – добровольцем. «Я твердо решил, – вспоминала его слова жена Мальро, – что мое место в Испании, как сына организатора Красной армии»… Но уехать, увы, не успеет – его то ли отравят, то ли зарежут в парижском госпитале во время операции аппендицита. Тоже темная история. Сосинский пишет, что брошюровщики из окна всё той же Франко-Славянской типографии увидят, как среди бела дня в скорую помощь, которую, как выяснится, никто не вызывал, какие-то люди в белых халатах запихивали Седова. А на другое утро, скажет уже жена Мальро, «я прочла в газетах о его смерти… на операционном столе под скальпелем хирурга…». Сергей в кровавом финале этой истории не участвовал – он был уже в Москве, но в другом похищении – в похищении генерала Миллера, который в Общевоинском союзе занял место исчезнувшего Кутепова, – кажется, участвовал. Миллера схватят на шумной улице и, усадив в машину, усыпив хлороформом, тайно доставят на советский пароход. Наконец, и это главное, Сергей отправлял в Швейцарию «своих» людей: учительницу, шофера, бывшего священника – для убийства (дубинка по голове и восемь пуль в тело) Игнатия Рейсса, Игнаса Порецки. Рейсс, польский коммунист, ставший в 1937-м сначала резидентом НКВД в Париже, а потом «невозвращенцем», отказался вернуться в СССР и написал Сталину ярое обличительное письмо. Из-за этого «дела» Сергею и пришлось бежать из Франции. Неизвестно, шел ли сам Сергей, извините, «на мокруху»: на убийство бывшего секретаря Троцкого Рудольфа Клемента, советского банкира Навашина, Агабекова – в Бельгии, тех, кого Москва требовала «выманить» из заграницы?.. Но что он был в курсе этих событий, был посвящен – это точно. «Для таких людей, – пишет знавший его еще молодым человеком Дмитрий Сеземан, – это время стало звездным часом. Испанская война, “мокрые дела” под видом “секретных операций” – всё это было для них вроде “второго Октября”… компенсацией за то, что первый-то Октябрь они проглядели…»
«Куда девался прежний Сережа, мягкий, смешливый говорун? Откуда взялась забытая офицерская выправка?» – удивлялся Сеземан на квартире своего отчима, бывшего белого офицера Николая Клепинина (Париж, ул. Мадлен Моро, 8), уже завербованного Сергеем в «агенты НКВД». Не хватало, пишет Сеземан, только френча и портупеи, когда Сергей тоном стратега обсуждал на кухне передислокацию бригад в Испании, модернизацию Красной армии и хитрые происки «пятой колонны» в СССР, которая несомненно связана с гестапо. В письмах сестре в Москву Сергей жаловался теперь только на жену: «С Мариной зарез. Не знаю, что и делать. Человек социально дикий, ею нужно руководить как ребенком…» А она, потеряв фактически мужа, потом дочь (та скоро уедет в СССР), и не зная еще, но потеряв и сына, ясно видела беспросветное будущее свое. Всё видела в этой карусели, всё чуяла и всё – заранее предсказала себе.
Из «Сводных тетрадей» Цветаевой: «Здесь я – ненужна, там я невозможна. Вокруг пустота, мой вечный, с младенчества, круг пустоты. Нет друзей, в будущем – нищета… но это – в быту, душевно – хуже, просто – ничего… У всех своя жизнь, всем – некогда… Меня не любят… Ну, а я люблю – (кого-нибудь)? Нет… Любила – деревья… Через 10 лет я буду совершенно одна… С прособаченной – с начала до конца – жизнью…»
Ровно через десять лет после этой записи она и покончит с собой…
Бегство
На пятой странице газеты, в шапке было набрано: «Евразиец Эфрон – агент ГПУ!». Но в префектуре полиции, куда почти сразу вызвали на допрос Цветаеву, ее приняли – и тоже почти сразу – за полоумную…
«Месье Эфрон ваш муж?» – спросил Бетейль, генеральный инспектор. «Да», – ответила она. Но ни об убийстве Рейсса, ни о пропаже белого генерала Миллера, о чем шептался весь русский Париж, ничего сказать не могла. Твердила одно: муж дней десять назад уехал в Испанию, где шли бои с Франко. Врала, конечно, спасала его. А к концу допроса стала вдруг деревянно бормотать стихи, переводы на французский Пушкина. Из-за этого ее и сочли «этой полоумной русской». Пусть! Главное, не выдала мужа. А вот он ее своим бегством – выдал. «Сдал» на руки агентам НКВД. Как на аркан посадил… Нет, теперь она не только знала всё – сама была в том такси, которое мчалось к Руану, где Сергея должны были переправить в Гавр. Там, в порту, под парами ждал его «Андрей Жданов» – пароход, который увезет его в Россию. Спецслужбы СССР тогда, в 1937-м, вели себя во Франции ну прямо как дома…
За рулем такси сидел Сцепуржинский – друг и завербованный Сергеем агент, у кого и пряталась неделю вся семья. А рядом с шофером в такси сидела жена Сцепуржинского, Маша Булгакова, дочь известного богослова и тоже агент Сергея. Та Маша, представьте, к которой и ушел когда-то от Цветаевой ее второй «Лев» – Родзевич. Всё сошлось в том обезумевшем такси. По одной версии они довезли Сергея до Руана, по другой – он едва не на ходу выскочил из машины и, махнув рукой Марине и Муру, бесшумно скрылся в придорожных кустах. Играл! Теперь играл в «нелегала». А она опять, как в Москве, осталась одна: и пленницей, и, считайте, заложницей его.
Из книги Нины Берберовой «Курсив мой»: «Цветаеву я видела в последний раз на похоронах… кн. С.М.Волконского… Стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая… Это было вскоре после убийства Игнатия Рейсса… Она стояла, как зачумленная, никто к ней не подошел, и я, как все, прошла мимо…»
Сам Сергей в своем кругу участия в «деле Рейсса» никогда не отрицал, упоминал о нем с благодушным удовлетворением. Он ведь был, как сказали бы ныне, «понтером», и понты ложной значительности, страшных секретов, посвященности были свойственны ему. Всё отрицала лишь Аля, которая до смерти колотилась убедить всех и, главное, себя, что Сережа (как звала отца) был «мечтателем в крылатом шлеме», которого ничто низменное, а уж тем более кровавое коснуться не могло.
Через месяц после убийства Рейсса в Швейцарии (кровавые подробности этой истории расписаны ныне в любой книге о Цветаевой!), так вот, через месяц у выхода из метро «Жасмэн», среди бела дня был похищен генерал-лейтенант Евгений Миллер – он после Кутепова руководил Русским общевойсковым союзом во Франции. Вышел из канцелярии Союза (Париж, ул. Колизе, 29) даже без пальто – было тепло – и… бесследно исчез. Выкрал Миллера Фермер, знакомый Сергея чуть ли не с корниловского Ледяного похода. Фермер-ЕЖ-13 в списках НКВД проходил как генерал Скоблин, который вместе с женой Фермершей – знаменитой певицей Надеждой Плевицкой – многие годы работал на советскую разведку. Миллера запихнули в машину, сунули в нос хлороформ (он очнется только через сорок четыре часа) и доставили на советский пароход. А Скоблин не только вернулся в канцелярию, но и поначалу прятался в этом доме, только на втором этаже, в квартире бывшего промышленника, бывшего министра Временного правительства С.Н.Третьякова, родственника основателя Третьяковской галереи, а тогда – также агента НКВД. Да, всё темно в «операциях» НКВД в Париже. Ведь только в 2005-м, случайно – буквально «из телевизора», – мы узнали вдруг, что похитить в Париже и вывезти в СССР должны были не Миллера – самого Деникина. Его хотел заполучить в Москве Сталин. Но главное – я ушам, помню, не поверил! – спас Деникина от этого именно Эфрон. Так было сказано в телефильме, а потом подтверждено дочерью Деникина Мариной, еще живой тогда. По всему выходило, что наш «мечтатель в крылатом шлеме» нашел способ тайно предупредить Деникина ни за что не садиться ни в какую машину 21 сентября 1937 года, кто бы ни приглашал. А приглашать стал как раз Скоблин, предлагая отвезти Деникина на юбилей Корниловского полка, который пришелся на тот день. Деникин не сел и этим – спасся…
Сенсация! Это и ныне – сенсация. О причинах поступка, сверив даты и встречи, точнее всех скажет Ирма Кудрова, лучший, на мой взгляд, биограф Цветаевой. Она напишет, что до попытки похищения Деникина из СССР вернулась близкая знакомая Сергея, тоже завербованная им когда-то и уже опытная разведчица Вера Трейл, урожденная Гучкова, дочь знаменитого думца, того, кто принимал отречение последнего русского царя. В Москве она не училась нелегальной работе, хотя ехала за этим, нет – год преподавала в подмосковной школе разведки. А вернувшись в Париж, «по секрету» рассказала Сергею правду и про сталинские процессы, и про бессудные расстрелы, и про повальные аресты. Вот когда Сергей понял, на кого работал, когда вновь усомнился в «красной идее».
Вера Трейл вспомнит потом: тогда Сергей и сказал ей, как когда-то Але: «Меня запутали в грязное дело, я ни при чем» – но, правда, добавил: «я должен уехать…» Он лишь не знал еще, чем заплатят ему за «службу». Не знал, что Плевицкая, например, будет скоро осуждена судом Франции на двадцать лет каторги и умрет в тюрьме, а Скоблин, уже по приказу из Москвы, вообще испарится. С ним, когда полиция вышла на его след, не знали, что делать, и, как утверждает ныне историк советской разведки Н. Петров, сам Сталин якобы приказал бесследно убрать его. Скоблина сбросят с зафрахтованного самолета в горах между Францией и Испанией. Раздетого, без документов. А вытолкнет из самолета белого генерала будущий генерал КГБ Судоплатов, мастер самых грязных дел на Западе, тот, кто умрет у нас недавно едва ли не героем. Так платила родина своим патриотам за беззаветное служение ей…
Умнее всех окажутся Вера Трейл и, представьте, Родзевич. Оба умрут за рубежом, и – своей смертью. Вы, милые читатели, возможно, не знаете еще, что в тот год они были не только друзьями Сергея и всей семьи Цветаевой – они были мужем и женой. Таким было ядро, «гнездо» НКВД, почти круговая семья советских спецслужб в Париже.
Из писем Цветаевой 1936–1939 годов: «Семья? Да, скучно, да, сердце не бьется… Но мне был дан в колыбель ужасный дар – совести: неможения чужого страдания. Может быть (дура я была!) они без меня были бы счастливы: куда счастливее, чем со мной!.. Но кто бы меня – тогда убедил?! Я так была уверена (они же уверили!) в своей незаменимости: что без меня умрут. А теперь я для них… ноша, Божье наказание… Все они хотят жить, действовать… “строить жизнь”… (точно это – кубики! точно так строится!) Жизнь должна возрастать изнутри – быть деревом, а не домом. И как я в этом – и в этом – одинока…»
Отель «Иннова», пятый этаж, 36-й номер – последняя конура Цветаевой (Париж, бул. Пастера, 32). Сюда вселили ее вежливые, непроницаемые «кураторы» из посольства СССР. Думаю – из резидентуры НКВД. Тонкие двери гостиницы, сквозь которые она слышала ссоры соседей, неистребимый запах жареного лука в коридоре, коробки, корзины, чемоданы на полу, одежда на гвоздиках по стенам и такой холод (батареи почти не топили), что Цветаева даже спала в вязаной шапочке. А кроме того – запрет печатать что-либо (лишняя компрометация), зарплата мужа «в конвертах», письма его и Али из Москвы (по прочтении – уничтожить) и – минимум контактов. Вот так, без права Мура на школу (из последней его выгнали за «пропаганду социализма»), без права «на завтра, на мечту о нем», она и проживет ровно девять месяцев. Будто в утробе согнутая перед новым рождением – уже на родине.
Бегство Сергея добило ее. «Она сразу ссохлась, – вспоминал Марк Слоним, друг ее, которого она навестила в последний раз (Париж, пл. Леона Гилло, 4). – Я обнял ее, – пишет он, – и она вдруг заплакала, тихо и молча. Просто и обыденно прозвучали ее слова: “Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура: Але и Сергею я больше не нужна”…» Удивилась и обрадовалась лишь однажды, когда незадолго до отъезда в СССР, возвращаясь в гостиницу, на нее и Мура вдруг налетел сзади, и втиснулся между ними, и подхватил их под руки, представьте, Родзевич. «Вы? Как? Откуда? Вы же должны быть в Испании?», наконец: «Где Вы узнали наш адрес»? О, наивная! Ей, которая второй год ходила на аркане НКВД, и в голову не могло прийти, что он, ее «Арлекин», кажется, был (я обещал рассказать об этом) куда более ценным агентом, чем Сергей, и в силу службы уж наверное знал и про отель, и даже про дату отъезда ее. Не мог не знать. Более того, я считаю, что именно он и втянул когда-то Сергея в работу на СССР, став первопричиной всех бед семьи. Он-то на Советы работал, кажется, всегда.
Я впервые подумал об этом, когда наткнулся на его слова в письме к покойной уже Анне Саакянц, биографу Цветаевой. «Ради бога, не выставляйте меня сторонником белых, – признался ей в 1978-м, – под их господством мне приходилось порой находиться, но я никогда не стоял на их стороне. Мне приходилось разыгрывать роли, являвшиеся прикрытием и имевшие другие, скрытые предназначения». Увы, Саакянц не придала значения его словам, отнесла их в книге в примечания, в сноску. А ведь за ними главное; факт этот станет не щепкой – увесистым поленом в тот костер, на котором сгорит и вся семья Цветаевой, и – сама. Это моя, если угодно, версия.
Да, начальник красного одесского порта, вчерашний мичман Родзевич был схвачен белыми и лично Слащевым, генералом-изувером, приговорен к смерти. Но почему, с какого перепуга белые вдруг помиловали его и приняли в свои ряды? «Под их господством, – напомню, – мне приходилось порой находиться, но я никогда не стоял на их стороне». И не потому ли уже красные заочно приговорили его к смерти, чтобы составить ему, будущему агенту своему, надежное алиби? Да, Эфрон на Лубянке, перечисляя завербованных им, назвал и Родзевича. Но разве нельзя предположить, что последний всего лишь «сделал вид», что его вербует друг, который лишь недавно, в 1931-м, стал агентом ГПУ? Ведь, как известно, – это совсем новый факт! – Родзевич еще в 1921-м, за десять лет до этого, уехал вдруг в Ригу якобы к родственникам и прожил там целый год. Именно в Риге завязывались тогда узелки широкого невода советской разведки, вскоре наброшенного на всю Европу. «Нет, нет, всё не так, – решительно возразила мне в недавнем разговоре та же Ирма Викторовна Кудрова, специалист по Цветаевой. – Эфрон был настолько значительной фигурой, что именно ему было поручено возглавить “Союз возвращения на родину”». Да, дорогая Ирма Викторовна, поручено, но вы не можете не знать, что настоящая, серьезная разведка не ищет публичности, – этот аргумент скорее работает на мою версию, – ведь «Союз возвращения» был вполне легальной организацией. Ведь про Эфрона еще с 1928 года весь Париж говорил, что он «законченный коммунист». Какой же из него тайный агент? А вот про Родзевича мы и ныне знаем буквально крохи.
Умный, суровый, сильный, этакий мачо, он был близок с генералом Орловым, вроде бы начальником всей агентурной сети в Европе, и вместе с ним воевал в Испании. Командовал якобы батальоном подрывников, а на деле, пишут, ничего не «подрывал». Орлов и его помощники, как это стало известно не так давно, по приказу Москвы расправлялись с испанскими якобы «троцкистами», в одночасье ставшими не бойцами с Франко – «пятой колонной», предателями и фашистами. Их и иностранцев, пришедших на помощь испанской революции, тысячами бросят в тюрьмы и убьют. Эти тайны и ныне покруче похищений никому не нужных уже белых генералов в Париже. Об этом и сегодня, думаю, всё известно на нынешней Лубянке, но и сегодня это тайна за семью печатями. Кто пытал и расстреливал Андреса Нина, пламенного руководителя испанской Рабочей партии марксистского единства (ПОУМ), известность которого в Испании была, кажется, уж не меньше, чем у яростной Пассионарии – Долорес Ибаррури? Кто убил сорок членов исполкома этой партии? Тайна! Кто входил в штаб НКВД, работавший в Альбасете? Страшная тайна! Кто был в той машине, из которой на пустынном шоссе около Алькала-де-Энарес под Мадридом выволокли истерзанного Нина и пустили ему пулю в лоб? Вообще – тайна тайн! Читайте мемуары генерала Орлова «Тайная история сталинских преступлений». Но лучше вспомните Оруэлла, его книгу «Памяти Каталонии»! «Где Нин?» – натыкался Оруэлл на метровые надписи мелом и кирпичом, выведенные на стенах Барселоны еще уцелевшими, ушедшими, как и он, в подполье поумовцами. Ныне известны «мелочи»: руководил массовыми репрессиями Орлов, а помогали ему Рамон Меркадер, будущий убийца Троцкого, советские разведчики Эйтингон и Григулевич и, думаю, наш герой, «командированный из Парижа», – Родзевич. Он был близок с Орловым, так пишут, более того, знакомым Орлова был и наш вполне «легальный» работник НКВД Сережа Эфрон – он «готовил» людей к отправке в Испанию и одному из них не только сказал по секрету, что подыщет ему «дело» в Испании «поинтереснее, чем просто стрелять из окопов», но и прямо велел связаться в Валенсии с Орловым, «руководителем опергруппы НКВД»… Всё, повторяю, темно в делах НКВД в Париже, но еще темнее – в Испании. Ясно одно: если Родзевич хотя бы к десяти невинным смертям в Испании имел отношение (а убиты были тысячи!), то и тогда он не просто тайная – зловещая фигура, рядом с кем даже «посвященный» Эфрон – мальчишка, игравший в «шпионы». Хотя почему – «хотя бы»? Именно в десяти убитых Родзевич, наш «подрывник», и признался как-то Муру («пришлось расстрелять»), когда тот по-детски спросит его: убивал ли он врагов Испании? Это тоже стало известно нечаянно – из опубликованных дневников Мура. Такая вот «проговорка» ребенка…
Всё глухо в биографии Родзевича, но всё говорит о том, что «львом» он был железным, а не картонным, как Эфрон. Из фашистского концлагеря Родзевича потом освободят советские войска, но – последний аргумент! – его почему-то не интернировали в СССР, как всех прочих. Дали вернуться во Францию, даже подлечили слегка. Просто в его «работе» не было провалов, как у Эфрона, его не надо было отзывать на родину. И уж не потому ли вспыхнула столь сильная страсть – воистину шекспировская! – между Родзевичем и Цветаевой, что оба никогда, ни разу не меняли убеждений своих в том изменчивом мире? Родзевич – красных убеждений, а Цветаева – справедливых: и к красным, и к белым, к своему небу – одному на всех. Да, любовь как гибель, всё правильно: Родзевич – первопричина ее смерти. Но ведь и гибель – как любовь. Самый страшный круг, трагическая «карусель» души ее… Как в том пророческом кошмаре, который приснился ей перед отъездом… Сон про семью ее и про то, как она – улетала в небо.
Из дневника Цветаевой (запись от 23.04.1939): «Иду вверх по узкой горной тропинке… слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде. Навстречу – сверху – лев. Огромный… Крещу трижды. Лев, ложась на живот, проползает мимо со стороны пропасти. Иду дальше. Навстречу – верблюд, двугорбый… необычайной… высоты. Крещу трижды. Верблюд перешагивает (я под сводом: шатра: живота). Иду дальше. Навстречу – лошадь. Она – непременно собьет, ибо летит во весь опор. Крещу трижды. И – лошадь несется по воздуху – надо мной… И – дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед, голова отрывается. Подо мной города… сначала крупные подробные… потом горстки бедных камешков… Несусь… с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точное чувство, что лечу вокруг земного шара и страстно – и безнадежно! – за него держусь, зная, что очередной круг будет – вселенная: та полная пустота, которой так боялась в жизни: на качелях, в лифте, на море, внутри себя… Ни остановить, ни изменить: роковое…»
Никто не провожал ее и Мура на вокзале («не позволили», как успела безлично помянуть своих «кураторов» Цветаева в письме к подруге). Когда крикнули «По вагонам!», Мур пошутил: “Ni fleurs, ni couronnes” («Венков и цветов не приносить» – фраза из похоронных оповещений).
Всё походило на бегство, ровно как у ее Сергея. И, как у него, поезд довез их до Гавра, где их ждал советский пароход. Только название было не «Андрей Жданов» – «Мария Ульянова». Погрузились, когда садилось солнце, отчалили, когда оно встало, – в 7:15. «О, Боже, Боже!.. Что я делаю? Занося ногу на сходни, я сознавала: кончается жизнь 17 лет… – напишет о прощании с Францией. – Едем, как собаки. Сейчас уже не тяжело, сейчас уже – судьба…»
До смерти ее в Елабуге оставалось два года, два месяца и девятнадцать дней.
«Обертон — унтертон всего — жуть…»
Скульптор зависит от глины, художник – от холста, музыкант – от струн. Поэт, сказала Цветаева, – «только от сердца». Иосиф Бродский, родившийся за год до ее смерти, будто подхватит эту мысль: самое великое в нации, скажет, Язык, в языке – Литература, а в литературе – Поэзия. «Поэзия, – взовьется до немыслимого, – цель человека как биологического вида», а поэты – «наиболее совершенные образцы человеческого рода». Во как! И первым поэтом ХХ века назовет – Цветаеву. Его переспросят: первым среди русских поэтов? Он скажет: нет, первым поэтом в мире!..
Когда-то, в молодости, мне нравилось выписывать поразившие меня мысли. Типа «крылатые слова» – для себя любимого. Кое-какие блокноты сохранились. Так вот, в 1966-м, когда я служил срочную в Москве и когда, прочтя стихи Цветаевой, впервые пришел в Борисоглебский, к дому ее, я, оказалось, выписал слова Экзюпери из книги «Планета людей»; она в тот год как раз вышла у нас впервые. «От поколения к поколению, – выписал, – передается жизнь – медленно, как растет дерево…» Но разве я знал тогда, в 1966-м, что Цветаева, возвращаясь в 1939-м из эмиграции пароходом, читать взяла как раз «Планету людей»; специально искала ее накануне отъезда.
Она и Мур были, кажется, единственными русскими пассажирами на корабле. Весь он был забит испанскими детьми; их, сирот, вывозили в СССР. Они сутками, пишет Цветаева, танцевали на палубе, потом ели, выворачивали съеденное за борт и – снова пускались в пляс. Плясал с ними и четырнадцатилетний Мур, забегая в каюту, чтобы, схватив полотенце, вытереть вспотевшее лицо. А она лишь с закатами поднималась на палубу: поклониться Дании, потом Швеции и послать привет и Андерсену, и Сельме Лагерлёф. Выходила, чтобы вновь погрузиться в Экзюпери. «Надежды больше нет, – читала у него. – Уносит меня невольничий корабль, плыву под звездами, и остановиться не в моей власти…» А когда слева по борту встал Кронштадт, добралась до последних фраз, до тех слов, выписанных мной когда-то: «От поколения к поколению передается жизнь – медленно, как растет дерево. Из расплавленной лавы, из чудом зародившейся клетки вышли мы – люди – и поднимались всё выше, ступень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем созвездия…»
Всё у Экзюпери было про нее: от музыки и деревьев до – звезд. И всё – в прошлом. Ибо в СССР она, уже всемирно известный поэт, возвращалась тайно. Таков был приказ НКВД. Считайте – приказ самой Родины…
Вот первая загадка возвращения: захотела ли она, успела ли, сойдя с поезда на Ленинградском вокзале, хоть на мгновение взглянуть на июньскую Москву? На город, про который умоляла когда-то Пастернака: «Напиши мне о летней Москве! Моей страсти, из всех любимой» – и про который за день до самоубийства скажет: «Это мой родной город, но сейчас я его ненавижу…» Приехала на Ленинградский, а в Болшево, где жил теперь Сергей, надо было ехать с Ярославского – рядом. И можно было, не выходя на площадь – там был проход, просто перейти с перрона на перрон. Вот и гадают биографы: выбежала ли хоть на миг глянуть на Москву? Или и это было запрещено? Теперь запрещено, когда родина становилась западней?..
«Змея должна менять шкуру», – веселилась в молодости. Но в Россию, образно говоря, вернулась вообще без кожи, с голыми нервами. В Париже, гадая как-то по стихам, ей выпала басня именно про змею. «Это ко мне!» – усмехнулась. Речь шла о гадюке, дивный голос которой люди слушали, рыдая от счастья. Но когда с открытой и полной любви душой та доверчиво поползла к ним, все брызнули врозь. Пой, дескать, но держись от нас подале. Стихи не обманули: в мире глухих поющий кажется уродом. Но лишь в СССР «поющих», кто не как все, чаще всего и убивали. Да, вернулась на родину, когда в стране полыхал еще костер Большого террора. И ей гореть, поняла, гореть, как любимой Жанне д’Арк. Одного не знала: того, что «костер» ее подпалят не штатные палачи – свои, родные, самые близкие люди.
«Вели» ее, как на аркане. В Париже до вагона провожали люди из спецслужб, но ведь и в Москве встретили на перроне два секретных сотрудника НКВД. Про московских если и догадается, то не сразу, ибо к поезду подлетели два сияющих счастливых человека: красавица-дочь в берете набекрень и смуглый белозубый спутник ее – поклонник Али, почти жених. «Самуил Гуревич, – весело представит его матери Аля, – но все зовут его просто Муля». «А где Ася?» – спросит Цветаева о своей сестре. Ей не ответят, будто не услышат. И лишь в поезде до Болшева дочь шепнет, что и Ася, и сын ее Андрей, и муж сестры Сергея уже второй год как арестованы. Вот это был удар! Может, потому она и скажет потом про Алю: «моя подлая дочь»? Ведь если бы та хотя бы намекнула в письмах из Москвы, что арестована ее сестра, Цветаева, возможно, не кинулась бы добровольно в московский капкан?
Из воспоминаний Н.Лурье, советского писателя: «Нехорошо мне, – неожиданно заговорила Цветаева… – Вот я вернулась. Душная, отравленная атмосфера эмиграции давно мне опостылела… Но смотрите, что получилось. Я здесь оказалась еще более чужой… Меня все сторонятся. Я ничего не понимаю в том, что тут происходит, и меня никто не понимает. Когда я была там, у меня хоть в мечтах была родина. Когда я приехала, у меня и мечту отняли… Уж разумнее было бы в таком случае не давать таким, как я, разрешения на въезд…»
В Болшеве проведет пять страшных месяцев. Дом в соснах на окраине поселка с говорящим названием Новый Быт сохранился до бревнышка. Ныне – музей Цветаевой на улице ее имени (Москва, ул. Цветаевой, 15), а тогда – уютное одноэтажное гнездо, которое пополам дали семьям двух героев-разведчиков: Эфронам и завербованным Сергеем в Париже супругам Клепининым. На деле же это была секретная дача НКВД, или, как мрачно пошутит Нина Клепинина, Дом предварительного заключения. Камин, паркетные полы, готовая мебель, открытые террасы – чем не загородная вилла? И – дом НКВД; здесь до ареста своего жил сам Зальман Пассов, начальник 7-го отдела ГУГБ – то есть всего Иностранного отдела Лубянки. И – ДПЗ, конечно же, ибо из семи взрослых Клепининых и Эфронов, живших тут до приезда Цветаевой, пятерых арестуют при ней. В том числе дочь ее и мужа.
Нет, поначалу всё было прекрасно. Сергей поселился здесь чуть ли не за год до возвращения жены, и к нему почти сразу переехала Аля. Она, ставшая завзятой «комсомолкой» еще в Париже, вернулась в СССР первой, весной 1937-го. Восторгам ее не было предела! Подругам во Францию писала, что рабочие завода «Каучук» в своем театре играют Шекспира, что в Москве «нет ни одного человека, который бы не знал Пушкина», что на улицах не слышала «ни одного бранного слова» и не встречала «ни одного человека, который бы не работал или не учился…» Сергей сначала не без шика жил в столичных отелях, в нынешнем «Балчуге» с видом на Кремль (Москва, ул. Балчуг, 1), лечился в лучших больницах СССР, а отдыхал, и подолгу, то в Аркадии под Одессой, то в Минводах, то в Кисловодске. Сестре Лиле, которая ютилась в каморке в Мерзляковском (Москва, Мерзляковский пер., 16), хвастал: в жизни не видел около себя столько врачей – и шутил: в санаториях его обтирают одеколоном, так что благоухает он, что «фиалка пармская». Это был звездный час его: сорок пять лет, красавец синеглазый, секретное прошлое, опасная, но почетная работа; он ведь в Москве стал даже не Эфроном – «товарищем Андреевым», таким был его оперативный псевдоним. Обещали вот-вот орден Ленина, спрашивали: поедет ли в Китай, где, может, придется рисковать жизнью? Словом, это была лучшая «роль» его! Огорчало одно: когда пришел к «хозяевам» на Лубянку просить о жилье, когда сказал, что надоело жить в отелях, что дочь его притулилась в шестиметровой комнате его сестры Лили, а спит вообще в алькове, начальник встрепенулся: «Альков, Альков? Это где же, это что – Московская область?» Такими были отныне друзья его, «утонченного версальца», как звала его Цветаева. Зато вечерами, запалив камин в Болшеве, он, Аля с женихом, Клепинины (они были теперь Львовы) – все сходились в общей гостиной. Занавешенные окна, на стене свежая еловая ветка, от которой пахнет Рождеством, вкусный ужин, Алины шуточки, добрая, с мягкой иронией, улыбка Сергея. Какие-то все радостные, оживленные. Читали стихи, поминали намеками «подвиги» парижские, спорили о Толстом, толковали систему Станиславского и ждали, ждали приезда Марины. Все поголовно были секретными сотрудниками НКВД («сексотами» в просторечии), у всех были кураторы из органов, и все, как выяснится на допросах, доносили даже друг на друга. Аля своей наставнице от НКВД некой Зинаиде Степановой, встречаясь с ней в «условленном месте» – в кафе в «Национале» (Москва, ул. Тверская, 1), «стучала» на Клепининых, те – на Сергея, Сергей – на них. Такая вот «дружба» соседей. А вообще – готовились жить «набело». Весь ужас в том и состоял, что объективно все они были хорошими, даже замечательными людьми, да-да: добрыми, отважными, даровитыми (Клепинин еще в Париже издал две книги, его жена рисовала и была когда-то ученицей Петрова-Водкина). Просто вернулись помочь Родине, стряхнуть морок эмиграции, если хотите – воспрять. Сергей даже кольца гимнастические повесил меж сосен, чтобы подтягиваться – тренировать сердце (стенокардия), и бодрящий стук их друг о друга по утрам, кажется, и впрямь молодил его…
Колец ныне, конечно, нет. Но целы дверные ручки, помнящие ладони Цветаевой, дубовый стол, буфет, даже старая защелка на форточке в комнате Сергея. Была тахта, раскладушка, а по стенам в ряд гвозди: на них под простынями висела вся их одежда. После возвращения эти гвозди вместо шкафов будут сопровождать Цветаеву всюду. До того крепко вбитого гвоздя в сенях Елабуги – последнего. На котором повесится…
145 дней прожила в Болшеве. «Тихо она приехала, – напишет Аля, – тихо встретилась с Сережей. В ней была осторожность кошки, принюхивающейся… к нашей великолепной даче, к нам…» Вернулась другой, конечно. Полюбила темные платья, низко, некрасиво повязывала косынку на почти седых волосах, не стесняясь носила уже очки, а поверх всего с утра, как хомут, надевала синий фартук с большим карманом, в котором было всё, и главное – зажигалки и мундштуки, которые вечно теряла. Лишь иногда, принарядившись, ходила с Сергеем на станцию, где, гуляя по дощатой платформе среди дачников, пропуская поезд за поездом, ждала из Москвы радостную Алю, обвешанную коробками, свертками, сумками. Да еще радовалась книгам, с которыми засыпала и, когда неслышно входящий Сергей снимал с нее очки и гасил лампу, вздрагивала и бормотала сквозь сон: «Сереженька, я не сплю…»
Благостная, казалось бы, картинка? Но кто бы заглянул в душу ее, кто бы прикоснулся к нервам.
Из «Болшевской тетради» Цветаевой: «Неуют… Постепенное щемление сердца… Энигматическая Аля, ее накладное веселье… Торты, ананасы, от этого – не легче… Погреб: 100 раз в день… Ручьи пота и слез в посудный таз… Начинаю понимать, что С. бессилен, совсем, со всем… Ощущаю собственную бедность, которая кормится объедками (любовей и дружб всех остальных). Судомойка – на целый день… Только я, я одна, выливаю грязную воду из-под посуды в сад, чтобы таз под раковиной… не пачкал пол… Да и просто – одна. Все вокруг поглощены общественными проблемами: идеи, идеалы… – слов полон рот, но никто не видит несправедливости в том, что у меня облезает кожа на руках, – натруженных от работы… Обертон – унтертон всего – жуть…»
Первой арестовали Алю. Буквально накануне, за три дня до этого, Цветаева вместе с ней и сыном впервые вырвалась в Москву. Где-то там ей, видимо, «дозволили» посетить открытие Сельскохозяйственной выставки. Праздник открывал лично Лаврентий Берия. Фонтаны, оркестры, двести флагов, рвущих воздух. «На этой выставке, – захлебывался в «Известиях» Алексей Толстой, – колхозник и колхозница, подбоченясь, смело могут сказать: “Ну, как вы там – за рубежом, а вы чем за эти годы похвастаетесь?..”» С трибуны читали стихи Уткин, Жаров, Алтаузен – их голоса гремели из каждого репродуктора. А в толпе, не узнанная никем, бродила худая седоватая женщина с папиросой в руке… Чудны дела твои, Господи! В толпе под рифмы поэтических карликов бродила великая Цветаева. Ликующая Аля, в безрукавке и красной косынке, гордилась выставкой, как своей. Радовалась, что мать купила у кустарей большого самодельного льва (кого ж она могла купить еще?), что в грузинском павильоне ей особенно понравились овчарки в вольере (знала ли, что мать ее в детстве звала себя «овчаркой»?). Щебетала про булочные в Москве, говорила, что они не хуже парижских, смеялась, что приняла когда-то метро «Арбатская» за Мавзолей, что, приехав к отцу в Кисловодск, покорила сразу восьмерых летчиков, которые по очереди звали ее замуж, а на всё «грозное» в СССР дивилась, «как глазеет корова на проносящиеся мимо поезда…» Острила! А если серьезно, то в журнале «Наш Союз» уже поклялась всему свету, что счастлива в своей стране. «В моих руках, – написала, – мое завтра и еще много-много-много бесконечно радостных “завтра”…» Через три дня ее, арестовав, будут догола раздевать на Лубянке, срезать пуговицы, выдергивать резинку из трусов и отбирать лифчик, чтоб не повесилась. Таким окажется ее «завтра» и еще много-много других (на четырнадцать лет тюрем, лагерей и ссылок) «радостных “завтра”»…
За ней пришли ночью. «Уголовный розыск! Откройте! Проверка паспортов!» – постучали с террасы. На стук выбежала Цветаева в синей кофте, как спала, и линялой косынке; она проснулась первой. На крыльце стояли трое: два молодых человека в одинаковых костюмах (оба, как запомнит Аля, «с голубыми жандармскими глазами») и – местный комендант. А за спиной их – там, меж сосен – ждала эмка с горящими фарами. Обыск, просмотр книг, изъятие писем, бумаг; к утру – общий озноб обитателей дачи, и наконец – предъявление ордера с размашистой подписью «Берия». И – два слова, навсегда разделивших мать и дочь: «Вы – арестованы!..»
«Аля веселая, держится браво, – запишет Цветаева. – Уходит, не прощаясь! Я: что же ты, Аля, так ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо – отмахивается! Комендант (старик с добротой): Так — лучше. Долгие проводы – лишние слезы…» Через тридцать лет Аля напишет: «Все мои стояли на пороге дачи и махали мне; у всех были бледные от бессонной ночи лица. Я была уверена, что вернусь дня через три, но не могла не плакать, видя в окно машины, как группка людей, теснившаяся на крылечке, неотвратимо отплывает назад… В это утро в последний раз видела я маму, папу, брата…»
Первую передачу для Али примут только через четыре месяца, а первое письмо от нее – весточку из лагеря – Цветаева получит лишь через полтора года – 11 апреля 1941 года. Когда самой останется жить меньше полугода.
Через месяц по той же тропке в ржавых сосновых иглах уведут к эмке с фарами ее Сергея. Не чудны – страшны дела твои, Господи! До ареста он еще крепился, хотя по вечерам соседи вроде бы слышали глухие рыдания из его комнаты. А когда в ноябре заберут и Клепининых, Цветаева с сыном, среди опечатанных комнат, в гулком и мерзлом доме, реально останется одна… Три последних дня описанию не поддаются. О них в ее тетради всего четыре слова: «Разворачиваю рану. Живое мясо». Но один день опишет позже невестка Клепининых Ира; она, не зная об аресте родных, заедет на дачу 7 ноября, аккурат в годовщину Октября. Запомнит вымерший дом, скрип сосен на ветру и надо всем – странный, неземной стук словно сошедшего с ума метронома. Стучали, звонко сталкиваясь на ветру, физкультурные кольца Сергея. Под их адскую аритмию возникнет на крыльце Цветаева с взлохмаченными сединами и белесым взглядом. Страшная, полубезумная старуха! Не узнавая, будет долго глядеть на гостью пустыми глазами и что-то шептать. Не сразу, но Ирина разберет, услышит сквозь ветер: «Уезжай, деточка, уезжай отсюда скорее. Бог с тобой…» И последнюю фразу ее – после широкого крестного знамения: «Я всех боюсь, всех…» А через день, подхватив сына, бросив вещи, посуду, узлы, не спрашивая ничьих разрешений уже, как волчица за флажки, Цветаева кинется прочь – в Москву.
«Мой вечный… круг пустоты…»
Не за три, не за тридцать – за триста лет до приезда Цветаевой в Москву один писатель сказал слова, которые были (один в один!) про нее: «Если на земле появляется действительно великий человек, его сразу можно узнать, ибо все дураки мира мгновенно объединяются против него…» Фраза эта тоже – из моего блокнота. А знаете, чьи слова? Джонатана Свифта! Священника, доктора богословия и только потом – писателя. Он их сказал три века назад. С тех пор не изменилось ничего. И вряд ли, думаю, изменится в ближайшие три. Так устроен гений и так устроена, увы, толпа!..
Аля на первых еще допросах скажет: «о приезде матери» нельзя было сообщать никому до «получения точных директив НКВД». Но вот странность – уже на второй день приезда Цветаевой в Болшево в литературных кругах Москвы пополз слух: «Марина вернулась». Именно так – Марина! – без отчества и фамилии. «Как о царице», – заметит один поэт. Верно заметит! Ибо там, среди знатоков, она и числилась царицей на троне – на троне русской поэзии. Ни эмиграция, ни расстояния и бойкоты, ни надежная граница и безнадежная для честного слова цензура не могли уже остановить славы ее. Мечта исполнилась: она стала «вторым Пушкиным» или, как мечтала, «первым поэтом-женщиной». Фантастика, но еще в 1927-м написала Пастернаку: «Просто в России сейчас пустует трон, по праву – не по желанию – мой…» А в 1939-м именно он, Пастернак, может, самый близкий ей человек в Москве, испугался поначалу даже встретиться с ней. Я еще напишу об этом.
Из письма Цветаевой – Анне Тесковой: «Эх! – Я давно отказалась понять других: всё по-другому… Например, вдова недавно умершего русского писателя, живущая только им, не едет… на кладбище… потому что очереди на автобус… трудно сесть на автобус. Убейте – не пойму. Любовь – дело, кто только чувствует – не любит: любит свои чувства… Я в цельности и зрячести своего негодования – совершенно одинока… Вернее – живу одна, с собой, с другими – не живу: или бьюсь о них лбом – как об стену, – или молчу. Я думаю, что худшая болезнь души – корысть. И страх. Корысть и страх…»
«Белогвардейка» – это слово-клеймо впервые шепотнется за ее спиной в Голицыне, в Доме отдыха писателей, в пятидесяти километрах от Москвы. Словечко бросит возмущенно Фиме Фонской, директору дома, выскочив из-за общего стола, драматург, даже поэт Волькенштейн. И – потребует пересадить его, советского писателя, подальше от «этой»… Он даже не поздоровается, сделает вид, что не знаком с Цветаевой. А ведь это был Володенька Волькенштейн, которого она знала с 1910-х, кто был когда-то мужем ее подруги Сони Парнок и кто в 1920-м приходил, почти приползал к ней, прося пристроить его пьесу в московские театры. Вот что делал с людьми страх. И – корысть…
В Голицыне поселилась в декабре 1939-го. К кому она, полубезумная, кинулась из Болшева? Конечно, к писателям. Есть, есть, сказала когда-то, над литературными драками и тщеславием «круговая порука ремесла, порука человечности». Высшая справедливость! Но куда там! Сам Фадеев, генсек Союза писателей и уже член ЦК ВКП(б), не только отказался принять ее в Союз, но на просьбе ее хотя бы о временном закутке бестрепетно начертал: «Тов. Цветаева! Достать Вам комнату абсолютно невозможно. У нас большая группа очень хороших писателей и поэтов нуждаются в жилплощади…» И посоветовал снять жилье рядом с домом отдыха в Голицыне, а питаться (он распорядится) по курсовкам в писательской столовой. Записка Фадеева (он как раз в это время закончил писать восторженную книгу о наркоме Ежове!), к счастью, сохранилась. Не записка – навечный приговор себе, да и всему писательскому цеху…
Голицыно – ледяная пустыня ее жизни! Здесь, в частном доме на Коммунистическом (конечно же) проспекте, она с сыном в самые суровые морозы полгода жила фактически на веранде. Ни родных (два раза в месяц возила им передачи на Лубянку), ни друзей (ее обегали, как заразную), ни теплых вещей (багаж, застрявший на таможне, был адресован арестованной Але), ни дров своих, ни денег – ничего. В доме не было даже электричества, сначала – даже лампы керосиновой. А в другом конце этого проспекта стоял теплый и уютный Дом творчества, на десять-пятнадцать писателей всего, где ей с сыном позволили кормиться. «По ночам… не сплю, – напишет знакомой, – боюсь – слишком много стекла… Ночные страхи, то машина, то нечеловеческая кошка, то треск дерева, вскакиваю, укрываюсь на постель к Муру, – и опять читаю… и опять – треск и опять – скачок – и так до света. Днем холод, просто – лед, ледяные руки, и ноги, и мозги… В доме ни масла, ни овощей, одна картошка, а писательской еды не хватает – голодновато – в лавках – ничего, только маргарин (брезгаю неодолимо!), и раз удалось достать клюквенного варенья». Раз за полгода. Завтраки носила в кастрюльках к себе, а обедать и ужинать с сыном ходила сюда – в Дом творчества. Как казалось – к людям.
Таня Кванина, молоденькая учительница, жена писателя Москвина, запомнит, как среди литераторов дома, каждый из которых был для нее не меньше Льва Толстого, вдруг возникла легкая женщина в свитере, длинной юбке, стянутой поясом, и с чеканной, «зернистой» речью. Возникла, как «с Марса», и всё вокруг – изменилось. «Тут же смолкло лакейское перемывание чужих костей, все как-то потускнели, как бы поглупели…» Но «легкую женщину», увы, скоро выживут из этого дома: поднимут цены на курсовки. «Снять с питания? – услышит как-то Цветаева телефонный разговор Фонской, директорши, с Москвой. – Хорошо. Сегодня так и сделаю…» На кухне Нюра, повариха, спросит: «Разве вы не завтракаете?» – «Я? – чуть не плача, переспросит Цветаева. – Нет. Дело в том, что они за каждого просят 830 рублей, а у меня столько нет, и я вообще честный человек, я желаю им всего хорошего, и дайте мне, пожалуйста, на одного…» То есть – на сына. Вот этой кухни, этих слов ее не могу представить себе и ныне. Знаю, что было. Знаю, что все платили и за еду, и даже за проживание всего по 500 рублей. Знаю, наконец, что все и вся были против нее. И всё равно – не могу. Ведь это был Дом пи-са-те-лей! Мур, мальчишка, и тот запишет в дневнике пророчески: «Не быть нам за столом со всеми». И добавит: «Мне-то лично наплевать, но каково-то маме!..» А ведь ее дорога в ад только начиналась…
Из письма Цветаевой – поэтессе Вере Меркурьевой: « Меня начинают жалеть… совершенно чужие люди. Это – хуже всего, п.ч. я от малейшего доброго слова – интонации – заливаюсь слезами, как скала водой водопада. И Мур впадает в гнев. Он не понимает, что плачет не женщина, а скала… Я от природы очень веселая… Мне очень мало нужно было, чтобы быть счастливой. Свой стол. Здоровье своих. Любая погода. Вся свобода. – Всё. – И вот – чтобы это несчастное счастье – так добывать, – в этом не только жестокость, но глупость… Счастливому жизнь должна радоваться… От счастливого – идет счастье. От меня – шло. Здорово шло… Мне – совестно, что я еще жива…»
Самая большая загадка ее возвращения – почему ее не арестовали? Ведь брали всех, и по ничтожнейшим поводам. Я уже писал как-то: одного арестовали – так записано в его деле! – за то, что он «антисоветски улыбался». Тогда что же это? Случай? Рулетка? Карусель, где в бешеном кружении сливались лица и непонятно было – кого выхватывать? Не знаю. И, кажется, никто и сегодня не знает.
«Поздравляю себя (тьфу, тьфу, тьфу!) с уцелением», – запишет Цветаева после ареста Сергея и Клепининых. А Аля к тому времени давно во всем «созналась», увлекая за собой и отца, и даже, представьте, мать.
Из протокола допроса Ариадны Эфрон: «Скажите, только ли желание жить вместе с мужем побудило вашу мать выехать за границу?» – «Конечно, нет, моя мать, как и отец, враждебно встретила приход советской власти и не считала возможным примириться с ее существованием…» – «А на кого работал ваш отец?» – «Отец, так же как и я, является агентом французской разведки…»
Против этих выбитых из нее слов палачи, может, и сам Берия, поставили победный частокол «воскликов». Ее били резиновыми палками – «дамскими вопросниками», как назовет их потом, ставили навытяжку в карцер, даже имитировали расстрел. Но ошарашивающей неожиданностью стало для нее появление вместо привычного уже следователя лейтенанта Кузьминова Андрея Свердлова, сына первого председателя ВЦИКа Якова Свердлова и, представьте, недавнего приятеля ее и Мульки, жениха Али Самуила Гуревича. Они в общих компаниях, буквально вчера еще, вместе ходили в кино, упивались джазом Цфасмана, часами сидели в уютном ресторанчике Жургаза – Журнально-газетного объединения на Страстном, где работали и Аля, и Муля (Москва, Страстной бул., 11). Здесь, в сохранившемся и поныне особнячке, вся компания еще потешалась над Алей, считая ее «старомодной», пеняла, что в журнале «Ревю де Моску» она пересиживала часы: «Надо быть круглой идиоткой, чтобы сидеть в редакции дни и ночи за четыреста рублей…» И вдруг он, Андрей Свердлов, – ее следователь. Да какой! Он, отлично знавший, почему и как она вернулась в Россию, теперь заставлял ее подписывать «такой бред», что у нее волосы вставали дыбом. И крыл таким матом, какого она «от уголовников потом не слышала». А когда однажды она уперлась, заявил: «Ну раз вы не хотите по-хорошему, придется… поговорить иначе». И вызвал костоломов… Кстати, как отмечала Мария Белкина, биограф Цветаевой, в протоколах допросов Али имя Свердлова отсутствует. Он доживет до старости, в 1963-м уже, в «барском» санатории Барвиха встретится с Твардовским, поэтом, и тот запишет в дневнике: «Странный, загадочный человек. 16 лет работы в НКВД… В детстве знал Ленина. Знает бездну деталей, сплетен, анекдотов “придворной” жизни. Куда до него тому екатерининскому генералу, которому повезло видеть голую задницу императрицы! Этот… видел искусственный член Ягоды (каучуковый, на поясном ремне). Знает… что Берия занимался онанизмом в камере. Знает, кто под кого “копал” и кто на кого “капал”… Чаще всего сообщает о людях дурное: Тухачевский – морфинист, Косарев – бабник, использовавший служебное положение, та-то – блядь, тот-то – сукин сын…» Но про Цветаеву и Алю не скажет Твардовскому ни слова. Хотя, думаю, допрашивал всех «парижан» и Сергея, которого в Лефортове довели до психушки…
Алю сдал органам Павел Толстой; он часто бывал в парижском доме Цветаевой. Этот без всякого битья настрочил донос даже на родного дядю – гремевшего уже «графа-писателя» Алексея Толстого, у которого жил подолгу. Про Алю на допросах поведал: она «ярко выражала свои антисоветские настроения, вместе с матерью – по паспорту эмигрантки, и убеждений самых махровых монархических», а все, включая Эфрона и «белогвардейского писателя» Бунина, с которым дружили, стремились к одному – «к возврату в прошлое». Позже на Цветаеву (так гласят документы) показания дадут едва ли не все подельники мужа. Клепинин: «Весь строй СССР ей чужд». Литауэр (сподвижница Сергея по разведке): «В Болшево не стеснялась заявлять, что приехала, как в тюрьму, и что творчество здесь невозможно». Разве этого мало для ареста Цветаевой? Ведь и из Сергея выбьют: «В некоторых произведениях высказывала взгляды несоветские…»
Сергей окажется самым упорным. Когда его потом реабилитировали, военный прокурор, листая дело Сергея, сказал Але: «Ваш отец – мужественный человек. Он осмелился перед самим Берией оспаривать предъявленные ему обвинения. И поплатился за это расстрелом в стенах Лубянки». Восемнадцать допросов по протоколам (иные по тринадцать часов), хотя таскали к свердловым чуть ли не ежедневно почти год. Это означало одно: не требовалось протоколов, ибо ни пытки, ни избиения не давали новых признаний. Тюремный врач написал про него: «Обнаруживаются слуховые галлюцинации: ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и его жене. Тревожен, мысли о самоубийстве, ощущает невероятный страх…» А читавшие ныне допросы его говорят: подпись его под последними протоколами выводилась уже каракулями, чуть ли не печатными буквами.
Но Цветаеву, повторяю, ни разу не вызвали даже на допрос, а потом – не выслали, как жену и мать «врагов народа». Разве не загадка загадок? И ответа – нет. Кроме бредового, конечно: ее спас Сталин. Все остальные, его Политбюро, министры, «запроданный на три поколения вперед» Союз писателей порвали бы ее, дай им волю, «в куски». Но – почему же, почему спас? – терзал я вопросами ту же Ирму Кудрову, биографа Цветаевой. Она же, помолчав, ответила: «Наш “великий горец”, он же “людоед”, был очень, очень не глуп. И дальновидно расчетлив…»
Это факт, это уже не бред! Ответ – в той фразе Свифта про великих людей. Сталин, шуганув беспощадных «нукеров» своих, подарил жизнь (о чем я не раз писал уже) Андрею Белому, Ахматовой, Пастернаку, Замятину, Булгакову, Платонову, Михаилу Кузмину. И первому поэту ХХ века – Цветаевой. Каприз палача? Наверное. Но ведь и безупречный литературный вкус. Он оставил жить ровно тех, кто составляет ныне самую громкую славу русской литературы. Великий, по Свифту, он и спасал – великих! И умер, как триста лет назад описал этот «экспириенс» Свифт. Тот в последнем письме, почти слепой уже, написал и про свой опыт жизни, и про всех будущих великих: умирать им придется, написал, «как отравленной крысе в своей норе…» Так умер вождь. И не так ли умрет загнанная веком великая Цветаева?
«Растите в небо!..»
«Я люблю, чтобы деревья росли прямо. Растите в небо!» – завещала нам Цветаева. Любила дерева, любила всегда, а перед смертью, как призналась той же Тане Кваниной, – даже больше, чем людей. За что? За стремление ввысь, за молчаливую верность, за тяготение к солнцу, за таящийся в них до времени огонь, бескорыстно греющий человека. Наконец, как считала, – за похожесть на себя, за ежедневный, по миллиметру, рост, за победу вертикали над горизонталью, звезд над пылью земной, бытия над бытом. Растите вверх! – это и призыв, и завет, и философия Цветаевой, и – все ее стихи. Она ведь и про себя, еще в 1921-м, сразу после кончины Блока, написала: «Я тоже дерево. – И добавила: – А потом меня срубят и сожгут, и я буду огонь».
…Зубы у нее начали стучать еще в трамвае. Она сжимала челюсти изо всех сил, лишь бы этого не услышали люди. Два дня назад на Лубянке от нее не приняли ни передачи, ни денег для Сергея. Болен, умер, убит? Когда в окне приемной НКВД ей сказали, что он переведен в Бутырку, она, разжав губы, не смогла попасть даже на «спасибо». В Бутырке Сергей бывал еще мальчиком, когда приходил на свидания к сидевшей тут еще при царе матери-эсерке. Теперь, после пыток, его перевели сюда из-за попытки самоубийства. Но те два-три дня, когда она не знала о нем ничего, были самыми страшными для нее. Она ведь и умрет раньше его, повесится за два месяца до его расстрела. Как раз когда его вновь привезут в Бутырку, но уже в камеру смертников. Погибни он раньше, она бы – верю! – почувствовала.
Цветаева. Из «Записной книжки № 14»: «Для поэта нет ни одной равнодушной вещи, на всё да, нет, люблю, ненавижу. Нет средостояния, ни средостения. И это – на фоне глубочайшей отрешенности и даже оторванности от всего… Я не знала человека более робкого, чем я отродясь. Но моя смелость оказалась еще больше моей робости. Смелость: негодование, восторг, иногда просто разум, всегда – сердце. Так, я не умеющая самых “простых” и “легких” вещей – самые сложные и тяжелые – могла… »
Ни от робости, ни от смелости ее не зависело уже ничего. Ни средостояния, ни средостения – рок. Повзрослевший Мур, тот, кто еще в девять лет, в Париже, выкрикнул как-то: «Какая у нас ужасная семья!», скоро напишет: именно «рок» вел их всех «на расправу». И добавит: это был уже не «fatum из произведений Чайковского – величавый, тревожный, ищущий и взывающий, а Петрушка с дубиной, бессмысленный и злой…»
Ну-ка вы, сегодняшние, даже не поэты, не вечно скулящие литераторы, а просто люди, можете ли вы вообразить, что Цветаева, идя в 1940-м году по Вспольному переулку в дом к Вильмонтам, друзьям (Москва, Вспольный пер., 18), вдруг нагнулась и, никого не стесняясь, подобрала с земли валявшуюся луковицу? «Суп сварю, – сказала спутнице, жене Николая Вильмонта. – Привычка. Бывали дни, когда я варила суп из того, что удавалось подобрать на рынке…» А ведь еще не было войны, не было карточек, голода. Нет, шел год, когда как раз писатели словно с цепи сорвались, обогащаясь. Весело заселяли огромный дом, специально построенный для них (Москва, Лаврушинский пер., 17), где пятикомнатные квартиры решили дать Федину, Сельвинскому, Эренбургу, Погодину и Вишневскому, а единственную шестикомнатную – Всеволоду Иванову (к нему благоволил Сталин), делили дачи в Переделкине, приобретали машины, азартно скупали мебель красного дерева, фарфор, наперегонки гонялись за антиквариатом. «В них чувствовалось, – пишет свидетель, – стремление к комфорту… В воздухе – разговоры о блестящей кухне, гаражах, судорожно ищется бензин. Какая-то трамвайная давка с отдавливанием ног…» «Инженеры человеческих душ», как назвал их Сталин, еще вчера удавившие в себе совесть, клеймя в газетах «врагов народа», теперь во весь опор неслись к «простому человеческому счастью». С ними ли, «хозяевами жизни», равнять Цветаеву? Она, как и Стенич, литератор, уже расстрелянный в 1938-м, тоже могла презрительно бросить о них: «Знаю я ваших “пролетарских писателей”. Они по воскресеньям жрут сырое мясо из эмалированных мисок, придерживая куски босой ногой». Внешний их блеск, их благополучие не обманывали ее – она знала цену их строчкам. А по росту ей были, может, два человека – Пастернак и Ахматова. Но и они, увы, и они…
Елена Тагер, жена литературоведа Евгения Тагера (почти единственная семья, с которой успеет подружиться Цветаева и у которой бывала), вспоминала потом, как поздним вечером в их коммуналке зазвонил телефон (Москва, Малый Кисловский пер., 4). Звонил Пастернак. Торопясь, сказал Елене, что Цветаева просит его о встрече (они после Парижа не виделись четыре года), а он не знает – идти ли? «Я встретил Каверина, он сказал, ни в коем случае. Это опасно…» Тагер запомнит, как «потрясла ее эта трусость» и как сгоряча она высказала ему всё. Правда, подумав, решив, что с ним произойдет нечто ужасное, сразу же напишет ему: «Родной! Вам не надо ездить к Марине – пока не надо. И не надо этим терзаться, ведь это никак не… затрагивает подлинного…» Подлинного отношения к Цветаевой в его душе. Так-то! Но кто бы подумал в те дни о ее душе? Ведь он, пока длился их десятилетний роман в письмах, был готов когда-то даже бросить жену ради нее. И вот – опасно, даже увидеться опасно. Ну, ладно Каверин, ладно Антокольский (тот юный Павлик, который двадцать лет назад преклонялся перед ней) – теперь он будет кричать на знакомую, кому Цветаева хотела оставить чемоданчик с рукописями: «Ты не знаешь ее, она черт знает что может писать, не считаясь со временем! Что в чемодане? Там, может быть, такое, что вы все загремите!..» Но Эренбург, который скоро не пустит ее дальше порога своей квартиры, как раз пятикомнатной, как раз в Лаврушинском. Она, пишут, стоя в прихожей, упрекнет его; это ведь он в Париже убеждал ее вернуться в СССР. «Вы мне объясняли, что моя родина, мои читатели здесь, вот теперь мой муж и дочь в тюрьме, я с сыном на улице, и никто не то что печатать – разговаривать со мной не желает…» Эренбург якобы ответит: «Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего…» Ее судьба и не стоила уже гроша ломаного, а у Эренбурга всё будет хорошо. И она, словно увидев сытое благополучие его, все будущие премии, ордена и заграницы, тогда и крикнет ему: «Вы – негодяй!» И, уходя, – хлопнет дверью…
С Пастернаком встретится, конечно, и не раз. Он даже позовет ее на дачу в Переделкино, на обед с грузинскими поэтами, где она, суровая работяга, «трудоголик», будет ошарашена даже не лукулловым пиром – изумлением: как можно весь день провести за обеденным столом? Но в первую встречу они будут бродить по переулкам до полуночи. Он едва не отморозит уши, устанет и, увы, скажет, что всегда устает от нее. Исправляя неловкость, добавит: как и она от него. «Конечно, он ко мне добр, – заметит она, – но я ждала большего, чем забота богатого, я ждала дружбы равного».
За два года напечатают кроме переводов лишь один стих ее. Старый, двадцатилетней давности. Но критика не пройдет и мимо него. «Меланхолические причитания Цветаевой», – напишет в «Известиях» некая Мирлэ. А когда сгоряча ей предложат издать книгу, то сборник, совсем не сгоряча, зарежет Корнелий Люцианович Зелинский, добрый вроде бы знакомый по Голицыно, но литератор, кого все звали Карьерий Подлюцианович. «Стихи с того света, – напишет во внутренней рецензии. – Клиническая картина искривления и разложения человеческой души… книга душная, больная… Советская поэзия ушла далеко вперед…» И – резюме: «Худшей услугой Цветаевой было бы издание именно этой книги…» «Сволочь Зелинский! – спокойно отзовется на это Цветаева. – Я это говорю из будущего». Мы – из будущего, прочитав ее жизнь и его, можем добавить: редкая сволочь!..
Из «Рабочей тетради» Цветаевой за 1940 год: «Когда меня спрашивают: Почему вы не пишете стихи?.. – я задыхаюсь – от негодования. – Какие стихи? Я всю жизнь писала от избытка чувств. Сейчас у меня избыток каких чувств? Обиды. Горечи. – Одиночества. Страха. В какую тетрадь – писать такие стихи??.. Как я сейчас могу, когда мои… Если бы я этой книгой могла спасти тех… Слава? Она мне не нужна. Деньги? Пойдут кредиторам. А главное, что все это случилось со мной – веселой, живой, любящей… доверчивой (даже сейчас…) За что? И – к чему?.. Писать перестала – и быть перестала… Разве это я – живу?»
Поэт и толпа – вопрос вечный, это все знают. Но толпа поэтов и поэт – вот проблема наиновейшего времени – социализма. Может, потому Цветаева и выведет бессмертную формулу: «У поэта есть только имя и судьба!..» Скажет это в 1940-м. Просто накануне Сталин мановением руки дал ордена 172 писателям и поэтам. Цельнометаллическим «классикам» Асееву, Павленко и Фадееву дал ордена Ленина, Кирсанову и Сельвинскому – Трудового Красного Знамени, а Знаком Почета отметил даже студентов еще: Симонова, Долматовского, Алигер. Против их имен тоже стояло, я проверял: «За выдающиеся успехи и достижения в развитии литературы». Каково? Обнесена была, как я говорил уже, совсем уж «мелочь»: Ахматова, Пастернак, Булгаков, Платонов – самые могучие дерева русского слова. Вот тогда Цветаева и усмехнется, как с Марса: «Награда за стихи из рук чиновников! А судьи кто? Поэт орденоносец! Поэт медаленосец! Какой абсурд! У поэта есть только имя и судьба». И чтоб запомнили, услышали и мы, повторит: «Судьба и имя»!..
«Мера, я не умещаюсь. Время, я не поспеваю», – щегольнула как-то давно мыслью в дневнике. Теперь ежечасно ощущала: не умещается и – не поспевает. У нее были имя и судьба, но до них никому уже не было дела. Кроме считанных по пальцам друзей – тех же Тагеров, Вильмонтов. Бывала у замечательного чтеца Дмитрия Журавлева (Москва, Арбат, 28), в том же доме, где жил когда-то Павел Антокольский, у дочери Бальмонта Нины и ее мужа Льва Бруни, они жили в коммуналке на Полянке (Москва, ул. Большая Полянка, 44), у переводчицы Нины Яковлевой, где почти влюбилась в молодого тогда поэта Арсения Тарковского (Москва, Телеграфный пер., 9). «Влюбилась» – это сказано, пожалуй, сильно. Нет, ей стукнуло всего сорок восемь, но выглядела почти старухой. «Страшной старухой» назовет ее даже сын. А посторонние люди, «нечеловеки» – те мерили ее, как водится, по себе. «Чернокнижница», «концентрат женских истерик», «ведунья, расколотившая к черту все крынки и чугунцы», даже – «кикимора, которая сейчас кувырнется, пойдет прыгать, бочком, выкинет штучку…» Еще одна скажет: «Загнанная горем женщина, и уже – впалая грудь». Но добавит, представьте: зато «вся – как птица летящая». Она и впрямь не ходила – летала. Синий беретик, легкий плащ, толстые сандалии, сумочка на длинном ремешке через плечо. Ничего от парижанки. Но и ничего от видавшей виды москвички тех лет. В письме Берии на полном серьезе просит о свидании с мужем. «Сердечно прошу Вас!» – словно человека умоляет его. Але в лагерь (а она вначале оказалась натурально на лесоповале) пишет: «Не прислать ли тебе серебряного браслета с бирюзой? И какое-нибудь кольцо?» В Гослитиздате, куда сдавала переводы (Москва, Большой Черкасский пер., 2), сказав, что хочет пить, не ждет, пока принесут чашку, а, высыпав ручки и карандаши из канцелярского стаканчика, льет воду из графина прямо туда и, не замечая вытаращенных глаз, жадно выпивает ее. Чудачка? Да просто ненормальная! В четыре утра могла не только позвонить тому же Тарковскому и сказать, что тот забыл у нее носовой платок, но и сорваться ночью – чтобы тут же привезти платок к нему (Москва, 1-й Щипковский пер., 26). Могла, слушая радио, аплодировать в одиночестве удачным фразам, могла демонстративно бросить куда попало, «как веник», букет цветов, поднесенный ей, а, увидев у подруги том Державина, предложить за него нефритовое кольцо и какое-то ожерелье: «Раз вы любите эти вещи!..» Боялась автомобилей, эскалаторов, лифтов, пользовалась (если без сопровождающих) только трамваем и метро. Наконец, могла долго говорить о чем-то с простым сторожем, с «блаженной дурочкой», соседкой и, напротив, едким словом отшить «интеллектуала». В этом была «особость» ее – тоже своеобразная вертикаль! – но в этом же – и истерзанность души, и растерянность, и жизнь на последнем, истонченном уже нерве.
Реально же у нее было: отсутствие жилья – летом перебилась тем, что ее пустили к себе Габричевские, «друзья друзей», уехавшие на дачу (Москва, Большая Никитская, 6); отсутствие прописки (из-за этого Мур сменит пять школ); отсутствие известий о муже (на Лубянке вдруг опять перестали принимать и деньги, и передачи); отсутствие работы. Сплошное «нет». Вот когда поняла: западня захлопнулась. И вот когда, зная всё наперед и ни на что не надеясь уже, послала телеграмму Сталину: «Помогите мне, я в отчаянном положении. Писательница Марина Цветаева». Мур, еще вчера записавший в дневнике: «Мать всё время говорит о самоубийстве… По-моему, сошла с ума. Я зол, как чорт! Не вижу исхода. Я больше так не могу… Я больше не могу переносить истерики матери», – теперь по-детски тешит воображение: «Наверное, когда Сталин получит телеграмму, он вызовет или Фадеева, или Павленко и расспросит их о матери. Увидим, что будет дальше…» Цветаеву действительно вызовут в ЦК, а Мур будет ждать ее под дождем в сквере у памятника героям Плевны. Но ее ничем не спасут, скажут, что могут лишь позвонить в Союз писателей, на который она и жаловалась. Правда, кажется, при ней и позвонят. Так в ее жизни возникнет добрый гений; он найдет ей последнее жилье – комнатку на Покровском бульваре. Его звали Арий Ротницкий, по отзывам – прямой, честный, чуткий человек. Но знаете, за что в Литфонде отвечал этот румяный «ангел» с эспаньолкой и брюшком, отчего его суеверно обегали даже генералы от литературы? Язык не поворачивается сказать! Отвечал – за организацию похорон писателей. Что ж, ей к тому времени осталось жить – меньше года.
Из «Рабочей тетради» Цветаевой за 1940 год: «О себе… Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего – себя… Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами – крюк… Я год примеряю смерть. Всё уродливо и страшно. Проглотить – мерзость, прыгнуть – враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже – посмертно – боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть…»
Для нее последней «тюрьмой» – «гробом» станет в Москве как раз дом на Покровском (Москва, Покровский бул., 14/5). Безымянный дом, не «цветаевский», ибо на нем и ныне нет памятной доски. Здесь, на седьмом этаже, за окном без штор, в тринадцатиметровой комнате она с сыном и проживет последние десять месяцев. Те, кто бывал у нее, помнят велосипед под потолком в прихожей, голую лампочку в комнате, одежду на гвоздях по стенам. Что еще? Стол у окна, матрас на чурбаках для сына, топчан из чемоданов – для нее. Не парижская даже бедность – просто нищета. Теперь в любых гостях она берет что-нибудь со стола и прячет в сумку – сыну. А дома на общей кухне упорно вешает над плитой, кастрюлями и чайниками выстиранные брюки его (он у нее – парижский франт!) и возмущается, что это злит соседей. «Сволочи! Они назвали мать нахалкой, – заносит в дневник Мур. – Мать говорит, что может из четырех конфорок располагать двумя»…
Отсюда ходила на встречу с Ахматовой – виделись, кстати, впервые за жизнь. Встречи не вышло, так – коснулись «кончиком ножа души», скажет очевидец. Всё у них было и всё окажется разным. Но когда спустя годы театровед Павел Громов, друживший с Ахматовой, напомнит, что в Париже Цветаева голодала, Ахматова отвернется: «Не знаю, не знаю – на ней были такие тряпки, что не похоже, что ей плохо жилось!..» Такой вот загробный «привет» от сестры по несчастьям. А ведь в июле 1940 года Цветаева и Мур до четырех утра стояли в очереди, чтобы купить вышедшую тогда книгу стихов Ахматовой, и не раз слышали потом: «Раз Ахматовой можно книгу, то почему нельзя Цветаевой?» А вот нельзя, и всё! Может, потому, что только она, единственная (!!!), ни разу, как действительно великая, не солгала словом, не написала, как Мандельштам, Пастернак и та же Ахматова, стихов в честь Сталина или власти. А ведь жилось ей, мягко сказать, похуже их. Это тоже – факт. И тоже – навечный. «Равенство дара души и глагола, – сказала, – вот поэт», и добавила: «Конечно, быть человеком важнее, нужнее. Врач и священник нужнее, они у смертного одра, не мы… Посему мне прощенья нет. С таких на Страшном суде совести и спросится. Но если есть Страшный суд слова – на нем я чиста». Святая правда! Чиста, как чист ныне только Пушкин.
Наконец, с Покровского за четыре дня до войны – последней катастрофы ее – ездила в Кусково с сыном, с поэтом Крученых и Лидой Либединской, тогда девочкой еще. Все они сохранились на предсмертной фотографии Цветаевой. «Катались на лодке, – запишет в дневнике Мур, – пили кефир, сидели в садике, около беседки, снимались, как буржуи-мудилы, фотография чудовищная, как и следовало ожидать…» Цветаева была в белых резиновых туфлях со шнуровкой, совсем без каблуков, и в простом из сурового полотна платье. Лида Либединская, впервые видевшая ее, запомнит, что в Шереметьевском дворце, в музее, Марина Ивановна скажет спокойно: «Хороший дом, хочу жить в нем!» – а про портреты старинных красавиц на стенах неожиданно заметит: «Не люблю вещей за то, что они переживают своих хозяев». Послушает стихи Лиды, тут же мастерски поправит их, предложит учить ее французскому и, заметив замешательство ее, успокоит: «Конечно, совершенно безвозмездно». Но меня из всех заметок про тот летний день больше всего поразило, что, когда они на лодке доберутся до какого-то островка, Цветаева ляжет на траву и, закинув руки за голову, будет долго глядеть в небо. Последняя безмятежность. О чем думала, глядя на облака? О прошлом, о будущем? Французским, кстати, предложила Лиде заняться прямо с понедельника, но в воскресенье началась война.
Из «Рабочих тетрадей» Цветаевой: «Эпоха не против меня, я против нее. Я ненавижу свой век из отвращения к политике, которую за редчайшими исключениями считаю грязью. Ненавижу век организованных масс. И в ваш воздух, машинный, авиационный, я тоже не хочу. Ничего не стоило бы на вопрос – вы интересуетесь будущим народа? – ответить: – О, да! А я отвечу: нет, я искренно не интересуюсь ничьим будущим, которое для меня пустое и угрожающее место. Я действительно ненавижу царство будущего…»
Будущего у нее уже и не было. Был обморок, морок, мор, рок. Одно слово, вместившее всё. Вой сирен, бомбоубежища, страх за Мура, тушившего зажигалки по ночам на крыше дома на Покровском бульваре, судорожная сушка моркови по всем радиаторам для Али, в лагерь («можно заварить кипятком, все-таки овощ»). И – кружение бессмысленных уже хлопот с квартирой, из которой вновь, из-за войны, изгоняли хозяева («Милые правнуки! И у собаки есть конура»). И, как напишет в дневнике Мур, «Литфонд – сплошной карусель несовершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым, и Асеевым, и Фединым». И как итог – хаос души ее, победивший гармонию, когда она, по словам знакомой, стала уже «как провод, оголенный на ветру, вспышка искр и замыкание». То есть – тьма!
Но мне, когда уходил из ее дома на Покровском, всё вспоминалось одно: как еще в первую бомбежку к ней, в квартиру под самую крышу, поднялся всего лишь управдом (всего лишь проверить затемнение!), а она, ничего не соображая уже, вдруг встала спиной к стене и молча, крестом раскинула руки. Замерла в неописуемом ужасе… «Я всех боюсь, всех…»
«Не похороните живой!..»
Из письма Цветаевой – поэтессе Вере Меркурьевой: « Москва меня не вмещает. Мне некого винить. И себя не виню… это судьба… Я не могу вытравить из себя чувства – права… Мы – Москву – задарили. А она меня вышвыривает: извергает. И кто она такая, чтобы передо мной гордиться?.. С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности: меня – всё меньше и меньше… Остается только мое основное нет…»
8 августа 1941 года от причала Речного вокзала отошел пароход «Александр Пирогов». Он был еще колесный, из того еще, старого времени, откуда была и Цветаева. Но отплывала она на нем в свое будущее – в вечность: «Я ведь знаю, как меня будут любить через 100 лет».
Ровно через двадцать три дня, 31 августа, в далекой Елабуге покончит с собой. Повиснет в петле в том самом синем фартуке, который, вернувшись в СССР, надела, как хомут. «За царем – цари, за нищим – нищие, за мной – пустота…» Вселенская пустота. Не она в петле повиснет, нет, земной шар – можно ведь и так сказать – повис у нее под ногами. Ее вертикаль, пусть и так, но победила равнину мира.
За пять минут до смерти напишет: «Не похороните живой! Проверьте хорошенько!» Последние слова, доверенные бумаге. А за три дня до смерти скажет: «Ничего не умею». И как о чем-то бесконечно далеком вспомнит: «Раньше умела писать стихи, но теперь разучилась». Конечно, разучилась, ведь стихи, «княжество слов», как сказал кто-то, «пишутся неоскорбленной частью души». У нее, у царицы поэзии, не часть – вся душа была истоптана уже сапогами обид, унижений и гнева…
«Мурлыга! – написала в прощальной записке сыну. – Прости меня, но дальше было бы хуже. Я <…> это уже не я. Люблю тебя безумно. Передай папе и Але – если увидишь, – что любила их до последней минуты и объясни – попала в тупик…» Оставила еще два письма тем, кто в последний раз предал ее уже в Елабуге, – писателям. Хотя и им, и даже нам могла ответить одной, уже вбитой в историю фразой: «Между вами, нечеловеками, я была только человек!..»
Первый человек в литературе, в поэзии. Первый – в ХХ веке.
«Ворованный воздух», или Поводырь слепых – Мандельштам
Я скажу это начерно, шопотом, Потому что еще не пора: Достигается потом и опытом Безотчетного неба игра. И под временным небом чистилища Забываем мы часто о том, Что счастливое небохранилище — Раздвижной и прижизненный дом. Осип МандельштамМандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) – выдающийся русский поэт и прозаик. При жизни издал три сборника стихов, но их хватило, чтобы вписать свое имя в историю русской литературы. Кстати, в свидетельстве о крещении Осипа Мандельштама его записали Иосифом, как и его антипода – Иосифа Сталина. Но – вот загадка! – Сталин ли «убил» своего тезку, отправив его в лагерь, как годами твердят нам литературоведы, или братья-писатели?..
Его крестили в Выборге, когда ему исполнилось двадцать. А в сорок семь – убили под Владивостоком. В противоположном углу страны. Из лагеря он пошлет лишь одно письмо Наде, жене, но до него так и не успеет дойти ни ответное письмо ее, ни посылка, отправленная через всю страну.
Посылка вернется в Москву 1 февраля 1939 года. Одиннадцать кило: сало, сгущенное какао, сухие фрукты. «Меня, – пишет Надя, – вызвали… в почтовое отделение у Никитских ворот. Вернули посылку. “За смертью адресата”, – сообщила почтовая барышня…» Так узнает о смерти мужа. Но – вот совпадение-то! – как раз в этот день газеты напечатают первый список писателей, награжденных властью. Сто две фамилии! Чохом! И если Надя, волоча домой ненужную уже посылку, не видела из-за слез дороги, то в десятках домах в этот день тоже плакали. От счастья! Обмывали награды на тугих скатертях, на газетах в общежитиях, чокались за Сталина, кричали «ура» и вновь утирали слезы радости. Так глаголят дневники и мемуары. Не прятали влажных глаз и вожди писателей: Фадеев, Павленко, Ставский. А когда Фадеев и Павленко сверлили дырки в пиджаках для орденов Ленина, а Ставский – для Знака Почета (награду, которую шутя звали «Веселые ребята»), тело поэта, провалявшееся у лагерного барака четыре дня, реальные веселые ребята как раз затаптывали, утрамбовывали ногами в неглубоком лагерном рве – рыть глубже общую могилу зэки ленились.
Через полвека мы узнаем: Мандельштам умер в лагерной бане, не успев одеться. «Он сделал шага три-четыре, – запомнит очевидец, – поднял высоко, гордо голову, сделал длинный вздох и рухнул лицом вниз. Кто-то сказал: “Готов”… Лежал страшный: худой, синюшный, ребра – хоть считай… Врач поискала пульс… Вынула зеркальце и поднесла ко рту… “Что смотрите? – сказала. – Идите за носилками”…» А другой свидетель, ленинградец Маторин, видевший, как тело поэта обливали сулемой, запомнил, что начальник лагеря по фамилии Смык крикнул ему: «Отнеси-ка жмурика!» «Несли мы его в зону уголовников. Там уже ждали два уркача, здоровые, веселые». Эти рвали коронки, золотые зубы, с мылом снимали кольца с мертвецов и, обернув трупы простыней, везли их к траншее в пятьдесят сантиметров…
Так, пройдя все круги советского ада, умер поэт, кого назвали уже самим Вергилием. А у Нади от того дня останется лишь неотправленное письмо: «Ося, родной! Пишу в пространство. Не знаю, жив ли ты. Услышишь ли меня… Это я – Надя…»
Два колечка за два гроша
«Мандельштам» в переводе с идиш – «ствол миндаля». Он и был как миндальное деревце среди берез да сосен. Дерзкий и застенчивый, обидчивый и нахальный, слезливый и смешливый. «Задорный петух», «чудак с оттопыренными ушами», «упадочная кукла», «ящик с сюрпризами» – так звали его. «Непереносимый, неприятный, – напишет о нем современник, – но, может, единственный настоящий». «Мраморной мухой» назвал его Хлебников. Нечто «жуликоватое» находил в нем Андрей Белый. А Чуковский, прямо обозвав его «карманным вором», тут же добавил, что он тем не менее всю жизнь был «безукоризненно чист в литературном деле». Безукоризненно – чист! Это, пожалуй, и запомним!..
Предки поэта были выходцами из Испании, а «основателем рода, – как пишет биограф его, – считается ювелир при дворе курляндского герцога Э.И.Бирона». Уж как это «вычислил» Олег Лекманов, ума не приложу! Впрочем, Мандельштама, выросшего, увы, «при дворе» отца-перчаточника, с черными от постоянной работы руками, и матери – учительницы музыки, интересовали не семейная замша и лайка – колючие гвозди, которые он, обрывая карманы, коллекционировал. А вдохновляли не знаменитый Кубелик, к которому мать водила его ставить руку в фортепьянной игре, и не стенания отца («для еврея честность – это мудрость и почти святость») – военные разводы на Дворцовой площади, казачий конвой императора, за которым едва поспевали детские глаза, да мохнатая шапка гренадера, стоявшего на часах у памятника царю на Исаакиевской. Какие там чинные «гуляния» в Летнем саду!
Из воспоминаний Осипа Мандельштама «Шум времени»:
«Девочка (или мальчик, – таково было обращение), не хотите ли поиграть в “золотые ворота” или “палочку-воровочку”? Можно себе представить, после такого начала, какая была веселая игра. Я никогда не играл… Военные разводы у Александровской колонны, генеральские похороны, “проезд” были моими развлечениями… Весь этот ворох военщины и даже какой-то полицейской эстетики… очень плохо вязался с кухонным чадом среднемещанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами и опойками, с еврейскими деловыми разговорами…»
Кухонный чад этот витал когда-то над милым моему сердцу Загородным проспектом Петербурга, где в двух шагах от Пяти углов прожил я первые двадцать лет. Я помню еще трамваи, ходившие по нему, дворы, забитые штабелями дров, где мы ухитрялись бегать наперегонки, выгоревшие навечно камины в подъездах доходных домов, я чую еще, несмотря на тотальную седину, вкус красненьких петушков на палочках – леденцов-сосулек, которые из-под полы продавали на каждом углу какие-то тетки. Но разве я знал тогда, что на Загородном жили когда-то все те, кто меня заинтересует, заинтригует потом: вся звонкая литература России начиная с поэта Капниста, на даче которого в начале 1790-х годов бывал сам Державин (С.-Петербург, Загородный пр-т, 18), и кончая Лидией Чуковской, которую не раз посещала здесь Ахматова (Загородный пр-т, 11). Загородный весь и всегда «шелестел» листами стихов и нот. Здесь Пушкин в 1826-м навещал родителей в несохранившемся, увы, доме (Загородный пр-т, 9), и в нем же, в доме № 9, в первой еще квартире на Загородном его лицейского друга Дельвига, в жуткий мороз уже 1828 года, когда все уехали в церковь на тайное венчание сестры Пушкина Ольги, он (из песни слова не выкинешь!), ожидая молодых (Дельвиг предоставил им свою квартиру для свадьбы), оставшись в пустых комнатах наедине с Анной Керн, кутавшейся «в кацавейку», кажется, и поставил жирную точку в их «знаменитой любви». Помните циничную фразу его из письма Соболевскому, другу: «Ты ничего не пишешь о 2100 мною тебе должных, а пишешь о m-me Керн, которую с помощью Божией я на днях в…б»?.. И Анечка Керн, и Пушкин, Вяземский, Жуковский, Крылов, Баратынский, даже Мицкевич – все бывали потом в новом доме Дельвига по соседству (Загородный пр-т, 1), где пили пунш, дурачились, спорили, где меж беззаботного смеха затеяли и выпускали «Литературную газету» и где, проводив поздних гостей, Дельвиг «в шелковом малиновом халате», отгородившись от семьи ширмой, допоздна близоруко правил корректуры… А кроме Дельвига на Загородном жили Тарас Шевченко (Загородный пр-т, 8), Александр Грин (Загородный пр-т, 10), поэтесса Е.Полонская (Загородный пр-т, 12), знакомый уже нам возлюбленный Зинаиды Гиппиус Аким Волынский (Загородный пр-т, 23) – он, кстати, жил в том доме, где скоро поселятся и Керенский, будущий министр-председатель Временного правительства, и Осип Брик с юной женой Лилей (их первая квартира в городе). На Загородном жили и великие композиторы: Глинка (Загородный пр-т, 42), Чайковский (Загородный пр-т, 25), Римский-Корсаков (Загородный пр-т, 28), даже Шостакович (Загородный пр-т, 64/2) – он и родился тут. И, наконец, на моем Загородном дважды жил Мандельштам: сначала, в 1911-м, в конце проспекта (Загородный пр-т, 70), а через два года, в 1913 году – почти в начале его (Загородный пр-т, 14). Невероятно, да? На Загородном он гонял еще с мальчишками в футбол (как и мы потом) и в 1913-м же выпустил свой «Камень» – первый сборник стихов, сразу ставший великим. В футбол гонял (этого не знает почти никто), когда здесь открылось знаменитое Тенишевское училище (С.-Петербург, Загородный пр-т, 17), куда поэт был принят одним из первых еще в 1899-м. Через год училище переедет в специально построенное князем Тенишевым здание на Моховой (С.-Петербург, ул. Моховая, 35), но именно про Загородный поэт напишет, что там, «во дворе огромного доходного дома, с глухой стеной, издали видной боком, десятка три мальчиков в коротких штанишках, шерстяных чулках и английских рубашечках со страшным криком играли в футбол…»
Вообще такого училища, как Тенишевское, не было в России ни до, ни после. Во всяком случае – в ХХ веке. Там, на Моховой, где учился и Владимир Набоков, где было два только театральных зала, свои оранжерея, обсерватория и бассейн, где даже подоконники были с подогревом (чтобы мальчики не простудили, пардон, попки), Мандельштам не только напечатает первые стихи в рукописном журнале «Пробужденная мысль», но по горло наберется вольнодумства, даже запишется в эсеры. Знали мы это? Правда, один из одноклассников скажет потом, что Осип вечно ходил «повесив нос» и ему часто кричали: «Ёська! Застегни штаны!..» А другой, некий Рубакин, напишет, что вольнодумец был «весьма трусоват». Насчет штанов я лично верю – могло быть! А вот, что трусоват, возможно, и не соглашусь. Рубакин не знал, что еще в училище наш герой не только тайно читал «Эрфуртскую программу» и «Капитал» Маркса, но с рыжим караимом, несгибаемым соучеником Борей Синани, с кем часто шушукался в квартире того на Пушкинской (С.-Петербург, ул. Пушкинская, 17), мотался от партии эсеров по рабочим митингам и даже пылко выступал на них. Через тридцать лет признается в этом на допросах в НКВД. Не скажет лишь, что мечтал стать «боевиком», «бомбистом», видел, впадая в транс, легендарных Азефа, Савинкова, Гершуни, сбежавшего с Акатуйской каторги. И уж, конечно, никто из Тенишевского не знал, что осенним вечером 1907 года он, еще подросток, тихо выскользнув из нового родительского дома на Ивановской (С.-Петербург, Социалистическая ул., 22), подхватив верного Синани, кинулся на Финляндский, где оба сели в полутемный вагон паровика и на ночь глядя двинули в Райволу. На конспиративную дачу. На заседание ЦК эсеров. Там им, правда, прикажут сидеть смирно и на второй этаж не ходить, но им хватит и наблюдений в щелку. Будут высматривать, как от заколоченных на зиму домиков, запертых калиток выплывали из тьмы сначала рабочие ватники и старенькие пледы на плечах, потом, по одному, – отличные английские пальто и щегольские котелки кумиров – великих террористов. Нет, все-таки счастье, что по малолетству их не взяли в боевики. Но тихая война с властью, с «гнилым обществом» была объявлена поэтом, думаю, как раз в ту осень.
Трусом не был, но всю жизнь боялся покойников, швейцаров, молодых бычков на лугу, монашек в черном, дантистов, даже – поэтов. Ведь в поэзию, пишут, привела его мать. Если по легенде – то чуть ли не за ручку. По мнению одной переводчицы, это случилось на «Башне» Вячеслава Иванова в Петербурге, где все «очень веселились на эту поэтову бабушку и на самого мальчика… читавшего четкие фарфоровые стихи». По версии же редактора «Аполлона» Сергея Маковского – визит случился в его журнале.
Из книги Маковского «Портреты современников»: «Как-то утром… входит ко мне секретарь редакции… и заявляет: некая особа по фамилии Мандельштам настойчиво требует редактора, ни с кем другим говорить не согласна… Ее сопровождал невзрачный юноша лет семнадцати… конфузился и льнул к ней… как маленький… В остром лице, во всей фигуре и в подпрыгивающей походке что-то птичье. “Мой сын… У нас торговое дело, кожей торгуем. А он всё стихи да стихи!.. Ну что ж, если талант – пусть… Но, если одни выдумки и глупость – ни я, ни отец не позволим…” Она вынула из сумочки несколько исписанных листков… Стихи… ничем не пленили меня, и я уж готов был отделаться от мамаши… когда, взглянув опять на юношу, прочел в его взоре такую напряженную, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался… “Да, сударыня, ваш сын – талант…” Юноша вспыхнул, просиял, вскочил с места и начал бормотать что-то, потом вдруг засмеялся громким, задыхающимся смехом… Мамаша удивленно примолкла… но быстро нашлась: “Отлично, я согласна. Значит – печатайте!..”»
Ныне пишут, вся эта история – чуть не выдумка Маковского, но факт есть факт: едва ли не первой публикацией Мандельштама станут опубликованные как раз в «Аполлоне» пять стихов его и – знаменитый: «Дано мне тело – что мне делать с ним, // Таким единым и таким моим? // За радость тихую дышать и жить // Кого, скажите, мне благодарить?» Вопрос, конечно, риторичен. Ибо и за первый стих, и за тело, и, главное, за «радость дышать» – за первый вздох его благодарить ему надо было именно мать…
Вообще-то близкие звали его Оськой, хотя «этот маленький ликующий еврей, – по словам Пунина, будущего мужа Ахматовой, – был величествен – как фуга». «Человек он даровитый и глубокий, но малообразованный и… безалаберный», – говорил Сергей Каблуков, один из учителей его, у которого Мандельштам дневал и ночевал (С.-Петербург, ул. Чехова, 11). А другой наставник, учитель литературы еще с Тенишевского, рыжий поэт Владимир Гиппиус, неизменно принимавший Мандельштама в халате и с книгой в руке (С.-Петербург, ул. Рылееева, 47), считал его слишком мягким для поэта и первым учил не литературе – гораздо «более интересной науке – литературной злости». Через много лет Мандельштам напишет: «Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль?..»
«Костюм франтовский и неряшливый, – вспоминал Мандельштама его друг, поэт Георгий Иванов, – баки, лысина, окруженная редкими вьющимися волосами, характерное еврейское лицо – и удивительные глаза. Закроет глаза – аптекарский ученик. Откроет – ангел». Но и величественность, и ангельский вид были в нем как-то отдельно. Поговорив с ним час, пишет Иванов, его нельзя было не обидеть или не рассмешить. А иногда одно и то же и смешило, и обижало. Обижался, что некрасив, беден, что стихов его не слушают, а над пафосом смеются. Гордец, он не только не стыдился, когда в надушенных салонах для него «пускали шапку по кругу» (а таких «салонов» была тьма!), но надменно бросал дающим, что брать от толстосумов деньги едва ли не почетно. Не отдавал долгов (из принципа!). Мог не заплатить врачу за вставленный золотой зуб (из материала дантиста, кстати), и тот ныл в письме: «Допустимо ли, чтобы интеллигентный человек мог по окончании работы просто заявить: “Я сейчас денег не имею…”». Мог стибрить, что плохо лежит. Да-да – правда! В Коктебеле украл у Волошина, у кого гостил, не только роскошного Данте, но и книгу собственных стихов, подаренную ранее, да еще обиделся на хозяина за «подлые» подозрения. А когда там же его вдруг арестовали белые и благородный Волошин, забыв про всё, пошел вызволять его, крикнул вдруг казацкому есаулу: «Арестуйте лучше его!» И – кивнул на Волошина. На того, с кем был знаком уже лет десять – они встретились впервые в доме у родственницы Мандельштамов, певицы и профессора петербургской консерватории Изабеллы Венгеровой (С.-Петербург, ул. Галерная, 63). Волошин, по моим раскладам, вообще был первым живым поэтом, которого увидел Мандельштам, и они просто не могли не встречаться потом и у сестры Изабеллы – Зинаиды Венгеровой, историка западноевропейской литературы (С.-Петербург, ул. Разъезжая, 30), и у брата сестер – Семена Венгерова, тоже литературоведа, в доме которого (вообразите, опять – на Загородном!) на пушкинском семинаре Венгерова бывали и юный Гумилев, и неизвестный еще Хлебников, и даже молодой Блок (С.-Петербург, Загородный пр-т, 21). И вот надо же – «Арестуйте лучше его» – Волошина. Нет, «неверность» Мандельштама была равна разве что его же «беспринципности». Ведь он мог, став «красным начальником» в Петрограде, завподотделом в Наркомпросе у Луначарского (факт, который Надежда Мандельштам, написав три книги о муже, упорно, кстати, скрывала), вдруг затеять, несмотря на всю «р-р-революционность» свою, самую что ни на есть «капиталистическую» кондитерскую на Невском. Даже название ей придумал «Немного нежности», ибо больше «красной репутации» обожал пирожные с кремом: их мог съесть хоть дюжину. Впрочем, и бесплатную похлебку из чечевицы вкушал «будто нектар». Это видел в голодном Петрограде один критик: «Он какой-то бездомный, егозливый и, вероятно… несносный в общежитии, но есть что-то трогательное в том, что он так важно вздергивает кверху свою птичью головку, и в том, что всегда небрит, а на пиджаке у него либо пух, либо не хватает пуговицы. К нему бы, – размечтается критик, – приставить хорошую русскую няню, которая мыла бы его и кормила манной кашей…» Ну-ну! Как раз настоящая няня уже в Москве и «заклеймит» его – теперь на века. Когда он ненадолго влюбится в Цветаеву и как-то заявится к ней, то именно няня дочери Марины, простая крестьянка, звавшая его Осипом Емельичем, сначала из жалости посоветует ему жениться («Ведь любая за вас барышня пойдет»), а потом, увидев изумленные глаза Цветаевой, смутится: «Да что вы… это я им для утехи, уж очень меня разжалобили. Не только что любая, а ни одна даже, разве уж сухоручка какая. Чуден больно!..»
Да, особо страдал от женщин, от «европеянок нежных», в которых влюблялся. Он и в любви был и смешным (привязчивым до невозможности), и обидчивым (когда давали понять, что поцелуй – еще не роман). «Не оставляйте нас вдвоем», – бросит подругам Цветаева, поняв, что чувства его к ней зашкаливают. А когда он вообразит вдруг, что у него роман и с Ахматовой, то уже той придется объяснять ему, что к чему. «Он, – смеялась она, – неожиданно грозно обиделся на меня». Узнала ли, что он назвал разрыв с ней ее «фокусами» и долго острил, что у нее-де «мания, будто все в нее влюблены»? Ничего не вышло у него и с Саломеей Андрониковой, чуть ли не первой красавицей Петербурга и подругой всех поэтов; он, как и все, бывал в ее доме (С.-Петербург, 5-я линия В.О., 62), «облизывался» на ее белую спальню. Саломея, «Соломинка», была, по словам Ахматовой, третьей (после художницы Анны Зельмановой и Цветаевой) самой большой «любовью» Мандельштама, но и с ней – не вышло. Вышли, правда, чудные стихи. Помните: «Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне…»? А вот легкая Олечка Арбенина, актриса, из-за которой он три месяца соперничал с Гумилевым (и проиграл!), вспоминала их недолгую, но обоюдную любовь как игру. Может, потому, что оба в далеком детстве, еще не зная друг друга, жили в одном доме на Литейном и играть выбегали в один и тот же двор (С.-Петербург, Литейный пр-т, 15).
Из книги Арбениной «Девочка, катящая серсо…»: «Я обращалась с ним, как с подругой, которая всё понимает… И о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде. Он… видел во мне ребенка. И еще – как это ни странно, что-то вроде принцессы – вот эта почтительность мне очень нравилась. Я никогда не помню никакой насмешки, или раздражения, или замечаний – он на всё был согласен…»
Запомнит, что от смеха над ним свалилась однажды с дивана. У него же от любви к ней осталась лишь одна фраза: «Всякая любовь – палач!..» Просто все «романы» его были – не как у всех. Недаром, когда в него действительно влюбилась женщина, когда докатилась весть, что в Киеве он женился, все (и подруги, и друзья-поэты) просто переполошились. Чуковскому, ехавшему в Москву, наперебой поручили убедиться: женат ли Осип? И тот, вернувшись, как-то странно сказал: «Да, женат». А на вопросы, кто она, как выглядит, пожал плечами и убито прошептал: «Что ж!.. Все-таки женщина!»
Надя Хазина, избранница поэта, была очень некрасива. «Резко выдающиеся вперед зубы, огромный рот, крючковатый нос и кривоногость, да отвислая грудь», – зло напишет про нее Эмма Герштейн, близкая знакомая семьи. Но в постели с поэтом оказалась в первую же ночь. «Это произошло само собой, – бесстыдно скажет потом. – Нам нечего было терять». Ему двадцать восемь, ей девятнадцать. Он – известный поэт, легкомысленный, как птица, она, с которой «всё смешно, просто и глупо», – художница из табунка одной авангардистки. Познакомились в киевском подвальчике по имени «ХЛАМ» (Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты) на дне рождения Дейча, поэта. Тот занес в дневник: «День прошел бурно. Пошли с Верой Юреневой в ХЛАМ. Составили столики, присоединись Тычина, Терапиано, Г.Нарбут, Н.Хазина, И.Эренбург… Неожиданно вошел Мандельштам. Представился: “Мандельштам приветствует прекрасных киевлянок (поклон в сторону Нади)”». Потом читал стихи и, вскидывая ресницы-зарницы, смотрел лишь на Надю. В ту ночь они и сошлись, легко и бездумно. Под утро Надя скажет: им хватит и двух недель, «лишь бы без переживаний». Но спустя не две – три недели тот же Дейч, сидя в польской кофейне, записал: «Появилась явно влюбленная пара – Надя Х. и О.М. Она с большим букетом водяных лилий, видно, были на днепровских затонах…» В эти три недели поэт и объяснил ей: встреча их – не случайность. «Я очень смеялась его словам», – скажет она. Смеялась зря, ибо там же, в Киеве, с двух синих колечек за два гроша, купленных на толчке, и с круглой, безобразной, но безумно нравящейся ей гребенки с надписью «Спаси тебя Бог», заменившей ей свадебный подарок, и началась недолгая, увы, жизнь двух «глиняных голубков». Она так сказала…
Всё у них было схоже. Оба из интеллигентных еврейских семей. Оба учились, но дипломов не получили. Оба были хитры, но той смешной хитростью, которая видна всем. Скажем, он мог собрать богатых евреев и строго сказать: «На Страшном суде вас спросят, понимали ли вы поэта Мандельштама? Вы ответите “нет”. Вас спросят, кормили ли его, и, если вы ответите “да”, – тут он закатывал глаза, – вам многое простится…» Смешно, но его кормили. А Надя любила повторять: «То, чего люди стыдятся, вовсе не стыдно». Что говорить, он мог в доме, куда его пустили ночевать, забраться в обуви на белое покрывало (это называлось «топтать Москву»), а она в чинном санатории то пройтись вприсядку по коридору, а то, как обезьянка, скакать по креслам. И если он был колюч, как те гвозди, то и она в семь лет еще прогнала как-то со своего дня рождения детей. Когда ее спросили, почему дети ушли, она ответила: «Я им намекнула». – «Как же ты намекнула?» – «Я им сказала: “Пошли вон! Вы мне надоели”…» По сути, они и жили так: посылая всех вон и вызывающе выламываясь из строя в эпоху всеобщих построений. Есть такие характеры, которые не только не поют в общем хоре, не поддерживают «общий загул» и «круговую поруку», но и другим мешают. Существованием своим мешают. Такими были. И вот почему уже в первом письме к Наде, Надику, Надюшку Мандельштам бесповоротно признался: «Ты вся моя радость… Ты мне сделалась до того родной, что всё время я говорю с тобой, зову тебя, жалуюсь тебе… Звереныш мой!.. Мы с тобою, как дети, – не ищем важных слов, а говорим, что придется… Я… для тебя буду жить, потому что ты даешь мне жизнь, сама того не зная, – голубка моя». И подписался: «Твой уродец». «Уродец» жил тогда по случайным адресам в Москве – других у него и не было: то в доме на Пречистенке (Москва, ул. Пречистенка, 24/1), то в гостинице «Селект» (она, по слухам, принадлежала чекистскому ведомству) (Москва, ул. Большая Лубянка, 21), то у художника Лопатинского (Москва, Малый Казенный пер., 16). А через три года, в 1923-м, когда он поселился у брата Нади (Москва, Пожарский пер., 9), тот же Георгий Иванов, разыскав его в столице, вдруг спросит: счастлив ли он с женой? Поэт в ответ аж задохнется: «Так счастлив, что и в раю лучше быть не может… Так счастлив, что за это, боюсь, придется заплатить. И дорого…»
Заплатит! Разве могли выжить «голубки глиняные», когда в самом воздухе, по словам другого друга Мандельштама, уже «чувствовался треск раскалываемых черепов…» Не глиняных отнюдь черепов.
«Слепой поводырь»
Чем дольше живу на свете, тем больше убеждаюсь: есть какая-то загадочная связь, не обнаруженная пока никем, – связь между талантом человека и позвоночником его. Чем крупнее талант, тем меньше гибкости в хребте. Это – про Мандельштама. Он никому не кланялся, и меньше всего – властям. Он даже написал, что «поэзия – есть сознание своей правоты». Может, потому его и «убивали» всю жизнь. Или даже так: вся жизнь его стала заранее объявленным убийством, азартным гоном зверя в западню.
Он всегда «шел не в ногу», пишет М.Гаспаров, литературовед. А вот как шел, скажет сам поэт: «Так, размахивая руками, бормоча, – напишет, – плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственно трезвая, единственно проснувшаяся из всего, что есть в мире». «Слепым поводырем» назовет его Надя. «Я бы покорилась судьбе. А он бился. Мужества у Оси не было – была слепая смелость. Капля анализа – и ничего не останется, исчезнет слепота. Капля мужества – и исчезнет движение, обусловленное слепой смелостью…»
Слепая смелость… Верно, верно! Где-то у Кремля, например, может, в саду Александровском, стояла когда-то скамья, на которую он, пробе́гавший как-то всю ночь, свалился под утро и расплакался: погиб, теперь погиб… Был май 1918-го. Он жил в «Метрополе», во 2-м Доме Советов, как звали гостиницу, где поселились вожди революции, переехавшие из Питера. Поэт вождем не был, но, работая у Луначарского, переехал сюда со всеми и получил 253-й номер. Здесь подружился с Бухариным, тут лоб в лоб столкнулся однажды у лифта с самим Лениным (об этом ни он, ни Надя ни разу не написали, хотя это видел Рюрик Ивнев), здесь вроде бы отказался однажды от завтрака, когда услышал, что в столовую вот-вот пожалует «кушать кофий» Троцкий: «Да ну его. Завтракать с ним…» – и отсюда (о, ужас!) сам пошел к Дзержинскому спасать людей от полоумного Блюмкина. Именно от Блюмкина, эсера и чекиста, который вот-вот угрохает посла Мирбаха, поэт и бегал по ночной столице. Просто накануне то ли в кафе «Домино» (Москва, ул. Тверская, 4), то ли в «Табакерке», забегаловке, открывшейся в 1918-м (Москва, ул. Петровка, 5), когда пьяный Блюмкин, тряся пустыми, но уже подписанными расстрельными ордерами, стал хвастать, что легко пустит в расход любого, Мандельштам, не помня себя от страха, выхватил эти бумаги и быстро порвал их. Чекист, говорят, выхватил револьвер и кинулся за ним. А поэт – от него… Такая вот история, нетипичная даже для безумцев-поэтов. К примеру, через три месяца там же у кремлевской стены другой поэт Демьян Бедный не только пожелает смотреть, как убивают Фанни Каплан, которая стреляла в Ленина, но, когда ее, недострелянную, запихают в гроте Александровского сада в бочку с керосином и подожгут, хлопнется, пишут, в обморок. Так что одни «отважные трусы» спасали людей от смерти, а другие, отважно труся, убивали их. Кстати, стычку поэта с Блюмкиным годами считали темной историей, выдумкой, пока в 1989-м в «Красной книге ВЧК» не прочли слова Дзержинского: «Я получил от Мандельштама сведения, что этот тип (Блюмкин) позволяет себе говорить: “Жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку – через два часа нет жизни”. Когда Мандельштам запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать…» Вот так – дословно!
Из книги Р.Ивнева «Жар прожитых лет…»: «С Мандельштамом творилось что-то невероятное… Революция ударила ему в голову, как крепкое вино… Я никогда не встречал людей, которые бы так, как Осип Мандельштам, одновременно и принимали революцию, и отвергали ее. Он был похож на заблудившегося ребенка, который никак не может привыкнуть к новой обстановке, к новым условиям, но в отличие от ребенка он не хотел вернуться в свой дом, впрочем, может быть, потому, что у него никогда не было дома…»
Тщедушный, робкий, с перышками волос, всегда больной, Мандельштам вообще-то был не просто задирой – вечным драчуном. Несколько вызовов на дуэли в юности. А в Москве, если верить мемуарам, он и в театры-то ходил не спектакли смотреть – драки учинять. То в 1921-м в фойе Камерного театра не только ссорится с Шершеневичем, поэтом, но на глазах актрис лепит ему пощечину. Схватившись, они даже покатятся по полу. Когда их растащат, Мандельштам крикнет, что вызывает того на дуэль – был даже составлен протокол вызова. А когда Шершеневич уклонится от поединка, поэт поведение труса предаст всеобщей огласке. Через три года, уже в театре Зимина, в нынешней Оперетте (Москва, ул. Большая Дмитровка, 6), где должно было начаться собрание писателей, куда, скинув шубу, уже прошел Луначарский, Мандельштам, стоя на ступенях вестибюля, о чем-то громко спорил с Мотей Ройзманом, тоже поэтом. «И вдруг, – пишут, – они “клубком” покатились по лестнице. Ройзман, вскочив, убежал. Мандельштама же подняли, отряхнули, но он вырывался: “Где он? Я должен его бить!..”» А мимо него, потного и взъерошенного, шли, раскланиваясь с ним, Мейерхольд, Маяковский и, представьте, – Вадим Шершеневич.
Да, «безукоризненно чистый», в литературе он бился за справедливость. Плохие стихи прямо звал «трухой». «Да нет же! – кричал. – Это же – дрянь, гниль, труха»! Каверину, который тогда считал себя поэтом, сказал: «От таких, как вы, надо защищать русскую поэзию». А услышав вирши Бруни, вообще взорвался: «Бывают стихи, которые воспринимаешь как личное оскорбление!..» Но зато нежно любил «настоящих». Увидев на Невском богато разодетую даму, предложил спутнику: «Отнимем у нее всё это и отдадим Анне Андреевне…» То есть – Ахматовой. Отдал свою енотовую, пусть и съеденную молью шубу Пришвину. А Хлебникову, перед кем преклонялся, с кем в очередном временном жилье своем во флигеле нынешнего Литинститута (Москва, Тверской бул., 25) делил последнюю кашу, взялся, сам бездомный, пробивать жилье. Увы, строящиеся шеренги писателей даже не качнулись…
Про тот год, про 1923-й, если говорить о хронике его жизни, Надя, его «зверик» и «овечинька», скажет: «Началась эпоха одиночек, противостоящих огромному организованному миру». И как раз в 1923-м Мандельштама впервые назовут «внутренним эмигрантом». Кто? Не власть, заметьте, – писатели. А когда в 1928-м выйдет его последний сборник стихов (за десять лет до смерти!), журнал «Книга и революция» припечатает: «Поэзия агрессивной буржуазии». Критики напишут: стихи его – это «сознание идейной и психологической смерти, ощущение краха своего…» И пули никакой не надо, и – арестов! Тогда и случится у него первый сердечный приступ, и он до конца жизни будет хватать воздух губами. Тогда и напишет в стихах: «Мне с каждым днем дышать всё тяжелее…» – и тогда же скажет: «Здесь не люди, а рыбы страшные. Надо уйти. Но куда? Кругом – пустота…» Пустоту ощущал даже в толпе, даже в «Елисеевском», где в тот год столкнется вдруг с Маяковским, кто едва ли не первым заклеймил его «внутренним эмигрантом». Их встречу в гастрономе опишет Катаев, который был с Маяковским. «Тэк-с, – сказал Маяковский, встав у прилавка. – Ну, чего возьмем, Катаич? Напрягите воображение. Копченой колбасы? Правильно. Заверните 2 кило. Затем: 6 бутылок “Абрау-Дюрсо”, кило икры, 2 коробки шоколадного набора, 8 плиток “Золотого ярлыка”, 2 кило осетрового балыка, сыра швейцарского куском, затем сардинок…» В эту минуту в магазин и вошел Мандельштам, маленький, но в большой шубе с чужого плеча, и рядом – Надя. Он быстро купил бутылку каберне и четыреста граммов ветчины и лишь потом заметил Маяковского. «Они смотрели друг на друга: Маяковский ядовито сверху вниз, Мандельштам заносчиво снизу, – и я, – восторгался Катаев, – понимал: Маяковскому хочется получше сострить, а Мандельштаму в ответ отбрить его». Но, пожав руки, – разошлись молча. Трибун революции долго глядел вслед «эмигранту», а затем, выкинув руку как на эстраде, рявкнул на весь магазин: «Россия, Лета, Лорелея»!.. Это была строка Мандельштама. Знал, знал «трибун» цену поэту, но это не помешает ему в 1929-м рявкнуть уже на весь свет, что Мандельштам – «наиболее печальное явление в поэзии…»
Пустота окружала теперь Мандельштама и на Якиманке, где временно жил тогда (Москва, ул. Большая Якиманка, 45), и в квартире какого-то «итээровского работника» на Бронной (Москва, ул. Малая Бронная, 18/13), и у некоего Цезаря Рысса, юриста (Москва, ул. Большая Полянка, 10), и у сестры «вдовы Каранович», на которую напишет эпиграмму (Москва, ул. Покровка, 29) и у той же Эммы Герштейн (Москва, ул. Щипок, 6). Даже у родного брата Нади (Москва, Страстной бул., 6), даже у своего брата Александра, жившего в коммуналке (Москва, Старосадский пер., 10). Везде была «арбузная пустота России», – как скажет именно в тот год…
«Я примиряюсь, – напишет в письме отцу, когда жил на Старосадском, – ничего никуда не предлагаю, ни о чем не прошу. Главное, папочка, создать литературные вещи, а куда их поставить – безразлично». Ну не издают, отвергают, молчат глухо, а денег – лишь на обед завтрашний. И что? А Будду великого печатали? А Христа? Эти слова – про Христа и Будду – он тоже прокричит на Старосадском. Об этом пишет молодой тогда поэт Липкин, который, войдя в подъезд этого сохранившегося дома, вдруг услышал вопль Мандельштама и увидел скатившегося ему под ноги какого-то человека с портфелем под мышкой. Тот убегал от поэта, а последний, перегибаясь через перила, гневно кричал вслед: «А Будда печатался? А Христос?..» Так пишет Липкин. А Лукницкий, друг Ахматовой, навестивший здесь Мандельштама, записал: он «в ужасном состоянии, ненавидит всех, озлоблен, голодает в буквальном смысле. Вспыльчив. Считает всех писателей врагами. Говорить ни о чем, кроме своей истории, не может…»
История эта, если серьезно, – первая из хроники объявленного убийства поэта. Хотя речь шла… об опечатке. Просто в 1928-м издательство «ЗиФ» выпустило перевод романа «Тиль Уленшпигель», и на титуле автором перевода кто-то назвал Мандельштама. На деле он обработал переводы неких Горнфельда и Карякина. Узнав об ошибке, поэт первым кинулся извиняться, заявил авторам, что гонорар будет, конечно, их, и настоял на публикации в «Красной газете» покаянного письма самого издательства. Но этого будто и не заметили. Он же не знал того, что знаем мы: как издевался, например, над ним Горнфельд. «Мандельштам, – писал, – талантливый, но беспутный человек, умница, свинья, мелкий жулик, он бомбардирует меня телеграммами, моля о пощаде (я могу посадить его на скамью подсудимых), но я пока суров и хочу наказать за свинство его и издательство…» И в той же «Красной газете» тиснул статью «Переводческая стряпня»… О, как зашевелились тут шеренги серых! Поэта пытались защищать Олеша и Зощенко, но в «Литгазете» появился сначала первый фельетон Заславского «О скромном плагиате и развязной халтуре», а затем и второй – «Жучки и негры». Стыд на всю Москву, свист, травля на полтора года. И хотя суд признает потом переработку переводов «самостоятельной», а фельетоны ошибкой, его словно в грязи вываляли. Вот тогда он и сочинит свою гневную отповедь.
Мандельштам. Из «Открытого письма советским писателям»: «Какой извращенный иезуитизм, какую даже не чиновничью, а поповскую жестокость надо иметь, чтобы после года дикой травли вырезать у человека год жизни с мясом и нервами… и ни словом не обмолвиться по существу дела… Я заявляю в лицо Федерации, что она запятнала себя преследованием писателя, прибегла к обману и подтасовкам, фабриковала липовые документы, пользовалась услугами лжесвидетелей, с позорной трусостью покрывала… своих аппаратчиков. Я ухожу из Федерации советских писателей, я запрещаю себе… быть писателем, потому что я морально ответственен за то, что делаете вы…»
«Был бы человек, а дело найдется», – смеясь, сказал Мандельштаму как-то один «веселый человек». Дело было в Ялте, в каком-то пансионате, где поэт познакомился с братом писателя Фурманова, чекистом, перешедшим работать «в кино». Он-то и сказал: «Был бы человек…» – слова, которые станут не просто привычной шуткой костоломов, но – формулой тех самых заранее «объявленных убийств». Суть формулы проста: нет невиновных, все виновны заранее. И все, подозревая всех, как бы связаны общим преступлением.
Смотрите: летом 1930 года идут массовые аресты ученых, инженеров, агрономов – вредителей. Закончено «Шахтинское дело», запущены процессы «Промпартии», «Союзного бюро», «Крестьянской партии». Изобличены «банды вредителей» в промышленности. В тюрьмах сидят уже академики Тарле и Платонов, писатели Чаянов и Кондратьев, литературоведы Бахтин и Лихачев. Вот хроника лишь трех месяцев 1930 года. 25 сентября: к казни приговорены 48 «вредителей рабочего снабжения». 30 сентября: Горький, еще свободный, еще из Италии, пишет издателю в СССР: «С бешенством, но и с радостью прочитал в “Известиях” о вредителях. Когда, наконец, перебита, уничтожена будет эта гнилая сволочь?..» 15 ноября: он же публикует в «Правде» статью «Если враг не сдается – его уничтожают». 17 ноября: на митинге, вообразите, писателей звучит: «Наш ответ прост. Мы должны убить тех, кто хотел убить СССР…» А 25 ноября: в день процесса «Промпартии» более полумиллиона москвичей выходят на улицы с лозунгом «Расстрелять вредителей!». Ну-ка, вообразите эту пятисоттысячную угрюмую толпу? Разве не всех «повязали» в ней? А поэт, лысый ребенок, беззубое дитя (и «принц» надменный, и голый «нищий»!), именно тогда и обращается к Бухарину (единственно знакомому властному лицу) с просьбой об отсрочке смертных приговоров каким-то пяти незнакомым ему служащим Общества взаимного кредита. И не успокаивается, пока тот (невероятно, но – факт!) не посылает ему телеграмму: расстрел отменен… Тоже драка «слепого поводыря» с ослепленным уже обществом, протест не умевшего ходить строем, борьба человека за прямой, не умеющий прогибаться позвоночник.
Лезвие в каблуке
Видели ли вы, как топят котят? Дело обычное. Полвека назад их топили в Москве-реке, собирая кучу зевак. Это описал Мандельштам в «Четвертой прозе»: «Животный страх стучит на машинке, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве-реке, так наши веселые ребята нажимают, на перемене масло жмут. Эй, навались, жми… таково священное правило самосуда»…
За ним придут ночью. Тоже дело обычное. Арестуют за стихи. За стихи против Сталина. Более того, и ныне считается: именно Сталин затравил поэта за стихи о нем. Увы, если бы! Ведь за три года до стихов о вожде он прокричал куда более грозные слова. «Все произведения мировой литературы, – написал, – я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – мразь, вторые – ворованный воздух». Вот – приговор братьям по цеху, я бы сказал – закон глобального масштаба! Он о стихах Овидия, две тысячи лет назад высланного из Рима, и о поэмах повешенного Рылеева, о Пушкине, Блоке и Гумилеве, загубленных обществом, и даже о Джойсе и Оруэлле, чьи книги запрещали еще вчера не у нас – на свободном, казалось бы, Западе.
«Ворованный воздух»… Не знаю, поймут ли эту метафору ныне? Разве, спросят, бывают книги «неразрешенные»? Так вот, в те же годы Федин, почти классик, как-то сказал Шишкову: «Эх, если бы мне дали карт-бланш, какой замечательный роман я написал бы». Отмашки ждал не от Бога, давшего талант, – от Сталина. Шишков хмыкнет: «Нет, Костинька, не написал бы». – «Почему?» – вскинется Федин. «Да потому, что настоящие писатели карт-бланшу не просят…»
Это – правда! Великие книги – всегда безоглядная, невиданная смелость! И – кислород грядущего. «Я много думал, для чего нужно искусство, – сказал как-то Курт Воннегут, американский писатель. – Самое лучшее – это моя теория канарейки в шахте. Художник нужен обществу, он наделен повышенной чувствительностью. Он как канарейка, которую берут с собой в шахту: посмотрите, как она мечется в клетке, едва почуяв запах газа, а люди с грубым обонянием и не подозревают еще об опасности…» Не ощущают отсутствия воздуха. Да, художника всегда убивает общество. Он говорит правду, а она – невыносима самодовольному миру. И вождям, и обывателям. В этом, думаю, конфликт – вечный и неминуемый! Каждый решает его по-своему. Одни, как Горький, раздваиваясь, пишут пьесу о вредителях. Другие, как Эренбург, лгут. Живя в 1935-м в Париже, он сказал, дословно: «Есть воздух, в котором дохнут птицы, вянут цветы. Это воздух зарубежных стран. В нем вянет, не успев расцвесть, поэзия…» А третьи, как Борис Пильняк, – «прогибаются». Будучи обруган за публикацию своей книги на Западе, он не только переписал ее, послал жалкое письмо Сталину и выступил за расстрелы, но, получив командировку в Америку, уже там на голубом глазу втолковывал Бурлюку, что сегодня в СССР: «Гепеу для литературы лучше, чем критика». Уверен был! Только не знал еще: эти «критики» из ГПУ и расстреляют его.
А Мандельштам еще метался. То ли как канарейка в шахте, то ли – как «козел перед изгородью». Так написала одна школьница, побывавшая на его вечере в Политехническом. «Ах, как он кричал на людское стадо, сбившееся в деревянном загоне, – пишет она. – Захлебывался словами, курил беспрерывно, пил воду. Стоит, нагнув голову, не как бык (он тонок), а как козел перед изгородью. В нем что-то кликушеское…» Верно, девочка, так! Только кликушествовал всё чаще перед женой. «Мы погибли!» – кричал ей по поводам, которые, казалось бы, и не относились к ним. В мемуарах Нади я трижды встретил эти слова: «Мы погибли!». Первый раз крикнул, когда прочел отзыв Сталина о давней сказке Горького. «Эта штука посильнее “Фауста” Гёте. Любовь побеждает смерть», – написал вождь. Второй раз «Мы погибли!» сказал, когда прочел, что на вечере курсантов-выпускников вождь предложил выпить за «ту науку, которая нужна, а не за ту, которая нам не нужна». Понял: науку будут вырывать с корнем. А в третий раз «Мы, – крикнул, – погибли!», увидев на обложке журнала, как Сталин жмет руку Ежову: «Где это видано, чтобы глава государства снимался с министром тайной полиции? Смотри, – взывал к Наде, тыкая в Ежова, – ради Сталина он способен на всё!..» Но не знал, конечно, что как раз Ежов и подсобит писателям погубить его…
Смешной факт встретил недавно в книгах. Оказывается, во дворе нынешнего Литинститута, где в 1930-х вновь поселился во флигеле Мандельштам, так вот там, где ныне волейбольная площадка, ходила тогда по кругу рыжая лиса, прикованная к столбу цепью. Символ ведь, однако! Особенно если учесть, что здесь располагались тогда и союзы писателей, и редакции, и квартиры литераторов. Лиса на цепи – не хитрая ли это советская литература, всеми правдами и неправдами выдвигавшая себя в самые передовые? Лису привез откуда-то Илья Кремлёв, забытый ныне писатель (автор, кстати, книги с говорящим названием «В литературном строю»), а вспомнил о рыжей зверюге – Исбах, тоже писатель, и тоже – забытый. Вот они и две тысячи таких же и считали себя «передовыми». Пишут, что Фадеев, например, как та лиса, ходил тут кругами и, не зная английского, тем не менее втолковывал, учил чему-то посетившего СССР знаменитого Дос Пассоса. Но хуже всех здесь жилось как раз настоящим: Андрею Платонову и Мандельштаму. Зато им и висят тут ныне две мемориальные доски. Всего две…
Мандельштаму, который жил здесь еще в двадцатых, но во флигеле напротив, теперь досталась самая плохая комната. «Питьевой кран в гниющей уборной, – пишет он, – на стенах плесень, ледяной пол…» Это была, по сути, десятиметровая кладовка. Но жили, пока не случилась самая большая драка его жизни, и весело, и – беззаботно. Нет денег, нет еды, но можно смеяться. Смеялись над пенсией, данной ему ввиду принципиальной непригодности для литературы «передовой». Над книгами коллег, которые ему дарили с автографами и которые он, ради денег, нес к букинистам, не думая, что там их могут увидеть дарители. Шутили над Ахматовой. «Что вы таким водолазом вырядились?» – смеялись, когда она приехала из Ленинграда, где шли дожди, в ботах и резиновом плаще. И, расшалившись, зная, что не видать ему даже переводов для заработка, предлагал вдруг жене и Ахматовой: «Откроем лавочку. Наденька будет сидеть за кассой. Продавать товар будет Аня». «А вы что будете делать?» – смеялись подруги. «А там (в лавочке) всегда есть мужчина, – смеялся он в ответ. – Не замечали? Иногда он стоит в дверях, иногда подходит к кассирше, говорит ей что-то. Вот я и буду этим мужчиной…» Наконец, здесь, подняв палец, сказал Наде, мечтавшей о лодочках и хороших чулках: «Почему ты вбила в голову, что должна быть счастливой?..» А когда стало не до смеха, именно здесь вскочил вдруг на стол и стал трясти обидчикам сухиньким кулачком. Страшная, жуткая картина!..
Хроника событий такова. Сосед Мандельштама писатель Саргиджан-Бородин занял у него как-то семьдесят пять рублей и не отдавал их. И однажды, стоя у окна, Мандельштам, заметив жену должника со снедью и бутылками вина, крикнул на весь двор: «Вот, молодой писатель не отдает старшему долг, а сам приглашает гостей и распивает вино!» Поднялся, пишут, шум, грянула ссора, и Саргиджан не только избил поэта, но ударил и Надю. Более того – потребовал товарищеского суда. Друзья Мандельштама, зная, что защитить его некому, кинулись к Эренбургу. Тот о суде знал, но Борису Кузину, другу поэта, сказал: «Уж кто-кто, а Мандельштам, сам не отдающий долги, в роли требующего свои деньги, – фигура довольно странная…» И – защищать отказался. Короче, 13 сентября 1932 года в подвальном зале Литинститута суд состоялся. Толстой, кого позвали быть председателем, сказав: «Мы будем судить его диалектицки», сразу взял сторону Саргиджана. Член партии, национальный кадр, кругом свой! Не то что этот порвавший со всеми «беспризорный всесоюзного масштаба» и, главное, для всех уже – бывший поэт. «Нормальные советские люди этой мерзости стерпеть не могут», – сказал про стихи его даже родной брат. Словом, Саргиджан сидел на суде, развалясь в кресле, а поэт бегал по сцене, вел себя глупо и всё пытался доказать, что сосед – человек мелкий. И хуже того – плохой писатель. Вот чего нельзя было говорить. Ведь зал был набит такими же. В итоге Толстой не только не вынес Саргиджану и порицания, но «диалектицки» заявил: виноваты оба. Зал вскочил, шумно поздравляя того, а поэт, не в силах перекричать толпу, взобрался, говорят, на стол президиума и, шепча что-то давно беззубым ртом, стал грозить кому-то – размахивать маленьким, сухим кулачком. Жуть! Увы, зал, полный писателями, забытыми ныне на века, победил его – единственно живого. Но с того дня вся ненависть поэта сошлась на Толстом. Он, как маньяк, стал «охотиться» за ним. А за поэтом уже охотился (без кавычек!) сам НКВД…
Из агентурного донесения от 1933 года: «Настроение Мандельштама окрасилось в антисоветские тона. Он взвинчен, нетерпим к чужим взглядам. Отгородился от соседей, даже окна держит со спущенными занавесками. “Литературы у нас нет, – заявляет, – писатель стал чиновником…”»
1933-й – год энтузиазма, пятилеток, строительства самого большого в мире самолета «Максим Горький», пышных парадов и невиданных рекордов. А Мандельштам будит ночью жену и шепотом говорит: «Теперь каждое стихотворение пишется так, будто завтра – смерть»…
1933-й – заголовки газет кричат: «Ударникам – сельди вне очереди!» «Ни одного кило хлеба летуну!..» По карточкам выдают сахар, мясо, крупу. Но писатель Авдеенко, приглашенный вместе с сотней других литераторов посетить лагеря Беломорканала и воспеть их, от счастья едва не сходит с ума: «С той минуты, как мы стали гостями чекистов, для нас начался коммунизм. Едим и пьем по потребностям. Копченые колбасы. Сыры. Икра. Шоколад. Коньяк. На десерт мороженое и персики без косточек…» А Мандельштам в это время ставит диагноз коллегам: «Писательство, – пишет, – это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине… но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными…». Точь-в-точь про их общую книгу о Беломорканале.
1933-й – рубежный год. Бедность страшная, люди мрут буквально на улицах, на глазах прохожих. А Алексей Толстой, как раз в 1933-м, пишет жене: «Тусенька!.. С машиной – неопределенно. Постройка ее приостановлена, не годится наша сталь. Придется поехать в Нижний самому. О заграничной машине говорил с Ягодой, он поможет. Затяжка с машинами меня ужасно мучает. Но, стиснув зубы, нужно всё довести до конца…» Стиснет, урвет обе-две. А поэт, как проговорится Надя, учился уже жить «как придется, на бутылки», то есть – собирать тару… Сказав уже, что «стихи должны убивать или возрождать», он в 1933-м и совершит, может, самый безумный поступок – напишет убийственную эпиграмму на «сброд тонкошеих вождей» и на Сталина, «кремлевского горца», – на неприкасаемого. Расстрельные стихи. Их будут помнить, думаю, пока вообще будут помнить о вожде…
Из протокола допроса Мандельштама следователем Н.Шиваровым: «Вопрос: Это ваши стихи? – Ответ: Да, мои. – Вопрос: Кому вы читали или давали в списках эти стихотворения? – Ответ: В списках я не давал, но читал следующим лицам: своей жене, своему брату Александру Мандельштаму, брату моей жены Евгению Хазину – литератору, автору детских книг, подруге моей жены Эмме Герштейн – сотруднице секции научных работников ВЦСПС, Анне Ахматовой – писательнице, ее сыну Льву Гумилеву, литератору Бродскому, сотруднику Зоологического музея Кузину Борису… – Вопрос: Как складывались и как развивались ваши политические воззрения? – Ответ: Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно. На советское правительство смотрю как на правительство захватчиков… а ЛЕНИНА называю временщиком…»
Всё началось в Нащокинском, где поэт с женой с помощью Бухарина получил единственную за жизнь квартиру (Москва, Нащокинский пер., 3–5). Дом был кооперативный, он, увы, не сохранился, но именно сюда Надя и позвала как-то утром Эмму Герштейн. «Ося сочинил очень резкое стихотворение. Нужно, чтобы его кто-нибудь запомнил… Мы умрем, а вы передадите его людям…» Поэт при этом едва не скакал от восторга: «Это комсомольцы будут петь!.. В Большом театре, на съездах. Но, смотрите – никому. Меня могут расстрелять!..» Герштейн и молчала как рыба, пока Надя не обмолвилась при ней: Нине Грин, жене писателя, больше нравится другой вариант. «Вот те раз, – удивилась Герштейн. – Значит, не я одна посвящена, значит, читал стих налево и направо!..»
Читал! Поэту Нарбуту в его новой квартире (Москва, Курсовой пер., 15), поэтессе Марии Петровых, в которую был слегка влюблен и которую навещал в «доме-утюге», где жил когда-то Борис Зайцев (Москва, Гранатный пер., 2/9). Читал Липкину, Клычкову, Осмеркину. Жена Шкловского уверяла потом – даже публично читал на чьей-то кухне. Георгий Шенгели, еще недавно бывший председателем Всероссийского союза поэтов, услыхав строки эпиграммы, смертельно побледнел: «Я ничего не слышал…» А Пастернак, кому он прочел стихи где-то на бульваре, повторив за Шенгели: «Я этих стихов не слышал, – добавил: – Это не поэзия, а самоубийство…»
Вот-вот, самоубийство! Ведь именно тогда Мандельштам и попросил знакомого сапожника «пристроить» в каблук своего ботинка бритву «Жилетт». Ждал ареста и хладнокровно, хитро (если знать его, растяпу) готовился к смерти. Ахматовой сказал, что стихи ныне должны быть «гражданскими» и добавил: «Я к смерти готов!..» Последние четыре слова произнес, встав как вкопанный на углу Гоголевского и Пречистенки. И с лезвием, вбитым в каблук, кажется, ездил и в Ленинград, где поймал-таки Толстого.
Они столкнулись в издательстве, во флигеле внутри Гостиного Двора. Двухэтажный желтенький домик, где сошлись даже не две «литературы» – две жизни, цел. И пока будет жив – будет живо эхо этого поступка.
Из воспоминаний Елены Тагер: «В назначенный час я приближалась к цели, когда внезапно дверь издательства распахнулась, и, чуть не сбив меня с ног, выбежал Мандельштам… за ним Надежда Яковлевна… Я вошла… и оторопела… Среди комнаты высилась мощная фигура А.Н.Толстого; он стоял, расставив руки и слегка приоткрыв рот… “Что случилось?” Ответила З.А.Н. (Зоя Александровна Никитина, писательница, жена писателя М.Э.Козакова. – В.Н.): “Мандельштам ударил по лицу Алексея Николаевича”. – “Да что вы! Чем же он это объяснил?” – спросила я… Со всех сторон послышались голоса: товарищи понемногу приходили в себя. Первый овладел собою Стенич. Он рассказал, что Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Мандельштам, дотянувшись до него, шлепнул слегка, будто потрепал его, по щеке, и произнес в своей патетической манере: “Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены”… М.Э.К. (Михаил Эммануилович Козаков, писатель, отец покойного актера М.М.Козакова. — В.Н.) накинулся на Толстого. – “Выдайте нам доверенность!… Доверенность на ведение дела!..” – “Да что я – в суд на него, что ли, подам?” – спросил Толстой… – “А как же? – кричал М.Э.К. – Безусловно в суд!..” Все жаждали крови, всем не терпелось как можно скорее, как можно строже засудить Мандельштама…»
Нет, пощечина, по другому свидетельству, оказалась увесистой. А все, кто возжелал вдруг крови Мандельштама, – это вновь вечно забытые. Они и посадят его скоро, а потом – и убьют! Надя напишет: «Получив пощечину, Толстой при свидетелях кричал, что вышлет его из Москвы». Толстой побежал жаловаться Горькому, и тот пригрозил: «Мы покажем ему, как бить русских писателей!..» Покажут! Ровно через две недели за поэтом и придут.
«Изолировать, но сохранить…»
Стара истина: ничто не объединяет людей так, как общее преступление. Мандельштам, Цветаева, Ахматова (лучшие имена ХХ века!) – все они – общее преступление Союза писателей. Их губили подкожный страх и зависть литых шеренг Союза, сбитых послушанием. А ведь у каждого и тогда был выбор: честной судьбы, неподкупного творчества, наконец, жизни после жизни!..
«Они не знают, кто я!» – сказал как-то Мандельштам о современниках. Сказал, когда, узнав, что один поэт продал свой архив в Отдел рукописей Центрального музея художественной литературы за двадцать пять тысяч, приволок туда же, на Рождественку (Москва, ул. Рождественка, 5), и свои «бумажки». «Пятьсот рублей», – не моргнув глазом, бросил Бонч-Бруевич, директор музея. Поэт молча сгреб рукописи и, кинувшись вон, написал ему: «Назначать цену – ваше право. Но вы говорили со мной так, как если бы я принес на утильпункт никому не нужное барахло…» Директор, не моргнув глазом, отписал: «Я и товарищи считаем вас второстепенным поэтом, другие свои архивы и даром дарят…» Не знали, не знали – кто он. А он миссию свою нутром чуял. И чем заостренней строил судьбу поэта, тем беспощадней разрушал свою жизнь. «Как я вам завидую! – сказал ему Пастернак. – Вам нужна свобода, а мне – несвобода». А другой поэт, Перец Маркиш, послушав его стихи, шепнул: «Вы сами берете себя за руки и ведете на казнь…» Так всё и было. «Запомни! – скажет он Наде. – Поэзию уважают только у нас. За нее убивают…»
Да, через две недели за поэтом пришли. До рассвета шел обыск. А утром 14 мая 1934-го, когда все спали еще детским сном, вывели на улицу и усадили в машину. Впрочем, спали не все. В то утро не спали десятки, может, сотни именитых писателей. Ибо как раз в этот день (вновь – совпадение!) в только что созданном Союзе писателей СССР начался пышный прием первых членов его. Самых-самых! И пока на Лубянке поэта раздевали догола, отбирая ремень, шнурки и галстук, пока фотографировали и брали отпечатки пальцев, в союзе торжественно вручали билеты лучшим: Фадееву, Бедному, Ставскому, Павленко. Именно они скоро станут прямыми пособниками гибели поэта.
Спать в камере не давали – были только ночные допросы. Угрожали расстрелом, подсаживали «наседок», кормили соленым и, когда просил воды, тащили в карцер. А однажды он вспомнит: «Меня подымали куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек. Я упал на пол. Бился. Вдруг слышу над собой голос: “Мандельштам, как вам не стыдно?” Я поднял голову. Это был Павленко…» Да-да, тот самый! Будущий лауреат четырех Сталинских премий и уже тогда – литначальник. Он с разрешения Шиварова, «Кольки-друга», следователя Мандельштама, не только был на допросах поэта, прячась то в шкафу, то за дверью, но потом, смеясь, рассказывал всем, как жалко тот выглядел, как невпопад отвечал и как вертелся, «словно карась на сковородке». Одно ведь дело делали чекисты и писатели, «раса, кочующая на блевотине». Трудно поверить, но Колька Шиваров, который вел дела поэтов Клюева, Павла Васильева, того же Нарбута (все – расстреляны!), дружил семьями с Фадеевыми, Ставскими, Луговскими, Катанянами. И только ли с ними? И, отрываясь от кровавых допросов или рукописей будущих книг, все они, встречаясь вечерами, гуляли, спорили, бегали по бабам (Шиваров был большой женолюб!), пили, конечно, и даже – пели красивые песни. Язык не отсыхал. Фадеев, правда, уже задумываясь о вечности, горевал в письме Павленко, что никакой ценности они, как писатели, не представляют: «Мы не мастера, а полезные писатели. Утешимся, Петя, что мы “полезные”». Впрочем, когда «полезный» роман его в пух разругает критик Мирский, вернувшийся на свою беду из Англии в СССР, то редактор «Нового мира» Иван Гронский, друг Фадеева, куда надо «стукнет»: «Я, – будет вспоминать, – сказал Ягоде заняться Мирским. Очень попахивает Интеллидженс Сервис!» И Мирского почти сразу расстреляют. Потом так же стукнет и на старика-поэта Николая Клюева. Тоже – расстреляют! А уж сообща придушить Мандельштама им, писателям-начальникам, не стоило ничего. Что там какой-то Горнфельд, травивший его из-за опечатки, поэт Тихонов, упрямо возражавший против прописки его в Ленинграде, или Толстой – дирижер судилища над ним? Эти, давя всё талантливое, и загонят поэта в западню. Как волка!
«Давя». Слово – не случайно. Скажем, у Ахматовой был, как известно, «тест» для новых знакомств. Чай или кофе, спрашивала, кошка или собака, Пастернак или Мандельштам? Имела в виду противоположности: вечный удачник, домовитый Пастернак и неудачник, кругом бездомный Мандельштам. Но ведь и у Мандельштама был «тест». Он как-то признался Наде: «Лучше, чтобы грузовик переехал меня, чем чтобы я, сидя за рулем, давил людей…» Жуткий, но ведь и главный выбор! За рулем – или под колесами? Ты убьешь – или тебя? И в отличие от многих тогда Мандельштам предпочитал быть убитым. Его дважды арестуют, дважды приговорят к ссылке, он дважды будет покушаться на самоубийство. А умрет в лагере НКВД от нехватки воздуха, от удушья. Совпадение, конечно, опять совпадение, но когда в мае 1934-го его приговаривали к ссылке, Сталин в Кремле принимал Герберта Уэллса, не просто писателя – главу международного ПЕН-клуба. «Мы, – заявил Уэллс Сталину, – настаиваем на свободном выражении мнений». Увы, в гостинице, в «Национале», Уэллс занес в дневник слова, которые и потом никто не скажет о вожде: Сталин, написал, «никогда в жизни не дышал вольным воздухом, он даже не знает, что это…» А раз «не знает» – кого же удивит, что спустя месяц, накануне I Съезда писателей, он написал Кагановичу: «Разъясните литераторам – хозяином в литературе является только ЦК, и они обязаны подчиняться ему беспрекословно»… Что ж, тем убийственней был выбор Мандельштама!
О Мандельштаме и Сталине написано много. Разумеется, вождь был параноиком-палачом, кто ж не знает этого? Но он ли виновник двух арестов и двух ссылок Мандельштама? И почему до сих пор любая книга даже самых известных ныне литературоведов уверенно твердит: он? Вот не разгаданная доныне загадка, одно из эпохальных, на мой взгляд, заблуждений!..
Из письма Бухарина – Сталину: «Дорогой Коба. О поэте Мандельштаме. Он арестован и выслан. До ареста приходил ко мне и высказывал опасения в связи с тем, что подрался с Алексеем Толстым. Теперь я получаю отчаянные телеграммы его жены, что он психически расстроен, пытался выброситься из окна. Моя оценка: он – первоклассный поэт, но несовременен. Т.к. ко мне апеллируют, а я не знаю, в чем он “наблудил”, решил написать тебе…»
Это письмо (его ныне называют «подвигом») опубликовано не так уж и давно. Защищать опального поэта было и впрямь поступком. Но главное – в другом. Оказывается, Сталин на письме вывел: «Кто дал им право арестовывать Мандельштама? Безобразие». Эти слова и есть та загадка! Дело в том, что и письмо, и резолюция вождя написаны в середине июня 1934 года. А поэт, взятый 14 мая, уже 28-го был стремительно осужден и приговорен – внимание! – к трем годам ссылки. Как пишут почтенные ученые ныне – за стихи, за ту злую эпиграмму на вождя, где были слова и про толстые пальцы, «как черви», и про «тараканьи усища» Сталина, и про то, что любая казнь для него – «малина». Так вот, за это – три года ссылки? Невероятно! Да за вину в сто раз меньшую давали в сто раз больше. Будущему академику Лихачеву за доклад, представьте, об орфографии дали уже пять лет тюрьмы. И пять лет отбывал в ссылке драматург Эрдман за невинную басенку свою. «Однажды ГПУ явилося к Эзопу, и хвать его за жопу! Смысл басни сей предельно ясен: довольно этих басен». Эту басню прочел на вечеринке в Кремле сам Качалов. Так вот, за нее Эрдману дали пять лет, а за вбитые в историю по шляпку каленые стихи Мандельштама – три года?! Ну не чудо? И разве не чудо, что поэту разрешили ехать в ссылку вместе с женой? По телефону ее вызвали на Лубянку. «Пропуск, – пишет, – вручили с неслыханной быстротой. Когда ввели Осю, заметила, глаза – безумные, а брюки сползают». «Как он кинулся ко мне! – говорила потом. – “Наденька, что со мной делали!”» Шиваров, следователь, не подав ей руки, назвав ее «соучастницей», сказал: ее не привлекают, дабы «не поднимать дела». «И тут, – пишет Надя, – я узнала формулу: “Изолировать, но сохранить” – распоряжение с самого верха…» С самого «верха» – значит, от Сталина. Вот вам и суть загадки века. В мае выслали. В июне Бухарин писал вождю, и в июне же Сталин начертал: кто дал право арестовывать поэта? А сам, выходит, еще раньше велел изолировать его, но – сохранить. Где же, спросите, правда? Одни пишут, что не было слов «изолировать» и Лубянка на свой страх решила выслать поэта. Другие говорят: резолюция на письме Бухарина – лицемерие вождя, который якобы знал уже об аресте. Но ведь главный-то вопрос в другом: читал ли вождь стихи против себя? И неужто, зная их, мог еще возмущаться арестом автора и… таким «тяжелым» приговором – три года ссылки? Более того, когда в глухой Чердыни поэт попытался выброситься из окна, ему почему-то стремительно заменили суровую и дальнюю – на мягкую и близкую ссылку. И верно – загадка загадок!
Правду, на мой взгляд, написал лишь Ральф Дутли, немец, выпустивший в 2003-м книгу о Мандельштаме. Чекисты, доказал, просто побоялись показать «чудовищную эпиграмму» Сталину и доложили ему лишь о пощечине. Вот откуда и мягкий приговор, и слова «изолировать и сохранить», и даже возмущение вождя, что арестовали поэта без его санкции. Ведь если бы вождь узнал о стихах, пишет Дутли, «он добрался бы до каждого», даже до тех, кто показал ему эти стихи. Раз читали – значит, виновны. Не поверите, но слышавших стихи не только не допросили – не вызвали на Лубянку. Кстати, так же думала и Мария Петровых, единственная, кому Мандельштам дал эти стихи переписать. Шиваров знал: она их переписала, но ведь не допросил и ее. Чудеса! Оттого она и твердила всю жизнь: Сталин стихов не читал, поэта сослали за пощечину. А раз так, значит, мы вправе утверждать: от верной смерти поэта-смельчака спасла, смешно сказать, жалкая трусость чекистов, этих бесстрашных рыцарей эпохи. Страх! Трусость за шкуру свою!..
Жизнь-зарница
Мандельштам – мера и высота жизни. «Нельзя же дружить с божеством», – скажет о нем его друг и добавит: он был «сделан из высшего благородства». А товарищ поэта по воронежской ссылке поэт Рудаков, не для печати – в письме жене напишет, что оказаться рядом с ним было всё равно, что быть рядом с «живым Вергилием или Пушкиным, на худой конец…»
«Живой Вергилий» вынес приговор шеренгам советских писателей. «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения… Писателям, которые пишут разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо… Я запретил бы им иметь детей. Ведь дети должны за нас главнейшее досказать – в то время как отцы их запроданы рябому черту на три поколения вперед». «Рябому черту» – это Сталину. Петр Павленко, будто подтверждая эти слова, уже после смерти Мандельштама, в 1944-м, скажет Эренбургу: «В литературе хочешь не хочешь, а ври, только не так, как вздумается, а как хозяин велит…» То есть – Сталин. И врали всю жизнь, самозабвенно врали. Но чудовищно другое: если Мандельштам пошутил как-то в Воронеже, что улицы его имени не будет уже никогда, то улица им. Павленко, вообразите, существует по сей день! Вьется в Переделкине, в поселке писателей. Как вранье вьется, как общее преступление, повязавшее писателей…
«Жизнь упала, как зарница, как в стакан с водой – ресница», – написал когда-то Мандельштам. Ахматова, увидев его впервые еще в 1910-х, сказала: у него над пылающими глазами были ресницы в полщеки. О «прекрасных, загнутых ресницах» помнила и Эмма Герштейн. А после ссылки в Воронеж, когда поэту было запрещено жить в семидесяти городах, когда он с Надюшком, прячась от милиции, ночевал по отчаянным знакомым, то у чтеца Яхонтова (Москва, Варсонофьевский пер., 8), то у художника Осмеркина (Москва, ул. Мясницкая, 24), то у актрисы Еликониды Поповой (Москва, ул. Петровка, 19), у него в воспаленных веках не было уже ни одной ресницы. А ведь ему, старику с остекленевшим взглядом, судорожно хватавшему воздух беззубым ртом, не было еще и пятидесяти. Он и Надя, живя теперь то в Савелове, то в Калинине, воровато навещая «курву-Москву», бездомно ходили по немногим знакомым. У Бабеля (Москва, Большой Николоворобинский пер., 3–9) интересовался, отчего того так тянет к чекистам, ведь Лубянка – это «распределитель, где выдают смерть», у писателя Ивича (Москва, Руновский пер., 4) «складировал» свой жалкий архив, а побывав у Катаева в новом писательском доме, в Лаврушинском, наверное, и сказал Наде: «Надо уметь менять профессию, теперь мы нищие…»
Из «Воспоминаний» Надежды Мандельштам: «В один из первых дней после… Воронежа нас возил по Москве в своей новенькой, привезенной из Америки машине Валентин Катаев… В новой квартире у Катаева всё было новое – новая жена, новый ребенок, новые деньги и новая мебель. “Я люблю модерн”, – зажмурившись, говорил Катаев, а этажом ниже Федин любил красное дерево целыми гарнитурами. Писатели обезумели от денег… Катаев угощал нас новым для Москвы испанским вином и новыми апельсинами – они появились в продаже впервые после революции… Привез из Америки первый… холодильник, и в вине плавали льдинки, замороженные по последнему слову техники… Пришел Никулин с молодой женой, только что родившей ему близнецов… А я вспоминала старое изречение Никулина, которое уже перестало смешить меня: “Мы не Достоевские – нам лишь бы деньги”… Они пускали корни и обдумывали, как бы им сохранить свои привилегии… Вкусивший райского питья не захочет в преисподнюю… Поэтому они постановили… надо приспосабливаться. “Валя – настоящий сталинский человек”, – говорила новая жена Катаева, Эстер… И сам Катаев… повторял: “Не хочу неприятностей… Лишь бы не рассердить начальство”… В эпоху реабилитации Катаев всё порывался напечатать стихи О.М. в “Юности”, но так и не посмел рассердить начальство. Но другие ведь даже не порывались…»
«Другие», если уж говорить прямо, не только уже не приглашали к себе – избегали его, призрака живого, переходили на другую сторону улицы и особо страшились встретиться глазами. В чужом свитере, в великоватом пиджаке, подаренном Юрием Германом, с узелком, не с портфелем, наш Вергилий оказался в Москве не просто чужим, чуждым – враждебным человеком. И больше всех его ненавидели как раз писатели. Боялись. За себя боялись!
Из письма генерального секретаря Союза писателей Ставского – главе НКВД Ежову: «Сов. секретно. В части писательской среды весьма нервно обсуждается вопрос о МАНДЕЛЬШТАМЕ. Как известно – за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию Осип МАНДЕЛЬШТАМ был… выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами “зоны”). Но на деле – часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом – литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него “страдальца” – гениального поэта, никем не признанного… С целью разрядить обстановку – О.Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса… И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь. За последнее время О.Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой ценности они не представляют – по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними (в частности тов. Павленко, отзыв которого прилагаю). Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об О.Мандельштаме…»
Ни преступления, ни проступка, ни йоты вины за поэтом не числилось – он просто существовал еще. И этим мешал не народу, не даже Сталину – писателям. Через месяц, «пришив» поэту контрреволюцию на просьбе Ставского, вместо стыдливого «решить» появится: «Арестовать!». А что касается отзыва Павленко на стихи Мандельштама («Они мертвы.. в них нет веры в свою строку…»), то через тридцать лет Надя ответит: «Убивая, всякий убийца смеется над жертвой и повторяет: “Разве это человек? Разве это называется поэтом?..”»
На этот раз «Вергилия» увозил грузовик и два конвойных в кузове. Жизнь упала, как зарница! Свой выбор сделали все: кому давить, кому быть раздавленным. Накануне ареста Наде приснились иконы. «Сон не к добру, – напишет. – Я в слезах разбудила Осю. “Чего теперь бояться, – сказал он. – Всё плохое уже позади…”» И они вновь беспечно уснули. Может, потому, взятые врасплох, ничего друг другу сказать не успели. «Не положено!» – выставит штыки конвой…
Из барака № 11 под Владивостоком, где умрет, поэт напишет: «Родная Наденька, не знаю, жива ли ты?» А она опоздает, ответит ему за день до вести о смерти его. Но само письмо не умрет, нет, оно живо, оно напечатано: «Ося, родной! Пишу в пространство. Не знаю, жив ли ты. Услышишь ли меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела сказать, как я люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе… Ты всегда со мной, и я – дикая и злая, которая не умела просто плакать, – я плачу, я плачу. Это я – Надя. Где ты?..»
Вкус пепла, или Тяжелая лира Ходасевича
Сквозь дикий голос катастроф Твой чистый голос, милый зов, Душа услышала когда-то… Нет, не понять, не разгадать: Проклятье или благодать, — Но петь и гибнуть нам дано, И песня с гибелью – одно. Когда и лучшие мгновенья Мы в жертву звукам отдаем, — Что ж? Погибаем мы от пенья Или от гибели поем? А нам простого счастья нет. Тому, что с песней рождено, Погибнуть в песне суждено… Владислав ХодасевичХодасевич Владислав Фелицианович ( 1886–1939) – крупнейший русский поэт, публицист, критик, историк литературы, редактор, мемуарист. Приняв революцию 1917 г., разочаровался в ее итогах и с 1922 г. стал эмигрантом. Был женат четырежды. Вторую жену Анну Чулкову звал «мышкой», третью – Нину Берберову – «котом». Но кем сам был в этой вечной игре в кошки-мышки – в любви?
Более злого, желчного, ядовитого имени, наверное, и не было в русской поэзии. «Я под людьми, – писал он, – вижу землю на три аршина». «Вздев пенсне, расчесавши проборчиком черные волосы, он, – напишет Андрей Белый, – удивлял умением кусать и себя и других». «Умен, насмешлив и зол», – отзовется из эмиграции Вера Муромцева, жена Бунина, знавшая его тридцать лет. А Горький, рыдавший над его стихами, назвав его «величайшим из поэтов», подчеркнет: он «действительно зол… это одно из его достоинств, но, к сожалению, он делает из своей злобы – ремесло». Ремесленник зла! Еще младенцем он, погружаемый в купель польского костела, ухитрился (так твердила родня) «вполне отчетливо» показать Овельту, достопочтимому ксендзу, «нос». Ку-ку тебе, наместник Бога на земле!..
Но кошки, но – с самыми обычными кошками… Это – поэзия! И какой-то секрет его. Ведь первыми словами его были не «мама», не «папа» – «кыс, кыс»!.. Так позвал котенка. Потом скажет: «Кошки не умны, они мудры, что совсем не одно и то же». Напишет: «Мне нравится заводить с кошками летучие знакомства, и признаюсь, моему самолюбию льстит, когда бродячий и одичалый кот по моему зову подходит ко мне, жмется к ногам, мурлычет и идет за мной следом». В Париже сойдется с одним таким – бродячим. «Немного поговорив, – вспомнит, – мы пошли вместе, сперва по набережной, потом по авеню Боске. Как истые парижане, мы зашли в бистро и выпили: я – рюмку коньяку, он – блюдечко молока. Потом он проводил меня и был не прочь остаться со мной, но, к несчастью, я жил в отеле…»
Да, был способен играть с кошками до упаду, разговаривать, обижаться на них. И вот такой, говорите, – был злым? Окститесь! Скорей, его раздражали люди – звери двуногие. Они его, считайте, и погубят…
Женский картель
У него было четыре жены. Донжуанский список, который он шутя составил к концу жизни, включал семнадцать имен. Но чтобы его вызвала на дуэль дама? Это было, конечно, слишком. Случай в литературе ХХ века уж точно небывалый.
«В семье очутился я… поскребышем, любимцем. Надо мною тряслись, меня баловали». «Я вырос, – скажет, – в гинекее». Так в Древней Греции звали женские половины, дальние комнаты в домах, где мужья прятали своих красавиц. Он же имел в виду лишь маму, бабушку, няню, старших сестер. В женскую баню его, как Мандельштама, кажется, не водили, но юбки, спицы, флаконы, помады дело свое сделали. Болтаясь хвостиком по магазинам, стал разбираться в нарядах, в моде и скоро сам превратился в записного щеголя. Однажды, когда в Пассаже на Петровке отстал от матери, то не заплакал, а, оглядевшись, выбрал самую нарядную блондинку, «с которой не стыдно было пройти», и, шаркнув ножкой, приподняв шапочку, вежливо сказал: «Проводите меня домой, я потерялся…» Женщины и будут всю жизнь как бы провожать его: нянчиться, баловать, заботиться. Вторая жена будет у него и за добытчицу (днем на работе), и за кухарку (вечером), и за медсестру (по ночам, когда он в самый голод умирал от фурункулеза). А жена третья, почти девочка, пока он писал по ночам, будет засыпать, прижав к груди его пижаму, – согревать ее для него. Тоже, кажется, непроверенный, но – небывалый случай в литературе…
Отец его был то ли польским, то ли литовским дворянином. Вторая жена клялась: она «видела документы деда, носившего фамилию Масла-Ходасевич, с дворянским гербом». Отец учился в Академии художеств, до старости упорно сидел за мольбертом, делая копии с картин, что, впрочем, не помешало ему открыть первый в Москве магазин фотопринадлежностей. Затейливый коктейль: художник и торгаш. Да и мать – еврейка чистых кровей (ее отец был составителем «Книги Кагала»), породнившаяся с поляком, тоже та еще «смесь». Если учесть, что ей было за сорок, когда родился Владя, а отцу – за пятьдесят, то неудивительно, что дитя росло умненьким. Гены! Учился на ять, в гимназии шел даже на медаль. Но не получил ее, вообразите, из-за «развращающего влияния на товарищей» – из-за язычка язвительного. А ведь Бог шельму метил, ведь из-за языка он едва не умер в младенчестве.
Он был еще грудным, когда на языке образовалась опухоль. Это случилось в доме, где он родился (Москва, Камергерский пер., 4), напротив будущего МХАТа. Из-за опухоли отказывался есть, и кормилицы его уходили: «не жилец». Выкормила тульская крестьянка Кузина, а спас Смит, врач-англичанин, сообразивший прижечь опухоль ляписом. На языке, правда, навсегда осталось затвердение, «заплатка», – как знак на будущее. По счастью, никто ее не видел, когда на московские улицы сначала из дома Нейдгардта, куда переселились Ходасевичи (Москва, ул. Большая Дмитровка, 14), а потом из дома родного дяди, где стал жить гимназистом (Москва, ул. Тверская, 24), он выходил уже франтом, фертом, «прожигателем жизни». Балы, танцульки, картишки, шуточки, винцо. Воротнички носили «под самые уши», брюки зауживали и с помощью штрипок натягивали до невозможности, а поля гимназических фуражек, напротив, раздували так, что те едва держались на головах великовозрастных шалопаев. Фокус был в том, чтобы полицейские в сумерках принимали их за офицеров, отдавали бы честь, а потом – плевались бы. Галош не носили в принципе, ездили не на конках – на лихачах, а если уж пешком, то не просто волоча ноги, а особо «подшаркивая». Тоже – «ку-ку», но уже толпе. За этими серьезными забавами стало даже не до университета, бросил после третьего курса. Но – встрепенулся, огляделся, высмотрел вновь «самую нарядную» и эффектную и – женился. В восемнадцать лет.
Женой стала семнадцатилетняя красавица Марина Рындина. «Влюбились, поженились, – напишет двоюродная сестра поэта Валентина Ходасевич, ставшая при советской власти довольно известной художницей. – Живут на Тверском. Я часто бываю у них… Там интересно: бывают поэты, читают стихи – Бальмонт, Петровская, “Гриф” (Соколов)… Владя пишет хорошие стихи. Марина поет…» В компанию входили Брюсов, он был посаженным отцом на свадьбе, Белый, Эллис и лучший друг Ходасевича – поэт Самуил Киссин по кличке Муни. Нина Петровская, сама поэтесса, тогда же напишет приятелю про компанию: «На мальчишек не обращайте внимания. Ведь они хамы (ах, как я ненавижу Владьку, узнала о нем еще подлости), завистники, нищие сами, звенят в кармане пятаками, а делают вид, что золотом…» Потом доскажет: «Да лучше уйдемте в пустыню, будем питаться памятью о прошлых днях… чем отдать себя на растерзание этим отвратительным дьяволятам с офортов Гойи. А ведь они не подходят просто, они вгрызаются в вас, как могильные черви, как паразиты… Муни, Владька, Койранский – всем им одна цена грош. Это отвратительная накипь литературы, о которой стыдно будет вспоминать…» Так вот, центром этой «накипи» была Марина. «Большая причудница» – не без опаски назовет ее вторая жена поэта.
Таких ныне, пожалуй, и нет. Марина, приемная, а может, и прижитая дочь богатого полковника, всегда в черном или белом платье, с золотой короной на голове – бирюза с жемчугом, выезжала на Кузнецкий на своих лошадях, откинувшись в коляске на бархатные подушки. «Незнакомка» Крамского! На шее либо дорогое колье, либо живая змея – дрессированный уж, а хвостиком за шлейфом – шесть гончих собак. По утрам в имении дяди в одной ночнушке прыгала на лошадь и носилась по полям. «Однажды, когда Ходасевич сидел с книгой в комнате, выходящей на террасу, раздался чудовищный топот, и в комнату Марина ввела любимую лошадь». Лихо, так?! Но главное, была бесстыдной. «Приходит, бывало, на литературное собрание, – вспоминал очевидец, – идет прямо к столу, в руках какая-нибудь орхидея, сбрасывает шубу и садится за стол голая, ну, совершенно нагишом!..»
И вот из-за такой – дуэль? Да не с мужчиной – с женщиной? Записку на каком-то званом вечере ему передала пожилая дама. Он снял перчатки и прочел: «Вы угнетаете М. и бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие предлагаю рапиры. Сообщите подательнице сего, где она может встретиться с Вашими секундантами…» И подпись – Мариэтта Шагинян. Будущий автор праведных книг про Ленина и Маркса. «Я сделал вид, – пишет поэт, – что не удивился: “Это серьезно?” – “Вполне”, – ответила дама». Ходасевич знал Шагинян лишь в лицо, да и Рындина, кстати, не знала ее; та лишь донимала Марину «экстатическими заявлениями» о готовности защищать ее «до последней капли крови». Спрятав письмо, поэт поклонился секундантше: «Передайте, что я с барышнями не дерусь…» А месяца через три, когда Ходасевич, разводясь с Мариной, переехал в меблированные комнаты «Балчуг», в нынешний отель (Москва, ул. Балчуг, 1), швейцар вручил ему букетик фиалок: «Занесла барышня, чернявенькая, глухая…» «Так мы, – пишет он, – помирились». С тех пор Мариэтта, сплошная «путаница» из всевозможных «измов», изучавшая философию и математику и действительно сносно фехтовавшая, годами будет «в глаза» жалеть поэта. «Ах, бедный Владя! – будет завывать. – Вы погибаете. Печально, но это так». «Погибал», потому что был «темен в делах религии», потом оттого, что не понял вторую часть «Фауста», потом – что не сделался «коммунистом». Спасала! Но она же, возмущался Ходасевич, уже в 1920-х опубликовала в «Правде» донос на интеллигенцию, которая, оказывается, чтобы насолить большевикам, «нарочно» голодает и вымирает. «Сама себя саботирует», прячет продукты, мыло, а должна бы жить припеваючи. Ходасевич при встрече пристыдил ее. Мариэтта схватилась за голову: «Донос? Ах, что я наделала! Это ужасно! Я только что из Ростова, я ничего не знаю, как у вас тут. Я хотела образумить интеллигенцию, для нее же самой… Массы… Маркс… Иисус Христос…» А когда в Петрограде расстреляли Гумилева, Шагинян выселила вдову убитого (та с Гумилевым жила в ванной комнате Дома искусств) и поселила там своих родственников. «Тоже, – пишет Ходасевич, – не подумав и… невпопад». Невпопад? Ну-ну! Невпопад тут само слово «невпопад». Ведь всё после этого пошло у Шагинян как раз «впопад»: и книги, и будущая Госпремия, и даже Звезда Героя труда – в конце жизни. В одном не ошиблась: поэт действительно погибал…
Марина бросит его вдруг, уйдет, как скажут свидетели, «не по правилам». Станет женой Маковского, редактора нового журнала «Аполлон». Жить станет с мужем в огромной квартире на Николаевской (С.-Петербург, ул. Марата, 65/20), в той самой квартире, где потом, после бегства Маковского на Запад, поселятся временно и Ахматова с Шилейко, и – позже – Гумилев и Анна Энгельгардт. Доживет, кстати, в Париже до восьмидесяти шести лет. А Ходасевич, брошенный, тогда же напишет матери: «Я плачу о женщине!.. Нет… мне дела ни до жизни, которой ты меня учила, ни до молитв, ни до книг… Хочешь – признаюсь? Мне нужно… не много: только бы снова изведать ее поцелуи… снова воскликнуть: “Царевна! Царевна!” И услышать в ответ: “Навсегда”…» Для него, гордеца, предводителя компании с Тверской, демарш ухода ее стал трагедией. Он даже сойдется с однофамилицей ее, с актрисой Лидией Рындиной. И – напишет Петровской, подруге, слова, странные для «ремесленника зла»: «Женщина, – напишет, – должна быть добрая!..» Золотые слова! Он и найдет такую – мягкую, послушную, податливую, тихую, как мышь. Даже звать ее будет «мышкой». Она и станет второй женой его.
«Счастливый домик»
Фаталист! Он был фаталистом. «У вас голова казненного!» – скажет ему в эмиграции одна женщина. Ходасевич усмехнется. Она не знала, что он, убив лучшего друга, уже называл себя «Каином». Так и написал: «Как тот угрюмый неудачник с печатью бога на челе…» Печать – это вечная отметина на его лбу. На деле, как за щекой скрывал «заплатку» на языке, так под челкой прятал неизлечимую экзему. Знак, считал, отверженного, изгоя. Фаталист, конечно, причем не только веривший в судьбу – верящий в предвидения.
Предвидения начались с коляски. С обычной пролетки на забитой экипажами Тверской. Просто Муни, поэт Самуил Киссин, признался как-то, что умеет угадывать события. «Да что там! – сказал. – Видишь, вон та коляска. У нее сейчас сломается задняя ось». Их как раз обгоняла пролетка, в которой сидел седой старичок с дамой. «Ну? – не выдержал Ходасевич. – Что-то не ломается». Коляска проехала сажен десять, ее уже заслоняли другие, когда против магазина Елисеева она разом встала. «Мы подбежали. Задняя ось была переломлена посредине. Старики отделались испугом. Муни хотел подойти попросить прощения. Я, – пишет Ходасевич, – насилу отговорил его…» В другой раз с ними был свидетель, некто Ахрамович. Ему друзья и рассказали про коляску. «А заказать нельзя что-нибудь?» – спросил Ахрамович. Вот можно ли, сказал, встретить сейчас, например, нашего издателя? «Пожалуйста», – улыбнулся Муни и кивнул на угол Петровских линий, откуда выезжал извозчик. Поравнявшись, седок в коляске снял шляпу. К их изумлению, это был как раз издатель. «Эх! – крикнул Муни. – Не могли пожелать Мессию?..»
Опасная шуточка! Это была уже не «гадость, неврастения или душевный насморк», как называл «предвестия» Муни, – кощунство! Не оттого ли скоро, выпав именно из опрокинувшейся пролетки (лошадь спугнет проехавший автомобиль), погибнет мать Ходасевича, а потом, через месяц, умрет от тоски и отец его? Вот тогда поэт едва и не застрелится; наткнется в столе брата на револьвер и, не выпуская его из рук («искушение было велико»), позвонит Муни: «Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу…» Не оттого ли через пять лет, в 1916-м, в прифронтовом Минске, в кабинете какого-то начальника станции застрелится уже и сам Муни? Ходасевич в смерти друга будет винить себя, твердить, что убил его он – слишком жестко, мол, критиковал стихи его. Бред, разумеется. Но что-то в нем надломилось. Ибо через десять лет, не без суеверия, напишет вдруг стих, который без нервной дрожи и не прочтешь: «Всё жду: кого-нибудь задавит // Взбесившийся автомобиль, // Зевака бледный окровавит // Торцовую сухую пыль. // И с этого пойдет, начнется: // Раскачка, выворот, беда, // Звезда на землю оборвется, // И станет горькою вода…» Всё это, всё – еще будет…
Из письма Ходасевича Нине Петровской от 24 ноября 1911 года: «Весело знать – день ото дня непоправимее запутываешь узлы – свои и чужие… Может быть, вообще надо жить паиньками. То есть паиньками-паиньками, а потом – трах! – взять да и выкинуть что-нибудь. Мы еще с Вами своих трахов дождемся…»
Дождутся! И его, и Нину Петровскую (помните ее роман с Брюсовым?) жизнь так тряханет, что мало не покажется. Но именно тогда, после развода с Рындиной, он и найдет себе «женщину добрую». Но вот вопрос: может ли такой, как он, мизантроп, ходячее презрение, дьяволенок Гойи, не любя весь мир вокруг, полюбить хотя бы одну душу, ту, что рядом? Кусая и других, и себя, не цапнуть при этом свою «единственную»?..
Всё странно во втором браке поэта. Вторая жена его Нюта – красавица Анна Чулкова, сестра известного поэта Георгия Чулкова, – не встретилась ему, как бывает, – подвернулась. Ну не было этого: увидели, обомлели, влюбились. Нет, знали друг друга сто лет. Встретились впервые у Зайцевых. Я думал, у писателя Бориса Зайцева, в Гранатном, но биограф Ходасевича Шубинский утверждает, что у Зайцева Петра. Литератора. Не буду спорить, но тогда они познакомились в квартире того на Семеновской улице (Москва, Большая Семеновская ул., 53). Впрочем, неважно, важно, что Аня Чулкова «вся» была из их компании, немножко переводила, писала и даже печатала свои стихи под именем Софьи Бекетовой. Была, правда, замужем, родила сына, потом сошлась с одним другом Ходасевича – Диатроповым, следом – с другим, с Александром Брюсовым, братом поэта Валерия Брюсова. С тем, кстати, Брюсовым, с кем Владя и «раздувал» фуражки в гимназии, да и сам «раздувался» – они учились в одном классе. Нюта была в курсе всех романов Ходасевича, чуть ли не «конфиденткой» была, когда он и Муни ненадолго влюбились в Женю Муратову, итальянку по рождению, дочь архитектора Пагануцци и уже жену Павла Муратова, искусствоведа. Более того, когда Ходасевич в любовном угаре рванул за Женей в Венецию, Нюта с мужем провожала его на Киевском и даже расплакалась от жалости к нему. И вот после Италии он стал всё чаще захаживать к Нюте, читать стихи, переводить какой-то роман и… как-то тихо сошелся с ней. На долгих одиннадцать лет! Она-то его полюбит, ибо променяет вполне сытую жизнь не просто на бедность – на голое «небо». Его метафора. Она напишет подруге: «Как пришла любовь – не знаю. Знаю, что люблю Владю очень как человека, и он меня тоже. Нет у него понятия о женщине как о чем-то низком…» И добавит: «Есть еще новость: научилась любить небо. Это большое счастье…» А он, кружа ей голову, даже на книге стихов своих «Счастливый домик» напишет: «Спасибо за то, что он есть, за любовь, за небо и радость». «Он» в посвящении – это как раз «счастливый домик», счастье их семейное, которое после меблирашек в «Балчуге» началось в их первой квартире на Знаменке (Москва, ул. Знаменка, 15). Хотя, если уж совсем честно, какое там счастье, когда с первых дней жизни она думала, как бы продать свой рояль и на эти деньги купить им с Владей кровать, стол и стулья. Если сразу начались «печальности»: холодные компрессы на голову поэта, горячие грелки – к ногам. Не знала лишь, что такой теперь и будет вся ее жизнь. И что, бросив ее, тоже «не по правилам», он в последнем письме к ней напишет: «Мы не для счастья сделаны…»
С Нютой переживет две катастрофы: личную и общую – Октябрьский переворот. «Мышкой» будет звать ее потому, что, играя с сыном, она напела как-то детскую песенку «Пляшут мышки впятером за стеною весело». С того дня и пошла эта игра. В день свадьбы они даже от праздничного пирога отрезали кусок и сунули его за буфет, для настоящих мышей. «Они съели», – напишет Чулкова. Но я всё думаю: если она была мышкой, то кто же в этой игре был котом? И в игре ли? Помните, Цветаева, знавшая о любви, наверное, всё, мудро заметила: «Женщина играет во всё, кроме любви. Мужчина – наоборот…» Так что в «счастливом домике», вернее, «домиках», ибо со Знаменки они переехали сначала на Лужницкую (Москва, ул. Бахрушина, 4), а потом на Пятницкую улицу (Москва, ул. Пятницкая, 49), кто-то и впрямь любил, а кто-то – «играл в любовь». Ведь у него были дела поважнее. Ведь это он будил по ночам жену лишь затем, чтобы она записала придуманные им только что стихи. И останавливал ее на улице, чтобы занести в блокнот пришедшую в голову строфу; она для этого покорно подставляла ему спину. А когда случилась реальная беда, подставила и руки, и плечи, и сердечко свое…
Несчастье случилось под Подольском, на даче знаменитой Любови Столицы. Столица – псевдоним, фамилия поэтессы была вообще-то Ершова. Люба Ершова! Хмельная, вакхическая, дерзкая, с орлиным носом и распутными глазами, в безумном декольте и с античной перевязью на голове, она звала себя «исполинской девой» и «каменной бабой». «Я люблю, чтобы кругом меня дышали атмосферой любви, беспечных схождений, беспечальных разлук», – говорила Столица, которая даже на флирты мужа смотрела сквозь пальцы. «Но шеи – нет, – насмешничал Алексей Толстой, – а на спине, рядом с искусственной мушкой, вполне натуральный прыщик». В московском доме своем (Москва, ул. Мясницкая, 24) Столица до революции держала литературный салон, городила вечера «Золотой грозди», на которых бывали и старик Телешов, и Есенин с Клюевым, и модные артистки, и даже депутаты Думы. А на день рождения на дачу ее под Москвой в тот вечер съехались поэтессы Софья Парнок, Ада Чумаченко, Нина Серпинская, актрисы Вера Холодная, Вера Юренева, балерина Екатерина Гельцер, знакомая уже нам Лидия Рындина. И – Ходасевич, который явился без Нюты, хотя звали обоих. После ужина, с липкими от ликеров руками, в лоск пьяные «возлежали» на вывороченных меховых шубах у камина перед фалангой бутылок. Ходасевич об этих сборищах писал: «Скажу по чести – пития были зверские, а продолжались они до утра… Бывали и пение хором, и пляски…» Но в тот вечер ему стало вдруг душно, и он, выйдя на недостроенный еще балкон, шагнул с него в темноте прямо на землю. Это со второго-то этажа. Не упал, пишет Чулкова, а «встал так твердо, что сдвинул один из позвонков». Его закуют в гипсовый корсет, будут подвешивать, вытягивая позвонки, отправят в Крым, как сказали бы нынче – «на реабилитацию». Носки и туфли сам надеть не мог – туберкулез позвоночника. Не диагноз – почти приговор, катастрофа, как скажешь иначе? Ведь после нее он, и так кожа да кости, из болезней не вылезал. Спасала его как раз «мышка», которая стала ему нянькой, поводырем, сиделкой, уборщицей. Нет, странным, странным был все-таки этот брак. Письма его к ней из Крыма читать невозможно: смесь сюсюканья и… ярости. «Ты у меня хорошее и умное животное, милый мышь», – заканчивает одно письмо. В другом пишет: «Дурак мышь, дурак мышь! Не смей волноваться о деньгах! Трать сколько нужно, не трать на лишнее…» В третьем совсем заигрывается: «Спи, паршивый. Ешь, гадкий. Не кури, урод. Не волнуйся, вонючий. Не бегай, как от кошки. Я тебя люблю…» А в четвертом, назвав себя медведем, пишет: «Таких мышей секут очень больно, потому что Медведь из-за них горько пакиет (плачет. – В.Н.)… Не люблю никого… Люди меня раздражают. У меня нет к ним вкуса, как к рыбе. Как надоели, осточертели мне все, все, все!..»
Что ж, был таким, каким был. Разве что себе не показывал нос. Злился, что любит, злился, что не любит. Злость сквозь любовь или любовь – сквозь злость. Но, может, потому и писал дивные стихи? И что тогда беды его, его высокомерие к миру и тираническая любовь к самым близким?..
«Счастливый домик» их рухнет. Рухнет от второй, главной катастрофы – от революции. Нюту он бросит. Бросит «не по правилам»: тайно сбежит от нее за границу с начинающей поэтессой Ниной Берберовой. Берберову, кстати, увидит впервые, когда та в студии Гумилева натурально играла с друзьями в кошки-мышки. Предвестие? В письмах к новой жене наравне с другими ласкательными словами – «ангел-птичка», «Ни-ся», «целую ручки, ножки, пупочек», «целую хвостики» – будет звать ее до конца жизни – «котом». Именно так – в мужском роде.
Четвертый сон… Кремля
Что есть поэзия? Это – лучшие слова в лучшем порядке. Чья фраза, уж и не помню. Но если говорить об эпохе, в которую жили поэты Серебряного века, то о ней можно сказать похоже: то было время, когда вершились, увы, худшие дела и – в наихудшем порядке. Три войны (японская, мировая и гражданская), три революции, массовые расстрелы, вселенское разорение и одичание. Как это не походило на мечты человечества, пророчества, великие утопии о будущем. На тот же роман «Что делать?» Чернышевского, пытавшийся изобразить коммунизм.
Помните ли вы четвертый сон Веры Павловны из романа, текст, который нас заставляли заучивать в школах? Помните мечту о «светлом завтра»? «И видит Вера Павловна громадное здание… чугун и стекло, окна… широкие… и все промежутки одеты огромными зеркалами… И… ковры на полу!..» Шесть блюд на обед для каждого, и, чтобы не остыли, они стоят в углублениях с кипятком. И для всех «вечная весна и вечная радость». Мечта! И много «сильных машин» и немного работы для людей, которые «каждый вечер… веселятся и танцуют… Здесь всякое счастье, какое кому надобно…».
Счастье? Бог с ним, со счастьем! Но шесть блюд для каждого – круто! Ходасевич роман возненавидел, в юности едва осилил восемьдесят страниц. Но поразительно: с «Верой Павловной» не просто познакомился – жил под одной кровлей. Не с героиней, конечно, с прототипом – с Марией Сеченовой, которую описал Чернышевский, с врачом-офтальмологом в прошлом, вдовой знаменитого ученого, а после революции – чистенькой старушкой восьмидесяти пяти лет в английской кофточке, галстучке и – с «вымытыми морщинками». Жили вместе в «Здравнице для переутомленных работников умственного труда», в 3-м Неопалимовском (Москва, 3-й Неопалимовский пер., 5–7). Эта здравница с таким смешным, в общем, названием располагалась в двухэтажном здании, которое и ныне стоит в переулке. В 1920-м – райский оазис, куда определяли людей, чтобы подкормить и подлечить их. Внизу были столовая, кухня, библиотека, кабинет врача. Среди «переутомленных» были тут и Вячеслав Великолепный, поэт Вячеслав Иванов, и литературовед Михаил Гершензон, и брат Ивана Бунина Юлий. Для пытливых сообщу: именно здесь и родилась знаменитая «Переписка из двух углов» Иванова и Гершензона. О ней написано ныне в сто раз больше страниц, чем в самой книжонке, она переведена на французский, итальянский, испанский, немецкий, фламандский и английский, переиздана недавно, но и сегодня «мудрейшие литературоведы» особо не интересуются, где она случилась. Так вот, случилась эта переписка как раз в Неопалимовском. Тут в одной из комнат по диагонали стояли две кровати – Иванова и Гершензона, с которых они как бы перебрасывались умными – для вечности, конечно! – письмами. Так и жили. Тот же Гершензон, встречая здесь Ходасевича, который пришел сюда в шелковом, хотя и прожженном, галстуке, любил трогать эту тряпку на его шее и, цокая, как бы восхищенно восклицать: «Фу-ты, какой франт!» Но оба – бесплотные тени, обессиленные от болезней и голода, почти не смеялись шуткам. Чудо, что вообще выжили, ведь именно в «здравнице» умерли сначала Юлий Бунин, а потом, так и не увидев коммунизма, – Мария Александровна Сеченова.
«Нечем дышать» Ходасевичу стало еще в 1915-м. Тогда и написал другу Муни: «Боже мой, я поляк, я жид, у меня ни рода, ни племени, но я знаю хотя бы одно: эта самая Россия меня кормит и поит (впроголодь). Каким надо быть мерзавцем, чтобы где-то в проклятом тылу разводить чеховщину? Ведь это яд для России, худший, чем миллионы монополий… А российский интеллигент распускает его с улыбочкой: дескать, всё равно пропадать… Когда война кончится, то есть когда мужик вывезет телегу на своей кляче, интеллигент скажет: ай да мы!..» Либералов, демагогов, «пикейных жилетов» ненавидел люто. Но закончил письмо тоже не без известного прожектерства: «Я всегда говорил, что 1) верь в мужика, 2) через 200–300 лет жизнь на земле будет прекрасна…» С восторгом встретил Февральскую революцию. Когда услышал, что где-то во Владимире возбужденная толпа солдат снесла голову памятнику Пушкину, то в статье «Безглавый Пушкин» написал: «Не знали они того, что не только пушкинская, но и всякая другая истинная поэзия есть динамит, взрывающий самые основания неправого общественного строя. До боли становится горько от темноты народной! Тот, кто хочет сейчас честно служить революции и народу, должен идти и учить, учить, учить!..» И может, благодаря вере в будущее, работая в тихой московской Книжной палате (Москва, Малый Знаменский пер., 8), уже в январе 1918-го решительно отправился к пламенному Ногину служить в только что созданный комиссариат труда. Рыжий вихрастый Ногин предложил ему составить кодекс законов о труде для первой в мире Республики Советов. «Мне, – пишет поэт, – было трудно не засмеяться. Выходило, что… мировой пролетариат победил для того, чтобы я мог, наконец, дать ему законы…» Ногин отказа не захотел и слушать: «Справитесь! Ей-богу, справитесь. Нам это не к спеху…» Вот это «не к спеху» и решило дело. Поэт подал в отставку и даже за портфелем, забытым на работе, отличным портфелем светло-коричневой кожи, не пошел. А ведь это была его первая служба Советам и, добавим, самая безобидная пока игра в кошки-мышки с новой властью. Скоро игры эти запахнут свинцом. Нюта напишет о тех днях: революцию принял «с огромной радостью… одним из первых… стал печататься в революционных газетах и журналах, за что многие из писателей на него шипели». В 1919-м он и сам скажет другу-поэту: «Что жизнь надобно перестроить, все согласны… Большевики поставили историю вверх ногами: наверху оказалось то, что было в самом низу, подвал стал чердаком… Если вам не нравится диктатура помещиков и не нравится диктатура рабочего, то, извините, что же вам по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит…» И вывел: «Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно, а потому подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованно».
Пока же выживал. Читал лекции о Пушкине (за фунт повидла в неделю), работал в театральном отделе при Наркомпросе (с Брюсовым, Балтрушайтисом, Пастернаком), заведовал московской конторой «Всемирной литературы» и вместе с Зайцевым, Осоргиным, Лидиным и Дживелеговым торговал книгами в «самостийном» магазине, где Нюта, закутанная в платки поверх драной шубки, стояла за кассой. Дом, где под вывеской Союза писателей они организовали книжную лавку, стоит до сих пор (Москва, Леонтьевский пер., 16). Там ныне посольство Азербайджана. Но именно там, торгуя даже собственными сборниками, переписанными от руки, стояли «в очередь» за прилавком нынешние классики литературы. «Есть ли у вас биографии вождей?» – спрашивала их с порога какая-нибудь «революционная» девица. «Каких вождей?» – притворно щурились продавцы. «Ну, пролетариата», – изумлялась девица. «Пролетариата? – изумлялись и они. – Нет, не держим…»
Впрочем, насчет подвалов, которые образно стали после революции «чердаками», обмолвился пророчески. В бельэтажах ему жить приходилось, а вот в реальном подвале он окажется впервые именно после революции. Пожив с Нютой какое-то время на Петроградском шоссе (Москва, Ленинградский пр., 34), они к ноябрю еще 1915 года перебрались на Плющиху (Москва, Ростовский 7-й пер., 11). А после 1917-го оказались в подвале этого дома. Уплотнили. «Зиму… провели ужасно, – вспоминал он. – В полуподвальном этаже нетопленного дома в… одной маленькой комнате, градусов пять тепла (роскошь по тем временам). Стекла… на палец покрыты льдом… Таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями. Питались щами, нелегально купленной пшенной кашей (иногда с маслом), махоркой, чаем с сахарином…» Из-за бесчисленных нарывов его (121-го, по точному счету), кои Нюта перевязывала и днем и ночью, из-за экземы неделями сидел с забинтованными руками. «Без жены, – напишет потом Надежда Мандельштам, – Ходасевич бы не вытянул. Она добывала пайки, приносила их, рубила дровёшки, топила печку, варила, мыла больного Владека… К тяжелому труду не допускала…» В итоге – приобрела туберкулез. Его-то туберкулез потом не подтвердится. А если сказать, что и деньги зарабатывала одна Нюта, то станут понятны слова подруги ее, что от усталости у нее «даже румяна не держались».
Короче, всё после революции пошло вкось, не по роману «Что делать?». Впрочем, четвертый сон Веры Павловны чуть ли не дословно, если можно так сказать, повторится в Кремле, в квартире Луначарского, где поэт окончательно лишится иллюзий. Он придет туда, в знаменитый Белый коридор Кремля, где жили вожди, вместе с друзьями-поэтами: Андреем Белым, Балтрушайтисом, Пастернаком, Георгием Чулковым. Луначарский сразу и жестко скажет им: «стоны писателей» до него, конечно, дошли, но никакой «весны» он не обещает. Напротив, власть разрешит «только подходящую» литературу. Ходасевич запомнит, что «летящими щепками» («Лес рубят – щепки летят»!) в речи наркома окажутся как раз писатели. А потом слово возьмет принимавший их с Луначарским бездарный поэт Рукавишников, пьяный в дым, но уже «свой» в Кремле. Вот он-то и перескажет им, возможно даже не подозревая этого, сон Веры Павловны. Ну – очень похоже выйдет! «Пр-р-рошу… с-с-слова!» – вступит в разговор и поведает, как лично он видит «переустройство литературы». «Надо, – промычит, – построить огромный дворец на берегу моря или хотя бы Москвы-реки… дворец из стекла и мр-р-рамора… и ал-люминия… м-м-да-а-а и чтобы всем комнаты и красивые одежды… эдакие х-х-хитоны, – и как его? это самое… ком-м-мунальное питание… Художники пишут картины, а музыканты играют на инст-р-ументах, а кроме того, замечательнейшая тут же библиотека, вроде Публичной, и хорошее купание. И когда рабоче-крестьянскому п-п-правительству нужна трагедия или – как ее там? – опера, то сейчас это всё кол-л-лективно сочиняют… Ар-р-ртель и красивая жизнь, и пускай все будут сча-а-стливы… И в каждой комнате… умывальник с эмалированным тазом…» Вот так! «Коммунизм» по Чернышевскому, чуть ли не слово в слово! Только про шесть блюд не упомянул… Об этом, кажется, даже в Кремле не могли мечтать еще!..
Все всё у Луначарского поняли. Чернышевский крутанулся в гробу. А у Ходасевича, может, тогда и мелькнула мысль о бегстве, об эмиграции. Ему было тридцать пять. Он еще не знал вкуса пепла во рту, как скажет потом Берберовой: «у меня вкус пепла во рту даже от рубленых котлет!». Но пепел за спиной, образно говоря, видел уже отчетливо. Пепел потерь!
Браслет из проволоки
– С кем ты пил вчера? – спросила его Нюта. Выйдя из больницы, где она лежала с туберкулезом, дома увидела недопитое вино на столе и корзиночку из-под пирожных.
– С Берберовой, – честно ответил он.
«С тех пор, – пишет Чулкова, – наша жизнь перевернулась…»
Это случилось в Петрограде, в уже знакомом нам Доме искусств, куда Ходасевич и Чулкова перебрались в ноябре 1920 года. Поэт и Берберову-то увидел впервые в Доме искусств на Невском. Даже не ее увидел, пардон, – ногу ее в желтом ботинке. Пробегая как-то по залу, где Гумилев после занятий играл, представьте, со своими студийцами в кошки-мышки и кучу-малу, он столкнулся вдруг с Фридой Наппельбаум, знакомой юной поэтессой. На полу перед ними пыхтело и сопело полтора десятка тел в шубах, валенках и шапках. «А вот наша новенькая студистка, – крикнула ему Фрида. – Моя подруга, Нина Берберова». – «Да которая же? Тут и не разберешь». – «А вот она… Вот, видите, нога в желтом ботинке? Это ее нога»…
Дети, чисто дети. Куча-мала из будущих поэтов. Потом, в «Курсиве», Берберова будет зло открещиваться от детскости в себе. Оказывается, она, дочь статского советника, родившаяся на самой аристократической улице Петербурга (С.-Петербург, ул. Большая Морская, 31), чуть ли не с пеленок была уже взрослее взрослых. Расскажет в мемуарах, что девочкой, когда Берберовы жили уже на Жуковского (С.-Петербург, ул. Жуковского, 6), писала пьесы, их ставили в гимназии, что ее классная дама Татьяна Адамович, сестра поэта Адамовича, показывала ее стихи Ахматовой и Блоку, а однажды даже представила им. Ну какой же после этого она ребенок, какая там куча-мала?… Но тут же и проговорится, поведает, что, когда ее семья в голодном 1918-м получит посылку из Ирландии, где были банки сгущенки, она, прямо в шубе и платке, схватит молоток и гвоздь и, пробив в банке две дыры, махом опустошит ее. «До дна, – напишет. – Как зверь». Звереныш…
Вообще Ходасевича позвал в Петроград Горький. В Москве поэт погибал. Более того, в Москве его чуть не призвали в Красную армию. Подсуетился тот же Горький – пошел к Ленину. А Ходасевича уговорил переехать еще и потому, что в Москве надо служить, а в Питере «можно еще писать». Короче, какое-то время поэт и Нюта жили в случайно снятой комнате на Садовой (С.-Петербург, Садовая ул., 13), а потом, опять же с помощью Горького, перебрались в Дом искусств. В то знаменитое здание, которое Ольга Форш назовет «Сумасшедшим кораблем» и где по углам и каморкам жили Гумилев, Мандельштам, Пяст, Вс. Иванов, Тихонов, Грин и – сколько еще. Ходасевич, кстати, как и Форш, назовет этот дом кораблем, кораблем – «идущим сквозь мрак, метель и ненастье». Вот на «палубе» этого «Титаника» литературы и разыграется третья – самая большая любовь поэта.
Всё случится, считайте, на Невском. На Невский выходило его окно на четвертом этаже Дома искусств, откуда был виден весь проспект. На Невском, но в доме Наппельбаумов, где собиралась поэтическая студия «Звучащая раковина», он впервые услышит стихи Нины, этой девочки с милой расщелинкой в верхних зубах, безумно волновавшей мужчин. Наконец, на Невский они пошли ночью пить кофе в какой-то подвальчик, когда остались наедине.
В тот зимний вечер он подкараулил ее, когда она, в платке и валенках, летела домой после занятий в Институте живого слова. Она с родителями жила уже на Кирочной, в своей последней петроградской квартире (С.-Петербург, ул. Кирочная, 17). И вдруг, перебежав Исаакиевскую площадь, на углу у «Астории» – крик с той стороны улицы: «Осторожно. Здесь скользко…» «Из метели, – вспомнит она, – появляется фигура в остроконечной котиковой шапке и длинной, чуть не до пят, шубе. “Я вас… поджидаю, замерз, – говорит Ходасевич, – пойдемте греться. Не страшно бегать в такой темноте?..”» И она пошла с ним – высоким и легким и, несмотря на шубу, изящным. Пошла пить кофе в какой-то «низок» на Невском. Так запомнит встречу она. Он напишет иначе. Он действительно поджидал ее. Но на углу у «Астории» она на бегу запуталась в какой-то проволоке, и он стал ее распутывать. Кусок же проволоки – фаталист! – незаметно оторвал на память, а потом сделал из него браслет для нее. Красивый – она носила его даже в Берлине.
Наконец, после встречи нового, 1922 года, она, опять же по Невскому, впервые пойдет к нему, к его окну. Запомнит, как, цепляясь друг за друга, шли они в час ночи по скользкому, пьяному проспекту и из каждого кабака неслась модная тогда песенка: «Мама, мама, что мы будем делать, // Когда настанут зимни холода? // У тебя нет теплого платочка-точка, // У меня нет зимнего пальта!..» Запомнит, ибо в ту ночь и останется у него. «Мы… просидели до утра у его окна, глядя на Невский, – напишет в мемуарах. – Нам отчетливо стала видна даль, с вышкой вокзала, а сам Невский был пуст и чист… Какая-то глубокая серьезность этой ночи переделала меня… Мной были сказаны слова, каких я никогда никому не говорила, и мне были сказаны слова, никогда не слышанные…» А у него тогда и появятся две последние задачи в жизни: «Уцелеть и быть вместе». Или наоборот: «Быть вместе и уцелеть…»
А Нюта? А Нюта, как зомби, как самые преданные женщины, всё еще верила ему. «Она очень мила, но чертовски психологична», – напишет он ей в письме о Берберовой, когда был уже по уши влюблен. После встречи Нового года, когда двадцатилетняя Нина просто «одурела от счастья», да и он, кажется, тоже, упрекнет как раз жену. «Ты живешь, веселясь, – обвинит ее, когда она на короткое время уедет в Москву. – Я, брат Мышь, звал тебя на дорожку легкую, светлую. Теперь хожу один, и нет у меня никого, ради кого стоит ходить по легким дорожкам…» Врал, конечно. То вдруг начнет защищать Нину в письме: «На Нину не фыркай. Впрочем, боюсь… ты уже нафыркалась», то горячо признаваться Нюте в любви: «Маленький мой человечек, я очень люблю тебя навсегда, хоть ты и ничтожное существо. Пойми, родной, что вся моя боль, вся жалость, всё доброе… навсегда к тебе. Другим – мои стихи, разговоры, – а тебе – просто я…» Пока не напишет как-то уж косо: «Лучше было бы и для тебя, и для меня – разъехаться… Мы оба сделали друг другу много добра и много зла. Но если и впредь останемся вместе, – будем делать одно только зло. Так нельзя… Не плачь, не злобься…» Позже вообще напишет нечто витиеватое про «кастрюлю»; это когда будет уезжать от нее за границу.
«Он был человек трагичный, безуютный, неприкаянный», – скажет о нем еще мальчишка тогда Коля Чуковский, сын писателя, который дружил с Ниной. Это с ним, с Колей, Нина без конца бродила по опустевшему городу и читала ему стихи. Они так бредили ими, что когда она однажды забежала с ним домой, чтобы переодеться, то так увлеклась разговором, что прямо при нем разделась до белья. Мать, случайно вошедшая в комнату, ахнула: «Нина! При молодом человеке!..» – «Какой он молодой человек? – отмахнулась она. – Он поэт». А Коля не без ревности напишет потом о Ходасевиче: он, оказывается, был на голову ниже Нины, старше вдвое, характер у него был капризный, чванливый и вздорный. А кроме того: он был отчаянный трус и самым жалким, самым стыдным образом боялся своей жены… То есть – Нюты.
Нет, трусом поэт не был – он был человеком с обугленной уже душой. Трус, твердит мальчик, и приводит пример: когда лопнула покрышка у пролетевшего мимо автомобиля, Ходасевич ринулся в ближайший подъезд: «Стреляют?!» Ну что тут скажешь? Не напоминать же, что лермонтовский Печорин тоже вздрагивал от хлопнувшей ставни, а ведь не только на кабана ходил один, но и под пулями стоял не дрогнув. Так и Ходасевич. С одной стороны, плакал, и каялся, и просил прощения у своей «мышки» за Берберову, а с другой – в те же дни, в годовщину смерти Пушкина, мог наравне с Блоком так выступить на официальном собрании в Доме литераторов (С.-Петербург, ул. Некрасова, 11), что все от страха за него сползли под кресла. Он ведь громко заявил в тот день о «надвигающемся мраке» большевиков и о том, что им в этом мраке – не выжить. Восстание, бунт духа! Та же Шагинян и через шестьдесят лет припомнит ему в мемуарах: его речь была принята с восторгом «потому, что зажгла консервативную питерскую аудиторию…» А «наш Коля», редкий, кстати, приспособленец-писатель, с которым даже родная сестра разорвет отношения, на подобные подвиги и в будущем способен не был.
Ходасевич был раздвоен – это да! Метался между женщинами, высмеивал их и тут же возвышал. То был слаб, то дерзок, то злился, что не может сказать правды, то – что сказал ее. Как было жить с таким? Но и Нюта, и Нина любили, да так, что обе, не сговариваясь, ужасались: он устает даже от ношения пайков, а ведь паёчки эти, видит Бог, легче перышек…
«Вернусь четверг или пятницу» – телеграфировал он жене, когда уехал с Ниной в Москву. Может, и верил, что вернется, хотя заграничные паспорта были у них уже на руках. У него под номером 16, у нее – 17. Только в графе «причина поездки» у него было вписано: «для поправления здоровья», а у Нины – «для пополнения образования». Но Чулкова, не зная этого, получив телеграмму, два дня простояла у окна на четвертом этаже, надеясь первой увидеть Владю едущим с вокзала. «В пятницу за этим занятием меня, – напишет, – застала Надя Павлович и сказала: “Напрасно ждешь, он не приедет”. Я показала телеграмму, но она упорно повторила: “Он не приедет”…»
Через два дня Нюта получила письмо, написанное мужем уже с литовской границы. «Моя вина перед тобой так велика, что я не смею даже просить прощения». И, кажется, в том письме и напишет, помните, про кастрюлю: «У всех нас, – напишет, – внутри варится суп, и чем сильнее кипит и бурлит, тем лучше… Наша забота – чтобы кастрюля не лопалась раньше, чем суп готов. Ну, и будем беречь ее. Беру с тебя это обещание…» Глупее и не скажешь брошенной женщине! Уезжал к сытой и, главное, свободной жизни, показывал, образно говоря, «нос» уже большевикам, а любимой, как когда-то небо над головой, завещал беречь… «кастрюлю». Тоже, конечно, метафора. Но метафора, от которой, думаю, любая зайдется в рыданиях. Нет, он будет писать Нюте, опять звать ее «человечком», одобрять, что она «растет над собой», посылать по десять, по пятнадцать долларов (тогда это были большие суммы), но кончится всё тем, что через пару лет, уже в Париже, вдруг попросит денег у нее – ну хоть немного. «Третьего дня, – напишет, – я остался без обеда…» Так закончится эта любовь. Но закончится и любовь с Берберовой. Он, верящий в судьбу, в знаки, может, впервые поймет это через пару лет, еще в Германии. Когда на Балтике Нина потеряет его браслет. Тот еще – из проволоки. Кинется молодо купаться в холодное море – и потеряет. Для верящего в предвестия – плохой знак.
Распятие поэта
«А не открыть ли газик?» – скажет он Берберовой в то утро, когда она будет уходить от него. Она боялась, что он убьет себя, но все-таки – ушла. Ушла «по правилам». Честно сказала, что уходит «ни к кому», наварила борща на три дня, перештопала носки. И всё в их цыганском быту оставила ему. Мебель, лампу, чайник, даже вышитого петуха на чайник, даже литографию дома на Невском, «сумасшедшего корабля», которую купила как-то у букинистов. Выйдя из дома, обернулась уже на улице и нашла его окно на четвертом опять этаже. Поэт, в полосатой пижаме, стоял в нем во весь рост, и руки, опиравшиеся на оконную раму, показались ей распятием. Был апрель 1932 года. Ровно десять лет назад, в апреле 1922 года, он и сказал ей те слова: «Уцелеть и быть вместе». Увы! Набоков, преклонявшийся перед ним, который не раз принимал его у себя (Париж, ул. Сайгон, 8), словно зная об окне, напишет: Ходасевич спасен для России уже тем, что занимает особое положение – «счастливое одиночество недоступной другим высоты»… Поэт проживет еще семь лет, но раздавленным, униженным и в прямом смысле слова – распятым. Эмиграции не примет, да и она его – если честно.
Первый адрес, первая снятая Ходасевичем и Берберовой квартира на бульваре Распай тоже была на четвертом этаже (Париж, бул. Распай, 207), комната с крохотной кухней, пишет Нина, «почти наискось от “Ротонды”». Вот в «Ротонде» (Париж, бул. Монпарнас, 105), да еще в двух десятках любимых кафе они и будут проводить то вместе, то врозь оставшуюся жизнь. Потом будет какой-то временный «Притти-отель», ныне гостиница «Сады Эйфеля» (Париж, ул. Амели, 8), где, кстати, жила уже тоже эмигрантка, прелестная Олечка Глебова-Судейкина, подруга Ахматовой, и где Нина училась по вечерам низать бусы для продажи; потом – новая комната (Париж, ул. Ламбларди, 14), где оба получили нансеновские паспорта, то есть стали апатридами – людьми без родины. Грустно, читатель, ходить по их адресам. Искать улицу «Четырех дымоходов» в предместье Парижа, куда перебрались в 1928-м (Париж, ул. Катр-Шемине, 10 бис), а потом – и последнюю квартиру Ходасевича, откуда в 1932-м и ушла Нина (Париж, ав. Виктора Гюго, 46). И откуда – скажу уж сразу – 16 июня 1939-го Ходасевича повезут отпевать в Пресвятую Троицу – русскую католическую церковь (Париж, ул. Франсуа Жерара, 39).
Жили в Париже на гроши, всегда – на гроши. Радовались, что купили третью вилку и теперь можно принимать хотя бы одного гостя, а когда кто-нибудь приходил, Нина бежала в булочную, покупала два пирожка и резала их пополам. Никто, конечно, не притрагивался к ним: бедность любому заметна.
Из книги Нины Берберовой «Курсив мой»: «Мы купили два дивана, то есть два матраса на ножках, хотя к ним полагалось купить и надматрасники, но эти надматрасники были куплены только через три года… У меня было два платья (с чужого плеча)… В маленькой кухне я стирала и развешивала наши четыре простыни. Смены постельного белья не было… Но есть уже утюг, есть два стула, сковородка и метла… Я не могу пойти учиться – на это прежде всего нет денег. Я думаю, что… мне надо… стать линотиписткой, наборщицей… но я не могу бросить его одного в квартире. Он встает поздно, если вообще встает, иногда к полудню, иногда к часу. Днем он читает, пишет, иногда… ездит в редакцию… Возвращается униженный… Часто ночью он вдруг будит меня: давай кофе пить, давай чай пить, давай разговаривать. Я клюю носом… В самые лучшие наши годы, то есть в годы, когда Ходасевич регулярно работал в “Возрождении”, а я – в “Последних новостях”, у нас было около 40 франков в день на двоих… Новая пломба в больном зубе, теплое пальто, два билета на “Весну священную” оставляли провал в домашней арифметике, который ничем нельзя было прикрыть, кроме разве что хождением пешком по городу неделями…»
Спасал бридж, карты. Своими изуродованными экземой пальчиками, «сухими, тоненькими, зеленоватыми – червячками», он, взяв единственную чашку кофе на весь вечер, проворно перебирал карты в любимых кафе и ресторанах. Не знаю, перечислять ли их все, но если учитывать, что в них посиживала и вся русская эмиграция, от Бунина до Бориса Поплавского, пройдитесь по ним – при случае. Начните с Монпарнаса, с «Селекта», ныне перестроенного (бул. Монпарнас, 99), загляните в «Клозери де Лила» там же (бул. Монпарнас, 171), в «Дом» (бул. Монпарнас, 108). Поклонитесь домам, где располагались русские ресторанчики и кафешки «Петроград» (ул. Дарю, 13), «Московские колокола» (ул. Колизе, 27), «Крымский домик» (бул. Распай, 131), «Джигит» (ул. Эдгара Кине, 19), ресторан «Доминик», открытый тогда нашим соотечественником, театральным, кстати, критиком Аронзоном (ул. Бреа, 19). Не пожалейте пяти франков на кофе в знаменитых и ныне кафе «Дё Маго», где сидели когда-то Рембо, Верлен и Аполлинер (пл. Сен-Жермен-де-Пре, 6), в «Версале» (пл. Рене, 3), «Флоре» (бул. Сен-Жермен, 170), «Прадо» (ав. Ваграм, 41), «Самаритене» (наб. Лувр, 14), в кафе «Ага» (ул. де ла Помп, 27) и «Терминас» (бул. Республики, 8). Посидите в ресторанчиках «Фукет» (ав. Шан-з-Элизе, 97), где Ходасевич, возможно, видел Джеймса Джойса (это был любимый ресторан великого ирландца), и – в «Жокее» (ул. Пуссена, 26), в том доме, где, кстати, жил русский поэт Владимир Вейдле, может, самый частый спутник Ходасевича в шатаниях по злачным местам. Наконец, загляните в кафе «Колибри» (пл. Мадлен, 8), где Ходасевич встречался с Берберовой после развода, и в наилюбимейшее кафе поэта «Мюрат» (ул. д’Отейль, 83), где стояли карточные столы, за которыми можно было увидеть Бунина, Осоргина, Алданова, даже Набокова и где Ходасевич назначал свидания своей уже последней жене Ольге Марголиной. Кстати, Марголина и жила в то время на бульваре Мюрата (бул. Мюрат, 219), да еще в гостинице «Мюрат».
Ходасевич, если одним словом, и в Париже оказался бесприютным. Сначала дружил и бывал у Зайцева и Осоргина, но не бывал у Буниных и Мережковских, с которыми отношения были натянутыми, но потом, напротив, рассорился с Осоргиными, друзьями еще по Москве, и сошелся и с Буниными, и с Мережковскими. Сначала намеревался писать в русской газете «Последние новости» (Париж, пл. Дворца Бурбонов, 5), а потом, поругавшись с Милюковым, редактором (что было опасно, если знать, что Милюков, бывший министр и депутат, возглавлял парижский Союз русских писателей), стал присяжно служить в газете «Возрождение» (Париж, ул. Сез, 2). А если учесть честность его, то и здесь не всякая заметка его шла, а если шла – то сопровождалась далеко звеневшим эхом. Скажем, когда в романе Эренбурга «Рвач» он обнаружил, что самый отвратительный герой книги носит фамилию «Гумилов», а в одном месте, как бы нарочно, даже «Гумилёв», то в рецензии, конечно же, вступился за поэта, назвал Эренбурга провокатором и сравнил с пушкинским «полумилордом» Воронцовым. Вообразите, за Эренбурга вступятся даже за тысячу километров, в Советской России. Ленинградский журнал «Жизнь искусства» пригвоздит Ходасевича: он, дескать, «навсегда стал непременным черносотенцем и глашатаем самодержавия… Ведь Гумилев тоже был белогвардейцем! Бедный Эренбург!..» И закончат заметку: «Ходасевич решил никогда не вступать на территорию СССР. Тем и лучше. В нашей стране нет места подобным… негодяям…»
Нина, в отличие от него, оказалась приспособленней. В тех же «Последних новостях» не только удержалась – стала заметна. Я читал где-то, что прадед ее был так ленив, что якобы с него Гончаров и писал Обломова. Но правнучка выросла и шустрой, и ухватистой. Потом признается: она «любила победителей больше, чем побежденных». «Он боится мира, а я не боюсь, – напишет Нина о Ходасевиче через годы. – Он боится будущего, а я к нему рвусь… Он боится нищеты… боится грозы, толпы, пожара, землетрясения… Страх его постепенно переходит в часы ужаса… Все мелочи вдруг начинают приобретать космическое значение… Залихватский мотив в радиоприемнике среди ночи, запущенный кем-то назло соседям, или запах жареной рыбы, несущийся со двора, приводит его в отчаяние, которому нет ни меры, ни конца… Он уходит… «пить чай у знакомых» или играть в карты в кафе… Он всё беззащитнее среди «волчьей жизни»…» Да и любила ли она его по-прежнему – ведь измен было море! Она даже сама рассказывала о них: и о романе с художником Милиотти, «пошлым Дон-Жуаном», и о поэте Довиде Кнуте, откровенная связь с которым длилась чуть ли не семь лет. И не был ли Ходасевич для нее уже не просто обузой – «средством передвижения», учителем, вообще – покровителем, эдаким Пигмалионом?
Уйдя от поэта, поселилась в каком-то отеле на бульваре Ла Тур-Мобор (Париж, бул. Ла Тур-Мобор, 52), потом – на улице Клод Лоррен (Париж, ул. Клод Лоррен, 2), где сошлась с новым мужем Николаем Макеевым, художником и журналистом. Но Ходасевич не зря звал ее «котом» – не «кошкой», ибо в любовных отношениях (чего уж скрывать?) оказалась бисексуалкой. Она и сама не молчала об этом. И от второго мужа ушла, победив его в соперничестве… за его новую секретаршу-красавицу. Та стала то ли «мужем», то ли «женой» Нины. Не такой уж и грех по нашим толерантным временам. Хуже, что всех превзошла в злости. Бунин, и тот напишет: «В «Новом русском слове» // слышен ведьмин вой, // упаси нас Боже // от Берберовой». Да, это – факт: сегодня на книжном базаре она известнее Ходасевича. Но мы всё больше узнаем о ней такого, что из памяти не вычеркнешь. «Во время оккупации Франции Берберова осталась в Париже, – пишет Роман Гуль, – и написала стихотворение о Гитлере, в котором сравнивала его с шекспировскими героями. К сожалению, оно до сих пор не опубликовано, а жаль, ибо – тематически – оказалось бы единственным в русской литературе…» Звала друзей сотрудничать с оккупантами, про немцев говорила, что при них «наконец-то свободно дышится». Иван Толстой, выпустивший только что книгу «Отмытый роман Пастернака», пишет и доказывает, что Нина после войны, уже профессор в США, была «одной из креатур ЦРУ». А когда в 1989-м она посетит СССР, где мы, только что прочитавшие «Курсив», едва на руках не носили ее, то, вернувшись в США, на вопрос Бродского, ну как-де поездка, ответит: «Я смотрела на эту толпу и думала: пулеметов бы сюда!..» Каково! Бродский, на что уж не поклонник оставленной России, и тот не выдержит: «Нина Николаевна, нельзя же так!» «Что нельзя?» – нахмурится та. «Ну, нельзя так, не по-христиански…» «Я этих разговоров не понимаю», – скажет Берберова и отвернется от него… Чистая, выпаренная, отстоянная ненависть! За что – Бог весть!..
Ничего этого Ходасевич не узнает. Он умрет за месяц до вступления немцев в Париж. Рядом будет последняя жена его – Ольга Марголина, от которой через два года тоже останется пепел: ее, еврейку, арестуют и сожгут в концлагере как раз те, кого Нина восхваляла за «орднунг» – за порядок…
«Смерти нет, — убеждал поэт когда-то «мышку» Чулкову. – Есть одни перерывы в жизни…» Ничего не ждало его впереди, разве что – тоже пепел. Пепел дома, родины, забвения на полвека. Какие там предвидения? В последний час, умирая от рака печени, он, уже не зеленый даже – коричневый от боли, весивший 49 кг, с седыми космами, с двухнедельной щетиной (зубов уже и не вставлял), дождавшись, когда жена его вышла на минуту, скажет Нине, заливаясь слезами: «Быть где-то и ничего не знать о тебе!.. Только тебя люблю. Всё время о тебе, днем и ночью. Ты же знаешь. Как я буду без тебя? Где я буду? Ну, всё равно. Теперь прощай…» Так пишет в «Курсиве» она. Верить ли? Не знаю. Ее по сей день ловят на натяжках, передержках и просто обманах в ее книге. Возможно, и были сказаны Ходасевичем все эти слова перед кончиной. Но свидетелей этому нет – вот ведь в чем дело…
Не знаю, останется ли в истории русской литературы Нина (в 1980-х годах, после выхода ее повести «Аккомпаниаторша», ее именем назвали одну из площадей в Арле, городке на юге Франции), но Ходасевич, кого уже при жизни звали классиком, останется наверняка. И первым в ряду его защитников я бы поставил нещедрого вообще-то на похвалу Набокова. «Литературным потомком Пушкина по тютчевской линии» назвал он Ходасевича и добавил: «Он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней…»
Всё неслучайно в жизни поэтов. Через три года кладбище, где зарыли Ходасевича, вдрызг разбомбят англичане. Вывороченная земля, ни одной целой могилы: зияющие дыры, треснувшие памятники, ангелы с отбитыми крыльями. Нетронутой окажется лишь его могила. Тридцать порушенных надгробий, и среди них одно целое – его крест. Тоже распятие. Распятие – над гибелью. Так и должно было быть, ибо поэзия и поэты – бессмертны… Только отчего вот, читая стихи его, всё время кажется, что на зубах скрипит пепел, горький пепел великой потери?..
«Неутоленный стон», или Тайна вождя и Ахматовой
Но я предупреждаю вас, Что я живу в последний раз. Ни ласточкой, ни кленом, Ни тростником и ни звездой, Ни родниковою водой, Ни колокольным звоном — Не буду я людей смущать И сны чужие навещать Неутоленным стоном. Анна АхматоваАхматова Анна Андреевна (1889–1966) – великий русский поэт. До большевистского переворота – самый читаемый поэт в России. После Октября власть не печатала ее в общей сложности двадцать пять лет. Первый муж Ахматовой расстрелян, последний – умер в лагере. А сына, известного ученого Льва Гумилева, власть арестовывала четыре раза.
Как-то вечером друг дома Ахматовой Павел Лукницкий вдруг рассмеялся: «Я написал роман, который никто не будет читать…» Сидевший тут же сын Ахматовой Лев Гумилев, не желая отставать, вставил: он тоже написал рассказ, который не станут читать. Даже муж Ахматовой Пунин, и тот, будто продолжая внезапную игру, сказал: он также написал статью, которую, увы, никто читать не будет. Тут рассмеялись все. Но когда улыбки погасли, когда упала тишина, из темного угла раздался голос Ахматовой: «А меня, – наперекор сказала она, – будут читать…»
Поэту ничего нельзя дать и ничего отнять – проронила однажды. Согласен: дать, может, и нельзя – гений дает Бог. А вот отнять? Не знаю. Столетие режим доказывал обратное. Отнять у человека можно всё: свободу, незаемное слово, ребенка, мужа, дом. Всё это еще ждало ее. Не ведала лишь она, звавшая себя когда-то «ведьмушкой», какая беда придет первой, что вырвет из ее груди самый долгий стон. Но опять же – наперекор! – продолжала жить так, словно у нее и впрямь никто и, главное, ничего отнять не может…
«У меня ведь даже фамилии нет…»
Где она была в ту осеннюю ночь, неизвестно. Воспоминания расходятся. Одни пишут, что у Булгакова, другие – у Мандельштама, третьи – у Ардовых. Все жили в кооперативном доме писателей, в Нащокинском. Дома того тоже нет, словно сама история попрятала концы в воду. Короче, про самую страшную ночь Ахматовой неизвестно ничего. Известно лишь, что наутро, в тот последний день октября 1935 года, из Нащокинского ее просто за руку вывела на Кропоткинскую Эмма Герштейн, знакомая ее. Вывела как сумасшедшую, как помешанную. В синем плаще, перекрученных чулках, в каком-то фетровом колпачке, из-под которого выбивались пряди волос, она выглядела старухой. «Ничего не замечала, – пишет Герштейн. – Боялась перейти улицу, ставила ногу на мостовую и пятилась назад. Я ее тянула…»
Взяли такси. Шофер, рванув с места, спросил: куда ехать? Ответом было молчание. «Куда ехать?» – почти крикнул он. Только тогда, пишет Герштейн, Ахматова очнулась: «К Сейфуллиной, конечно». – «Где она живет?» – прорычал уже шофер. И тогда Эмма впервые услышала крик ее, почти взвизг: «Неужели вы не знаете, где живет Сейфуллина?» Потом всю дорогу что-то бормотала; до Эммы долетало лишь: «Коля… Коля… Кровь!..» Эмма была уверена: она лишилась рассудка. И было от чего. Эмма знала: она везла письмо. «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович… В Ленинграде арестованы НКВД мой муж Николай Пунин (профессор Академии художеств) и мой сын Лев Гумилев (студент ЛГУ)… Не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное слово, что они не фашисты, не шпионы…»
Письмо везла Лидии Сейфуллиной, популярной писательнице (Москва, Камергерский пер., 2). Говорили, она имела «ходы» в Кремль. Та действительно позвонила в ЦК и даже в НКВД. Из Кремля ответили: пусть Ахматова принесет письмо в Кутафью башню, и помощник Сталина сам передаст его вождю. Дальше воспоминания вновь расходятся. Одни пишут, что письмо отнес Пильняк. Жена Булгакова утверждала, что с Ахматовой в Кремль поехали они. А жена Пастернака настаивала: именно ее муж отдал письмо в «кремлевскую будку». Три версии! Но все они – невероятно! – кажется, имели место. Пастернак и впрямь отвез письмо вождю, но свое, в защиту Ахматовой: «С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования…» Булгаковы действительно посоветовали ей переписать письмо от руки, это казалось верней, и тем вечером были с ней. Наконец, у Пильняка, друга ее, она действительно оказалась в конце концов и уже оттуда позвонила Эмме Герштейн, что оба, и муж ее, и сын, свободны. Дома! Их почти вытолкали из тюрьмы (С.-Петербург, ул. Шпалерная, 2) глубокой ночью. Ныне известна и резолюция Сталина на письме: «Освободить из-под ареста и сообщить об исполнении», и ответ – 3 ноября письмо направлено в НКВД Ягоде и 3-го же, но в 22:00 арестованные выпущены… Освобождение узников праздновали у того же Пильняка, в доме, которого тоже нет ныне (С.-Петербург, ул. Правды, 1а, уч. 21). Стол под хрустящей скатертью, серебро, зеленое стекло, какой-то важный чин из обкома партии, какой-то военный, про кого Ахматова шепнула Эмме: «С тремя ромбами!..» Пильняк, вечно влюбленный в нее, заводит патефон и под громовой туш кричит: «Анна Ахматова!» Еще недавно, когда его клеймили «белогвардейцем» и «классовым врагом», именно она да Замятин вышли в знак протеста из Союза писателей. Теперь Пильняк опять победитель, опять водится с партийцами и чекистами и не знает, что через три года они и расстреляют его. Да, история хорошо прячет концы. Ведь и Ахматова так и не узнает при жизни, что в 1935-м вместе с сыном и мужем арестовать должны были и ее. Пунин успеет на первых же допросах «завалить» ее: «Ахматова полностью разделяла мою точку зрения на необходимость устранения Сталина. В беседах высказывала антисоветскую точку зрения…» Но санкцию не дала Москва. Та Москва, про которую тем безумным утром она, безумная, написала стих, одну строфу всего: «За ландышевый май в моей Москве кровавой отдам я звездных стай сияния и славы…» Назвала столицу «своей», но – «кровавой». Чуяла, откуда придут главные беды. И, знаете, кстати, где сочинила эту строфу? В том такси, когда шептала: «Коля… Кровь». Да, стихи всегда приходят, как катастрофа! И катастрофа – сами стихи. Других у нее, кажется, и не было…
Если прочитать жизнь Ахматовой «до буквы», выяснится: у приморской девчонки было две мечты. Высказанные. Ни одна не исполнилась. Хотела написать песню, которую пели бы в строю солдаты. В этом видела истинную славу. А второй мечтой было тайное желание, чтобы кто-нибудь из мужей (а их у нее было трое) повесил бы у себя над столом хоть какой, но – ее портрет. Ни один не повесил. А ведь художники рисовали ее более двухсот раз. И какие! Модильяни, Судейкин, Альтман, Серебрякова, Петров-Водкин, Верейский, Тышлер, Фаворский, Сарьян. Но в Москве впервые стала жить как раз такой, какой ее изобразил тушью Анненков, друг. Помните, где она с гребнем? Портрет этот, со слов Замятина, звали потом «поминальным», ибо сделан он был в день, когда она в двух служебных комнатках своих на Сергиевской (С.-Петербург, ул. Чайковского, 7) в последний раз видела Гумилева; его расстреляют через пятьдесят дней. Но в Москве, в Зачатьевском, поселилась впервые именно такой, какой ее изобразил Анненков и описал портрет Замятин: «Тяжелые тени по лицу… Траур волос, черные четки на гребнях…»
Деревянный домик в Зачатьевском и ныне полон тайн (Москва, Зачатьевский 3-й пер., 3). Сама жизнь его тайна. Век выстоял в центре Москвы! В нем жил когда-то Шаляпин, бывали Горький, Куприн, Ермолова, Коровин, а позднее в служебной квартире своего второго мужа Вольдемара Шилейко еще с 1918-го два года подряд останавливалась Ахматова. Они только что поженились тогда. Но вот вопрос: отчего вместо «свадебных песен» она про Зачатьевский вдруг написала: «Переулочек, переул… Горло петелькой затянул…» И добавила про клен напротив, который только и слышал здесь «долгий стон». Ее стон. Нет того клена ныне. И лишь в стихах жив «стон», в какой почти сразу превратилась ее жизнь с Шилейко.
Он был страшно, гомерически ревнив. Был ассириологом, знатоком клинописей. Знал, говорят, пятьдесят два языка. Однажды напророчил: «Когда вам пришлют горностаевую мантию из Оксфорда, помяните меня в своих молитвах!» Гений! Но когда Ахматова, живя у своей подруги Вали Срезневской (С.-Петербург, Боткинская ул., 9), попросила у Гумилева развод, чтобы стать женой Шилейко, тот, узнав, за кого она выходит, крикнул: «Я плохой муж. Но Шилейко катастрофа, а не муж…» Не поверила. Пока здесь, в Зачатьевском, не увидела, как Шилейко жжет рукопись «Подорожника», книги ее. Самовар растапливал. Так затягивалась та «петелька». А ведь скоро Шилейко и просто предаст ее…
Ахматовская Москва – это город в городе. С Зачатьевского в 1918-м начались «наезды» в столицу бездомной «королевы-бродяги». Жила в комнате Шилейко, потом на Кропоткинской набережной (Москва, Пречистенская наб., 5), дом не сохранился, потом – в гостинице «Эрмитаж» на Трубной (Москва, ул. Неглинная, 29/14). А в Зачатьевском «жила» (можно ведь и так сказать!) в том единственном синем платье, в каком была на портрете Анненкова. «Круглый год в одном платье, – напишет, – в кое-как заштопанных чулках…» Может, в нем ходила с Пуниным, искусствоведом, будущим третьим мужем, и в Третьяковку, когда он, подведя ее к «Боярыне Морозовой», шепнет: вот так и «вас повезут на казнь». Она ответит ему потом стихами, помните: «А после на дровнях, в сумерки, // В навозном снегу тонуть. // Какой сумасшедший Суриков // Мой последний напишет путь…» Пунин, правда, там же, в музее, добавит: «Вас придерживают под самый конец». Но, увы! Еще в 1922-м Маяковский крикнет на вечере, что стихи ее «для нашей эпохи – жалкие и смешные анахронизмы». А друг его Ося Брик тут же поставит «вопрос» на голосование: запретить Ахматовой писать стихи на три года – «пока не исправится». И ведь проголосуют. Опередят власть, которая лишь в 1924-м прекратит ее печатать. Тоже запретит, но уже не на три – на долгих шестнадцать лет!..
Москва, став столицей, будет любить ее всё меньше и меньше, а москвичи – всё больше. Тот же Пильняк семь лет делал ей предложения и – совсем уж настойчиво, когда однажды повез ее из Ленинграда в Москву на купленном в Америке автомобиле. Устояла. Но тогда же, в первые ее приезды в Москву, в нее влюбится и Пастернак. Это случится опять же в служебной комнатке Шилейко, во 2-м Музее нового западного искусства, там, где ныне Академия художеств, во флигеле, который окнами выходит в Мансуровский (Москва, ул. Пречистенка, 21) и куда в 1926 году нанес ей визит гремевший уже Пастернак. Зашел, застыл от «мраморной красоты» и три дня подряд спешил в эту комнатку за «белой дверью», чтобы признаться в письме приятелю потом, что она человек «вне всякого описанья… вполне своя, наша, блистающий глаз нашего поколения…» И чтобы трижды (!) звать ее замуж. Не любил ее в те 1920-е только Шилейко. У него в Москве и именно с москвичкой вспыхнет новый роман. С Верой Андреевой, которая станет его женой. Теперь уже ее, искусствоведа, свое «высокое солнце», «графинюшку», «милого сфинкса», он будет скопчески просить носить юбки подлиннее, не красить губы и, уловив ее ответную ревность, уверять: «Если ты полагаешь, что я никогда больше не должен видеть Ахматовой, – напиши…» А ведь Ахматова примерно в те же дни, не живя уже с ним, просила, конфузясь, Чуковского найти профессору Шилейко хоть какие штаны. «Его брюки порвались, он простудился, лежит». Нашла, разумеется, и штаны, и пальто с воротником, и шарф с пиджаком…
Развели их тоже в Москве, судья Кремнева в Хамовническом суде (Москва, ул. Пречистенка, 35). Случилось это тоже в 1926-м. «Сегодня развод, – сказала Ахматова… – Какое слово мне теперь впишут в паспорт? У меня ведь даже фамилии нет – этого, кажется, и у преступников не отнимают…» Да, восемь лет она была Анной Шилейко. И лишь после развода стала по паспорту не Горенко, как в девичестве, не Гумилевой – Ахматовой. Как заново родилась! Еще потому заново, что Шилейко, который будет и впредь звать ее в письмах «моя лебедь», тем не менее, когда студенты спросят его однажды: «Как вы могли бросить Ахматову?» – скажет, как отмахнется: «Я нашел лучше…» Узнала ли она про это – про первый приговор себе?
«Выхухоль» и… «тыдра»
Об Ахматовой «надо писать всё или ничего, а то получается фальшь», – скажет ее подруга Фаина Раневская. Но как напишешь всё, если жизнь «первосвященницы поэзии» толком не прочитана еще, если в ней тайна на тайне. Одна москвичка как-то скажет, что хорошо представляет ее в Англии, где есть и замки, и фамильные тайны. Ахматова усмехнется: «У меня есть тайны пострашнее английских…» Это, кажется, так. Знаете ли вы, что прадед ее, бессменный ординарец Суворова, а позже глава уездного суда, был, по преданию, колдуном? Ворожил! А дед – жандармским офицером, хваленным самим Бенкендорфом; об этом она молчала всю жизнь! Что легенду о предке Ахмате, последнем татарском хане на Руси, она придумала сама? Не ее был предок. Зато, кажется, была в дальнем родстве с Денисом Давыдовым и – точно – с первой русской поэтессой Анной Буниной. Что писала в стихах, будто чуяла воду (ее всегда звали, когда рыли колодцы), страдала лунатизмом в детстве, не признавала часов и, несмотря на то что в гимназии ей как-то поставили двойку по стихосложению, в пятнадцать лет вдруг сказала матери у домика под Одессой, где родилась, что когда-нибудь здесь повесят доску. Ошиблась: не доску – памятник поставили! Сорванец, кудлатая приморская девчонка в платье на голое тело, она «лазала как кошка, плавала как рыба» и однажды, уйдя с мальчишками на лодке за горизонт и поругавшись с ними, просто шагнула через борт. «Никто даже не обернулся», – вспоминала, все были уверены – доплывет. Годы спустя не раз будет так же шагать в грозную бездну, и на нее не обернется сначала весь Союз писателей, а затем и весь Советский Союз. Такая вот женщина! Но в любви, по словам ближайшей подруги (это тоже сродни тайне!), кажется, никогда не знала счастья…
Ахматова, не в пример Шилейко, мужей своих не сравнивала. Но писала: «В молодости была трудной – нетерпеливой, не знала удержу, спешила жить и ни с чем не считалась». Не считалась прежде всего с мужчинами и сама порой делала первый шаг. Потом скажет: в Петербурге ее поразил сначала не успех книг ее – женский успех. Кокетливо ввернет: «В мою околоключичную ямку вливали полный бокал шампанского…» Этому, помня портрет ее Альтмана, веришь, ключицы позволяли, но кто вливал, когда? И как же сумасшедше кружила головы? Понятно, почему Гумилев пять раз делал предложение и дважды пытался покончить с собой из-за нее, почему Артур Лурье, композитор, бросил семью, а Пунин поменял даже убеждения: левые – на правые. Из-за этого он, по сути, и погибнет – умрет в сталинском лагере.
Гумилева она, кажется, не любила. Признавалась, что брак с ним стал «началом конца». Конечно, с ним связано ее материнство, первый сборник стихов, слава, но любовь – кто же знает про это? Было соперничество, это – да! Когда она нашла в гумилевском пиджаке записку от женщины, сказала: «А всё же я пишу стихи лучше!..» Эти слова были ему куда обидней упреков. Не так было с Пуниным. Поразительно, но еще до встречи с Ахматовой его и Гумилева развела революция. Комиссар Русского музея, зам самого Луначарского, Пунин, по словам последнего, плодотворно работал с Советами, «навлекая ненависть буржуазных художественных кругов». В 1918-м заклеймит Гумилева – мэтра этих самых «кругов» – «гидрой реакции», вновь подымающей «битую голову». Каково? Неведомо, знала ли Ахматова про эту статью – политикой она не интересовалась, но подтверждено: ровно через год после расстрела Гумилева первая написала Пунину и пригласила с собой в один дом. К «поэткам» Иде и Фриде Наппельбаум, где должна была читать стихи. Пунин чуть с ума не сошел: «Чтоб звать меня?» Красного искусствоведа, идейного врага Гумилева! Но – так начался роман его с Ахматовой. Так рухнула его карьера члена Петросовета, кандидата в члены РКП(б). И началась жизнь, трудная, с уходами, со слезами примирений и новыми разрывами. Но кончится она, как ни грустно это, тем, что и он предаст ее. И политически, на допросах, о чем я уже написал, и – что хуже! – человечески.
Из воспоминаний Фаины Раневской: «Мы вдруг заговорили о том, что в жизни каждой из нас было самого страшного. Зная ее жизнь, я замерла. Она рассказывала первой. Вспомнила, как однажды шла в Петербурге по Невскому – народу почему-то было немного – и вдруг увидела идущего ей навстречу Пунина… “У меня была доля секунды, чтобы как-то собраться, вытянуться, выглядеть так, как хотелось бы. Я не успела. Пунин встретился со мной взглядом и, «не узнав», прошел мимо. Вы знаете, Фаина, в моей жизни было много всего. Но именно эта невстреча оставила самое гнетущее чувство…”»
А скоро, говоря вообще о мужчинах, усмехнется: «Низшая раса». Уже через семь лет из шестнадцати, прожитых вместе в Фонтанном доме (С.-Петербург, наб. р. Фонтанки, 34), Пунин едва не орал на нее. Она-де «ничего в доме не делает», и что, если б он знал, «что она так плохо будет выполнять всё», он бы не отпустил прислугу на лето. «Я, – пишет Лукницкий, – увидел и злые его глаза, и напряженный злобный голос. А.А. не ответила ему ни словом, только смотрела на него удивленным, негодующим и презрительным взором…» Впрочем, и Лукницкий, который, как известно ныне, уже был ее любовником, и Пунин скажут почти в унисон: она не умела любить. «Я убежден, что несчастье ее, – напишет в тайном дневнике Лукницкий, – заключается в том, что она никого не любит…» А Пунин и через двадцать лет и тоже в дневнике выведет жестче: «Аня, честно говоря, никогда не любила. Всё какие-то штучки: разлуки, грусти, тоски, обиды, зловредство, изредка демонизм. Она даже не подозревает, что такое любовь…» Напишет как раз тогда, когда она, «обгоняя солнце», летела из Ташкента, из эвакуации, к последней любви, к человеку, кого направо и налево называла уже своим мужем. Ей было пятьдесят пять, но она, как девчонка, радостно сообщала всем: «Я выхожу замуж за профессора медицины Владимира Гаршина». В ташкентской сумочке хранила письмо, где он не просто предлагал руку и сердце – просил принять его фамилию.
Красавец, дворянин, врач, служивший у белых в Крыму, сидевший в ЧК, приговоренный к расстрелу, Гаршин был любимцем женщин. Костюм его, правда, был «хуже, чем у других», на ногах дешевые «свиные ботинки», но женщины влюблялись в него так, что, как сами и говорили, «смотреть было противно». Он, племянник писателя Гаршина, поклонник Ахматовой, сам писавший стихи, любил повторять, что на свете есть четыре идеальные вещи: срезанная роза, хороший микроскоп Цейса, стакан чая с лимоном и рюмка холодной водки. Жил в знаменитом толстовском доме (С.-Петербург, наб. р. Фонтанки, 56), был женат, имел двоих сыновей, но, встретив Ахматову, когда та лежала в больнице, так влюбился, что и после больницы носил ей из столовой бульоны в судках, а чтобы не остывали – прятал в муфту. «Трогательный и милый человек, с такой деликатностью, которая казалась уже тогда музейной редкостью», – отзовется о нем потом дочь Пунина Ирина. Нет, была, была в остатке жизни Ахматовой настоящая весна. «Вы как ощущаете нынешнюю весну?» – спросила она еще в 1938-м свою знакомую Лидию Андриевскую. «Никак», – ответила та. «А я слышу ее, и вижу, и чувствую». Сказала, когда с Гаршиным, попав под проливной дождь, насквозь мокрые, но веселые и детски шаловливые, они ворвались к Андриевской и ее мужу, историку литературы Б.М.Энгельгардту на Кирочную (С.-Петербург, ул. Кирочная, 8). И Гаршину, и Ахматовой было под пятьдесят. Но, переодевшись в чужую кофту и юбку, она вдруг стала молодой и хорошенькой, а он смотрел на нее смеющимся, счастливым взглядом. С ним слышала весну. «Светлый слушатель темных бредней» – напишет про него в стихах.
Всю блокаду Гаршин проработал главным прозектором Ленинграда. Жил при больнице (С.-Петербург, ул. Рентгена, 3), выжил – чудом. Жена его свалилась на улице от голода, и, когда он нашел тело, оно было обглодано крысами. Но именно она, явившись ему во сне, скажет: не женись на Ахматовой. И когда та, добравшись до Ленинграда, встретится с ним на вокзале, он, писавший, что ради нее и получил, и затеял уже ремонт новой квартиры (С.-Петербург, Каменноостровский пр., 69/71), вдруг холодно спросит: «Куда вас отвезти?..» На «вы»! Что еще скажет в тот день, тоже тайна. Но это был разрыв: неожиданный и оттого – унизительный. Ей ведь в 1944-м даже жить было негде, и она, почти убитая, свалилась на голову к старым друзьям своим, к Рыбаковым (С.-Петербург, наб. Кутузова, 12). Что случилось на вокзале, не сказала даже им. А вот в больнице у Гаршина о разрыве станут судачить все кому не лень. Пожилые санитарки, обожавшие Гаршина, смешно и долго будут выгораживать его: «Ей очень хотелось замуж за нашего, – будут шептаться. – Она ему и сказала, а он ей – нет, не хочу. Она раз – и упала в обморок. А наш посмотрел и говорит: “Как ты, Аня, некрасиво лежишь”. Закурил и спокойно ушел…»
Гаршин женится на коллеге, профессоре медицины, а Ахматова в ярости перепишет стих, где он из «светлого» станет «темным слушателем», но уже «светлых бредней». Вот так! Я даже подумал, что всё получилось, как в любимой притче Гаршина. Про выхухоля и выдру. «Жили-были выхухоль и выдра, – начинал он. – Выхухоль – в Выборге, выдра – в Вырице. Подружились, решили перейти на “ты” и стали писать друг другу письма. В “Тыборг” и в “Тырицу”. Выхухоли – “тыдра”, а выдре – “тыхухоль”. Вот на этом, – заканчивал Гаршин, – их дружба и кончилась…» Так и у них вышло: с «вы» перепрыгнули на «ты», и с «ты», уже навечно, – на «вы»! Впрочем, в главном именно Гаршин не предаст свою «тыдру». Когда грянет Постановление ЦК партии о Зощенко и Ахматовой, когда все – от дворников до академиков – зайдутся в истерике осуждения, когда от нее отрекутся даже близкие, он на собрании в институте в жуткой тишине попросит слова. «Я был другом Ахматовой, остаюсь ее другом и буду другом…» Не знаю, рассказали ли ей об этом? Он до самой смерти будет интересоваться: «Как там Аня?», а она не спросит о нем ни разу. Но однажды, ища какую-то брошь, вдруг обнаружит: ее камея, дар Гаршина, треснула пополам. Спустя неделю стороной узнает: именно в тот день он и умер. Это будет, кстати, тоже весной, но в 1956-м. Ей до последней весны, до дня смерти, оставалось ровно десять лет. Она ведь умрет 5 марта, как и Сталин.
«Что дэлаэт манахыня?..»
Да, самой большой тайной ее были отношения с ним, со Сталиным. В конце жизни она обмолвится, скажет про него слова, казалось бы, немыслимые в ее устах, слова, которые и ныне вводят в ступор литературоведов. «А ведь он, – скажет, – благоволил ко мне. Что, трудно поверить? Еще бы! Присылает за мной в осажденный Ленинград самолет, а затем – метаморфоза – ненависть…»
Из блокадного кольца ее и Зощенко действительно вывезли самолетом. Улетала с одной сумочкой. Уезжала из Дома писателей, куда перебралась к друзьям Томашевским (С.-Петербург, кан. Грибоедова, 9). Верила: ее спасают по личному приказу Сталина. Может, и так. Она и после победы решит вдруг, что именно из-за нее Сталин вступит с Западом в новую, уже холодную войну. Чушь, конечно, бред, но верила в это. Загадка? Несомненно. И вторая загадка, если уж говорить о ее связях с вождем: отчего она так никому и не сказала при жизни о своем втором письме к нему. Про первое мы уже знаем, про то, как и почему возникло третье письмо, тоже известно, а вот про второе никто и не слышал, пока не опубликовали расстрельное дело ее сына.
Мне кажется, я знаю отгадку. Если коротко: она в отрицании ее любых богатств на земле, кроме мнения о тебе окружающих. И еще – в гордости, в царственности любого истинного поэта, даже если он ходит в лохмотьях или годами «живет» в одном платье. Чуковский пишет, что за полвека знакомства с ней так и не смог вспомнить «ни одной просительной, заискивающей или жалкой улыбки» ее. Сын ее Лев, и тот, когда хотел добиться благосклонности матери к кому-нибудь, просил: «Мама, не королевствуй, пожалуйста!» А она «королевствовала», «королевствовала» до тех пор, пока сына ее не арестовали в третий раз… Он жил уже отдельно от матери, снимал комнату на Фонтанке (С.-Петербург, наб. Фонтанки, 149). Туда за ним и пришли 10 марта 1938 года, в тот год, когда только в Ленинграде, как пишут, было расстреляно 40 тысяч человек, когда «план» по расстрелам был перевыполнен в десять раз. Вот когда, забыв «королевство», она и написала второе письмо к Сталину.
«Повод для ареста дал я сам», – вспоминал Лева. В университете, где он учился, профессор Пумпянский стал прилюдно потешаться над отцом его, убитым Гумилевым. «Он писал про Абиссинию, – вещал Пумпянский, – а не был дальше Алжира…» Лева крикнул с места: «Нет, он был в Абиссинии!» Профессор улыбнулся: «Кому лучше знать, вам или мне?» – «Мне, конечно!» – крикнул Лев. Двести студентов в аудитории грохнули: они, в отличие от профессора, знали, чей сын их сокурсник. А Пумпянский, говорят, побежал жаловаться в деканат. И, кажется, кое-куда еще. «Во всяком случае, – напишет потом Лев Гумилев, – первый же допрос в НКВД следователь начал с этого инцидента…» Впрочем, после пыток (его восемь ночей били головой о стену!) обвинение его выросло до молодежной террористической организации и – до подготовки убийства Жданова, секретаря ЦК ВКП(б). Леве дадут десять лет и отправят на Беломорканал. Потом вернут ужесточать приговор – уже за терроризм. «Меня возвращали, – скажет, – на расстрел». Вот когда Ахматова заметалась, кинулась в Москву, где пропадала уже на Главпочтамте (письма в защиту сына) и в Лефортове (носила передачи). Вот когда сказала: «Пытка надеждой. После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума!..»
Надежда была связана с ее вторым письмом к вождю, больше вроде бы не с чем. Она написала его 6 апреля 1939 года «Обращаюсь к Вам с просьбой о спасении единственного сына, студента IV курса исторического факультета. Сын ни в чем не виновен перед Родиной…» Обычное письмо, такие тогда шли в Кремль тысячами. Понятно, что Особый сектор ЦК переслал его Вышинскому, Генеральному прокурору. Непонятно другое: на какой ответ надеялась? Ведь Вышинский, даже не Сталин, уже ответил всем и сразу: «Надо помнить, – сказал, – что бывают такие периоды в обществе, когда законы становятся устаревшими…» Ее, как, впрочем, и всех, угораздило целую жизнь прожить как раз в такой «период» – почти полного беззакония.
Напомню: ее не печатали шестнадцать лет. Ее просто не было. Ее не позвали на I съезд писателей СССР, как не позвали туда лучших: Булгакова, Мандельштама, Платонова. С ней, как выяснилось, было даже хуже. Перед съездом лизоблюд-философ Юдин радостно доложил Жданову: заявления в новый Союз писателей подали буквально все, «за исключением Ахматовой». И закончил: «Политическое единство съезда бесспорно обеспечено…» Словно, подай она заявление, «единство» рассыпалось бы в прах… Но надежда, надежда на спасение сына после письма всё же теплилась, и она, прихватив Эмму Герштейн, в старом пальто, бумазейном платье, хромая – сломался каблук! – пришла в прокуратуру (Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а).
Из воспоминаний Эммы Герштейн: «Когда ее вызвали к прокурору, я ждала в холле. Очень скоро… дверь кабинета отворилась, показалась Анна Андреевна. А на пороге стоял человек гораздо ниже ее ростом и, глядя на нее снизу вверх, грубо выкрикивал ей в лицо злобные фразы. Анна Андреевна пошла по коридору, глядя вокруг невидящими глазами, тычась в разные двери, не находя дороги к выходу. Я бросилась к ней. Уж не помню, куда и как я ее отвезла…»
Если верить моим записям, моей «географии поэзии», то отвезла к Сергею Шервинскому – у него остановилась в тот приезд. Впрочем, ни ему, ни Герштейн, никому другому так и не сказала про второе письмо к Сталину. Не сказала, думаю, потому, что ей уже передали: на приеме в Кремле по случаю вручения наград почти двумстам писателям Сталин спросил вдруг и о ней: «Что дэлаэт манахыня?». На деле спросил: «Где Ахматова? Почему не печатается?» Ему сказали: с 1924 года это запрещено. И тогда он, так пишут, кивнул: «Разрешить!..» С этого царского слова и начались медленные, но перемены в ее жизни, крохотные, но – милости. Письмо ее о сыне вождь, видимо, не читал (свидетельств тому нет!), но «милости», если бы она сказала кому-либо о письме, любой связал бы с ее обращением к вождю. На чужой роток… Она просила о милости к сыну, а вместо этого «благодеяния» посыпались на нее. Вместо этого к ней пожаловал вдруг Костя Симонов, молодой тогда поэт, и попросил стихи для альманаха. Вдруг – потому что, повторяю, ее – не су-щест-во-ва-ло! Симонова привела к ней в Фонтанный дом Лидия Гинзбург, литературовед. Он, еще на лестнице, спросил Гинзбург: «А можно поцеловать руку Ахматовой»? «Даже должно», – ответила та. И вдруг уже у дверей квартиры Симонов, пишет Гинзбург, быстро снял с пиджака новенький Знак Почета и сунул его в карман. Стыдно стало ордена за стихи. Ничего, ничего, заметим, это пройдет! Через десять лет, в 1949-м, он, увешанный наградами за войну, смельчак-легенда, «мачо», приедет в Питер и, никого не смущаясь уже, будет громить ее, старуху: «Ахматовщину, – скажет, – надо выжечь каленым железом!..» Было, было! Но пока, в 1939-м, смиренно попросит у нее стихи. Потом (и опять вдруг) ей повысят пенсию и предложат квартиру (!), потом напечатают книгу (!!), попытаются даже дать Сталинскую премию (!!!). Разве злые языки не связали бы всё это с ее письмом к Сталину? Кто стал бы разбираться, о чем она просила вождя? Потому и молчала.
Впрочем, и с премией, и с книгой власть спохватится. Стихи ее попадут на глаза завхозу ЦК партии Крупину. «Проповедь религии», – напишет он Жданову. Тот скажет: «Просто позор, с позволения сказать, такие сборники», – и на письме Крупина выведет: «Как этот “блуд во славу божию” мог появиться в свет? Кто его продвинул?» И «милости» враз оборвутся. Зло делается быстро, скажет она в старости, а на добро уходит порой вся жизнь. Так вот, партия всё делала быстро: уже в октябре 1940 года вышло, как теперь известно, закрытое постановление Секретариата ЦК о ее сборнике. Полетели выговоры за «грубую ошибку», книгу кинулись изымать из торговли, но, к счастью, не нашли: стихи разлетелись. За ним очереди в книжные занимали с ночи. Цветаева с четырех утра, помните, стояла с Муром как раз за этой книгой.
С Цветаевой – я уже писал об этом – встретится. За пятнадцать дней до начала войны. О чем говорили – гадают по сей день. До нас дошли лишь мнения их друг о друге. «Она была сухая, как стрекоза, – скажет Ахматова о Цветаевой. – В сравнении с ней я телка». Цветаева же отзовется почти равнодушно: «Просто дама»… Вот и вся встреча, если бы в последнее свидание двух планет, двух умнейших женщин XX века, которое состоялось в Марьиной Роще, в маленькой комнатушке друга Ахматовой Николая Харджиева (Москва, ул. Октябрьская, 43), именно Ахматова не заметила бы, что за ними «идут». Они уходили от Харджиева по Октябрьской, тогда – Александровской улице, а за ними крался топтун НКВД. Сама Лубянка, считайте, сам – Кремль. Понятно, у одной в тюрьме муж и дочь, у другой – сын. «Это за нею? Или за мной?» – гадала потом Ахматова. Я лично думаю – за обеими. Ведь по московской улице шли не просто два великих поэта – две самые опасные для режима пророчицы, две Кассандры, приговорившие уже этот самый режим.
На старости лет, когда Ахматова доживала дни в своей последней ленинградской квартире (С.-Петербург, ул. Ленина, 34), к ней явится какой-то профессор из США. Он и раз, и два спросит ее: а что же такое этот самый «русский дух»? Ахматова «не заметит» вопроса, потом – вежливо сменит тему. Но тот будет настаивать: «Вы единственная, кто знает это». Тогда она рассердится: «Мы не знаем, что такое русский дух». – «А Достоевский знал!» – выпалит американец. И вот тогда она и выдаст: «Достоевский знал много, но не всё. Он думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым. А мы знаем: можно убить пятьдесят человек – и вечером спокойно пойти в театр…» Такое, добавила, даже Достоевскому не снилось…
Да, кто не жил в эпоху террора, тому его не понять. Сына Ахматовой освободят, но в конце войны; он еще успеет повоевать и даже дойти до Берлина. Однако и с ним спохватятся – арестуют в четвертый уже раз. После войны министр МГБ Абакумов выпишет ордер и на арест Ахматовой, уже второй, как помните. «Аня висела на волоске», – скажет и Пунин. Спасет ее опять Сталин, больше ведь некому, если сам министр – за. Именно это станет последней «милостью» вождя. Да, история прячет концы в воду, но – воля ваша – какие-то запредельные, именно что «подводные» связи между ними все-таки были. Помните ее слова о Сталине: он «благоволил ко мне…»? Не ошиблась. А потом, сказала, «метаморфоза – ненависть»…
«Очень русская… стихами не торгует»
А есть ли вообще пусть не тайна, но хоть секрет достойной жизни? Зачем, ради чего и как проживаем мы годы? Речь не о цели жизни – о сущности, качестве ее, об оправдании самого дыхания нашего. Так вот, мне думается, секрет есть. И его знала Ахматова. «Человек, – сказала, – может быть богат только отношением других к себе. Никаких других богатств на свете нет». Речь не о толпах, ослепленных поклонением, не о «хайль» и «да здравствует!» Речь, если хотите, – о картине художника моей молодости Виктора Попкова, давно покойного уже, о полотне, на котором в какой-то березовой роще столпилось вокруг гроба старухи множество людей: в платочках, в великоватых пиджаках, с детишками, которых люди держат за руки. Знаете, как называется картина? «Хорошим человеком была бабка Анисья». Она сейчас в Третьяковке. Вот так и ахматовская мысль: мы богаты лишь отношением к себе окружающих. Она, кстати, «безбытная кочевница», так и прожила все отпущенные ей семьдесят шесть лет.
Об Ахматовой «надо писать всё или ничего». Всё, а не за и – анти. Увы, тайна и поныне: почему трижды разносилась весть о смерти ее: в 1921, 1952 и 1957 годах? Почему, зная о доносчицах Островской и Оранжиреевой, она не только терпела их – дружила с ними? И куда исчезло в КГБ (и исчезло ли?) «Наблюдательное дело», заведенное на нее в 1939-м: 900 страниц донесений и слежки? Наконец, самая большая тайна, почему вдруг решила, что холодная война в мире началась из-за нее? Ни больше ни меньше! И родилась эта тайна 3 апреля 1946 года в Москве – в Колонном зале Дома союзов.
Такого дня в ее жизни больше не было. Триумф, пик взлета, миг славы! В Доме союзов на сцену большого вечера стихов в тот день поднялись почти два десятка поэтов. Но лишь двоих, Пастернака и Ахматову, зал встретил стоя. Она была в черном платье, на плечах белая шаль с кистями. Не было челки, волосы убирала уже назад, зато всё остальное: органный голос, осанка, непокорные стихи – всё было прежним. Да, двоих зал встретил стоя, но лишь ее (не знаю, верить ли?) и слушал стоя. Этого, кажется, ни у кого еще не было! Хлопали, трудно представить, пятнадцать минут. «О, эти овации мне дорого обойдутся», – скажет она об этом вечере. А Сталин, узнав про почести, якобы спросил: «Кто организовал вставание?..» Глупый, ревнивый вопрос. Это ему «организовывали» вставания. Но чутье самодержца не подвело – соперница! Словно догадался, о чем не мог знать: ведь из зала ей прислали записку, пять слов, но каких! «Вы похожи на Екатерину II». Как тут не взревновать? Царь и не им «назначенная» царица! Но противостояние это и впрямь дорого ей обойдется. До Постановления ЦК о ней, до катастрофы, оставалось четыре месяца.
Царь и «царица» – смешно! Сталина помнят ныне как тирана всех времен и народов, ее, «тыдру» какую-то – как поэта, в эпоху которого Сталин и жил. Сталин при жизни опубликовал двенадцать увесистых томов «своих» сочинений. Ахматова, если при его жизни, – лишь пять сборничков. Наконец, на улицах Москвы давно нет ни одного памятника Сталину, хотя были сотни! А ей, прокаженной, нищенке (она до старости спала на диване, где ножку заменяли подложенные кирпичи), памятник стоит. На Ордынке, у дома, где она чаще всего и жила. Дома литератора Ардова и его жены, актрисы Нины Ольшевской, той единственной, кто будет с ней в Домодедове в день смерти ее. Здесь, на Ордынке (Москва, ул. Большая Ордынка, 17), на краешке чужого гнезда, в восьмиметровой комнате сына Ольшевской актера Баталова, у Ахматовой и была Цветаева. А еще – на минуточку! – три будущих нобелиата: Пастернак, Солженицын и почти мальчишка – Бродский! Ныне установлено более ста мест в Москве, где она жила или бывала, но восемь этих метров не пятачок обычной квартиры – необъятная площадь великой литературы! Здесь Ахматова праздновала свои радости (освобождение из тюрьмы сына, награждение ее медалью «За оборону Ленинграда», выход наконец разрешенного «Избранного»), и здесь – встречала беды. И самую обидную – за странный визит странного «иностранца».
«Иностранец» вынырнул 16 ноября 1945 года. В тот день в ленинградской квартире Ахматовой раздался телефонный звонок, и Орлов, знакомый литературовед, спросил: не примет ли она гостя из Англии, сотрудника Форин Офис и знатока поэзии Исайю Берлина? «Приходите в три», – ответила она. Исайя Берлин, уехавший из России с родителями в 1919-м, после войны был командирован в СССР наводить, как говорили, «мосты». И вдруг в книжной лавке, разговорившись с литературоведом Владимиром Орловым, узнал: Ахматова жива, и более того – ее можно увидеть. Визит, впрочем, длился считаные минуты, ибо почти сразу со двора послышались истошные крики и гость с ужасом различил свое имя: «Исайя! Исайя!..» Выглянув в окно Фонтанного дома, увидел, вообразите, Рандольфа Черчилля, сына премьер-министра Англии. Вот уж кого не хватало! Это понял даже Берлин. Едва простившись, он и Орлов скатились во двор. «Мистер Орлов, – начал Берлин, – вы не знакомы с Черчиллем?» Литературовед, пишут, стал белее мела и – исчез. «Я не знаю, – писал потом Берлин, – следили ли за мной агенты тайной полиции, но никакого сомнения, что они следили за Рандольфом». А тот, узнав в консульстве, куда пошел его друг Берлин, решил сам искать его и оказался под окнами Ахматовой. Берлин увел его и из отеля позвонил Ахматовой, прося о новой встрече. «Жду вас в девять», – отважно ответила она. И всю ночь до утра, под миску вареной картошки (больше ничего не было), под дым его сигар они говорили о стихах, о друзьях ее, которые эмигрировали, и о черной ночи, которая «надвинулась на нее» с тех пор. В гостинице он глянул на часы: было одиннадцать утра. Когда бросился на постель, сотрудница посольства Бренда Трип совершенно явно услышала: «Я влюблен, я – влюблен!..»
О, какие чудовищные слухи породила эта ночь! Болтали, что приехала иностранная делегация, которая должна убедить Ахматову уехать из России, что сам Уинстон Черчилль собирался прислать спецсамолет. А после второй встречи с Берлиным, через полтора месяца, поползли слухи о романе ее с иностранцем. Что-то такое и впрямь было. Но не слухом стали слова, прозвучавшие в Кремле: «Оказывается, наша монахиня, – сказал Сталин, – принимает визиты от иностранных шпионов…» И «6 апреля 1946 года, – пишет Берлин, – у входа на ее лестницу поставили людей в форме, а в потолок – микрофон. Она поняла, что обречена…» В Постановлении ЦК партии, а потом и в докладе Жданова вывернется теперь и это словечко – «блудница»…
«Вы понимаете, что такое блудница? – попыталась разъяснить однажды это средневековое оскорбление Ахматова. – Это же блядь!..» Да, о ней, надо писать всё! Когда-то Суворин, редактор «Нового времени», занес в дневник: в России два царя – Николай и Толстой, и если первый со вторым ничего сделать не может, то второй постоянно колеблет трон первого. Так вот, теперь всю махину СССР существованием своим «колебала» она – слабая, безбытная женщина, которая из-за «прослушек» не читала стихов даже друзьям – писала на бумажках и тут же сжигала. Чуковская именно так заучивала их. «Это был обряд, – пишет, – рука, спичка, пепельница, – обряд прекрасный и горестный».
Постановление о ней рождалось на Оргбюро ЦК и не без помощи братьев-поэтов. Неправленая стенограмма неопровержима.
Из стенограммы закрытого заседания Оргбюро ЦК партии:
«СТАЛИН: У Ахматовой авторитет былой, а теперь чепуху она пишет, и не могут в лицо ей сказать. Какого черта… церемонятся! Ахматова, что можно найти у нее? Одно-два-три стихотворения и обчелся.
ПРОКОФЬЕВ (поэт, Герой Соцтруда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. – В.Н.): Стихов на актуальную тему мало, она со старыми устоями и уже не сможет дать что-то новое.
СТАЛИН: Тогда пусть печатается в другом месте, почему в “Звезде”?
ПРОКОФЬЕВ: То, что мы отвергли в “Звезде”, печаталось в “Знамени”.
СТАЛИН: Мы и до “Знамени” доберемся, доберемся до всех…
ПРОКОФЬЕВ: Это будет очень хорошо…
ТИХОНОВ (поэт, Герой Соцтруда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. – В.Н.): Молодое поколение думало, что Ахматова умерла, и вдруг увидело писательницу, которая давно выполнила свою политическую линию. Новое ничего не может дать…»
Вот так! Сами губили гордость России. Ни один из стихотворцев не заступился. Или – «не оглянулся», как в детстве, когда она отважно шагнула из лодки в открытое море. Даже Эльза Триоле, сестра Лили Брик и жена француза-классика Арагона (вот уж действительно коллективная «антиАхматова»!) – и та в далеком Париже вякнула: «нежный садовник Фадеев» всего лишь вырывает «сорную траву…» А Жданов потом говорил ведь их словами, словами писателей: «чуждая народу», «ничтожные переживания», «безыдейная поэзия». Но вот факт покруче: доклад его о стихах «взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной» звучал в Смольном до часу ночи не при закрытых – при запертых на ключ дверях и при двух часовых с винтовками рядом. Ужас! Так что те из литераторов, кому от угроз становилось дурно, даже выйти не могли. Во были времена!..
Из агентурного донесения на Ахматову: «Объект Постановление перенесла тяжело… Невроз, аритмия, фурункулез… Неизвестные присылают ей цветы и фрукты. “Прибавилось только славы, – говорит она. – Мне надо было подарить дачу, машину, сделать паек, и уже через год… все бы говорили: «Видите: зажралась… Какой она поэт? Просто обласканная бабенка…»” Объект болеет, но водку пьет, как гусар… Дом писателей ненавидит, как сборище чудовищных склочников. Очень русская… Стихами – не торгует…»
Да, «человек может быть богат только отношением других к себе». Но как научиться жить так – эту, может, главную тайну так и не раскрыла. Та же Островская, осведомительница МГБ-КГБ, у которой Ахматова не раз ночевала (С.-Петербург, ул. Радищева, 17/19), смеялась потом, что ее сосед, старый бухгалтер-еврей, узнав, что Ахматова пишет стихи, спросил: «А сколько ей платят за строчку». «Двадцать пять рублей», – ответила Островская. «Двадцать пять?! И что же она сидит и не пишет! Если бы мне платили так, так разве бы я сидел? Я бы писал и писал…» Но реально, когда незадолго до смерти Ахматову со скрежетом отпустили за границу, то шарф (и не новый даже) ей дала в дорогу вдова Алексея Толстого. Своего приличного у нее просто не было…
Родина мордовала ее до последних дней. Нет, и после смерти. Ведь то постановление отменили через двадцать лет после смерти ее. Но когда из Москвы она уезжала за рубеж, когда друзья, боясь за нее, натащили валидолов, не они – она успокаивала их: «Не волнуйтесь, – рассмеялась. – Я никогда не позволю себе такой гадости – умереть не на родине…» Там, в Париже, остановившись в отеле «Наполеон» (Париж, ав. Фриэдланд, 38–40), она попросила Адамовича, богемного поэта дореволюционного Петербурга, отвезти ее к дому Модильяни, к его мастерской, где он рисовал ее когда-то (Париж, ул. Фальгиер, 14). А в Англии, в Оксфорде, где ей дали звание доктора наук, как и предсказал когда-то Шилейко, вновь встретилась с Берлином, «гостем из будущего», как назвала его в «Поэме без героя». Железный занавес между Востоком и Западом еще висел, и Ахматова вновь сказала ему: поводом и занавеса, и даже холодной войны стала именно их встреча, та, послевоенная. «Я, – напишет Берлин, ставший президентом Британской академии, – промолчал…»
Зря промолчал! Кто знает, может, Ахматова, великая Кассандра, и права? Она говорила, что вождь топал ногами и матерился, когда узнал, что сын самого Черчилля ходил под ее окнами. И, может быть, сама история лишь прячет пока этот «совсекретный» факт?..
Москву навещала до последних дней. Адреса, где останавливалась или бывала, всё еще выплывают из мемуаров. Во время войны, прилетев в почти осажденную столицу, ночевала то у Маршака (Москва, ул. Чкалова, 14/16), то у актрисы Марии Берггольц, сестры поэтессы Ольги Берггольц (Москва, ул. Сивцев Вражек, 6). А после войны жила, случалось, и у поэта Георгия Шенгели в новой квартире (Москва, пр. Мира, 51), и у литературоведа Западова (Москва, наб. Тараса Шевченко, 7/1), и у подруги Раневской в роскошной высотке на Котельнической (Москва, Котельническая наб., 1/15), и в коммуналке Ники Глен, где Ахматова, говорят, впервые «положила на бумагу» свой знаменитый «Реквием» и куда к ней, на восьмой этаж, взобрался еще безвестный Солженицын (Москва, ул. Садовая-Каретная, 8). Именно здесь, как прочтет потом в рабочей тетради Ахматовой Ника Николаевна Глен, каждый десятый из гостей начинал плакать, слушая «Реквием», и, кажется, здесь молодая тогда Наталия Ильина, писательница, у которой была уже машина и которая возила Ахматову «прогуляться» в Коломенское – любимое место поэта, расхохоталась как-то до слез. Она, заехав за ней, застала Ахматову стоящей посреди комнаты еще в халате и с чулком, повисшим в руках. «Увидев меня, – вспоминала Ильина, – объявила: “Если вдуматься, одного чулка ведь мало?..”». А когда Ильина чуть не умерла от смеха, шутя прикрикнула: «Перестаньте смеяться над старухой!..» Наконец, не успела заехать до четвертого, последнего своего инфаркта к подруге Наденьке Мандельштам, та получила, наконец, «свою» квартиру на первом этаже в Черемушках (Москва, Большая Черемушкинская ул., 14, корп. 1), зато успела увидеться с ней в последнем пристанище своем – в Боткинской (Москва, 2-й Боткинский проезд, 5), где и лежала перед смертью.
Ахматовой было двадцать, когда она предсказала: умрет в марте. И за пять дней до того, как машина въехала в ворота санатория «Подмосковье», она в доме Ардовых вдруг с невыразимой тоской почти простонала: «Все время кто-то стоит за окном и зовет. Это бывает только в марте, не замечали?..» Кто звал ее: Гумилев, Шилейко, Пунин, Гаршин? А может – сам Сталин? Ее «заочный» Понтий Пилат и тоже, как мы знаем ныне, поэт. «Раскрылся розовый бутон, – написал он еще семинаристом, – прильнул к фиалке голубой, // и, легким ветром пробужден, // склонился ландыш над травой… // “Цвети, о Грузия моя! // Пусть мир царит в родном краю! // А вы учебою, друзья, // прославьте Родину свою!”»…
Оба, она и Сталин, умерли утром и по странному совпадению – 5 марта. «Со мной только так и бывает», – повторила, возможно, и на том свете свою любимую шутку. А если серьезно, то одной из причин смерти называют какую-то статью к годовщине Жданова. Я проверил: было! 26 февраля 1966 года, за неделю до ее смерти, некий Лавров и впрямь напечатал в «Правде» статью «Выдающийся деятель партии» к 70-летию Жданова. Известно точно: эту статью – вот уж воистину неутоленный стон! – Ахматова успела увидеть. Ее, возможно, и убила она. Отняла воздух, последнее, что можно отнять у поэта…
Стона ее в палате Домодедова никто не услышал. Она просто задохнулась. «Воздуха! Воздуха!» – два этих слова, говорят, были последними. А у Цветаевой – как тут не вспомнить это! – за полвека до того вырвалась строка в стихах: «Ахматова! Это имя – огромный вздох…»
Что ж, задохнулась, чтобы мы (можно ведь и так сказать!), – дышали. Дышали правдой ее, отвагой жизни, ее – теперь уже бессмертными – стихами.
«Божья дудка», или Кто «затянул» петлю Есенина?
Я знаю, знаю. Скоро, скоро Ни по моей, ни чьей вине Под низким траурным забором Лежать придется так же мне. Погаснет ласковое пламя, И сердце превратится в прах. Друзья поставят серый камень С веселой надписью в стихах. Но погребальной грусти внемля, Я для себя сложил бы так: Любил он родину и землю, Как любит пьяница кабак. Сергей ЕсенинЕсенин Сергей Александрович (1895–1925) – великий русский поэт. Один из основателей «Ордена имажинистов» – литературного направления начала ХХ века. Октябрьский переворот принял как мечту о Великой Крестьянской Республике, но к концу жизни в реальном социализме разочаровался, что стало одной из побудительных причин его самоубийства в декабре 1925 года.
Я всё пытаюсь представить – как это было? Утром ли, вечером, на деревенской улице, или – за селом? Как могло прийти в голову трем мужикам (пусть и хватанувшим самогону) взять трехлетнего малыша (видимо, босоногого, в одной рубашонке) и, посадив его на лошадь (конечно, без седла – какие уж там седла), пустить ее в галоп? Трехлетнего! Страх!..
Малыш не упал. Вцепившись руками в гриву коня, ничего, конечно, не соображая, он понесся над землей, инстинктом чуя, что падение – смерть и что бешеная скачка эта – всего лишь жизнь, которая выпала ему. Малыш – это Есенин. А мужики, учудившие «шутку», – братья Титовы, родные дядьки поэта.
Есенин обожал лошадей. При встречах кидался целовать их в морды. Однажды, сам уже мужик, разрыдался, следя, как за поездом, в котором ехал, долго лупил, выбиваясь из сил, какой-то рыжий жеребенок. Но чем кончилась его любовь к лошадям – читали?.. За семь лет до смерти он пошел вдруг работать в цирк, где под гогот ржущей и жрущей публики, выезжая на какой-то коняге, декламировал стихи. Знали вы об этом? Знали ли, что смирная коняга, вывезя поэта в круг, вдруг взбрыкнула однажды и скинула его. Амфитеатр ахнул, свистнул, хохотнул! А мне и ныне не вообразить его, знаменитого уже, в тех опилках на арене, да еще – на карачках…
Увы, и дитя, вцепившееся в холку коня, и именитый поэт в опилках – это почти символы его жизни. И гарцевание в седлах, и бешеная скачка в санях ли, пролетках, автомобилях, поездах, даже в первых самолетах – всё это его судьба. Он всегда либо «работал на публику», либо – летел, меняя города и страны, жен и друзей, убеждения и принципы. Куда летел? Если одним словом – к славе! И настиг ведь ее, ухватил за хвост, но – какой ценой?! Ценой головы, которую сам же и «заарканил», чтобы рухнуть не на опилки – на холодный и жесткий пол отеля «Англетер»!..
Последней лошадью в его жизни стала какая-то кляча, запряженная в дровни. Дровни подали во двор гостиницы, подальше от зевак. Покойника вынесли на мороз даже без ботинок, но дровни всё равно оказались малы, и голова Есенина, как пишут, ударялась о мостовую. Впрочем, до этого никому уже не было дела. «Милиционер, – пишет свидетель, – весело вспрыгнул на дровни, и извозчик так же весело тронул…»
«Дерись, Серега, дерись!..»
«Он не такой, как мы, он бог знает кто», – скажет о нем даже родной отец. Кто же? – вот уж век задается вопросом народ. «Лель», «кустарная игрушка», на которую, говорят, был похож, «монах», как дразнили его в детстве, «вербочный херувим», как написала Изряднова, гражданская жена его, «хам и мещанин», как отозвалась Галина Бениславская, любившая поэта так, что застрелилась на его могиле, или – все-таки «ангел», как звала его Айседора Дункан? А может, как сказал о нем Чуковский, – «аристократ простонародья»?..
«Жизнь – глупая штука», – написал Есенин первой любимой девушке Мане Бальзамовой. Ему было шестнадцать. А за сутки до самоубийства в номере «Англетера» скажет Елизавете Устиновой, жене друга: «Жизнь – штука дешевая». И пояснит: «Я ведь “божья дудка”». «Божья дудка? Как это?» – удивится та. «Это, – взъерошит волосы поэт, – когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять нечем…»
Жизнь – «штука», поэт – «дудка»! Не кифара, не лира, не звонкая труба. Может, потому за книги его и давали тюремный срок, и запрещали их на годы. Дудка – а нужна была труба! Конечно, истинный поэт всегда «природа», непонятно как извлекающая свои «мелодии». Но Есенин, родившийся в рязанском селе, среди ромашек да берез, и впрямь дудка, простая и древняя, и, может, потому задевающая самые тайные, глубинные струны души русской…
Сто лет назад, весной 1912 года, появился он в Москве. Дойдя до Зацепы, нашел деревянный двухэтажный дом, который ныне восстановлен до бревнышка (Москва, Большой Строченовский пер., 24). Вот в него и как раз – к отцу и вошел мальчик-подсолнух в каком-то «казинетовом пиджачке»… Казинет… Вот ведь, мать честная, – казинет?! Я даже заметался: не выбросить ли к чертям это словцо? Кинулся расспрашивать, что это, но ровеснички мои, хоть и росли в эпоху Москвошвея, ничего, кроме кашемира да джерси, не знали. Словарь Даля разъяснил: казинет – полушерстяная, кипорная ткань. Но что такое, пардон, – «кипорная»? Опять листаю Даля: кипор, кипер – всякая ткань, в которой уток идет наискось… Час от часу – что же тогда этот «уток»? Представьте – нитка, которая, если намотать ее на цевку, – будет идти поперек основы и образовывать ткань. С ума сойти! Кипор, уток, цевка, мы ведь ничего уже не знаем! Мы, русские! С тысячелетней историей и культурой!..
Итак, в «казинетовом пиджачке», с сундучком под мышкой шестнадцатилетний Есенин приехал к мяснику местной лавки – к родному отцу. Тоже должен был стать мясником, зашибать копейку. И стал бы, если б не был уже поэтом. «А ну, Сережка-пастушок, напиши-ка нам стишок», – дразнили его в школе. Но в Москве возник, когда год уже как написал хрестоматийное ныне «Хороша была Танюша, краше не было в селе…» И вот его, такого, хотели заставить рубить мясо, да еще вставать, когда купчиха Крылова входила? Да ни в жисть! Он и недели не проработает, хлопнет дверью, разругавшись с отцом. «Дорогой мой, – будет кричать отец. – Знаю я Пушкина, Гоголя, Толстого. Очень хорошо почитать их. Но эти люди обеспеченные. На них работало человек по триста, а они как птицы небесные – не сеют, не жнут. Где тебе тягаться с ними?..» «А Горького знаешь?» – набычился поэт. «Знаю! Из простых, но ты спроси его, Горького, счастлив ли он? Не наша эта компания, не отставай от своего стада…» Сергей на это, говорят, прищурился и встал из-за стола: «Посмотрим. Меня поймут, может, через сто лет…» И ведь – угадал!
Как нитка в казинете идет поперек основы, так он, мальчишка еще, кроил свою жизнь. Деревенский хлопчик, он еще вчера «весело, как бы шутя, учился» и легко получил похвальный лист (редкость в их селе!). Из цветов умел сплести сестренке и платье, и шляпку, и ее, всю в лепестках, приносил домой на руках. Боялся, ускакав с ребятами в ночное, что лошади «выпьют луну в реке». Пропустив ужин в школе, спорил, что съест пять булок сразу, и, когда сил хватило на полторы, больше часа бегал, чтобы утрясти съеденное, но всё равно – проиграл. Прислуживал в церкви, знал Библию и даже мечтал стать пророком – говорить «такие слова, чтобы было и страшно и непонятно, и за душу брало…» Но, с другой стороны, когда друзья задумали сделать змея и не нашли бумаги, он, хлопнув себя по лбу, кинулся в дом и, сорвав со стены под образами картину Страшного суда, пустил ее на забаву, за что был порот и «визжал как поросенок». Мог дать сторожу школы начиненную порохом папиросу – тот опалил и бороду, и брови. Любил деньги, был даже жаден до них. И очень любил драться. В драке не только не щадил себя, но, набив карманы камнями, выбегал вперед и «воодушевлял всех». Драться не перестанет всю жизнь. «Дерись, Серега, крепче будешь!» – подбадривал его дед, «умственный», по его словам, мужик. И он – дрался. Он и в Москву приехал драться, только не догадывался еще, против кого и – за что.
Знали ли Константин Симонов, а потом и Твардовский, поэты и редакторы «Нового мира», что в доме, где располагалась редакция журнала, Есенин учинил когда-то форменное безобразие? Да еще из-за любви. Дом этот и ныне льнет к центру столицы (Москва, ул. Малая Дмитровка, 1/7) – дом Бобринской, насквозь поэтическое место. В нем, еще до Бобринской, поэт Херасков принимал в своем салоне Сумарокова и Фонвизина. В нем на балах и «машкерадах» уже у графини Бобринской бывали и Пушкин, и Грибоедов. А в самом конце позапрошлого века в журнале «Зритель» сотрудничали братья Чеховы. Так вот, позже, в 1913-м, сюда въехало книготорговое «тов-во “Культура”», куда не только пошел работать продавцом Есенин, но где, ввиду отсутствия жилья, и поселился в какой-то каморке. И тут, как мог бы Пушкин, написал другу про одну надоевшую девицу: «Письмами ее, – написал, – я славно истопил бы печку…» Хорошо, да? Увы, дальше нельзя не улыбнуться: «Но черт меня намекнул бросить письма в клозет. Бумага, весом около пуда, все засорила, и, конечно, пришлось звать водопроводчика». В трех фразах и поэзия, и проза жизни – клозет. Это смешение «стилей» в словах и делах, смесь аристократизма и простонародности, будет, увы, сопровождать его всегда, приводя в ступор и интеллигентов, и последних забулдыг.
На Дмитровке, считайте, порвал последнюю сердечную связь с деревней, с «тургеневской девушкой» – с Машей Бальзамовой. С ней, будущей учительницей, хоть и не дошло до поцелуев, но были уже и роман в три дня, и клятвы в любви, и рвущее сердце прощание в каком-то саду, и ревность, и «открытие», что он, оказывается, больше любит не тех, кто жалеет его, а «кто вредит ему». Наконец, из-за нее случилась и первая попытка самоубийства его; ему месяц как исполнилось семнадцать. Просто до него дошло, что в Константинове, родном селе, их отношения с Маней «муссируют пустые языки». Над ним, видите ли, смеялись, говорили, как он понял, что Маня – «его пассе». Слова «пассия» не знал еще, но оттого оно казалось еще обидней. Спасти его «честь» могла, разумеется, лишь уксусная эссенция. Мане написал: «Выпил эссенции. Схватило дух и почему-то пошла пена; всё застилось какою-то дымкой. Не знаю, почему, вдруг начал пить молоко, и всё прошло, хотя не без боли. Во рту кожа отстала, но потом опять всё прошло». А через год, когда он жил уже в каком-то «углу» при сытинской типографии (Москва, ул. Пятницкая, 81), и написал ей ту фразу про «жизнь».
Из письма Есенина – Бальзамовой: «Жизнь – глупая штука… Ничего в ней нет святого, один сплошной и сгущенный хаос разврата… Люди нашли идеалом красоту и нагло стоят перед оголенной женщиной, и щупают ее жирное тело, и разражаются похотью. И эта-то игра чувств, чувств постыдных, мерзких и гадких названа у них любовью… «Наслаждения, наслаждения!» – кричит их бесстыдный, зараженный одуряющим запахом тела в бессмысленном и слепом заблуждении дух… Все и каждый только любит себя и желает, чтобы всё перед ним преклонялось и доставляло ему то животное чувство – наслаждение… К чему же жить мне среди таких мерзавцев… Если так продолжится… – я убью себя, брошусь из окна и разобьюсь вдребезги…»
Они разойдутся, любовь к Мане, Марии Парменовне, он «прикончит». Но среди сохранившихся к ней слов останутся и такие: «Не думай, что я изменил своему народу! Нет! Горе тем, кто пьет кровь моего брата! И горе брату, если он обратит свободу, доставленную кровью борцов идей, во зло ближнему». В стихах напишет: время его приспело, не страшен ему «лязг кнута» – и сравнит себя чуть ли не с Христом. Считал, он один – такой. А их, именно Есениных, было в Москве в 1914-м – ровно двести. Это установила полиция, когда искала «страшного революционера» по кличке Набор. «Набор» потому, что к тому времени наш карбонарий работал в типографии Сытина. Одни пишут, что отец помог ему устроиться подчитчиком в корректорскую, другие – что некий рабочий, баловавшийся «рифмой», а третьи – что пристроила его в типографию группа большевиков, ибо он, как умелый и ловкий парень, был «очень ценен в распространении нелегальной литературы». «Славянофилы» пишут ныне: участие его в рабочем движении, да еще с большевиками, было случайным эпизодом. Как же, певец «посконной Руси»! Но нет, он не только поддерживал большевистскую фракцию в Думе и распространял журнал «Огни» – участвовал в маевках, удирал от полиции по крышам и стоял среди тысяч сытинцев в забастовке на Пятницкой, когда рабочие, перегородив улицу, повалили трамвай. Наконец, видел, как из ворот типографии вынесли на руках Горького после встречи с рабочими. Видел – и завидовал. Вот какую славу надо иметь!
Он снимет комнату сначала на 5-й Тверской-Ямской (Москва, ул. Фадеева, 4), потом – в Сокольниках (Москва, 3-я Сокольническая ул., 20). Снимет пополам со Скакуном, а переезжать им будет помогать Пень. Скакун и Пень – клички, под ними числились в полиции друзья его – Пылаев и Цельмин. «У меня был обыск», – радостно пишет Есенин однокашнику в Рязань. Потом будет второй. Хвастал, что письма его «читают». А вперемежку сообщал, что первое стихотворение уже напечатал журнал «Мирок», что ходит в «Суриковский литературно-музыкальный кружок», где «очень известный» крестьянский поэт Иван Суриков собирает молодых стихотворцев (Москва, Солянский проезд, 3), что «не признает» уже Пушкина и Некрасова, а любит Белинского и Надсона. Через месяц сообщит: «Распечатался я во всю ивановскую. Редактора принимают без просмотра и псевдоним мой “Аристон” сняли. Пиши, говорят, под своей фамилией…»
Из донесения агента охранки: «В 9 часов 45 мин. вечера Набор вышел из дому с неизвестной барынькой. Дойдя до Валовой ул. постоял мин. 5, расстались: Набор вернулся домой, а неизвестная барынька села в трамвай, на Смоленском бульваре слезла, пошла в дом… с Дворцового проезда, в среднюю парадную красного флигера № 20, с Теплого пер. во дворе флигера правая сторона, квартира внизу налево, где и оставлена; кличка будет ей Доска…»
Теплый переулок – это улица Тимура Фрунзе. А Доска – это Анна Изряднова, будущая гражданская жена Есенина, которая и жила здесь с родителями (Москва, ул. Тимура Фрунзе, 20). Тоже работала в корректуре у Сытина и, кажется, вслед за поэтом – в корректорской торгового дома «Чернышев Д. и Кобельков Н» (Москва, Банковский пер., 10). «На деревенского парня похож не был, – напишет про Есенина. – На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив… Был заносчив, его невзлюбили за это». Зато она полюбила так, что, пережив поэта на двадцать лет, никогда уже не выйдет замуж. Была старше на четыре года, но слушала его раскрыв рот. «Гений для меня, – горячился он, – человек слова и дела…» Признался, что его считают сумасшедшим и даже хотели отвести к психиатру. Звал любить и подлецов, и праведников, исповедовал толстовство, божился, что не ест мясо и всякие «прихотливые вещи» вроде шоколада да «кофэ». И настаивал: надо нам учиться. И не просто в университете (это отвергал), а в народном, для «простых». Такой действительно появился тогда – университет Альфонса Шанявского, первый в России народный университет.
Миуссы! Вот где был этот университет (Москва, Миусская пл., 6). Кого здесь только не было тогда! Рабочий в поддевке, нарядная дама, сын лавочника, курсистка, сибирячки ясноглазые, точеные горцы с газырями. По коридорам бродил даже некто длинноволосый в белом балахоне, с босыми ногами, красными от ходьбы по снегу. А учили здесь «неумытую Расею» и Брюсов, и Тимирязев, и физик Лебедев. И тут, на вечере, ища в зале милые глаза Ани, Есенин и прочел стихи, которые только что написал: «Если крикнет рать святая: // “Кинь ты Русь, живи в раю!”, // Я скажу: “Не надо рая, // Дайте родину мою”».
…Холодной московской ночью он отвез Аню в роддом. Неизвестно, где рожала Изряднова сына, но жили уже у Серпуховской заставы (Москва, 2-й Павловский пер., 3). «Когда вернулась из больницы, – вспоминала она, – дома был образцовый порядок: везде вымыто, истоплены печи, готов обед и даже пирожное куплено». На ребенка глянул с любопытством. «Ты песен пой ему больше, – учил ее и всё повторял: – Вот я и отец…» Страшная судьба ждала их сына. В двадцать три года, в 1937-м, его, летчика, арестуют прямо в вагоне, назовут убийцей, «готовившим акт против Сталина путем броска бомбы на трибуну во время демонстрации», и по-тихому убьют. А про Аню никто и позже не скажет слова худого. «Удивительной чистоты была женщина», – вспомнит о ней сын от второго брака Есенина, от Зинаиды Райх. А дочь напишет: на таких свет держится. «Все связанное с Есениным было для нее свято, его не обсуждала и не осуждала. Долг был ей ясен – оберегать…» Но он, уезжая отсюда в Петроград (за славой – «ее надо брать за рога!»), ласково махнув ей рукой: «Я скоро!» – так и не вернется к ней. Нет, будет даже хуже – никому в Петрограде ни разу не скажет, что в Москве у него есть и жена, и даже – сын.
Там, в Северной столице, уже в день приезда первый поэт Блок оценит его: «Стихи, – напишет, – свежие, чистые, голосистые». Понятно, что в Москву через три года Есенин въедет в ореоле сумасшедшей славы. Но – с другой женой! С Зинаидой Райх. Потом будет третья жена, потом четвертая. Но за пять дней до смерти, в декабре 1925 года, торопясь к поезду, проститься забежит лишь к Ане, жившей с сыном его уже на Сивцевом (Москва, ул. Сивцев Вражек, 44). «Что, Сережа? Почему?» – затревожится она. «Чувствую себя плохо, – скажет, – наверное, умру». Только ей из близких скажет это: «наверное, умру». Предполагал или решился уже на смерть – неведомо. Но, храня верность, Аня будет ждать поэта, как та нитка в казинете, – наперекор. Будто он вновь просто махнул ей рукой: «Я скоро!». Как тогда.
«Зачем соврала, гадина!»
Эту «гадину» – Зину, Зиночку, Зинон! – он, кажется, и любил. А она – его. А потом она написала письмо Сталину, и ее – убили. Разве можно было писать диктатору в таком тоне? «Всю правду наружу о смерти Есенина!..» То ли приказ, то ли вообще – угроза. А ведь на дворе стоял как раз 1937-й! Убьют не сразу, через два года после письма. Сначала арестуют ее нового мужа Мейерхольда, посадят сестру Есенина Катю, расстреляют сына Есенина, Георгия Изряднова, а потом и друга, мужа Кати, – Василия Наседкина. Сначала всех из ближнего круга Есенина «повыведут»! И лишь потом зверски убьют и ее…
Он позвал ее замуж «громким шепотом». А она, тоже шепотом, ответила: «Дайте подумать…» Он помнил: это случилось в Белом море, на пароходе. А она утверждала: разговор был хоть и на Севере, но – в поезде. Их позвал в вологодскую деревню друг Есенина, тоже поэт, Алексей Ганин, и тоже – влюбленный в нее, в Зиночку Райх, смешливую девушку с глазами, как вишни, и косами вкруг головы. Его, Ганина, и считали женихом. Но из поездки она, к изумлению всех, вернулась не невестой даже – женой Есенина. Всё решили считаные дни. «Выхожу замуж, вышли сто», – телеграфировала отцу еще из Вологды. Купили кольца, юбку, блестящую белую кофту. На цветы денег не хватило. Есенин нарвал их по пути в местную церквушку. Через два года в Петрограде, проезжая мимо их дома (С.-Петербург, Литейный пр., 32), Есенин грустно скажет другу: «У меня была семья. Был самовар. Потом жена ушла…»
Вообще, он был задет, когда услышал: «Дайте подумать». Он, чье имя звенело уже в двух столицах, кто собирал «битковые сборы», кто был, как считал, запанибрата с Блоком и недавно не только выступал перед самой императрицей, но был пожалован золотыми часами, он зовет замуж, а она?.. Впрочем, о царице, стихах в честь великой княжны Анастасии и часах он, думаю, особо не говорил. Ведь Зина не только была из семьи рабочего-большевика и идейно служила в боевой газете, где он и познакомился с ней (С.-Петербург, ул. Галерная, 27), она уже три года была партийной и не какой-то там партии, а самой опасной – эсеров. Поэт цельностью такой похвастать не мог. Впрочем, Зина ради мужа, возможно, еще из девичьей своей комнатушки на Рождественской (С.-Петербург, ул. 8-я Советская, 36), сразу после свадьбы объявила в «Правде» (так полагалось!), что из партии выходит. Но до того случилось нечто, что оскорбило его куда больше, чем «Дайте подумать». Простите, конечно, за подробность, но смешливая девушка оказалась не девушкой, хотя и сказала, что он первый у нее. Этого «по-мужицки, по темной крови своей», напишет друг его, Есенин простить не смог, хотя она и родит ему двоих детей. И, страшно любя, станет страшно ненавидеть ее. Так бывает у людей с «правдивым сердцем».
Окончательно всё рухнет через год, еще в Питере. В Москву в 1918-м они переберутся уже порознь. Сергей, помыкавшись, поселится в особняке Морозова, в легендарном «мавританском дворце» (Москва, ул. Воздвиженка, 16). Дворец выстроил сын купчихи Морозовой Арсений. Сама купчиха жила в соседнем доме (Москва, ул. Воздвиженка, 14), где принимала когда-то Толстого, Чехова, Короленко, играла Шопена, обсуждала теории Маркса и даже помогала большевикам. А когда сын в 1899-м возвел свой «восточный» дворец, сказала: «Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь вся Москва знать будет!» Он якобы ответил родне – сплошь коллекционерам: «Мой дом вечен, а с картинами вашими еще неизвестно что будет». И едва, кстати, не ошибся. Ибо в 1917-м, когда дом заняли анархисты, чекисты выкуривали их отсюда из пушек. Впрочем, Есенин, в синей поддевочке с барашковым воротником, с длинным, до пола, шарфом, возник тут, когда здесь был уже Пролеткульт: театральные студии, кружки рисования, литотдел. «Крестьянских поэтов принимаете?» – лихо спросил, явившись сюда с Орешиным и Клычковым. «Принимаем!» – хмыкнул в ответ Герасимов, тоже поэт, живший здесь.
Куковать станут «коммуной». Спорить, дымить махрой, слушать лекции Андрея Белого и Вячеслава Иванова, а по вечерам высыпать на «крылечко» (его слово) и, усевшись что воробьи на жердочку, глазеть на мир, высмеивать прохожих, свистеть вслед девчонкам, читать стихи. Только семечек и не хватает, шипела Павлович – поэтесса городская. Есенин сразу стал здесь своим. Стихи читал ясные, а вот мысли изрекал темные. То кричал: «Блок и я – первые пошли с большевиками», а то бабахнул: «Революция – ворон, которого мы выпускаем из головы на разведку!» «Никто ничего не понял», – смеялся новый друг его Устинов. А Герасимов, любя в нем поэта – не мыслителя, просто позвал его жить к себе, в бывшую ванную Морозова, с изящной росписью на стенах и пальмами в кадках. И если сам спал на диване, то Сергея пристроил ночевать на досках, прикрывавших ванну. Удобств ноль, но зато Есенин весь год был в «центре дел». Написал киносценарий «Зовущие зори», подал заявление в Союз писателей, подумывал о вступлении в РКП(б), просил рекомендацию у Устинова («Я, знаешь, понял, и могу умереть хоть сейчас»), наконец, заводил связи и не только с Блюмкиным, чекистом, но с наркомами, с самим Бухариным. А однажды до зари спорил о женщинах. «Женщина, – кричал, – земное начало, во власти луны. Мужчина – солнечное. Борьба между ними – борьба между чувством и разумом, борьба двух начал – солнечного и земного!» Для него, «солнечного», любовь вообще-то всегда была на третьем месте, «он к еде относился с бо́льшим вниманием». Но вот вопрос: споря о любви, вспоминал ли о Зинаиде? Всё ли знал о ее жизни, проведя свой год, как скажет, «исключительно счастливо»?
Зина в Москве поселилась в Полуэктовом (Москва, Сеченовский пер., 5). Тут у одинокой кровати ее стояло то «фото Есенина», где его рукой было написано: «За то, что девочкой неловкой предстала ты мне на пути моем». Но «неловкая девочка» окажется и толковой, и упорной. В Москву переехала вместе с правительством – работала в Наркомпроде у Цюрупы. Тот не только высоко отзовется о ней, но и Есенина зауважал скорее как мужа такой женщины. Пишут, что в Полуэктов Есенин к своей Зинон еще забегал, но всё реже и реже. Она же, силясь удержать его, решится на второго ребенка. Увы, сына он не признает. Вот тогда, в самый голод, с младенцем на руках, она и попадет в нищий приют, в Дом матери и ребенка (Москва, ул. Остоженка, 36). Сначала тяжело заболеет сын, а следом и на нее навалятся волчанка, тиф и – чуть ли не помешательство. Она поднимется, сама подаст на развод, а он в суде подпишет бумагу: «Наших детей оставляю у моей бывшей жены, беря на себя материальное обеспечение их». Официально отцовство признал, да. Но как было забыть ей ту сцену в поезде, в Ростове, где они встретились случайно? К несчастью, в присутствии третьего – злого гения поэта…
Вообще всё началось с кулька соленых огурцов. Есенин так хрустел ими, что холеный денди даже позавидовал. Денди этот – Анатолий Мариенгоф.
Из воспоминаний А.Мариенгофа: «Стоял теплый августовский день. Мой стол в издательстве помещался у окна. По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: «МЫ ТРЕБУЕМ МАССОВОГО ТЕРРОРА!». Меня кто-то легонько тронул за плечо: «Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством?..» Передо мной стоял паренек… Волосы волнистые, желтые… Большой завиток как будто небрежно (но очень нарочно) падал на лоб. Завиток придавал ему схожесть с молоденьким хорошеньким парикмахером из провинции. И только голубые глаза (не очень большие и не очень красивые) делали лицо умнее…»
Так познакомились. С того дня Сергей приходил сюда ежедневно и, присаживаясь, клал на стол «желтый тюрячок» с огурцами, откуда струйки рассола пятнами расползались по рукописям. Издательства того давно нет, оно стояло на месте нынешней Думы. Но именно здесь возникнет имажинизм и здесь, не без забулдыжной дружбы с Мариенгофом, натянется в душе поэта какая-то тревожная струна, которая многое изменит и в стихах, и в жизни его.
«Так, с бухты-барахты, не след идти в литературу, – учил Есенин Мариенгофа. – Искусную надо вести игру, тончайшую политику. А еще не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят…» И вздыхал: «Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботинках и с пробором волосок к волоску». Назовет потом его своей «тенью», скажет, что ему нужна была тень, скользящая за ним. Но эта «тень» и накроет его с головой…
Знаете, каким он был в том доме, в коммуналке, где поселится вскоре с Мариенгофом (Москва, Петровский пер., 5)? Если одним словом – чистым. Скажем, однажды, еще в 1919-м, когда Мариенгоф вернулся под утро и, найдя Есенина спящим в обнимку с бутылкой из-под сивухи, спросил изумленно: «Ты пил один?», Есенин в ответ заорал: «Да. Пил. И пить буду, ежели по ночам шляться станешь. С кем хочешь хороводься, а ночевать дома!..» Вот какие правила были у него – комнатного, почти непьющего и ценившего само понятие «дом». Его даже святым назовут в этом доме! Так окрестит друзей одна молодая поэтесса, которую они в дикие холода шутя наняли на «жалованье машинистки», чтобы она всего лишь грела им постель. «Пятнадцатиминутная работа», посмеивались, и обещали сидеть к ней спиной и не смотреть, как она раздевается. Так вот, девица, вообразите, через три дня бросила их. «Я не нанималась, – крикнула, – греть простыни у святых…» И именно в этом доме, на котором ныне висит мемориальная доска в честь поэта, «тенью» станет уже не Мариенгоф у Есенина, Есенин – у него. Почему? – неведомо. Но один из свидетелей напишет потом: «Есенин ходил в потрепанном костюме, играл в кости и на эти “кости” шил пальто (у Деллоне) Мариенгофу. Ботинки заказывал у самого дорогого мастера, а себе покупал дешевые сапоги на Сухаревке»… Вот как поменялись местами «тени»…
Не знаю, приходила ли в коммуналку Зина, но именно ее высмеет жестоко Мариенгоф. Про нее, женственную, реально красивую, появление которой вызывало «электрическое поле», напишет: дебелая дама, с чувственными губами на круглом, как тарелка, лице, с задом величиной с ресторанный поднос, с кривыми ногами. Напишет в конце 1930-х, зная уже, что ее убили, и убили – зверски. «Джентльмен», короче! И, чуть ли не четверть мемуаров посвятив тряпкам своим (если перчатки, то лайковые, если пиджак, то – с блестками), не вспомнит про нищету ее, про то, как после тифа Зина ходила стриженной, в старой кожанке, едва не болтавшейся на ней. Она, как я сказал, поднимется! Станет заведовать подотделом народных домов и клубов Наркомпроса. Так будет работать, что ей дадут «личный выезд» – пару гнедых. Но если говорить о разводе с Есениным, то, как пишет дочь их, именно Мариенгоф «с помощью выдумки спровоцировал ужасающую сцену ревности». Тот, правда, вспомнит иначе: «Не могу с Зинаидой жить, – якобы сказал ему Есенин. – Вбила себе в голову: “Любишь ты меня, Сергун”. Скажи ты ей, Толя, что есть у меня другая, с весны, мол, путаюсь и влюблен…».
Как было на деле, неведомо. Известно лишь, что все трое случайно встретятся в Ростове. Друзья ездили со стихами по России, а Зина везла на юг Костю, трехмесячного сына поэта. Есенину обрадовалась сначала, но, увидев, как он, заметив ее на перроне, круто развернулся, кинулась к Мариенгофу. «Я еду с Костей. Он, – кивнула в спину Сергея, – его не видал. Пусть зайдет, взглянет. Если не хочет со мной встречаться, могу выйти из купе». Мариенгоф уговорит поэта, и тот, хоть и сдвинул брови, но в купе пошел. Зина, пишут, торопливо развязала ленты кружевного конвертика. Может, гордо глянула на мужа – сын все-таки. «Фу-у-у! – глянул на ребенка Сергей. – Черный. Есенины черные не бывают…» Она крикнула: «Сережа!» – и из глаз ее брызнули слезы. Но он даже не обернулся, вышел «легким танцующим шагом». Считайте – навсегда вышел…
За год до смерти напишет стихи Джиму, собаке Качалова. Помните? «Мой милый Джим, среди твоих гостей // Так много всяких и невсяких было. // Но та, что всех безмолвней и грустней, // Сюда случайно вдруг не заходила? // Она придет, даю тебе поруку, // И без меня, в ее уставясь взгляд, // Ты за меня лизни ей нежно руку // За все, в чем был и не был виноват». Поэзия не предала – «дудка» пропела правду. А ведь он, когда Райх вышла за Мейерхольда, всюду трындел на манер частушек: «Ох, и песней хлестану, аж засвищет задница. Коль возьмешь мою жену, буду низко кланяться. Уж коль в суку ты влюблен, в загс да и в кроваточку. Мой за то тебе поклон будет низкий – в пяточку…» Частушки Мейерхольду, стихи – Зине. Где же правда, спросите? А нигде!.. Просто он такой! Но даже женщины, жившие с ним потом, – все говорили: по-настоящему он любил только Зину. А она – его.
«Прощай, моя сказка», – крикнет Зина, когда умрет поэт, и обнимет его детей: «Ушло наше солнце!». Может, глядя на детей, вспомнит, как за три года до смерти он рвался к детям глубокой ночью. Они с Мейерхольдом жили тогда на Новинском (Москва, Новинский бул., 32). А Есенин, напившись в дым, уговорит собутыльника пойти сюда в четвертом часу утра. Поздно, люди спят, будет отговаривать его приятель. Но поэт решительно поднимется на второй этаж и будет трезвонить в квартиру, пока в щель через цепочку не выглянет Мейерхольд. На вопрос «В чем дело?» Есенин, заливаясь слезами, попросит показать ему детей. Они спят, скажет Мейерхольд и захлопнет дверь. Но Есенин будет дергать ее, и стучать, стучать и дергать, пока на пороге не возникнут и режиссер, и Зина со спящими детьми. Сергей молча поцелует их, а потом, сидя до рассвета на бульварной скамье, будет пьяно спрашивать в пространство: как, ну как могло случиться, что дети его – не с ним?..
Отсюда, с Новинского, Зинаида уедет с мужем в свой последний дом, где ее и убьют. Она станет знаменитой актрисой. Ей будут аплодировать в Берлине и Париже. Но если и ныне вы свернете с Тверской в Брюсов, то в сером доме слева сразу упретесь взглядом в балкон второго этажа. Через этот балкон в ночь на 15 июля 1939 года, путаясь в желтых занавесках, убийцы и проникли в квартиру Райх, чтобы нанести ей восемь ножевых ран. Дом вообще-то был особый, «дом артистов», здесь жили Берсенев, Гиацинтова, Кторов (Москва, Брюсов пер., 12). Но на помощь не пришел никто, хотя она, пишут, кричала. Убийцы знали: в квартире две женщины – она и старая домработница. Сын от Есенина, девятнадцатилетний Костя (он жил тут с матерью) накануне уехал к родне, а их дочь Татьяна ушла за три часа до налета. Нет, громилы шли наверняка, ведь за месяц до того к ней умело «подвели» юношу, который успел стать своим в доме. Он и забежал накануне, сразу, как ушла дочь. Проверял, нет ли лишних… Говорят, Райх в момент нападения шла из ванной, что, получив первый удар, закричала: «Спасите, убивают!» Домработница, кинувшись к ней, заохала: «Что вы? Что вы?» – и получила по голове – мимо пронесся один из убийц и вывалился на лестницу. Домработница выбежала за ним, и дверь за ней захлопнулась. И Гиацинтова, и Берсенев – все видели потом кровавые пятерни, которые оставил бандит на стенах подъезда. А в квартире, пока искали дворника, пока тот отказывался ломать дверь до милиции, истекала кровью Зинаида Райх. Убийц ждала за углом черная «эмка». Их так и не найдут. Исчезнет навсегда и «свой» юноша, и даже дворник. А Зина, Зиночка, Зинон умрет, по слухам, по дороге в больницу в «скорой».
Зато не слухи – факт! – что квартиру Зины и Мейерхольда сразу разделят и в одну вселится личный шофер Берии, а в другую – восемнадцатилетняя красавица из энкавэдэшного секретариата его. Имя ее – Вардо Максимилишвили. Эта Вардо проживет здесь, с ума сойти, пятьдесят три года. Эти ничего не боялись: ни крови, ни слухов, ни судов, ни нас – потомков. Они ведь пришли навечно! Красавицу выселят отсюда, когда ей будет за семьдесят, в 1991-м, по личному приказу, кстати, председателя КГБ Крючкова. Это тоже факт. И – главная улика, указывающая на тех, кто же убил жену Есенина.
Нарушитель… мира
«Я всё себе позволял», – не раз говорил Есенин. Зачастую, кстати, вне всякой связи с любым разговором. Замолчит, уставится в одну точку и, словно заглянув в себя, скажет: «Я позволял себе всё…»
Вообще, ему хотелось славы не ниже Пушкина, а его числили поэтом крестьянским. Он ждал признания ценителей стиха, а популярность нашел у портних да парикмахеров. Наконец, он воспевал в революции чистоту и справедливость, а они почти сразу обернулись враньем и диктатом. Может, потому позволял себе всё? Странно: никто из биографов не обратил внимания на эту фразу. А ведь она – ключевая. Тем более что и окружение поэта на все даже страшные поступки его снисходительно кивало: «Сереже – всё простительно». Может, потому и позволял всё, что – «простительно»?..
«Мне страшно за Есенина, – скажет о нем вчерашняя гимназистка и уже поэтесса Надежда Вольпин. – Точно он идет с закрытыми глазами по канату. Окликнешь – сорвется…» Скажет до сумеречного эпатажа, пьянок его, до знакомства с Дункан и жизнью, от которой он и сам будет зажмуривать глаза. Осенью 1919-го Надя именно что «окликнет» его и сама же испугается. В «Домино» это случится, в кафе Всероссийского Союза поэтов, которое стояло на углу Тверской и Георгиевского переулка (Москва, ул. Тверская, 4).
Странное было место. Тут разве что на помеле не летали. Пишут, что над входом, на втором этаже, висела огромная вывеска «Больница для душевнобольных». Там, на втором, была некогда лечебница, но если хоть примерно знать, что творилось на первом, то лучше этой вывески для кафе и придумать было нельзя. Под стоны скрипки, под прибитыми на стене – эпатажу ради! – старыми портками поэта Каменского тут до утра тусовались комиссары и спекулянты, проститутки и «недобитые буржуи», чекисты и бандиты с Тишинки. Богатая шуба сидела с курткой студента, длинная шинель буденновская – с комиссарской кожанкой, овчинный кожушок – с пальтецом, подбитым ветром. А бледные поэты, жалкие на вид, не стесняясь уже засаленных пиджачков, церемонно целовали еще руки у жалких подруг и вели споры, кто из них гениальней. Именно тут Есенин крикнул Пастернаку: «Ваши стихи косноязычны… Народ вас не признает никогда!» Дело, пишут, дойдет до драки, и, когда его спросят, зачем ему это всё, Есенин ответит: «На одном таланте не уедешь. Скандал, особенно красивый, помогает…» Именно здесь, вполоборота, он на ходу бросит Мандельштаму: «Вы плохой поэт!.. У вас глагольные рифмы!» – хотя в тот же вечер признается, и как раз Наде Вольпин, что если есть поэт, чьи стихи прекрасны, то это – Мандельштам. Наконец, здесь поссорится с Маяковским. Подойдет попросить папиросу. Тот откроет портсигар: «Пожалуйста!». А когда Есенин протянет руку, щелкнет им перед носом его: «А впрочем, – скажет, – не дам я вам папиросу!..» Все запомнят на лице Есенина неизбывную, почти детскую обиду. Уж не оттого ли он крикнет потом ему: «Россия моя, а ты… Ты американец!» И здесь, в этом кафе, Надя Вольпин, девочка, которая через пять лет родит ему сына, решится подойти к нему. Его просили выступить, в афише уже стояло его имя. «А меня вы спрашивали? – заартачился он. – Так и Пушкина можно вставить в афишу!» И вот тогда Надя, трусиха, «урод безлюбый», как звала себя, встала: «Прошу вас от моих друзей и от себя. Мы вас никогда не слышали, а ведь знаем наизусть». Поэт, пишут, вскочил и учтиво, представьте, поклонился: «Для вас – с удовольствием!..» Ну, а потом была та история со шляпой. Просто в теплый весенний день он подсядет к ней как-то в соломенной шляпе с плоским верхом. «Вам не к лицу», – вырвется у нее про модное тогда канотье. И тогда он, пробив каблуком дыру в шляпе, размахнется и прямо из центра зала метко запустит ее в открытое окно. Нет, черт-те что поражает воображение девчонок-поэтесс! Но так началась любовь.
Теперь что ни вечер он поджидал ее у МХАТа – она ради бесплатных обедов работала библиотекарем в военном госпитале, в доме напротив театра (Москва, Камергерский пер., 4). Тут подарил ей вышедшую книгу: «Надежде с надеждой!» Галантно тряхнул шевелюрой, руку – кренделем: «Позвольте проводить». И, сказав, что в войну он тоже служил в госпитале, только в Царском Селе, стал вдохновенно заливать девице, как на задворках дворца целовался с дочерью государя Анастасией и как та, когда он проголодался, принесла ему с кухни горшочек сметаны, которую они ели одной ложкой. Врал, конечно! Надя, начитанная, сообразит, что Анастасии тогда было едва ли пятнадцать, и поцелуев в принципе не могло быть, но – промолчит. Она вообще была умненькой. Она и про надпись на книге – «Надежде с надеждой» – всё поняла. Тем более что скоро, да почти сразу, переживет первую бурную атаку его. Это случится в двухэтажном домике на Никитской, где Есенину и его друзьям-имажинистам позволят открыть собственный кооперативный магазинчик, книжную лавочку «Трудовой артели художников слова» (Москва, ул. Большая Никитская, 15). «С ума сошел, – скажет Надя, натягивая юбку на колени, – прямо перед незанавешенной витриной…» Окно и ныне цело, а рядом с ним – доска в его честь. Но в тот вечер, когда остались вдвоем, он, смущенный ее отказом, сядет у догоравшей печи и, туша досаду, потянется: «Эх, полюбить бы по-настоящему! Или тифом, что ли, заболеть?» Про тиф сказал к слову; просто врачи утверждали тогда, что сыпняк несет обновление не только телу, но и душе. Но две вещи скажет вполне серьезно. Когда заспорят о словах и Надя кинется за Далем, он крикнет: «Проверять? Зачем? Язык – это я!..» А на вопрос, боится ли старости, скажет: «Я недотяну. Мне бы десять лет еще. Больше не хочу…» И впрямь канатоходец, и впрямь – сорвется…
Слова «я всё себе позволял» он тоже впервые скажет при ней. Это случится на Богословском, где он станет жить у поэта и переводчика Короткова, который звал себя поэтом Рокотовым (Москва, Богословский пер., 3). Сюда на блины будут приходить к нему Зинаида с Мейерхольдом, пару раз зайдет позже и Айседора. А с Надей, возможно, здесь и случится то, что должно было случиться. «Девушка», – шепнет он изумленно. И дико спросит: «Как же вы стихи писали?..» А на кухне коммуналки, в другой уже раз, вдруг признается: «Мы так редко вместе. Твоя вина. Да и боюсь я тебя! Знаю: могу раскачаться к тебе большой страстью…» Она будет гадать потом: почему боится? И поймет: глупого счастья боялся… Бытового счастья.
12 мая 1924 года Надя родит ему сына. Но расстанутся раньше и, представьте, на крыше одного из московских домов. Я долго, очень долго искал его. Было как в задачке. Дано: Надя жила в Глазовском – раз, в общежитии Коминтерна – два, на седьмом этаже, откуда любила выходить на крышу, – три! Именно туда, на крышу, и привела Есенина, когда он навестил ее. Не было в задачке лишь номера дома. Ищи, что называется, свищи! Я и искал, раза три прошел по переулку, но дома в семь этажей не было. В отчаянии зашел в подъезд дома в шесть этажей – самого высокого, дома, к которому подъезжали официальные машины, у которого была парковка с охранниками в форме и, увы, – не было вывески (Москва, Глазовский пер., 7). Здание оказалось мидовским. Моих объяснений про Надю, про поэта, про крышу битюги в форме даже слушать не стали: идите, если хотите, к Сергею Константиновичу, к коменданту. Я поплелся, конечно, и, без всяких надежд, путано объяснял мужику при галстуке всё то же: крыша, Надя, Есенин. Он слушал без интереса. Встрепенулся лишь при слове «Коминтерн». «Всё, что вы говорите, – сказал, – я про то ничего не знаю, но в 1920-х в этом здании действительно было общежитие Коминтерна». – «А как же седьмой этаж? – чуть не подпрыгнул я. – Ведь Надя пишет, что жила на седьмом?» – «Не знаю, что там пишет ваша Надя, – отрезал «галстук», – но там, наверху, есть мансардный этаж, его с улицы не видно…» Так был установлен еще один адрес, где бывал поэт. И так, написав кучу просьб в МИД, я с телевизионщиками, с кем снимал четыре серии о Есенине, попал на эту крышу. Это стоило хлопот! Надя ведь про крышу вспоминала: «Стоим у балюстрады, совсем низенькой». «Если вас это повеселит, – сказала она ему, – могу спрыгнуть вниз». Есенин, пишет, как-то всерьез испугался и даже потянул ее от края. Ей показалось – она прочла в его глазах! – что он и сам испугался соблазна прыгнуть. Могло, вполне могло быть такое; он ведь вот-вот должен был уехать с Айседорой за границу – тоже смертельный прыжок в судьбе. Но на крыше вдруг спросил: «Будешь меня ждать?». И сам же ответил: «Знаю, будешь!» А она, помнит, подумала, что с Айседорой он, кажется, воображает себя Иванушкой-дурачком, покоряющим заморскую царицу. «Лель» из сказки…
Из дневника Рюрика Ивнева, поэта: «Есенин… Я его очень люблю, но ужасно неприятно иметь с ним дело. Он – хищник, интриган, коварный, вот уж на кого нельзя положиться. И все это под ласковой улыбочкой… Его скандальная связь с Дункан (старухой по сравнению с ним) не может быть оправдана ничем… Он сам не сознает, как он жалок в роли “альфонса”… Вел себя ужасно: напился пьяным, ругал Айседору и “жидов” на весь ресторан. Любимое выражение: “е…л я всех”. Кроме этого, другие ругательства и выражения вроде этого так и сыплются у него из уст. Зал был шокирован… Но в то же время это такой громадный талант, что ему можно простить всё, даже убийство…»
А как вам такой факт: в Париже Есенину вилкой проткнули ухо. Это не легенда. Шрам «не без гордости» он показывал друзьям. Ну-ка представьте, что вилкой, да еще в ухо, засадили Блоку, Вячеславу Иванову, Ходасевичу или кому еще – из великих. Гумилеву – не дай бог! А Есенин – он словно весь в этом факте! Отчего? Да оттого, думаю, что позволял себе всё. Но абсолютно «всё» стал позволять себе после 21 сентября 1921 года, после задуманной в тот день встречи, кстати, в день рождения своего. Такой вот «подарочек» себе…
Встреча случилась в доме, известном нам как дом, где завелась нечистая сила. Тут жил у матери поэт Шершеневич, художник Кончаловский, тут обитала Фанни Каплан и отсюда пошла стрелять в Ленина. Но главное – тут жил Михаил Булгаков и в «нехорошей» квартире поселил здесь самого Сатану – Воланда (Москва, ул. Большая Садовая, 10). Но мало кто знает, что здесь, и тоже в «нехорошей» квартире, только в мансарде, «Сатаной» реально назвала Есенина одна «шармантная» женщина, которую он в те дни до невозможности хотел увидеть. Женщину звали Дора Энджела Дункан – Айседора, которая станет его женой. А квартира № 38, мансарда, где они встретились впервые, – мастерская художника Жоржа Якулова. Окно от пола до потолка, дорогой ковер, мольберт, афиши по стенам. Тут же стоял длинный стол, изготовленный по эскизу хозяина. Справа за аркой еще комната: секретер, диван, два кресла. В тот сентябрьский день обещали быть Таиров, сам Мейерхольд. На стол гости несли колбасу, хлеб, дыни, конфеты, фисташки – кто что захватил. Кто-то достал вино, продажа его тогда была запрещена законом. И в полночь, в разгар веселья, дверь отворилась, и все увидели Айседору, мокрую от дождя. С ней были Ирма, ее приемная дочь, и секретарь Илья Шнейдер. Нерусская речь тут же запрыгала по комнатам – Айседора «отстреливалась» на трех языках. А из угла с кресла, склонив набок «подсолнух», на нее не мигая смотрел Есенин. Она, пишут, поймала его взгляд, ответила долгой улыбкой и поманила к себе. Что было дальше, помнят по-разному. Но три факта приводят все. Как поэт в восторге вскочил на стол и стал читать стихи. Как она обняла его и смело поцеловала в губы. И как в комнате, уже за аркой, он сидел на полу, а она, лежа на диване, запускала руки в его волосы и твердила: «Золотая голова! Ангел! Сатана!..» Причем, «золотая голова» говорила нараспев и, неожиданно, по-русски. Ему в тот день стукнуло двадцать шесть, ей было сорок два. Ничего общего. Кроме одного: оба были «божьи дудки» и чуяли это друг в друге без толмачей.
Уехали в четыре утра. На улице поймали заспанного извозчика. Есенин сел с Айседорой. «Очень мило, – крякнул Шнейдер, секретарь ее. – А где ж я сяду?» – и прицепился на облучке. Именно он напишет, что на Пречистенке сонный извозчик в третий раз, не замечая этого, объедет вокруг какой-то церкви. «Эй, отец! – крикнет ему. – Ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви едешь в третий раз!» Есенин, оторвавшись от бессловесных поцелуев, подхватит: «Повенчал! Повенчал!..» Вздрогнет и Айседора: “Marriage, мarriage!” До официальной регистрации их брака оставалось ровно полгода.
Айседору позвал в Россию сам Луначарский. Приехала – «за бесплатно».
Из письма А.Дункан – А.Луначарскому: «Я не хочу и слышать о деньгах за мою работу. Я хочу студию для работы, дом для меня и моих учеников, простую еду, простые туники и возможность показывать наши лучшие работы. Я устала от буржуазного коммерческого искусства…»
Приехала, но на вокзале ее не встретили. Она, повидавшая мир (только в России, начиная с 1904-го, была шесть раз), любила повторять: «Если сомневаешься, где остановиться, иди в лучший отель». Но когда июльским вечером 1921 года ступила на московский перрон, выяснилось: в красной столице отелей вообще-то нет. Действующих. В «Савойе», в нынешней бликующей каждым камушком гостинице (Москва, ул. Рождественка, 3/6), куда добралась со спутницами, на первом этаже, в нынешнем ресторане, стоял огромный грязный стол, где заросшие мужики в пальто и шляпах дружно хлебали из мисок какое-то варево. «Хау ду ю ду, товарищи!» – ослепительно улыбнулась им Айседора. В ответ – молчание, колючие глаза. Первую ночь провела втроем со спутницами на одной кровати без простыней и подушек, но – с клопами и крысами по углам. А ведь приехала с «великой миссией» – открыть школу танца для детей рабочих и крестьян.
Через два месяца ей отдадут под школу целый пречистенский дворец (Москва, ул. Пречистенка, 20) – когда-то дом Ермолова, героя 1812 года, а потом – примы-балерины Балашовой, слинявшей в эмиграцию. По иронии судьбы, не могу этого не сказать, Балашова в Париже к тому времени уже поселилась – это и невероятно! – как раз в бывшем особняке Айседоры (Париж, ул. Де Ла Помп, 99), где у той бывали когда-то и Габриэль д’Аннунцио, и режиссер Гордон Крэг, и даже знаменитый Нижинский, гордость русского балета. А здесь, на Пречистенке, где шикарная мраморная лестница вела на второй этаж, где среди колонн стояла в нише статуя Афродиты, жили после революции исключительно семьи рабочих. Их, разумеется, по-тихому выселят. А к Айседоре, в два зала на втором этаже, и переедет Есенин. Явится с газетным свертком под мышкой (пара чистых рубах и кальсоны) и с деревянной скульптурой своей работы Коненкова… Нет, Айседора не была тургеневской девушкой, как мечтал. Десятки любовников – от того же Крэга до сына миллионера Зингера, двое внебрачных детей, клеймо куртизанки века – это не молва. В Россию, как ехидно заметит Ходасевич, ринулась «в поисках второй славы и второй молодости». Но именно слава ее и поманила поэта; ему казалось, что, сойдясь с Айседорой, он сразу обретет мировое признание. Где-то тут, в доме на Пречистенке, посреди гостиной, был теперь его письменный стол, рядом стояла тахта, покрытая ковром. Ничего особенного, но он, в пестром халате, любого встречал словами: «Видишь, живу по-царски!» Приятелей убеждал: «Она не старая, она красивая женщина. Но вся седая (под краской). Вот как снег. Она настоящая русская. У нее душа наша». А Айседора полюбила его так, что учила по шпаргалкам русские фразы: «Моя последняя любовь», «Я готова целовать следы твоих ног». И на огромном зеркале вывела мылом: «Я лублу Есенина». Он, пишут, вырвал мыло и, неожиданно для всех, написал: «А я – нет». Только через полгода, накануне отъезда за границу, сыграв свадьбу с ней, сотрет эти слова и напишет: «Люблю Айседору»…
Что такое любовь поэта, мы так и не узнаем. А вот что такое унижение – узнаем. Оно случится в Театре оперетты, куда Есенин и Мариенгоф явятся на концерт Айседоры. Именно тут, из соседней ложи, услышат вдруг голос. «Ну и зрелище, – потянет кто-то за перегородкой, – груди болтаются, живот колышется». – «Дуся, ты абсолютно прав, – ответит голосу сосед. – Бабушке только в Сандунах и кувыркаться». На Есенина, запомнит Мариенгоф, было страшно смотреть. «А сколько ей лет, Жорж?» – не унимались за перегородкой. «А черт ее знает! Говорят, шестьдесят четыре. Она еще при Александре III плясала. Дунька-коммунистка!..» Есенин, пишет его друг, заскрипел зубами: «Пойдем, Толя!..» Но стоило им подняться, как соседи, увидев их, зашептали: «Есенин! Смотри, Есенин! Муж! Ха-ха! Муж старухи!..» Разве такой славы искал он? И не оттого ли алкоголь стал действовать на него, как динамит?.. Драки, пьянки, разбитые окна и сервизы, вызванная полиция в отель «Крийон», где остановились (Париж, пл. Согласия, 10), какие-то больницы и даже психушка, куда затолкает его Айседора, – вот его турне по заграницам. Мир не принял его – причина в этом. Вернее, принял, но как юного альфонса стареющей и взбалмошной мировой звезды.
Из книги И.Дункан, А.Р.Макдугалла «Русские дни Айседоры Дункан»: «Он был капризным, упрямым маленьким ребенком, а она была матерью, любящей его до такой степени, что прощала всё и смотрела сквозь пальцы на его вульгарные ругательства и мужицкое рукоприкладство. И сцены любви и счастья обычно следовали за сценами пьянства и побегов… Но однажды, застав ее рыдавшей над альбомом с портретами ее погибших детей, он выхватил его и швырнул в огонь: “Ты слишком много думаешь об этих… детях!..”»
Заграничные газеты наперебой сообщали о его скандалах, самых безобразных. «У нее синяк под глазом, – писали. – Он дует водку из горла. “Сядь, идиот!” – шепчет Айседора. “Отвали, кобыла!” – хохочет он и льет ей на голову шампанское. “Где дамская комната? – спрашивает она. – Меня сейчас вырвет”. – “Не стесняйся, старая сука, блюй прямо здесь”». А Роман Гуль напишет как-то: «Он опять был вдребезги пьян, качался, в правой руке держал фужер с водкой и вместо стихов “крыл” публику. Ему крикнули: “Перестаньте хулиганить! Читайте стихи!” – “Стихи?! Пожалуйста!”» Читал их нутром, душой. А когда прочел строки об отце и матери: «Они бы вилами пришли вас заколоть // За каждый крик ваш, брошенный в меня!», зал взорвался овацией. Пьяный, жалкий, несчастный, он покорил – победил их…
В Берлине, на обратном пути, бросив навсегда Айседору в Париже, дал интервью газете «Нью-Йорк уорлд»: «Я не буду жить с Дункан за все деньги, какие есть в Америке. В Москве подам на развод. Я был дураком, женился ради денег…» А через день, в тоске, телеграфировал ей, умоляя ее, тяжело заболевшую, срочно приехать. Она заметалась: «Мне всё равно, что он натворил. Я люблю его, и он любит». С подругой взяла авто и через Лейпциг, Страсбург к десяти вечера домчалась до Берлина. «Когда подъехали к его отелю, – пишет подруга, – Есенин одним прыжком оказался в нашей машине, перемахнув через радиатор, мотор, через голову шофера, прямо в объятия Изадоры. Так они и замерли, держа друг друга в руках. Его золотые волосы развевались. Прыгая в машину, он сорвал шляпу и отшвырнул ее. Такой красивой Айседору я больше не видела. Разве только в день ее смерти»…
Расстанутся в России. Вдрызг пьяный, он явится на Пречистенку за деревянным бюстом своим, тем самым, работы Коненкова. Тот стоял на комоде, но Есенин, шатаясь, влез на стул, потянул бюст на себя и под тяжестью его рухнул. Долго сопя, поднимался, а потом, прижав к груди деревянное изображение свое, выбежал на улицу. Больше Айседора не увидит его. Переживет поэта на два года. В 1927-м, не ведая завтрашнего дня, даст последний концерт в театре «Могадор» (Париж, ул. Могадор, 25). И тогда же, в 1927-м, пять тысяч парижан проводят ее гроб на Пер-Лашез из последнего дома (Париж, ул. Деламбр, 9). Перед смертью влюбится сначала в гоночную машину «бугатти» с открытым верхом, а затем во владельца ее, поразительно красивого юношу. Тот пригласит звезду покататься. Айседора, пишут, обмотает вокруг шеи красный шарф, который помнила вся Россия, и, сев в автомобиль, весело крикнет друзьям: «Прощайте, я иду к славе!» Машина проедет двадцать метров. Шарф попадет в колесо и – станет для нее смертельной петлей. Совпадение, конечно, но умрет от удушья, как умер ее единственный муж, «божья дудка» – Сергей Есенин.
Шарф Айседоры толпа разорвет на тысячу кусков. Тоже – совпадение: ведь точно так же разорвут и галстук Есенина после одного из выступлений. Толпа – везде толпа! А он с грустью скоро признает не в стихах – в прозе: «Я очень здоровый, – напишет, – и ясно осознаю, мир болен. Отсюда взрыв, который газеты называют скандалом. Я нарушил спокойствие мира». Вот чего нельзя было делать – сотрясать мир. А он оставшиеся ему дни только этим и будет заниматься. Мир должен, обязан его признать! И – точка!
«С такими глазами не предают…»
Забавно, но Луначарский, нарком культуры, приглашая Дункан в Россию, пообещал: танцевать ей разрешат даже в храме Христа Спасителя. Не в балаклаве, конечно, но – босиком и, как привыкла, – в прозрачной тунике. Такие вот курбеты истории. А Есенину, может, именно этот храм и навеял в конце жизни те строки, помните: «Стыдно мне, что я в бога верил. // Горько мне, что не верю теперь…» Стыдно да горько…
Дважды встретил я упоминание храма Христа в мемуарах о нем. И встречи были как в начале, так и в конце его жизни. «1916-й. Россия падает, – пишет поэт Клюев. – Мы идем с Сереженькой по Москве и уже в третьем часу ночи заходим в храм Христа Спасителя. И тут от стены отделяется схимница в черном платке по брови и, обращаясь к Есенину, говорит: “Уходи отсюда, висельник!..”» Вы – поняли?! Как могла она знать, крикнуть «висельник» за десять лет до его петли? А за год до нее именно здесь, у храма, сама природа даст ему знак о гибели. Он и поэт Эрлих, кому посвятит последний стих, шли мимо, когда оттуда-то сверху, из-за куполов, метнулась вдруг ласточка. С писком пролетев рядом, чиркнула крылом по щеке Есенина. «Смотри: смерть, – застыл он, – поверье такое есть, а какая нежная». И – улыбнулся. Он, не верящий в Бога, к тому дню не только не боялся смерти – играл с нею. То наберет телефон сестры своей подруги: «Вы знаете, Есенин умер, приезжайте!..» То вдруг попросит написать о себе некролог: «Преданные мне люди устроят мои похороны. Я скроюсь на неделю. Посмотрим, как напишут обо мне. Увидим, кто друг, кто враг!..» Но в окружении своем, в друзьях и врагах, разбирался все меньше и меньше.
Из воспоминаний С.Виноградской: «Они умели и пожить, и попить, и поскандалить за его счет, а когда требовали к ответу – укрыться за его спиной. Есенин-де известный хулиган, а мы уж по слабости да по дружбе попались. Наскандалив, они требовали, чтобы Есенин их выручал, а попавши в переделку, обивали пороги редакций с заявлениями и обвинениями во всем Есенина… Вылив помои клеветы на него, чтобы спасти свою шкуру, они на другой же день, как ни в чем не бывало, являлись к нему, клялись в любви и… брали взаймы денег…»
Об этом чуть ли не теми же словами пишут Эренбург, Наседкин, Вс.Рождественский, Никитин, Шнейдер, Клейнборт. Но странно: никто не называет имен этих «друзей». Ну, допустим, Ганин, давний друг поэта. Ну, Аксельрод. Ну, может, Савкин, был такой поэт, или некий журналист Борисов-Шерн, который за деньги Есенина покупал себе даже проституток. А кто еще?.. Николай Старшинов, поэт уже нашего времени, рассказывая об Алексее Крученых, который, как сказали бы ныне, «позиционировал себя» лепшим другом всех поэтов, вдруг напишет про него: «Только через многие годы узнал я о зловещей роли Крученых в судьбе Есенина, которого он постоянно травил при жизни, и о его чудовищном заявлении: “Я счастлив, что первый приложил руку к гибели Есенина…” Вот что было скрыто под маской доброго любителя чудачеств…» Да, друзей Есенин делал врагами, а врагов – «друзьями». Но главное, не знал того, что мы знаем: что почти все друзья его работали на ГПУ. И – Эрлих, говорят. Так что поэт оказался в петле задолго до петли веревочной. Но вот вопрос: с Эрлихом ли прощался он в том последнем стихотворении, написанном кровью в «Англетере»? Неужто и в смертный миг не понял, кто есть кто в его жизни?..
В последний год любая неделя его делилась уже на две неравные части. Четыре дня бешено пил, три – бешено работал. За день мог написать семь стихов. Как только сердце выдерживало и угорелую пьянку, и угарный труд?! Однажды почти за руку вытащил приятеля Мотю Ройзмана, поэта, на Тверской бульвар. «Пойдем, – тянул его. – Третий день над строфой бьюсь, ни черта не выходит. Ты рядом иди, не подпускай никого!..» Есенин, пишет Ройзман, шел, опустив голову, никого не видя, что-то шепча, бормоча и даже взмахивая руками. У памятника Тимирязеву, вернее там, где он встанет, кинувшись к скамье, лег на нее и круглыми буквами записал четыре строчки. Сел, прочел их и, взъерошив волосы, крикнул: «Вышло!» А у другого памятника на Тверском, у Пушкина, сидел как-то с Мариенгофом и Надей Вольпин. «Ну, как, – сверху вниз спросил Надю Мариенгоф, – теперь поняли, что такое Есенин?» «Вы как на ладони, – усмехнулась она. – А Сергей… Думаете, он старше вас на два года? Нет, на много веков. Его вскормила Русь, и древняя, и новая!» Так ответила, в сущности, девочка еще! Может, потому и вырос ныне между Пушкиным и Тимирязевым памятник Есенину? Кстати, лежа на скамье, он дописывал стих «Сторона ль ты моя, сторона!» Неизвестны лишь те четыре строчки. Но, может, – эти: «Только сердце под ветхой одеждой // Шепчет мне, посетившему твердь: // “Друг мой, друг мой, прозревшие вежды // Закрывает одна лишь смерть”…»?
Вежды современников поэта прозревали не сразу. Знаете ли вы, что Бунин, к примеру, обозвал Есенина «мошенником»? Лирика его, написал, – «лирика мошенника, который хулиганство сделал выгодной профессией». Зло сказал, но «сермяга» в его словах есть. Есенин ведь не имел ни малейшего шанса стать великим. Ни дворянства, как у Бунина, ни двухсотлетней культуры, как у Блока, ни учителя, как у Пушкина Жуковский, ни среды, ни даже высшего образования – ничего! Лишь наказ деда: «Дерись, Серега, дерись!», да какая-то, непонятная даже ему, запевшая дудка в душе. Пел как Моцарт, не ведая, откуда берется. Отсюда, думаю, случайные личины, которые напяливал на себя. Крестьянина, хотя сохи в руках не держал, большевика, но писавшего стихи царям, денди и – тут же сразу – хулигана. «Гуляки праздного». Но как раз Пастернак, смеявшийся над ним, дравшийся с ним до крови, позже и, кажется, неожиданно для себя скажет: он был «живым воплощением моцартовского начала». Читайте – гением от природы! Это признание, да от Пастернака, дорогого стоит. Если хотите, это просто – признание!..
Того дома на главной улице Москвы давно нет, на том месте ныне на двух этажах – «Кофе-хаус» (Москва, ул. Тверская, 17). Дико, да? У нас вообще с памятью как-то наперекосяк. В этом доме жил после войны великий Твардовский, а на фасаде его не просто доска – головка бронзовая на подставке какому-то Грише Горину: «Здесь жил…». А рядом с домом, где обитал тот же Бунин и где прибита маленькая, с тетрадный лист, мраморная дощечка, сообщающая об этом (Москва, Трубниковский пер., 4), на соседнем буквально здании прет из стены огромный горельеф (ей-богу, метр на полтора!) Артему, представьте, Боровику. Уймитесь, ловчилы, папаши и мамаши! Артем, конечно, был «великий журналист», кто ж спорит, но не в пятнадцать же раз больше Бунина – первого русского лауреата Нобелевской премии?
Вот так и с домом 17 на Тверской, на месте которого стояло когда-то здание, где бывали Мандельштам, Брюсов, Клюев, Пильняк, Бабель, Мейерхольд, да та же Айседора. Но, главное, – куда три года подряд лихо подлетали коляски, сани, даже автомобили, из которых так же лихо вылетал великий Есенин. В 1919-м еще в поддевочке, после Америки – в костюме тонкого английского сукна, а однажды – в цилиндре и крылатке. Кругом грязь, навоз, семечки, одурманенные особнячки, пьяненькая часовенка рядом, пришлепнутые тяжелыми шапками москвичи, а он – в цилиндре. «Что за маскарад, Сергей Александрович?» – хохотнул знакомый. «На Пушкина хочу походить, – улыбнулся Есенин. – Скучно мне…» И – вошел в «Стойло Пегаса», кафе имажинистов, бывшее здесь. Тут он был хозяин: кафе на паях принадлежало и ему, сметливому, цепкому вообще-то. Ультрамариновые стены, стеклянные столики, диванчик для своих – «ложа имажинистов», эстрада и портреты поэтов кругом. Меж двух зеркал – лик Есенина. А слева – нагие женщины с глазами вместо пупков. Здесь поэт шел «поперек», как нитка казинета, здесь – сотрясал мир! И здесь, среди девиц, о которых «поцарапается», встретил ангела-хранителя своего – смуглую девушку с бирюзовыми глазами.
В этом кафе позволял себе даже больше, чем всё. До исподнего распоясывался. Услышав, как какой-то «жиртрест», жуя эклеры с кремом, бубнит и мешает читать стихи, крикнул: «Эй, решето в шубе, потише!..» А когда тот и ухом не повел, взял его за нос и, извиняясь нарочно по-деревенски («пордон, пордон!»), вывел вон. В другой раз, когда кто-то вякнул, что стихи его непонятны, воздев руки, прорычал: «Если я вашу жену здесь, на этом столе, при публике – это будет понятно?» А услышав свист в свой адрес, спрыгнул с эстрады и сжал кулаки так, что побелели костяшки: «Кто, кто посмел? В морду, морду разобью!..» О нем ведь только перешептывались теперь. Говорили, что схватил за бороду «чиновника от поэзии» и час окунал ее в горчицу. Что глухой ночью развесил с друзьями-балбесами доски с новыми именами улиц, и вся Тверская стала «улицей Есенина». Что на Страстном монастыре вывел крупно краской: «Господи, отелись!», и Пушкинская площадь с утра была полна православным народом и конной милицией. Что попал в ЧК, сидел в Бутырках, щипал на растопку самовара икону, гулял по гостинице голым, избил дипкурьера, а в одном притоне сам напросился на драку и его едва не зарезали. Спасала его как раз та смуглянка с бирюзовым взглядом – Галя Бениславская.
Она влюбилась в него в консерватории в 1920-м. «Добываю где-то стул и смело ставлю перед первым рядом. Почти сразу чувствую любопытный взгляд. Вот ведь нахал!..» Но когда этот «нахал», паренек в оленьей куртке, прочел «Плюйся, ветер, охапками листьев, – я такой же, как ты, хулиган», она и не заметила, как вместе с толпой оказалась у края эстрады. Через неделю, в другом зале, так же, в беспамятстве, окажется уже за кулисами, где Есенин подлетит к ней, и она («как к девке подлетел») отстранится: «Извините, ошиблись…» Но, уходя, подумает: «Такого могу полюбить. Может, уже люблю. И на что угодно пойду. Всё могу отдать: и принципы (не выходить замуж), и – тело (чего не могла представить себе), и не только могу, а даже, кажется, хочу». Через четыре года напишет в дневнике: он хам и ничтожество, а еще через год – застрелится на его могиле. От гиблой любви к нему…
Дочь француза и грузинки, Галя в свои двадцать три, несмотря на хрупкость, была вылита из стали. Бесстрашная, умная, волевая. Отлично стреляла, отчаянно скакала верхом. Золотая медалистка, член РКП(б) с 1917-го, она была едва не расстреляна сначала белыми в Харькове, где училась в университете, потом – красными, когда, переодевшись сестрой милосердия, перешла фронт – к своим. У своих три месяца сидела в тюрьме как шпионка, ей грозили стенкой, но вступился какой-то боец: «Подождем ответа из Москвы, с такими глазами не предают…» Потом жила в Кремле, в семье большевика Козловского, тот и спас ее от расстрела. И по его же совету пошла работать в ЧК. О, сколько перьев сломано биографами Есенина: доносила ли, следила, была приставлена – не была? Время, к счастью, точней всех разбирается, кто есть кто. Ныне я знаю с десяток друзей поэта, кто был сексотом, и, напротив, уверен в Бениславской. Да, работала в ЧК, но в Особой комиссии, куда входили все наркоматы и где занимались ревизией хозорганов. А вот поэту с «помощью» ЧК помогала: вытаскивала из милиции и, по его просьбе, добывала заметки о нем в заграничной печати. Впрочем, когда он через два года позвал ее замуж, Галя работала не в ЧК уже – в газете «Беднота».
Именно от газеты получила она комнату на седьмом этаже в Брюсовом (Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 1), куда переедет сначала Есенин, потом его сестра Катя, а потом и младшая Шурка. «Галя, милая», «голубушка, Галя», признавался ей: «Я очень люблю Вас». Писатель Осоргин, видя их, говорил: «Не налюбуюсь этой парой. Столько преданной любви в глазах юной женщины!» «Галя, – согласится потом даже Мариенгоф, – стала для него возлюбленной, другом, нянькой. Нянькой в высоком, красивом смысле слова…» Там, на седьмом, из венецианского окна ее комнаты был виден тогда и Нескучный сад, и купола Новодевичьего. Чистота была монашеская. Стол с лампой на мраморной подставке, старый диван, этажерка с книгами, абажур. Здесь, если поэт не пил, ему рано грели самовар с калачами, которые любил, а Галя, чтоб не мешать, уезжала куда-нибудь за город. Он же доставал из-под стола корзину и вываливал ее на пол. «Машиной образов» звал ее, в ней были сотни карточек со словами, и поэт уверял: складывая их, мешая, у него возникают неожиданные строчки. Нет, были, были в этом доме счастливые, тихие дни, хрустальные отношения между любящими. Потом на эти семнадцать метров приедут сестры поэта, потом… «В комнате, – пишет Галя, – спят я, Есенин, Клюев, Ганин, еще кто-нибудь, у соседки – Сахаров, Болдовкин и Муран». Потом она и сестры поэта станут спать на полу, причем одна – почти под кроватью. Пьянки, крики, гармонь, поэт, от рюмки превращающийся в «нечто», если не в «ничто». Вот когда она стала нянькой – да небрезгливой. Укладывала его, подставляла тазы, таскала полотенца, выпихивала друзей, которые орали ему, обернувшись: «Ты что, бабу слушаешь? Кто она тебе?..» Словом, кошмар! И если Маяковский в эти же дни на просьбу Лили Брик дать деньги на «варенье к чаю» отваливал, как ахнула свидетельница, «хорошую среднемесячную зарплату», то Галя утром готовила завтрак на копейки, и ей и в голову не приходило поесть самой – не хватило бы на двоих. У поэта ведь и после смерти на сберкнижке остался лишь символический 1 рубль. А Галя, кроме завтраков для «милого, хорошего, родного», бегала еще по редакциям с его стихами, потом за гонораром, потом с его обувью в починку или с тяжеленным сундуком к поезду на вокзал – он попросил прислать. Нянька, как скажешь иначе? Он позвал ее замуж, но предупредил: «Берегитесь, для меня любовь – страшное мучение». И почти сразу, приревновав, избил. Вот когда она написала: «Сергей – хам». Особенно сразило ее, что перед разрывом он, считая столы и стулья, кричал ей: «Это тоже мое, но пусть пока останется»…
Поэт, конечно, одумается, она ведь была единственной защитой его. Трезвым, нарядным придет сюда мириться. Вежливо постучится, встанет у порога. Галя, зардевшись, замрет. Минуту будут стоять молча. «Прости», – прошепчет наконец он… «Вон!» – крикнет она и – укажет на дверь… Как ужаленный, он кинется прочь. Она услышит стук его каблуков по лестнице и, опомнившись, бросится за ним: «Сергей, Сережа, Сереженька! Вернись!..» Только эхо в пролете будет ответом – поэт как в воду канет… Пишут, что, хватанув стакан водки в доме друга, он яростно колотил кулаком по столу: «Мне крикнуть “вон”, – и, сжимая зубы, грозился: – Погоди же!..» А она, к изумлению тех же биографов, сохранит даже ту записку, где он, беснуясь от ревности, напишет: «Вы мне близки, как друг. Но я вас нисколько не люблю как женщину». Могла бы разорвать ее, кто бы осудил? Ведь что может быть обидней для женщины? Но каждая буква его была для нее – святой.
Из письма Бениславской – Есенину от 26 апреля 1924 года: «Жду писем. Люблю Вас очень. Беспокоит Ваше молчание. Я все-таки расхвораться собираюсь, врач сказал, что острое переутомление и нервное расстройство. Буду чинить себя, как только от Вас будут вести, а так трудно, нервничаю до глупого…»
«Я “работал” собакой», – смеялся Есенин, вспоминая детство. Дядьки родные брали его на охоту вместо пса – доставать вплавь убитых уток. Теперь же стал – «собакой бездомной»: идти было решительно некуда. Жил в Москве то в какой-то «коммуне» литераторов (Москва, Козицкий пер., 3), то у Ганина (Москва, Староконюшенный пер., 33), то у Пильняка по его новому адресу (Москва, ул. Бурденко, 18), то у антрепренера Долидзе (Москва, ул. Тверская, 29), то вообще у какого-то Быстрова (Москва, Вспольный пер., 15). Хорохорился, конечно: поэт должен жить необыкновенно, не иметь квартир, и вообще – удобней писать в гостинице. Но отсутствие хоть конуры бесило. Галя, ее подруга Назарова обивали пороги, добывая ему жилье, но Всесоюзный староста Калинин помочь отказался, а из секретариата Троцкого письмо на бланке газеты «Беднота» переслали в Моссовет, к какому-то Попову. Тот сказал Назаровой: «Как вы наивны, знаете, сколько в Москве поэтов? Неужели всем давать квартиры?» Когда Назарова заметила, что Есенин талант, его читают уже в двадцати странах, тот буркнул: «Все они таланты!» – и отправил ее в управу района. «Зачислить на ноябрь», – записали там, потом потребовали сто тысяч, потом сказали: «Сперва даем рабочим, ответработникам и лишь затем…» – «Когда же дойдет очередь?» – «Не знаем, может, в двадцать шестом». То есть через год после того, как Есенин повесится.
Домом его становились теперь больницы. В нынешний Склиф попал с разрезанной рукой. Говорил, что, соскочив с извозчика, влетел в подвальное окно. Так и считали, пока Сахаров, издатель, друг его в то время, не сказал Наде Вольпин: «Поверили, будто стекло продавил? Нигде, ни на одном пальце, ни царапины. Ясно же: аккуратненько вену перерезал…» Похоже, что так. Я, например, насчитал пять попыток самоубийства его. Кроме уксуса в юности пытался прыгнуть из окна, утопиться в Мойке, кинуться с небоскреба в Нью-Йорке, повеситься на люстре в Париже, и вот – вскрыть вены. Там, в Склифе, в палате на двадцать человек, сдружившись с каким-то беспризорником, читал ему про «годы молодые с забубенной славой». «Ошеломленные, – пишет свидетель, – мы слышали скрежет зубов, неистовые удары рукой по кровати». Это были не стихи – жуткая правда о его жизни. Когда без сил рухнул на подушку, сказал: «Это стихотворение маленькое, нестоящее оно». Все запротестовали, и только тогда он спросил: «Значит, оно не плохое? Нет?..» Божья дудка! Чем дольше жил, тем чаще искал понимания у людей простых, ясных и тем дальше «отползал» от так называемой интеллигенции.
Из воспоминаний Н.Вержбицкого: «Мы были приглашены на именины… Гости были из… интеллигенции… Играли на рояле, пели романсы. Сергей весь вечер просидел… ушедший в себя, нехотя пил… и задолго до конца шепнул: “Давай смоемся!..” Выйдя на улицу вздохнул: “За два часа ни одного человеческого слова! Всё притворяются, что они очень умны, и говорят, словно из граммофонной трубы!..” Я и потом замечал, что Есенина не тянет в так называемое “образованное общество”, где он не встречал открытых, непосредственных слов, задушевной беседы. А они-то главным образом и привлекали Сергея…»
В последнюю поездку в Ленинград уезжал с Остоженки – из последнего дома (Москва, Померанцев пер., 3). Жил здесь в четырехкомнатной квартире своей третьей жены, внучки самого Толстого, – Сони Толстой. Женился на ней три месяца назад. «Есенин и Толстая! Звучит?..» Выбрал ее, как крылатку пушкинскую, как цилиндр: для вида, для форса – от скуки. Когда знакомая, увидев его измученные, красные, как у альбиноса, глаза, спросила, что с ним, он ответил: «Да знаете, живу с нелюбимой». – «Зачем же женились?» – «Ну-у-у! – протянул он. – Зачем? Да назло. Ушел от Гали, а идти некуда…» На свадьбе ему вместо водки лили воду, он чокался, морщился, закусывал – но веселым не был. Да и притворялся недолго, ибо скоро всё превратит здесь в черепки: зеркала, посуду, мебель и ударом кулака сломает нос Соне. А из окна выбросит свой гипсовый уже бюст. Тоже – в черепки…
Нет, не этот дом станет последним в Москве – психушка на Пироговке. За месяц до смерти его уговорят лечь в клинику при МГУ (Москва, ул. Россолимо, 11). Пишут, была эпилепсия, шизофрения, горячка. Но великий Ганнушкин поставит диагноз безобидный: меланхолия. И именно тут, в палате на втором этаже, Есенин сначала запретит жене навещать его, потом решит уйти от нее, а затем напишет убийственное по резкости письмо. Она придет с наганом и выстрелит в него. Было – не было, не знаю. Случай замяли, пишут, но врач Зиновьев якобы поведал об этом дочери своей, поскольку именно в тот день поэт и сбежал – исчез из клиники. До смерти его, до петли оставалось семь дней.
Уезжал в Ленинград от дома в Померанцевом в санях, под мирный снежок. Уезжал суетливо, торопливо укладывал у подъезда вещи, хотя до поезда оставалось три часа. Потом задрал голову на уже тощей, цыплячьей шее, торчавшей из шубы, и помахал балкону, на котором, свесившись, наблюдали за ним сестра Катя и – Соня. Потом, когда сани тронутся, у Кати вырвется роковое «прощай». «Прощай, Сергей!» – крикнет ему и – махнет рукой…
Убили ли поэта? Не знаю. Пять попыток самоубийства противоречат этому. И никто из родственников даже не намекнул нам на то, что это было НЕ самоубийство. А вот из поэтов крестьянских не уцелеет ни один – всех убьют. Ганина расстреляют в 1925-м, Павла Васильева, Приблудного, Клычкова, Клюева – в 37-м, Наседкина и Орешина – в 38-м. В том же году расстреляют и Вольфа Эрлиха. Того Эрлиха, кто всем сказал: последний стих Есенина, написанный кровью, посвящен ему. Потом, в книге своей, напишет загадочно: «Пусть Есенин теперь, после своей смерти, простит мне наибольшую мою вину перед ним, ту вину, которую он не знал, а я знаю». Что за вина, гадают биографы. Догадался, кажется, лишь Николай Браун, поэт. Вина, в том, что Эрлих «не отдал Гале письма, из тщеславия заявил, что оно – ему». Письмо – это как раз стихи: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» А Галя – это Бениславская.
Через год после смерти поэта она придет на могилу его. Выкурив за ночь пачку папирос, нацарапает на опустевшей коробке: «В этой могиле для меня всё самое дорогое». И допишет: «Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, значит, даже тогда не жалела. Если жаль – заброшу ее далеко. 1-я осечка…» Осечек у нагана было несколько, но финка отброшена не была. Стальная все-таки женщина, ничего не скажешь. Накануне написала в дневнике: «Все и всё ерунда; тому, кто видел его, – никого не увидеть, никого не любить…» И пошла ему вслед.
С точки зрения мировой литературы это неудивительно. Кто ж не помнит, что за Орфеем шли даже деревья…
Тасина любовь, или Королева Михаила Булгакова
– Но где же они будут жить?..
– Жить они свободно могут в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася – на умывальнике…
Михаил БулгаковБулгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940) – выдающийся русский писатель и драматург. Автор романов, повестей и всемирно известных пьес, которые посвящал и второй своей жене, и потом – третьей. Обойденной оказалась только первая жена Булгакова – Татьяна Лаппа. Но – вот загадка! – не ее ли он, «мастер», назовет, спустя годы Маргаритой? Маргаритой самого знаменитого своего романа? Романа – о своем романе?
«Я тебя вызову», – говорил ей. «Где бы я ни был, я тебя вызову!» Звал телеграммами на каникулы, потом – в глухое село, где работал врачом, потом – в Белую армию, где оказался против воли, и даже в эмиграцию, куда собирался добровольно. Черновцы, Орша, Вязьма, Владикавказ, Батум… «Я тебя вызову» – и она, столбовая дворянка, как декабристка, летела на зов: на голод, нищету, реальную угрозу смерти от пули петлюровцев, от банд Махно, от шуровавших на Кавказе чекистов. И всем твердила: она будет там, где он, – «И не иначе!»
«За мной, читатель! – напишет Булгаков в романе “Мастер и Маргарита”. – Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?» Звал, думаю, и ее – Тасю, Тасечку. Кстати, и в самом деле правнучку декабриста – члена Южного общества Матвея Лаппа, разжалованного потом в рядовые. «Кровь! – усмехнется в его романе Воланд. – Кровь всегда скажется…»
Да, летела по первому зову. Но когда через двадцать лет, за несколько дней до смерти, он, лежа под простыней (ибо всякое прикосновение причиняло жуткую боль), шепотом, по секрету от третьей жены, попросил свою сестру найти и привести ее, Тася вдруг – не пришла… «Миша, – наклонилась к нему с укором третья жена, – почему ты не сказал мне, что хочешь повидать ее?» Он, пишет стоявший рядом друг его, ничего не ответил – «отвернулся к стене…»
Совсем как Тася, когда ее Миша уходил от нее. Попив чаю с утра, сказал: «Если достану подводу, сегодня от тебя уйду». Через час вернулся: «Я с подводой. Помоги мне сложить книжки». «Я помогла, – вспоминала Тася. – Отдала всё, что он хотел взять… Но было очень тяжело. Помню, я всё время лежала, отвернувшись к стене, со мной происходило что-то странное – мне казалось, что у меня как-то разросся лоб, уходит куда-то далеко, далеко…»
Так закончилась их «вечная» любовь!.. Или все-таки – началась?..
Шатенка с синими глазами
Только не говорите мне о «зрелых чувствах», о взрослой, «вымеренной» любви, о вторых и третьих браках, которые «ах, не сравнить!..» Не надо песен! Кто любил с юности, кто, едва не падая от головокружения, целовался впервые в углу школьного двора, кто, словно Ромео, до утра держал ладошку любимой, бродя по предрассветным, будто чужим улицам, тот знает: все последующие любви – «лишь бледные списки». И клятвы не клятвы, и чувства вторичны, и слова – обманны. Уже потому обманны, что была она – твоя первая любовь…
«Клянешься смертью?» – пугая честную Тасю, спрашивал ее гимназист Булгаков. Клянешься, что не скажешь никому, что я буду оперным певцом (он только «Фауста» слушал в молодости чуть ли не сорок раз)? Что не отдашь в больницу с безнадежным диагнозом, когда стал врачом? Наконец, когда уже стал писателем, спрашивал: клянешься, что не подойдешь, когда увидишь меня с другой? Смешно, как-то по-детски, скажете? Да. Но только так, равняя жизнь со смертью, и любят впервые – если со школы!..
Ей едва исполнилось шестнадцать. Она, дочь саратовского статского советника, приехала в Киев на лето к тетке. Миша, гимназист, сын теткиной подруги, забежал случайно. Но, когда тетка предложила показать Тане город, тут же согласился и почему-то сразу назвал ее – Тасей: «Пойдем, Тася». Так она, юная «шатенка с синими глазами», и останется не Таней – Тасей.
У них всё было похоже. Отцы по чину – статские советники, матери – учительницы. У Булгаковых, когда семерых детей укладывали спать, мать садилась за рояль, за вечного Шопена, а у Таси за клавиши брался отец. Достаток, правда, был разный. В доме у Таси были и нянька, и кухарка, и бонна (мать не разрешала даже платье поднять с пола – «горничная подберет»). И если в Саратове у Таси за стол чинно усаживалось до ста человек гостей, то в растрепанном доме Булгаковых, когда кто-нибудь из детей выскакивал из-за стола, то, указывая брату или сестре на свою тарелку, обязательно бросал: «Постереги!» Посмотри, дескать, чтобы «не сперли» из тарелки лакомый кусок.
Всё лето в том еще Киеве Тася пробродила с ним. Запомнила, что показал ей во Владимирском соборе роспись в трансепте: прокуратор Понтий Пилат с темными злыми глазами и перед ним – Христос. Чем-то уже тогда цепляла его встреча их взглядов. А вообще катались на лодках (гимназистам запрещалось это), ходили по музеям, а вечерами, если не играли в «блошки», бежали в театр. Это, кстати, гимназистам тоже запрещалось – надо было подделывать разрешения инспекторов. И уж совсем запретно, просто преступно целовались в кустах Купеческого сада. Надо ли говорить, что, когда поезд увозил ее домой, всё для него стало пустым и черным, даже солнце.
Условились свидеться на Рождество, но отец Таси, напуганный яростью Джульетты, дочь в Киев не пустил. Тогда в Саратов летит телеграмма от друга Миши: «Телеграфируйте… приезд. Миша стреляется». Отец Таси перехватил телеграмму – высмеял ее. Но Михаил уже сам решает ехать в Саратов (ему как раз подарили двадцать пять рублей). «Он написал, – скажет Тася, – чтобы я вышла к поезду, и он – сразу уедет обратно». Увы, это письмо прочла уже мать, и Тасю вообще заперли на ключ. Ей даже предлагали потом ехать учиться в Париж, лишь бы не «смотрела» в сторону Киева. Отвергла! Словом, встретятся они (с ума сойти!) только через три года. Он будет уже студентом, а она, медалистка, – классной дамой в женском ремесленном училище.
«27 июля 1911 г. Миша доволен: приехала Тася, – записывала в дневнике Надя, сестра его. – Я ей рада. Она славная… Миша занимается к экзаменам и бабочек ловит, жуков собирает, ужей маринует…» Через год запишет: «Он все время стремится в Саратов, не перешел на 3-й курс. Как они оба подходят по безалаберности натур! Любят друг друга очень, вернее – не знаю про Тасю, но Миша ее очень любит…» Тогда, кстати, студент-медик и решил стать оперным певцом, записался «приходящим» в консерваторию. Не вышло. Голос-то у него был, но не слышимый им другой голос оказался сильнее. «Не может быть, чтобы голос, тревожащий меня, не был вещим, – запишет в дневнике через десять лет. – Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним – писателем…» Когда он еще студент, еще для домашнего спектакля сочинил пьеску «С миру по нитке – голому шиш», то все ну просто падали от смеха. Зрителями были гости и даже та тетка Таси. А в пьесе некая бабушка спрашивала про Мишу и Тасю, женихавшихся: «Но где же они будут жить?..» На что ее визави отвечала: «Жить они свободно могут в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася – на умывальнике…» Пророческой окажется пьеска. Они и проживут так все одиннадцать лет, укладываясь спать и на полу, и на столе, и на голой земле…
Всё было у них. Почуяв, что дело идет к свадьбе, мать Миши позвала Тасю: «Вы собираетесь замуж? Не советую. Ему надо учиться». Миша скажет: «Ну мало ли что она не хочет…» И 26 апреля 1913 года в церкви на Подоле шагнул с невестой под венец. «Фаты у меня, конечно, не было, – вспоминала Тася. – Подвенечного платья тоже, я куда-то дела все деньги, что отец прислал… Была полотняная юбка в складку. Мама купила блузку… Почему-то под венцом хохотали ужасно…» Уж не потому ли, что Миша, сын профессора богословия, давно не носил крестика, да и она – тоже. Но главное – никто в церкви не знал, да и не узнает потом, что накануне свадьбы Тася сделала аборт. «Никак нельзя было оставлять», – скажет в старости. И то сказать: если она готова была спать в умывальнике, то ребенка класть куда – не в мыльницу же? Вот на аборт и пошли те сто рублей, что прислал ей отец.
Через много лет, незадолго до смерти, Булгаков напишет другу, что совершил в жизни пять роковых ошибок. Но каких, не скажет. Литературоведы мозги сломают, пытаясь вычислить их. Ошибка, что бросил медицину, что сорвалась эмиграция, что не так ответил Сталину, когда тот позвонил ему в 1930-м, наконец, что взялся писать пьесу «Батум». Мне же кажется, первой ошибкой стал первый аборт Таси, а второй – второй аборт; она сделает его через четыре года. Он ведь страшно любил детей – это знали многие. Но, увы, еще больше любил комфорт, а эгоизм вообще возводил в достоинство. «Гордость сатанинская, – подчеркнет в дневнике сестра Надя, – сознание недюжинности, отвращение к обычному строю жизни и отсюда – “право на эгоизм”…» Что говорить, ведь сразу после свадьбы он стал заглядываться и на одну красавицу с Ботанической (караулил ее, дарил цветы, конфеты-тянучки), и на «черноглазку» с крутейшей Мало-Подвальной, а Тасе, насплошь родной, даже губы запретит красить: ведь мужики оглядываются, ужас!.. Куда это годится?
А вообще, жили насвистывая. Зимой каток и, представьте, бобслей на киевских горках, летом велосипед или футбол – он организовал первую в городе команду (ау, киевское «Динамо»!). Днем библиотека, горы книг к экзамену, на голове – вконец разрушенный пробор, а за столом рядом Тася – вся в слезах над французским романом. Вечером – кафе, рестораны на те пятьдесят рублей, что регулярно присылал ей отец, и – если рубль последний, а лихач рядом – садились и ехали! Славно жили, пока не грянула война. Пока наш педиатр не оказался в Черновцах, в госпитале Красного Креста, а она, сорванная из дома телеграммой его, не грохнулась в обморок, помогая ампутировать ногу. «Держи крепче!» – покрикивал на нее. «Он пилил ноги, а я их держала, – вспомнит Тася. – Нашатырь понюхаю и держу…» И ведь не Родине служила (как Любовь Белозерская, вторая жена Булгакова, – та в медсестры пойдет из «высокого патриотизма»!), не писателю еще, культовому драматургу (как третья жена его Елена Шиловская), нет – просто мальчишке, без которого жить не могла. Биограф Булгакова Алексей Варламов в книге о нем скажет точно: «Ему невероятно повезло с первой женой, ей с ним – нисколько. Всё, что она делала в последующие годы, вызывает только восхищение. Если бы не было рядом этой женщины, явление писателя в литературе не состоялось бы». Без Белозерской, пишет, без Шиловской состоялось бы, без Татьяны – никогда…
Она спасет его трижды. Сначала вырвет из двухлетней наркотической зависимости, из морфинизма – верная ведь смерть. Он сам поставит себе диагноз. «Диагнозы, – восхищалась Тася, – он замечательно ставил!» В тот день в больницу, уже в Никольском, куда его назначили главврачом, привезли ребенка, умиравшего от дифтерита. Он разрезал детское горло, вставил трубку и стал отсасывать дифтеритные пленки. Когда, глухо охнув от страха, стал оседать на пол фельдшер, трубку перехватила Степанида, медсестра, а Булгаков, зыркнув на Тасю, прошептал: «Пленка в рот попала. Надо делать прививку». Тася, опытная уже (принимали до ста пациентов в день – резали пальцы, скоблили матки, вскрывали животы), предупредила: распухнут губы и лицо, начнется нестерпимый зуд. И когда боль после прививки и впрямь возникла, он, начальник, крикнул Степаниде: «Шприц и морфий!» Через полгода, уже законченный наркоман («он был, – говорила Тася, – такой ужасный, такой, знаете, какой-то жалкий»), шприцем и запустит в жену – неси морфий! Потом, в Вязьме, когда она соврет ему, что в аптеках морфия уже нет, швырнет горящий примус. Да, да! Чудом не сгорели. А в Киеве, уже дважды в день коловшийся и гонявшийся по ночам за призраками, озверев, выхватит браунинг – ищи! Спасет его Тася да ставший отчимом его Иван Павлович Воскресенский, тоже врач: «Нужно вводить, – скажет, – дистиллированную воду взамен морфия, обмануть рефлекс». И по секрету от Миши станет носить Тасе запаянные ампулы с водой, точь-в-точь морфий. Так пришло избавление – редкий в медицине случай. Потом в рассказе «Морфий» врач Поляков, умерший от наркотиков, скажет: «Других предупреждаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды, кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили…»
Второй раз Тася спасет его от возвратного тифа во Владикавказе, где он окажется с отступающими белыми. Шла эвакуация, армия бежала, а тут – жизнь на волоске. «Болезнь заразная, – мельком глянул на Булгакова военврач, – его надо изолировать». «Куда? – крикнула Тася. – Кто будет ухаживать за Мишей? Я у него – одна!» Ехать было решительно нельзя: «Вы не довезете его до подножия Казбека». Но и оставаться – как? При красных-то? Она ведь прочла уже в газете, что красные в Иловайском изрубили и беженцев, и больных, не успевших уйти с войсками. Такой вот выбор – кругом смерть! Они остались, и эти трое суток без сна (полотенца на лоб, мокрые рубашки, прощания, когда он закатывал уже глаза) Тася запомнит навсегда. Когда на четвертое утро выползет на порог, город будет пуст, лишь ингуши, первыми занявшие его, будут всё еще подграбливать. Вот тогда, обмирая от страха, она и отнесет ювелиру витую, как канат («с палец толщиной»), длинную («два раза обкручивала вокруг шеи») золотую цепь, подарок отца. Рубите, дескать, звено!
Эта цепь спасет нам писателя и в третий раз. Уже – от голода. Рубить ее по куску, по звеньям будут долго. Но чем больше уменьшалась цепь, тем слабее становилась цепь семейная – узы любовные, брачные.
«Зачем тебе солнце?..»
Сколько раз ни прохожу мимо Кремля, столько раз вижу одну и ту же картинку. Вижу как белокаменного Ивана Великого обнимает лапами гигантский, на треть колокольни, доисторический ящер, ползущий вверх – к горящему на солнце куполу. Жуткая картина, если иметь воображение! Так заканчивалась одна из редакций его повести «Роковые яйца», где чудовищные гады, рожденные профессором Персиковым, сокрушив Красную армию, не замерзают на окраинах Москвы от грянувших было морозов, а – врываются в столицу и покоряют ее. Вариант этот он отбросил. Но вычеркните теперь – ну-ка – эту картинку из памяти?!. Тем более что мы-то знаем: иные гады водились тогда в Кремле. И главный – Сталин-Воланд – и спаситель, и губитель Булгакова. Это ведь он, генсек, семнадцать раз смотревший «Дни Турбиных», сначала приманит писателя: «Здорово берет! – заметит про него Горькому. – Против шерсти берет. Это мне нравится!» – а потом почти сотрет. «Наша сила в том, – скажет, – что мы и Булгакова научили на нас работать…»
Булгаков явится в Москву в конце сентября 1921 года. До этого был в Москве несколько раз и останавливался у дяди родного, у брата матери профессора-медика Покровского, прототипа будущей повести «Собачье сердце» (Москва, Чистый пер., 1/24). Однажды прожил у него аж два месяца и даже успел влюбиться в какую-то соседку по переулку, про которую напишет потом в дневнике: с ней «у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности…» И вот – сентябрь 21-го, Брянский вокзал, ночь и всего два фонаря на Дорогомиловском мосту. Так встретила его Москва.
Из рассказа Булгакова «Воспоминание»: «Всё мое имущество помещалось в ручном чемоданчике… На плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его… чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни… Полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты… У меня было пять знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза на стульях и один раз на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар…»
В рассказе он еще хорохорится. На деле ситуация была – труба. Словечко из того еще века. Не было не только жилья – не было денег, работы, еды. И главное – он не знал, где в Москве искать Тасю. Они простились на пристани в Батуми. Его шатало от голода, небо было как «огромная портянка», но он верил: хоть в трюме, хоть зайцем, но уплывет в Стамбул, в эмиграцию. И добавлял: «Но ты не беспокойся, я тебя выпишу…» Она же, продав последнюю ценную вещь, кожаный отцовский баул, уплыла в Одессу, потом поездом – в Москву. Обокрали, конечно, в пути! Довезла лишь подушку – подарок матери Булгакова. Поселилась в студенческом общежитии, в комнате уборщицы (Москва, Малая Пироговская, 18). Кроме подушки у нее была справка из театра Владикавказа, где играла «на выходах» в неумелых еще пьесах мужа (в афишах писалась «Михайловой» – то есть Мишиной женой), но в Москве в профсоюз актерский (без его решения не брали никуда!) не пошла – слишком была оборванной. И вот тогда-то в бесприютность ее на нее и свалился Булгаков – такой же: обрывки носков, дырявые ботинки, обшлага с бахромой и – «лохматая дрянь» полушубка.
Помогла сестра Булгакова Надя, вернее, муж ее Андрей Земсков, он уступил им комнатку в огромном доме бывшего табачного короля Пигита (ул. Большая Садовая, 10). Я писал уже об этом доме в главе о Есенине. В нем обитали и Шаляпин, и Кончаловский, и Суриков, и Коненков, и Фанни Каплан, она с восемнадцати лет жила тут в пятой квартире, а в 38-й, у Жоржа Якулова, Есенин и познакомился с Айседорой. Тася говорила даже, что героиня «Зойкиной квартиры» Булгакова один в один списана с жены Якулова Натальи Шифф. «Рыжая и вся в веснушках, – вспоминала. – Всегда толпа мужчин. Шляпа громадная. Просыпается: “Жорж, идите за водкой!” Выпивала стакан, и начинался день…» Впрочем, в 21-м дом стал и первой «рабочей коммуной», управление перешло в руки жильцов. Оттого и начнутся все беды «быстрой дамочки», как окрестят здесь Тасю.
Беды, кстати, нешуточные. Мариэтта Чудакова, может, лучший знаток Булгакова, спросит потом Тасю, когда было тяжелей: в Киеве в 1918-м, на Кавказе или – уже в Москве? Та ответит: «Хуже, чем где бы то ни было, было в первый год в Москве. Бывало, что по три дня ничего не ели, совсем ничего. Не было ни хлеба, ни картошки». Но – надо знать Булгакова! Он, написавший отсюда: «Игривый тон моего письма объясняется желанием заглушить тот ужас, который я испытываю при мысли о наступающей зиме», уже через месяц сообщал сестре: «Место я имею. Правда… нужно уметь получать и деньги… Но всё же в этом месяце мы с Таськой уже кое-как едим… начинаем покупать дрова. Работать приходится не просто, а с остервенением… Таська ищет место продавщицы, что очень трудно, потому что вся Москва еще голая, разутая и торгует эфемерно… Словом, бьемся оба как рыбы об лед… Таськина помощь для меня не поддается учету… Носимся по Москве в своих пальтишках. Я поэтому хожу как-то одним боком вперед (продувает почему-то левую сторону). Мечтаю добыть Татьяне теплую обувь. У нее ни черта нет, кроме туфель. Но авось!.. По ночам пишу «Записки земского врача»… Мне приходится осуществлять свою idee-fixe. А заключается она в том, чтоб в 3 года восстановить норму – квартиру, одежду, пищу и книги…»
Хватался за всё. Месяц служил секретарем в ЛИТО на Сретенке – литотделе Наркомпроса. «Господи! – напишет. – Лито! Максим Горький. «На дне». Шехерезада… Мать». Ему высыпали на газету пять фунтов гороху. «Это вам. Одна четвертая пайка». И – двенадцать таблеток сахарина. «Что продать? – вертел про себя единственную мысль. – Простыня и пиджак? О жалованье ни духу. Простыню продал… Дома – чисто…» Служил в частной газете («валенки совсем рассыпались»); заведовал издательским отделом в каком-то техническом комитете («целый день как в котле»); на месяц прибился актером в бродячую труппу («плата 125 за спектакль, убийственно мало»); а затем с друзьями даже пудру перепродавал («пытали удачу, прогорели»). И снова газеты, журналы, одно время даже «Правда» и надолго – «Гудок», та самая газета, где работали Олеша, Катаев, Бабель и позже – Ильф и Петров (Москва, Вознесенский пер., 7). Цеплялся за жизнь. Один родственник напишет: «Миша поражает своей энергией, работоспособностью… бодростью духа… Он поймает свою судьбу…» А Булгаков в те дни, встретив на бульваре писателя Миндлина, уже развивал ему свою «теорию жизни»: «У каждого возраста, – втолковывал, – свой “приз жизни”. Эти “призы” распределяются по жизненной лестнице – всё растут, приближаясь к вершинной ступени…» За очередным «призом» он и приехал в Москву. Но знал ли, что главный приз, Тасю, здесь и потеряет?..
«Счастлив только тогда, – писал из коммуналки в доме Пигита, – когда Таська поит меня горячим чаем». Удивлялся ей: «Ты живешь в тяжелейших условиях и даже не жалуешься на нечеловеческую жизнь!» Она отвечала: «Я живу, как ты». И – бежала греть воду на кухню. Он, когда писал по ночам, любил, чтобы она сидела рядом с шитьем и носила тазы с водой: «Скорей, скорей горячей воды!» – кричал, ибо у него холодели руки и ноги. Условий, разумеется, никаких, квартира – страшней атомной войны! За стенкой милиционер с крикливой женой, какой-то хлебопек, Дуся-проститутка (когда к ним стучали – «Дуся, открой!», Тася, стыдясь, пищала из-под одеяла: «Рядом!»), и Аннушка Горячева по прозвищу Чума, та, которая и прольет подсолнечное масло в его будущем романе. «Я положительно не знаю, – писал Булгаков в дневнике, – что делать со сволочью, что населяет эту квартиру». «Призы» же на «жизненной лестнице» его были пока просто ничтожны: брюки на шелковой подкладке – очень гордился ими – да какой-то будуарный гарнитур: «Я купил гарнитур мебели шелковый, – напишет Наде, – вполне приличный… Что дальше, не знаю. Но если не издохну как собака… куплю еще ковер…» Хотя хрустальной мечтой была, конечно, квартира – пята его ахиллесова. «Каким-то образом в центре Москвы не квартирка, а бонбоньерка, – писал о Зине Коморской, жене приятеля. – Ванна, телефончик… котлеты на газовой плите… С ножом к горлу приставал я, требуя объяснений, каким образом могли уцелеть эти комнаты… Ведь это сверхъестественно!! Четыре комнаты – три человека… Ах, Зина, Зина! Не будь ты замужем, я бы женился на тебе… Зина, ты орел, а не женщина!..» За Коморской, хозяйкой «бонбоньерки» (Москва, Малый Козихинский пер., 12), настойчиво ухаживал. Позвонит, назначит ей свидание, выманит на улицу, а потом вместе приходит к ней домой и, распушив глаза, говорит ее мужу: «Вот шел, случайно Зину встретил…» Тасю даже не знакомил с Коморскими и тогда и предупредил ее: «Имей в виду, если встретишь меня на улице с дамой, я сделаю вид, что тебя не узнаю!» Шутил, наверное, шутил. Но когда решил пойти к Коморским встречать 1923-й год, та же Зина вдруг сурово спросила: «У тебя жена есть?» Он оторопел: «И даже очень есть». – «Вот и приходи с женой, а один больше не приходи…» Так Тася в своем единственном черном платье – крепдешин с панбархатом – впервые попала в дом Коморских. Впрочем, по-настоящему Булгаков завидовал, когда уже ворвался в литературу, не Катаеву или Олеше, кого Тася деликатно подкармливала («У Булгаковых всегда были щи, которые его милая жена наливала по полной тарелке», – напишет потом Катаев), нет – Алексею Толстому, «трудовому графу», кого звал про себя «грязным и бесчестным плутом», – тот только что вернулся из эмиграции. Этот жил то ли у писательницы Крандиевской, матери своей жены (Москва, Хлебный пер., 1), то ли – у вечного друга своего актера Радина (Москва, ул. Малая Дмитровка, 25). Но везде жил – «толсто и денежно». Булгаков бывал у него: белье крахмальное, лакированные туфли, аметистовые запонки, парфюм. У Толстого была уже дача под Москвой, а зимой граф планировал жить в Петрограде, где «под него» спешно отделывалась квартира. Вот Толстого он и позовет в мае 1923 года «на ужин», но, разумеется, не в коммуналку с Дусей-проституткой – к Коморским, в ту самую бонбоньерку.
О, эту «эпическую картину» опишет потом в «Театральном романе»! Я лично помню, что среди криков, парижских баек, пьяных поцелуев через стол, клубящегося над бутылками дыма Булгаков вдруг нащупал ногой под столом что-то скользкое и мягкое и – понял: боже мой, да это же кусок упавшей осетрины. И черт с ним! Ведь голода уже не было, и холода не было, и он был – ура, ура! – уже писателем. За столом ведь сидели Пильняк, Лидин, Соколов-Микитов, Андрей Соболь (он жил в этом же доме), писатель Слезкин, тот же Катаев с Олешей и Зозулей и какой-то литератор Потехин, кого никто и не помнит ныне. Женщин вроде бы не было, была одна Тася в своем «панбархате» – Зина заболела, и кому-то надо было хозяйничать. «Толстому в рот смотрели, – вспомнит потом Тася. – Мне надо было гостей угощать. С каждым надо выпить, и я так наклюкалась, что не могла по лестнице подняться. Михаил взвалил меня на плечи и отнес на пятый этаж домой…» В тот вечер, кстати, Толстой и скажет Булгакову, слегка приобняв: «Жен менять надо, батенька. Менять. Чтобы быть писателем, надо три раза жениться…» А тот, поняв «с удушающей ясностью», что такой «писательский мир» ему решительно не нравится, запишет: «Среди моей хандры и тоски по прошлому… у меня бывают взрывы уверенности и силы. И я… верю, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю». Та, детская еще, «сатанинская вера» в себя! Он и станет сильнее всех. Через год выйдет его «Белая гвардия», а скоро само Политбюро, словно ему делать нечего, семь (!) раз будет заседать по его поводу. По поводу книг его, пьес. А 18 апреля 1930 года, в самую Страстную пятницу, в доме Булгакова раздастся телефонный звонок. «Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить…» Всю Москву облетит слух об этом. Но Алексею Толстому, будущему академику, лауреату трех Сталинских премий, всё равно будет завидовать. Ведь Толстой не только станет бывать в Кремле (как депутат Верховного Совета, да и запросто – в гостях у Ворошилова, у Генриха Ягоды), но будет встречаться со Сталиным, чего Булгаков после звонка вождя хоть и тайно, но желал. Это – правда! Он и Тасе, давно оставленной им, не преминет похвастаться и как бы между прочим скажет: «Знаешь, я со Сталиным разговаривал». Она, единственная из жен его, кажется, не подпрыгнет от радости – испугается за него: «Как? Как же это ты?» – «Да вот, звонил мне по телефону, – ответит. – Теперь мои дела пойдут лучше…» Имел в виду всё то же: работу, деньги и, конечно, квартиру.
Но начиналось всё это, повторю, в 1923-м. Через год настигнет его слава – выйдут синие книжки журнала с «Белой гвардией», про которую Волошин, поэт, тогда же напишет: эту вещь «как дебют начинающего писателя… можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого». Будет иметь в виду другого, разумеется, Толстого – Льва. Да, через год настигнет Булгакова слава, и ровно через год он разойдется с Тасей. Уходя, поможет Тасе переехать в квартиру того же дома на Большой Садовой, но в коммуналку получше. Соседей поменьше, комната побольше. Правда, окно в ней будет упираться прямо в стену напротив. Грустная такая символика! В комнату ее никогда не будет заглядывать солнце, вот ведь какая штука! Съемщику квартиры, некоему Артуру, Тася скажет однажды об этом: солнца не вижу! Тот, который выселит ее потом вообще в подвал, откровенно хмыкнет и – это невозможно придумать нарочно! – бросит как бы между прочим: «А зачем тебе солнце?..» И правда – зачем?..
«Всё дело в женах…»
«Мне кажется иногда, – скажет Булгаков, – что я стреляю из какого-то загнутого ружья. Кажется, прицелюсь, думаю – попаду в яблочко… Бац! И не туда. Не туда…» Имел в виду цензуру, не увидевшие света романы и пьесы свои. Но вот о чем подумалось: не меньше, рискну сказать, он ошибался и с женщинами. Прицелится – бац! – и не туда. Не спешите спорить – выслушайте! Уж если мы «подвесили» ружье, хоть и с кривым дулом – оно ведь, как сказал другой драматург, должно же выстрелить!..
16 октября 1941 года. В Москве – паника. Немцы под Крюковом. Люди покидают столицу. На вокзалах просто свалка: тюки, чемоданы, вопли. И посреди апокалипсиса – трое: женщина и двое мужчин. Один в вагоне, вместе с ней, с дамой в куньей шубке, другой, «седеющий и милый», на перроне – у окна. Тот, что в вагоне, известный поэт, просто прожигает «шубку» ревнивыми взглядами, а другой, за стеклом, – как раз улыбается и что-то беззвучно говорит. «И коготочком стукала она // В холодное окно. // А я все видел, – напишет поэт в стихах. – Все медлили они, передавая // Друг другу знаки горя и разлуки: // Три пальца, а потом четыре и // Кивок, и поцелуй через стекло. // И важно он ходил, веселый, славный друг мой, словно козырь…»
Так прощались (расшифруем этот белый стих) поэт Луговской, его ближайший друг – генсек Союза писателей, действительно «козырь», Фадеев и – Елена Булгакова. Последняя жена Мастера, писателя, умершего, считайте, просто вчера – чуть больше года назад. Все трое на вокзале, два сорокалетних друга и пятидесятилетняя уже дама – любовники! Генсек Фадеев – бывший любовник Булгаковой, поэт Луговской – нынешний… И башмаков еще не износила, как сказал бы третий драматург – сам Шекспир. Имели ли ее любовники отношение к живому еще Мастеру, к Булгакову? Да. С Луговским Булгаков был знаком с 1925 года – встречались мимолетно. А Фадеев, еще в 1929-м назвав Булгакова «откровенным врагом рабочего класса», навещал его пару раз перед самой кончиной. Пишут – по приказу Сталина! И якобы в одном из предсмертных разговоров Булгаков и сказал ему: «Всё дело в женах. Жены – великая вещь, и бояться их надо только при одном условии – если они дуры…» Кого из трех своих жен имел в виду – неизвестно. Но, глядя на этих троих на военном вокзале, как не вспомнить слова из романа Булгакова: «Читатель!.. Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?..»
Нет, излишне доверчивыми мы теперь не будем. Не надо, не надо песен. Мы ведь такие, у нас всё, что называется, с перехлестом: если хвалить, так до небес, если ругать – то до преисподней, закрывая глаза и на недостатки взлетевших вдруг «кумиров», и на достоинства в миг опущенных «изгоев». А ведь истина и в истории, и в литературе чаще всего многоцветна. Например, Булгаков пишет: самый страшный порок – трусость. Теперь из дневника его известно: сам себя смелым, увы, не считал. В романе красиво написал: «никогда и ничего не просите», особенно у сильных мира сего (это стало даже афоризмом), но сам, как мы знаем теперь, только и делал, что просил: то работу, то квартиру, то поездку за границу (одному Сталину написал шесть писем – ни одного ответа!). Нет, доверчивыми ко всему и вся мы теперь не будем. Скажем, страдал ли он за сатиру в своих пьесах? Да, страдал, но, согласитесь, как-то уж «театрально». Ведь его, обзывая «новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс», всё же не объявляли сумасшедшим, как Свифта или Чаадаева, не привязывали к позорному и даже смертному столбу, как Дефо и Достоевского, не ссылали и не гнобили в лагере, как Мандельштама, не пытали и не расстреливали, как Бабеля, и даже – не отнимали продуктовых карточек, как у Зощенко и Ахматовой. Наконец, десятилетиями после смерти Булгакова его числили бескомпромиссным борцом с режимом, твердым и несгибаемым, пока не прочли в письме к вождю пафосных слов его: «Как воспою мою страну – СССР?», пока не увидели льстивой пьесы о Сталине «Батум» и не узнали (уже недавно) о балетном либретто его «Черное море», которое по подхалимажу к власти равняют ныне с «Хлебом» Алексея Толстого. Всё так! Но вот ведь вопрос: сам ли кумир наш повинен в этих «ужимках и прыжках» или и тут не обошлось без слабых сердцем жён его, сменявших друг друга?
Был женат трижды, как и накаркал ему когда-то Толстой. От Таси ушел к Любе Белозерской – Белосельской-Белозерской, которую Ильф и Петров ядовито звали «княгиней Белорусско-Балтийской», а он называл «Любан», «Банга», «Топсон», «Нанси». Познакомится с ней на шикарном приеме в Бюробине – Бюро обслуживания иностранцев (Москва, Денежный пер., 5), в том изящном дворце, где почти сто лет назад жил Загоскин, писатель, у которого бывали и Гоголь, и Белинский, и Погодин, и где в июле 1918-го эсер и чекист Блюмкин «хлопнул» Мирбаха, немецкого посла. Где-то здесь, в парадном зале сохранившегося здания, Булгаков подсел к роялю и наиграл вальс из «Фауста». Люба, как раз искавшая себе уже третьего мужа, отметит: у этого «лицо больших возможностей», вылитый Шаляпин. Только вот «цыплячьи» ботинки с ярко-желтым прюнелевым верхом смущали. Булгаков скажет потом: «Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки…» Она, двадцатитрехлетняя дочь дипломата, служила машинисткой в издательстве, но была, что называется, «женщиной с прошлым». Еще девочкой училась классическому танцу в Петербурге, в школе балетного искусства братьев Чекрыгиных (С.-Петербург, ул. Марата, 31), что позволит ей потом с легкостью поступить в парижскую труппу знаменитого кабаре «Фоли-Бержер» (Париж, ул. Рише, 32). В Париже жила с мужем журналистом Ильей Василевским-Не-Буквой (Париж, ул. Де О, 3), писала, вообразите, рассказы (муж издавал газетку), знала даже Бальмонта и самого Бунина. «Неглупая, практическая женщина, она приглядывалась к мужчинам, – скажет о ней приятель Булгакова, писатель Юрий Слезкин, у которого порознь, но бывали оба (Москва, Трехпрудный пер., 3/16). – Наклевывался роман у нее с Потехиным – не вышло, было и со мною сказано несколько теплых слов…» Добавит: «Умна, изворотлива, умеет себя подать и устраивать карьеру мужу, она пришлась как раз на ту пору, когда Булгаков выходил в свет и, играя в оппозицию, искал популярности в кругах интеллектуалов…» Позже, войдя в дом Булгаковых, Люба по-свойски станет учить Тасю танцевать фокстрот и, может, под граммофонный шаг – жаловаться: жить негде. «Мне остается, – будет говорить, – только отравиться…» Булгаков даже скажет Тасе: «У нас большая комната, нельзя ли ей у нас переночевать? У нее положение хоть травись». Тася выдохнет: нет, нельзя. А он Любу – боготворил, купил ей шубу из хорька, потом какое-то жемчужное ожерелье, но главное – посвятил ей «Белую гвардию». Когда принес журнал покинутой уже Тасе, в ту комнату, куда не заглядывало солнце, она, увидев посвящение, спросила: как же так, ты ведь говорил – это мне? «Люба попросила, – смутилось «солнце». – Я чужому человеку не могу отказать, а своему – могу…» Вот тогда она и швырнет журнал за порог. А в старости признается: он даже билета на «Турбиных» не предложил ей. Домработницам давал, а о ней – забыл…
«Ты вечно будешь виноват перед Тасей», – узнав о разводе, крикнет ему Надя, сестра. Он и сам скажет потом: «Из-за тебя, Тася, Бог меня покарает». Приносил сперва деньги, помогал. Но интересовался ли, что ей, выживая, пришлось делать какие-то шляпки, потом стучать на машинке, а позже (иначе нельзя было получить тот самый профбилет) – пойти на стройку, таскать кирпичи. Столбовой, повторю, дворянке! Он, в одночасье ставший знаменитым, в новом костюме, галстуке-бабочке (элегантный, талантливый, обаятельный, чертовски остроумный), подхватив Любу, летел на «Травиату», а Тася, заработав стаж «на кирпичах», как раз была переведена в кладовщицы: выдавать инструменты. Там же, на стройке. Неловко, конечно, приводить недавно открывшийся документ, но всё же… Короче, в сохранившейся налоговой декларации его говорится: в 1927-м заработал чистыми 19 736 рублей, в 1928-м – 11 086. Годовой доход рабочего, той же Таси, например, составлял тогда 900 р. – меньше сотни в месяц. А когда в 1928-м Мака, Макуся, Мася-Колбася, как звал его Любин круг, заключив договор на вторую пьесу во МХАТе, укатил с женой на курорт (в мягком международном вагоне), Тася только-только добилась места медсестры в регистратуре в окраинной поликлинике – где-то в Марьиной Роще. Потом, в 1936-м, Булгаков еще жив, она вообще окажется в Черемхове, под Иркутском, где в войну станет медсестрой в госпитале: судна из-под раненых, окровавленные бинты в тазу, и швабры, и ведра, и вечные половые тряпки…
Восемь лет проживет Булгаков с Любой. Сначала у сестры Нади в школе им. Бухарина, где та была директором (Москва, Большая Никитская ул., 46), потом – в «голубятне», на втором этаже какой-то, ныне давно снесенной, дворовой пристройки в центре столицы (Москва, Чистый пер., 9), где он напишет и «Дни Турбиных», и «Собачье сердце», потом в двух комнатках в Малом Левшинском (Москва, Малый Левшинский пер., 4). А позже, уже до 1934 года, – в отдельной трехкомнатной квартире на Пироговке (Москва, Большая Пироговская ул., 35а). Мечты сбывались. Его ведь тоже «испортил квартирный вопрос» и отдельная квартира – «пунктик» его. Нормальный «пунктик», но… Но уже через год после регистрации брака он напишет о Любе в дневнике: «При всяком ли она приспособилась бы так же уютно, или это избирательно для меня?» Приспособилась, именно что – приспособилась. Ибо когда его пьесы стали снимать одну за другой, а ей захотелось иметь «маленький автомобиль» (лошадь Нину она, на паях с женой актера Михаила Чехова, уже держала в манеже), Люба вдруг увидела в нем как бы Василевского – бывшего мужа-неудачника. Кто же из элиты любит лузеров? Да и он всё больше понимал про Любу: этот приз – не для него. Особо обидел его «Достоевский». Телефон в его кабинете висел над рабочим столом, и когда Люба, нависая над его головой, заболталась как-то с подругой, он, не без укоризны, заметил: «Ведь я же работаю, Люба!..» Тут «наездница» и выдала ему. «Ничего, – ожгла, – ты не Достоевский!» Елена Шиловская, будущая третья жена (она уже встречалась с ним), возмущенно рассказывала потом, что он бледнел, даже вспоминая об этом. Короче, когда финансовая катастрофа разразилась, когда он впервые обратился к Сталину (и тот спасет его, устроит в театр), семья его тихо распалась. Но вот что удивительно: толпы литературоведов будущих, закрывая глаза на всё плохое (ради «песен», конечно, ради них!), будут искать и даже находить в Маргарите, «королеве» его романа, черты Любы. Дескать – с нее списано. И уж совсем прямо, просто в лоб, будет направо и налево звать себя Маргаритой третья жена его – Елена Шиловская, она же Неелова, она же – Нюренберг. Та, которая станет третьей и меж двух любовников своих, та, в шубке на вокзале в войну, во время эвакуации.
Литературовед Л.Яновская назовет Елену «Женщиной с большой буквы». «Люди, – напишет, – охотно становились ее рабами. Нет – подданными». Странное доказательство большой буквы. Тася, напротив, сама готова была стать, да и стала рабой любимому мужу. А я, если уж про доказательства, вспомню Цветаеву. «Все женщины, – сказала она, знавшая про любовь едва ли не всё, – делятся на идущих на содержание и берущих на содержание». Себя причисляла ко вторым и досказала: «Не получить жемчуга, поужинать на счет мужчины и в итоге – топтать ногами – а купить часы с цепочкой, накормить и в итоге – быть топтанной ногами…» Точь-в-точь про наш случай сказала!
Не доказано, стал ли «рабом» третьей жены Булгаков, но ныне известно: она подбивала его написать пьесу об армии, о Фрунзе, например («Ну что тебе стоит?»). Подталкивала просить у кремлевских хозяев уже четырехкомнатную квартиру, он даже написал, что жена страдает «пороком сердца», упоминания о каковом я больше нигде не встречал. Наконец, она не просто оторвала его от так называемых пречистенцев, интеллигентского круга, который, как испугалась Елена, «выдвигал» мужа как знамя и «хотел сделать из него распятого Христа», но почти склонила его (если верить ее дневнику) к написанию романа «Пречистенка», который раздраконит, наконец, критически «эту старую» уходящую Москву. Платонов, та же Цветаева, тот же Волошин и даже Мандельштам могли ради правды погибать и «идти на Голгофу», а он, решила Елена, не пойдет. Но зато при ней ему всю дорогу будет ну очень комфортно: уютно, ухожено, сытно. Чуть не написал его же словами: «толсто и денежно»!.. Кстати, родственники и близкие напишут потом, что приемы, которые он устраивал с Еленой в последней своей квартире, в Нащокинском, роскошью и богатством затмевали даже толстовские…
Елена заинтересовалась Булгаковым еще до знакомства с ним. Потому он ли отбил ее у генерал-лейтенанта Шиловского, она ли его – не ясно. «Она разыграла свою “партию” и выиграла ее» – так скажут биографы. Читайте: умела добиваться своих целей. По одной ее версии, увиделись впервые «на блинах», кушали их у общих знакомых в доме Нирензее, о котором я уже писал, сидели рядом, и он, заметив, что она ловит его шутки, «выдал такое, что все стонали…» Условились пойти на лыжах, потом на одну генеральную репетицию, потом – в актерский клуб, в «Клуб театральных работников», в подвал, где он с Маяковским в ее присутствии лихо сыграл на бильярде (Москва, Старопименовский пер., 7, корп. 3). По другой версии Елены, встретились у Уборевичей, в квартире командующего Московским округом – муж Лены был тогда замом его и вместе с ней жил в этом же доме – «доме военных», как звали его в столице (Москва, Большой Ржевский пер., 11, стр. 1). Жена Уборевича была актрисой, в доме командующего устраивались артистическо-музыкальные вечера, и кто-то через сестру Елены Ольгу Бокшанскую (она была секретарем Немировича-Данченко во МХАТе) позвал и Булгакова. Он и тут смешил всех, дурачился, даже якобы взобрался на буфет и сидел там «по-турецки и в чалме». Чего-то такого Елене, катавшейся в семье как сыр в масле (дома немка – воспитательница ее детей, еще домработница), и не хватало. «Не знаю, куда мне бежать, но хочется очень», – писала Оле, сестре.
Из письма Елены Булгаковой – сестре Ольге Бокшанской: «Тихая семейная жизнь не совсем по мне. Или вернее так, иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни… При этом ты не думай, что это является следствием каких-нибудь неладов дома. Нет, у нас их не было за всё время нашей жизни. Просто, я думаю, во мне просыпается мое прежнее “я” с любовью к жизни, к шуму, к людям, к встречам… Больше всего на свете я хотела бы, чтобы… всё осталось так же при мне, а у меня кроме того было бы еще что-нибудь в жизни, вот так, как у тебя театр…»
Ну, скучно, ску-у-у-чно было капризной, балованной, самовлюбленной дамочке. «Ты лисичка», – скажет ей через годы Ермолинский, друг писателя. Напишет: «Она могла по-женски обмануть кого угодно, притворяясь то беззащитной и милой, то лукавой хищницей…» «Вот и Миша говорил, что похожа», – откликнется Елена на «лисичку». Хотя была, по-моему, просто танк. Когда мужу-генералу давали квартиру на Ржевском, она выбрала себе лучшую: в бельэтаже и с окнами на улицу. Шиловский, тогда начальник штаба округа, попробовал урезонить ее: неудобно, дескать, – лучшую, возможно, выберет Уборевич, командующий. «Но самоуверенная и хорошенькая Елена, – пишет Яновская, – стояла на своем». И Уборевич, вообразите, засмеялся и отдал квартиру – поехал на третий этаж – окна во двор. Орел – не женщина! Она ведь и к Шиловскому, тогда еще командующему 16-й армией РККА, ушла когда-то от его адъютанта Неелова – первого мужа своего. К слову сказать, и Фадеев, с которым сойдется после смерти известного, но все-таки рядового писателя Булгакова, был генералом, если не маршалом от литературы – генсеком. И не «кристаллики» ли здесь «виноваты»? Те, что убивают. Помните, в рассказе «Морфий» нас предупреждали: будьте осторожны с кристаллами наркотика? Не так ли, подумалось, и в любви, где даже крохотный «кристаллик» корысти способен убить любое чувство? Не знаю. Известно, что еще за три года до брака с Мастером «лисичка» уже «интересничала» с ним: «Очень вы милы моему сердцу. Хочется вас увидеть жутким симпатягой…» И подписывалась: «Ваша Мадлена Трусикова-Ненадежная». Вот «Мадленой», да еще «Ненадежной», думаю, она и была, а отнюдь не Маргаритой. Сам Булгаков, впрочем, будет звать потом этот новый «приз» свой и Люси, и Мыся, и Шампольон, и Куква. Только вот не узнает, что «кристаллики морфия» будут и в ее жизни: она ведь признается потом, между делом, что когда в 1956-м умирала ее мать, бестрепетно ввела ей смертельную дозу морфия – ну, чтоб не мучилась. Такая вот – «куква»! Или – «актриса», ловкая и неискренняя, как считала прямая Надя, сестра Булгакова.
А вообще пролистано, подбито и давно подсчитано: только двух женщин называл Булгаков «королевами»: маму («светлая королева») и Елену, третью жену свою, – «королевушка моя». Но жаркий спор кипит до сих пор, она ли Маргарита, или все-таки – кто? Сама Елена, я уже говорил, сразу назвала себя так. В шестидесятые годы прошлого века, когда мы и биографии писателя толком не знали, давала даже понять, что и «Елена рыжая» в «Белой гвардии» – тоже частично она, хотя роман был не только написан – опубликован за четыре года до встречи с ней. Но вообще, каких только предположений насчет «королевы Марго» я не встречал. Нашлась даже реальная Маргарита – Маргарита Смирнова, в перчатках с раструбами и букетом желтых цветов, с которой Булгаков и впрямь был знаком. Татьяна Луговская, сестра поэта, дружившая с Еленой, назвав ее «разновидностью “душечки”», практичной и душевно, и материально, напишет: она «блестяще “сыграла” Маргариту, но отношения к ней не имела». Покойная Наталья Крымова, безупречное вроде бы перо, словно возразит: «Она не была Маргаритой, как иногда думают… Но она ею стала…» А Ермолинский на старости лет признается: он сотворил легенду о Елене. Словом – мрак!..
Маргарите в романе, помните, говорят: «Вы – королевской крови». И намекают: французская королева Марго – ее прапрапрабабушка. Булгаковеды подхватили: да, Маргарита Валуа, та, чья свадьба с Генрихом Бурбоном ознаменовалась Варфоломеевской ночью. Но, увы, королева Марго была бездетна – откуда же потомки? Была еще одна Марго – королева Наваррская. Но та не была королевой Франции, хотя в романе горничная Наташа кричит: «Королева моя французская!» Вот ведь как запутанно всё, вот они – чертовы «вопросы крови»! Прав был Воланд: «Причудливо тасуется колода!..» Особенно в жизни, не в романах. Скажем, долгие годы булгаковеды считали, что Елена Нюренберг-Шиловская была дочерью прибалтийского немца Сергея Нюренберга. Но та же Яновская, застав в живых еще вторую жену писателя Любовь Белозерскую, спросила ее: «Какого происхождения была Елена Сергеевна? Из какой она семьи?» «Еврейка», – не задумываясь сказала та. «Как еврейка? – удивилась Яновская. – У нее же мать – дочь православного священника!» «Насчет матери не знаю… А отец был еврей». Яновская подумала еще: «Ну и ну! Как соперница, так уж и еврейка». Но Белозерская оказалась права. Именно Яновская и поедет сначала в Ригу, затем в Тарту искать корни третьей жены. Из Исторического архива Эстонии ей сообщат, что имя деда Елены было де Маркус Мардухай-Лейба Ниренбарг, что он владел еще в Бердичеве «двумя деревянными домами с лавочкою», а одного из четверых сыновей Маркуса Мардухая, отца Елены, звали Шмуль-Янкель Ниренбарг. Сергеем Марковичем Нюренбергом он станет, когда семья перейдет сначала в лютеранство, а потом и в православие, хотя, по словам уже Чудаковой, крестился, чтобы стать преподавателем, но на деле не только остался евреем в быту и обиходе, но даже не вышел из еврейской общины. Какое это имеет значение, спросите? Да никакого, кроме желания выдать себя за немку. И еще – кроме удивления Яновской в конце разысканий: «колода» и впрямь «тасуется причудливо».
Алексей Варламов, профессор МГУ, выпустивший о Булгакове книгу в «ЖЗЛ», пишет, что писателю досталась в третьи жены дама тщеславная, порой «неискренняя и даже лживая», жестокая и безжалостная, знавшая толк в сплетнях и интригах, которая, обожая наряды и украшения, больше всего любила быть в центре внимания, особенно среди сливок общества. А Чудакова, не раз и не два встречавшаяся с ней, кому Елена Булгакова, пугая исследовательницу своим спокойным и даже «непринужденным» тоном, и рассказала, как она убила собственную мать, напишет про нее слова, которые, думаю, вряд ли понравились бы покойному писателю. В общении с ней, напишет, «готовой вступить в любую рискованную (в том числе и в моральном отношении) ситуацию, нельзя было не думать о соотношении фамильных и личных свойств». Тоже ведь про «кровь» напишет. И нам, и без того малодоверчивым уже, не покажется невероятным сообщение некоего Соломона Иоффе в 1970-х годах, что сначала Ольга Бокшанская, сестра, а потом и Елена Сергеевна, еще жена генерала Шиловского, были в 1920-х любовницами, представьте, Сталина (этот факт поминает, но не комментирует и Чудакова). Не покажутся чудовищными утверждения невестки Елены, что она, еще до встречи с писателем, уже была секретной сотрудницей ГПУ–НКВД и строчила потом не только дневник (для вечности), но и доносы (на потребу дня). Более того, об этом ее «занятии» знал, так пишут, и сам писатель. Вот уж действительно стрельба из ружья, но – с очень, очень кривым дулом…
Из книги Алексея Варламова «Михаил Булгаков»: «Журналистка Алевтина Рябинина в статье “ Тайны булгаковской Маргариты” написала: “Существует еще одна догадка по поводу связи Елены Сергеевны со спецслужбами: донесения НКВД она составляла при участии, а иногда под диктовку мужа. Исследователи и по сей день гадают над их тончайшим психологическим расчетом, благодаря чему даже такой беспощадный человек, как Ягода, наложил на них свою знаменитую резолюцию: “Надо дать ему работать”… Согласно этой “версии”, – заканчивает А.Варламов, – Елена Сергеевна была двойным агентом: Лубянки и собственного мужа… Высший пилотаж для любой контрразведки! Но это всё только догадки. Секретная папка Булгакова и по сей день под семью замками…»
Да, странным является то, что на допросах в НКВД арестованных Жуховицкого и Добраницкого (оба часто бывали в доме писателя, и оба – осведомители Лубянки) имени Булгакова не упоминалось – верный признак, как утверждают, что «не упоминаемый» сам был связан с «органами». И самым, конечно, странным в биографии Булгакова – тут прав Варламов! – является то, что материалы о нем в нынешней ФСБ рассекречены только до 1936 года. Что же в остальных папках, может, самых важных, ибо как раз в конце 1930-х он и взялся за главный роман своей жизни – за «Мастера»? Но и, конечно, не праздный вопрос, подвешенный им в романе: кого же тогда вывел он под именем ставшей ведьмой Маргариты? Елену, как сама она утверждала до самой смерти, или всё-таки – кого?.. «Через какую же линию, – гадала Яновская относительно Елены Булгаковой, – примысливал дерзкий Булгаков ее кровное родство с династией Валуа?..»
Мы примысливать не будем. «Жизнь, – согласимся с Булгаковым, – куда хитрее на выдумки самого хитрого выдумщика». Будем помнить главное: что отчество его романной Маргариты было Николаевна, как и у Таси, единственной венчанной жены его. Сами мотивы романа четко навеяны «Фаустом» Гете, а оперу «Фауст» он только с Тасей слушал почти десять раз. И что юный де Ла Моль в романе Дюма, преследуемый толпой, жаждущей его убить, прорывается в Лувр, влетает в спальню королевы Марго и, оставив кровь на коврах, бросается к ее ногам. «Вы королева… спасите же меня!» Марго – это женщина, как верно пишет Яновская, которая «спасает»! А кто реально спасал Булгакова, и не докладными в НКВД, – мы с вами знаем уже…
Королева по имени… Тася
Маргарита – это Тася. Не мои слова – так напишет Яновская. Правда, потом почему-то отступится от этого утверждения… Яновская найдет Тасю в Туапсе, где та доживала свой век. Два дня будут сидеть в ресторане, бродить вдоль моря и разговаривать и вспоминать. Не знаю, расскажет ли Тася Яновской, что в романе о Мастере узнала их село Никольское, где он работал когда-то врачом, то «адское место» с одинокой осиной у мостика, на которой хотелось повеситься? Что в романной Маргарите, бесстрашной «стрелой» прыгавшей в воду, узнала себя, смело нырявшую в Волгу «головкой», что так восхищало когда-то Мишу? А однажды, там же, в Туапсе, когда Тася в своей однокомнатной квартирке будет сидеть на тахте, покрытой чудом уцелевшим с тех еще времен ковром, Яновская вдруг с предельной ясностью поймет: Тася всё еще любит своего писателя. Поймет из-за жеста, из-за мелочи, когда та каким-то гибким движением, с бессознательной нежностью вдруг проведет ладонью как раз над ковром. Яновская пишет: она просто обомлела от догадки: любит. «Всегда любила самоотверженно и страстно, – напишет о Тасе, – от юных лет до старости…» Любила, и – никогда не простит. Любила и потому – давно простила всё. «“Маргарита?” – тихо ахнуло во мне, – пишет Яновская. – Неужели она была его Маргаритой?..»
Тася, Татьяна Николаевна, уехала из Москвы, из своего подвала на Садовой, в 1936-м, когда после третьего брака Булгакова прошло три года и надежд на возвращение мужа не осталось. Ни разу не дала ему знать о себе, отгородилась от всех, решила никогда и ничего не рассказывать про них: ни про белую карету, в которой ехали после венчания, ни про единственную пощечину, которую влепила ему незадолго до развода. Уехала в Черемхово, под Иркутск, к врачу-педиатру Саше Крешкову из их давней с Мишей компании. Везла в Сибирь (декабристка!) письма Миши, фотографии да переписанную от руки статью о нем в восьмом томе Советской энциклопедии. Гордилась им. Переписала статью потому, что отдельные тома не продавались, а всю энциклопедию купить было не по деньгам. У него были премьеры, рестораны, курорты на юге, где расхаживал весь в белом, умопомрачительные приемы в американском посольстве, на которых был на равных не просто с Мейерхольдом и Таировым, но – с Ворошиловым, Кагановичем, Бухариным, а у нее – больничка при шахте, где была медсестрой, тоже белые, но халаты, бессонные дежурства, матерок больных на перевязках и вечная усталость. Крешков ревновал ее и больше всех – к Булгакову («Ты до сих пор его любишь!..») и однажды, когда она уехала в Москву, порвал и выбросил все ее письма и фотографии. Даже – статью из энциклопедии. Это случилось в 1940-м, когда она узнала, что Миша умер. Кинулась на вокзал, конечно, но даже на кладбище опоздала. Иркутск ведь. Навестила в Москве лишь сестер Булгакова. Те и сказали ей, что умер он в Прощеное воскресенье, что перед смертью искал ее, что, умирая, кричал от боли, но, когда мог говорить, сказал пасынку Сергею: «Ты слышал про Диогена? Я хотел жить и служить в своем углу. Я никому не делал зла…» Тася, услышав рассказ, промолчит, даже не расплачется, лишь погладит посмертную маску его, кстати, совсем непохожую. «А мне, – признается сестрам, – не о ком заботиться. Мужу помогаю. Делаю всё, что требуется от жены. Но ради Миши готова была отдать жизнь…»
Через несколько лет, разойдясь с Крешковым, распишется с Давидом Кисельгофом, адвокатом, но тоже из общей их с Мишей компании. Словно всё хорошее для нее было там. Она ведь часто бывала с Мишей и у Крешковых на Малой Бронной (Москва, ул. Малая Бронная, 32) и у Кисельгофа в Скатертном (Москва, Скатертный пер., 25). Смешно, конечно, ныне, но Давид Кисельгоф был единственным, к кому ревновал когда-то Тасю ее Миша. Теперь им было под пятьдесят. Они уедут в Туапсе, где у моря она и похоронит Давида. А 10 апреля 1982-го соседи Таси заметят дым, выползавший из-под ее двери. Когда однокомнатную квартиру взломают, увидят прогоревшую на плите кастрюлю. И рядом, в лужице крови – Тасю…
Ермолинский напишет потом сначала про третью жену, про Лену, что она до старости сохранила страсть к нарядам и Булгаков воистину и после смерти оказался для нее «золотым автором» (только архив его продала за 29 тысяч), а после, короче, куда короче, – и про Тасю.
Из воспоминаний Сергея Ермолинского: «Бедный Миша! Он как-то лишь мельком обмолвился… о Татьяне Николаевне. Но я убежден, она продолжала жить в нем потаенно – где-то в глубине, на дне его совести – и как ушедшая первая любовь, и как укор… Он ждал ее, мучаясь и стыдясь, плохо скрывая это от нас. Не знаю, пришла бы она, если бы была в эти дни в Москве? Она исчезла из его жизни незаметно и никогда, ни единым словом не напомнила о себе. Он так и не узнал, где она и что с ней. Ее обида была горше обыкновенной женской обиды, а гордость – выше всякого тщеславия… Я понимаю боль моего умирающего друга, когда он вспоминал о Тасе Лаппа…»
Это он про ту последнюю просьбу Булгакова перед смертью – позвать Тасю. Не нашли… И он – отвернулся к стене и умер. Кстати, Тася, отвечая Ермолинскому из Туапсе, напишет: «Я у него была первая сильная и настоящая любовь (на склоне лет уже можно обо всем сказать). Нас с ним связывала удивительная юность. Но теперь, – закончит одним словом, – поздно…» А ведь этим же – «поздно» – закончит свой роман и писатель. Мастер в романе, выйдя из дома умалишенных, помните, шепнет Маргарите: «Поздно. Ничего больше не хочу, кроме того, чтобы видеть тебя… Бедная, бедная…»
Бедная Тася, «строгая, спокойная, красивая старуха», успеет перед смертью раскрыть тайну разрыва с Булгаковым. Напишет Девлету Гирееву, автору книги о нем: «В разрыве с ним я сама виновата, по молодости я не могла простить ему увлечения… другой женщиной. Как сейчас помню его просящие глаза: “Тасенька, прости, я всё равно должен быть с тобой. Пойми, ты для меня самый близкий человек!” Но… уязвленное самолюбие, гордость и… я его, можно сказать, сама отдала другой»… И еще – успеет прочесть роман о Мастере и о его женщине-мечте – о королеве. Это точно известно. Неизвестно другое: встрепенулась ли, ахнула, дернулась ли лететь, как всегда летела на зов его, когда прочла в последнем романе мужа его молодой, радостный, зажигающий клич? Тот самый, помните: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?.. За мной, и я покажу тебе такую любовь!..»
Обыкновенный небожитель, или Голгофа Бориса Пастернака
О, знал бы я, что так бывает, Когда пускался на дебют, Что строчки с кровью – убивают, Нахлынут горлом и убьют! От шуток с этой подоплекой Я б отказался наотрез. Начало было так далеко, Так робок первый интерес. Но старость – это Рим, который Взамен турусов и колес Не читки требует с актера, А полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба, И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба. Борис ПастернакПастернак Борис Леонидович (1890–1960) – крупнейший русский поэт ХХ века. «Не будем трогать этого небожителя», – сказал о нем Сталин и вычеркнул его имя из списков на арест. Марина Цветаева «небожительство» его подтвердит: «Поднимете голову ввысь, – скажет Пастернаку, – там Ваши читатели…» И незадолго до своей смерти, перейдя с ним на «ты», доскажет: «Тебя никакие массы любить не могут. Пожрут они тебя…» Так и случится!
Хоронили не человека – эпоху. Все запомнят всё. Но ни современники, ни нынешние биографы – никто не заметит невероятного, неслыханного факта: поэта, чье имя знал весь мир, нобелевского лауреата, уложили в гроб в старом, отцовском еще, костюме. Лучшего не нашлось, лучшего просто не было…
«Всю жизнь я быть хотел, как все», – сказал он в стихах. И представьте – был! Правилом сделал это. Зимой ходил в валенках и белых варежках, осенью в простецкой кепочке, резиновых сапогах и дешевом китайском плаще «Дружба» – были такие тогда. А для парадных выходов в театр, в ЦК КПСС надевал единственный приличный костюм, присланный ему после кончины отца, знаменитого художника. В нем и похоронили его. И то сказать: тоже «парадный выход» – предстать пред небесами! Поважнее, чем перед каким-то ЦК! Нет, нет, он не был коммунистом. Но жена его, стоя у открытой могилы, всё хотела крикнуть: «Прощай, настоящий, большой коммунист, ты жизнью доказал, что достоин этого звания». Не крикнула – удержалась. Хотя имела в виду это: желание быть, как все. Трудно поверить, но, когда после смерти Маяковского его стали «двигать» на место первого поэта (кто бы отказался от такой чести?!), он пожаловался самому Сталину. Письмо это откопали в архивах, и мы прочли: он не хотел быть «официальным поэтом СССР» – хотел, как написал вождю, «работать по-прежнему, в скромной тишине». Как человек обыкновенный! И когда через много лет, в 1949-м, Сталину доложили, что арест Пастернака и необходим, и подготовлен, вождь, говорят, тогда и вычеркнул его из списка: «Не будем трогать этого небожителя».
Небожитель – это точно! Такому на земле и впрямь немного надо…
«Завтра вам на виселицу, не правда ли?..»
Умер в полночь. Еще живы те, кто помнит это. Иные, возможно, читали, что наутро на его даче зацвела вишневая аллея, посаженная им. Намёк? Последний дар «небожителя»? Неведомо. Но все ли помнят, что он и родился в полночь? Причем 29 января, день в день, через пятьдесят три года после смерти Пушкина. Словно кто-то передал эстафету рифм, строчек! «Буря мглою небо кроет…» – написал Пушкин. А Пастернак будто подхватил: «Мело, мело по всей земле, во все пределы. // Свеча горела на столе, свеча горела»…
Свеча хоть одна, да горела в ту ночь на втором этаже в центре Москвы, в чудом уцелевшем доме купца Веденеева (Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, 2). Там, за окнами, ныне пластиковыми, в квартире из шести комнат и родился поэт – «цыганенок», как прозвали его. Биографы, разворошив архивы, нашли недавно: род Пастернаки вели аж от дона Исаака Абарбанеля, испанского теолога XV века и толкователя Библии. Но на Тверской жила уже просто семья интеллигентов. Отец, художник, академик живописи, с вечно белым отложным воротничком, и мать поэта – пианистка, в двадцать два года профессор Императорского музыкального общества. Отец дружил с Левитаном, Серовым, Врубелем, Рахманиновым, потом и с самим Толстым. А мать в тринадцать лет так выступила на одном из концертов, что Антон Рубинштейн, подхватив девочку на руки, поднял ее над сценой и, расцеловав, крикнул: «Вот как надо играть!» Через четыре года о ней напишут книгу: «вундеркинд»! Будет играть, и не однажды, в Колонном зале Дома союзов, а в 1927-м в эмиграции сядет за рояль лично с Эйнштейном, семья подружится с ним в Германии. Впрочем, публичные концерты прекратит давать еще в Москве и – в одночасье. В тот вечер, играя Вагнера как раз в Колонном зале, узнает в перерыве: оба сына заболели, температура под сорок. И что вы думаете? Прервав концерт, плюнув на публику, она кинется домой с одной мыслью: пусть выживут оба и, если выживут, она – так поклялась на бегу – никогда не выйдет на сцену. И, говорят, не вышла…
В одночасье порвет с музыкой и Пастернак. Вывалится как пьяный из дома на Глазовском, где у музыканта и дирижера Кусевицкого (Москва, Глазовский пер., 8) жил в то время великий Скрябин, и в вечерних сумерках, не замечая повозок, телег, пролеток, будет, как в безумии, по нескольку раз пересекать каждую улицу. «Смерчом с мостовой», – как напишет в стихах. Ему, девятнадцатилетнему, Скрябин, кумир, только что сказал: музыка – истинное призвание его. А он, выскочив на улицу, решил: он рвет с музыкой навсегда. Станешь тут пьяным! Он сыграл Скрябину две свои прелюдии и сонату. Тот обомлел. О способностях, сказал, говорить нелепо, налицо «несравненно большее», ему дано в музыке «сказать свое слово». Но, выскочив в сырую ночь, Пастернак твердо решил: с музыкой кончено! Нет, видимо там, на небе, музы, покровительницы искусств, не просто ссорились – дрались за него. Ведь он хотел и мог стать художником: его рисунки и ныне хранятся в музее. Бросил – увлекся музыкой. Учась в университете, бегал в консерваторию, занимался и оркестровкой, и контрапунктом с самим Глиэром. Мучило отсутствие абсолютного слуха – способности узнавать высоту любой взятой ноты. Скрябин успокоил: это неважно, для композитора даже необязательно. Но приговор себе станет строже. «Это был голос требовательной совести, – напишет Пастернак про ту ночь, – и я рад, что этого голоса послушался». Потом так же порвет с философией, хотя в Марбурге, в университете, куда поедет доучиваться, и Коген, и будущее светило философии Кассирер – все советовали ему остаться и преподавать. «Вы нашли золотую жилу, – кричал ему Кассирер, прослушав его реферат. – Теперь надо лишь работать!..» И намекал на докторантуру, на феерическую карьеру в науке. Но ему уже не надо было и этого. Другу в Москву сообщил, что именно в день защиты реферата написал сразу пять стихотворений. Нет, все-таки абсолютный слух у него был! Иначе не услышал бы истинного призвания своего, не понял бы, что миссия его все-таки поэзия, а стихия – стихи.
Кстати, там же, в Марбурге, где он даст «отставку» философии, ему дала отставку первая любовь его, девушка, которую он пять лет, еще с гимназии, просто обожествлял. Имя ее – Ида Высоцкая. Она, обитавшая чуть ли не в замке в центре Москвы, была одной из богатейших невест города. Так вот, в старости она скажет вдруг: «Боря был робким мальчиком». Что имела в виду – неведомо. Возможно, вечное преклонение его перед женщинами. Такого любая могла брать голыми руками. И – брали. А он лишь дорисовывал избранниц, «прихорашивал» их в воображении. Поэт! И кстати, женщины, любившие его, как те музы на небе, едва не дрались из-за него. Да, да! Исключением стала как раз Ида – она почти единственная откажет ему.
Он влюбился в нее, когда понял: он во всем должен быть первым. Детство его и на Тверской, и в Оружейном переулке, куда переехала семья (Москва, Оружейный пер., 42), было, в общем-то, обычным (гербарий, пианино, игры в индейцев). Дом в Оружейном был необычным – это да! И жаль, что его снесли в 1976-м, ведь сюда к его отцу приходили и Рубинштейн, и Левитан, Нестеров, Ге , даже Лев Толстой – Леонид Осипович делал иллюстрации к его романам. Толстой, говорят, и сказал отцу Пастернака: «А знаете, вот я смотрю на Вас, и мне ужасно нравится нравственная высота, на которой вы стоите!..» Может, потому и в Боре возникнет, и уже навсегда, непреодолимое желание первенствовать. Быть первым учила его первая, еще до гимназии, учительница – Екатерина Ивановна Боратынская, детская писательница, к которой его возили в знаменитый дом графов Шереметевых (Москва, ул. Воздвиженка, 8). В тот дом, где когда-то жила легендарная крепостная актриса Жемчугова, где бывали поэты Жуковский и Кольцов, где навещал Боратынскую тот же Толстой и где в полутемной клетушке меблированных комнат, пахнущей книгами, кипяченым молоком и строгой чистотой, она учила Борю азам, даже тому, «как сидеть на стуле и держать ручку с пером». Первенствовать учился на детских елках в доме Валентина Серова, художника (Москва, ул. Волхонка, 9), на рисовальных вечерах Поленова (Москва, Кривоколенный пер., 11), куда его водили родители и куда на несколько дней переберется жить вся семья Пастернаков в страшные дни 1905 года, и конечно – среди детей в доме Штихов, друзей семьи (Москва, ул. Мясницкая, 22). Он ведь даже в морской бой ненавидел проигрывать – белел как полотно и убегал. Хотел быть первым. Из-за этого, к слову, до конца дней возненавидел еврейство свое, ставящее его в неравное положение со сверстниками. Когда подали документы в гимназию, то, несмотря на ходатайство городского головы, самого князя Голицына, директор гимназии отрезал: «Ничего не могу сделать. На триста сорок пять учеников у нас уже есть десять евреев, что составляет три процента, сверх которых мы не можем принять ни одного». И дал совет поступать через год уже во второй класс. Он так и сделал и, поступив в 5-ю московскую гимназию, где, кстати, учились и поэт Владимир Соловьев, и художник Фаворский, и философ Ильин, и «вражий друг его» – Маяковский, окончил ее (Москва, ул. Поварская, 1/2) с золотом. Медаль, впрочем, не сохранилась – он пустит ее в дело, о чем я еще расскажу, но она давала право ему, еврею, поступать в университет. Его тоже окончит с отличием, но за дипломом кандидата философии уже не пойдет, тот так и останется пылиться в архивах МГУ. Думаете – вызов, жест? Нет! Просто он был уже поэт, а поэтам – зачем им дипломы?..
Я, впрочем, забежал вперед. Ибо со школьной латыни да геометрии и началась его любовь к Высоцкой, к девушке в «тончайшем пеньюаре», к этой «отпетой слепой», как напишет. Его, первого ученика, попросили натаскать ее к очередным экзаменам, а он – влюбился. И любил, повторю, годы. Он жил в то время с родителями уже на Мясницкой, в «самом теплом месте земного шара», как назовет потом это гнездо, – отцу дали служебную квартиру на четвертом этаже угловой ротонды Училища живописи, ваяния и зодчества (Москва, ул. Мясницкая, 21). Детство, отрочество, юность, с четырех лет до двадцати проживет он здесь. И с круглого балкона ротонды, и ныне висящего над улицей, видел, как по Мясницкой шла перед ним сама история. В 1894-м по ней, под бешеный звон колоколов, торжественно пронесли прах Александра III, а в 1905-м, напротив, в жуткой тишине (!), так что хотелось закричать, несколько часов подряд (!!), в шеренгах по десять (!!!), шли и шли колонны рабочих, провожая в грозной немоте открытый гроб убитого Баумана – революционера. Да, взрослел на Мясницкой! А Высоцкая, любовь его, жила, считайте, в двух шагах, но росла почти в замке – в фамильном особняке богатейших чаеторговцев. Башенки, толстые стены, окна, как бойницы, вестибюль со стадион. Здание и ныне стоит у Чистых прудов (Москва, ул. Огородная Слобода, 6), в нем поместится потом и какой-то клуб, и Общество старых большевиков, и даже на десятилетия – Дом пионеров и октябрят с его кружками, студиями и секциями. Замок, одно слово! А там, где замок, там – принцессы, там тайны, шорохи, шепот и, разумеется, какое-то «иллюминованное мороженое»; его поэт не раз помянет и в письмах, и в ранней прозе, и даже в романе «Доктор Живаго». Цела еще лестница замка, по которой он врывался сюда с диким, ликующим взглядом, с ранцем за плечами, где меж учебников лежал Кант или Бергсон. Живо еще старинное зеркало с отставшей амальгамой на втором этаже – в него, возможно, смотрелась Ида. Я не нашел лишь Желтого зала, где на окне лежал скомканный батистовый платочек, которым она вытерла тогда руки, липкие от шоколада, орехов и мандаринов. В Желтом зале Высоцкие устраивали для дочерей вечеринки, игры, танцы. Здесь, например, встречали Новый, 1912 год. Пастернак запомнит и стол в розах, и «электричество в хрустале», и тихий вальс, и пастилу, которой наперебой угощали Иду друзья. Именно тогда он возьмет платок ее, забытый на окне, и украдкой вдохнет запах его, отчего ему станет холодно до головокружения. Платок тоже войдет в роман. Помните: «Платок издавал запах мандариновой кожуры и разгоряченной ладони ее, одинаково чарующий. Детски наивный запах был, как слово, сказанное шепотом в темноте»…
Какой там шепот! О любви его в те годы знали все. «Моя родная Ида! – писал ей. – Ты стольким владеешь во мне». Матери признался: «Она так глубока и так афористично-непредвиденна; и так неразговорчива – и так… и так печальна». А другу Шуре Штиху тогда же написал: «Величавая, оскорбляемая поклонением всех, темная для себя, для меня, и прекрасная в каждом шаге…» Друзья, впрочем, иллюзий его не разделяли. Костя Локс, будущий профессор литературы, зайдет как-то в замок: «Грязный лакей в грязном фраке открыл мне дверь… Истомленная желтоволосая Ида, болезненная и дегенеративная, жила в какой-то теплице… Показала коллекции духов, привезенных ею из Парижа. Ряд бутылочек замысловатых форм, со всевозможными запахами, в кожаных футлярах… Перенюхал их всех по очереди… Поговорив о пустяках, выпив жидкого чаю с чахлым печеньицем, я с чувством облегчения покинул особняк…» И всё! Никакой поэзии! Ни тайн, ни платочка, который, конечно же, был просто носовым платком, да еще не вполне чистым. Но поэт, витающий в небесах, выдумку принимал за жизнь, а просто богатую девицу – за равную себе духовно. И ждал, что там, в Марбурге, где они встретятся, случится чудо, что он поймает, догонит… вчерашний день.
В Марбурге получит от Иды решительный отказ, но, провожая ее на вокзале, сначала пойдет за поездом, потом побежит, а потом – у края перрона – разогнавшись и ничего не соображая уже, прыгнет на последнюю подножку последнего вагона. Как был – без документов, без денег. Это случилось 16 июня 1912 года – этот день назовет потом вторым рождением. «Разъяренный кондуктор, – вспоминал, – преградил мне дорогу». Ида с сестрой, выскочив в тамбур, станут совать кондуктору деньги на билет для него. А ему в смешливой суете почудится, что сказка продолжается, что ничего не кончено еще. Увы, умные девушки, за день пути до Берлина, дадут ему понять, что прощание их таки состоялось и лишь он не заметил этого. А кроме того, намекнут, что «нежелательно», если его увидят встречающие их…
Иллюзия рухнула, любовь – кончилась. Всю ночь, в дождь, он бродил по Берлину, пока не нашел убогую ночлежку, куда его пустили без паспорта. Он сел на стул, уронил голову и зарыдал. Ушедший день будет вспоминать всю жизнь. Как накануне отъезда сестер из Марбурга кёльнер в ресторане сказал ему, накрывая ужин: «Покушайте напоследок, ведь завтра вам на виселицу, не правда ли?..» Как утром, войдя к ним в отель, столкнулся с младшей из сестер и та, не поздоровавшись, юркнула в свой номер и заперлась. Как он, видимо, безумный уже, прошел к Иде и, страшно волнуясь, сказал: «Так продолжаться не может». Она встала, попятилась. А когда коснулась спиной стены, вспомнила: есть способ разом прекратить всё это, и – отвергла и руку, и сердце. В тот день ему исполнилось двадцать два года, четыре месяца и семнадцать суток. Второе рождение – рубеж, навсегда искалечивший его способность любить…
Через год Ида выйдет за банкира Фельдцера. Но поэт неслучайно назвал ее «слепой» – жалела, говорят, о разрыве. Он же, напротив, долго будет недоумевать: как он мог заболеть ею? Меня же поразит его попытка вскочить в уходящий поезд. Желание поймать день отшумевший, прожить его заново. Это у него будет повторяться в делах, поступках, любви. Да ведь и сама поэзия – разве не попытка вернуть, вновь пережить мелькнувшее чувство, сказку, показавшуюся правдой, и правду – обернувшуюся миражом?..
«Вокзал, несгораемый ящик разлук моих, встреч и разлук», – написал в стихах. Но, верите ли, все его влюбленности и даже женитьбы – все так или иначе будут связаны и с вокзалами, и с поездами. Такая вот странность! То из-за девушки он готов лечь на рельсы, то, встречая любимую с юга, специально выезжает в Тулу, чтобы уж вместе возвращаться в Москву, то берет за правило мириться с первой женой, которая всякий раз уезжала к родителям в Ленинград, непременно в Бологом – между столицами. Он и во вторую жену – звездный миг! – влюбится всерьез уже, представьте, в поезде, у окна вагона.
Впрочем, есть еще одно совпадение «в тему». Стихотворение «Вокзал», написанное через год после разрыва с Идой, он включил в первую книгу стихов. Она выйдет в 1913-м и, кстати, смешным тиражом: двести экз. Но помните, как он назвал книгу? Так вот, поэт, витающий в небесах, кого Сталин лишь через тридцать лет окрестит небожителем, первый свой сборник назвал «Близнец в тучах»! Чуете?! Оказывается, он и сам, и еще в юности жить хотел, образно говоря, и на земле, и – как бы на небе. Близнецом себе самому.
И «да-да-да», и – «нет»
«Вы любите молнию в небе, а я – в электрическом утюге», – сказал ему как-то Маяковский, подчеркивая разницу между ними. Что ж, небожитель не мог не любить молний. Правда, Цветаева, не ведая об опасной любви поэта к ним, предупредит его почти пророчески: «Бог задумал вас дубом, – напишет, – в вас ударяют молнии, а вы должны жить!..»
Ловец молний – это ему подходило. Уж не «за молниями» ли поднимался он как-то на самую высокую тогда вертикаль Москвы, на колокольню Ивана Великого – куда взбирались до него и Тютчев, помните, и Жуковский. Высотой соблазнил, вел наверх, протягивая руку на крутых ступенях, Сергей Дурылин, тогда поэт и критик. Дурылин, будучи старше, не только первым увидел в нем поэта, но так же, едва не за ручку, привел его в поэтический кружок «Сердарда», который собирался то у Юлиана Анисимова на Разгуляе, на Елоховской улице (Москва, ул. Спартаковская, 4), то у Сергея Боброва сначала на Пречистенке (Москва, ул. Пречистенка, 33), а позже – в Лопухинском переулке (Москва, Лопухинский пер., 7), то у Ивана Аксенова (Москва, Чистый пер., 5). «Пью горечь тубероз, небес осенних горечь…» – это оттуда, с Елоховской, про ночные сборища их. Мы, пишет Пастернак о друзьях, «часто подымали друг друга глубокой ночью. Повод всегда казался неотложным. Разбуженый стыдился сна, как слабости. К перепугу домочадцев, считавшихся ничтожествами, отправлялись тут же… в Сокольники, к переезду Ярославской железной дороги…» Или вот в Кремль – на колокольню. Дурылин вел его смотреть на звонарей, но о них там, рядом с облаками, думаю, забыли оба. Хотя в будущем, образно говоря, и станут «звонарями». Дурылин уйдет в Оптину пустынь, станет священником, а Пастернак – зазвенит стихом…
Не знаю, виден ли ныне с колокольни Тверской бульвар, но где-то там, на какой-то скамье тот же Маяковский вскоре и попросит его: «Пастернак, объявите меня первым поэтом. Ну что вам стоит, – и добавит: – А я сейчас же объявлю вас вторым…» Был такой факт. Пастернак вроде бы промолчал. Да и бывают ли среди небожителей – вторые?.. А вообще, повторю, хотел быть, как все. Правда, когда Цветаева уже в 1926-м обмолвится вдруг в письме, что он и оказался «как все», неожиданно обидится. Хотя тут, если вдуматься, нет противоречия. Он хотел быть, как все, в жизни: «без привилегий», равным и в быту, и в толпе. Но – не в поэзии же!.. Курьез, но когда в 1950-х, с первым инфарктом, его, знаменитого уже поэта, уложат в коридоре Боткинской – в палатах мест не было (Москва, 2-й Боткинский проезд, 5), – он именно этому и, кажется, искренне – обрадуется. Это подчеркнет равенство его со всеми. Но ведь равенство по горизонтали – «в лежке». А вот по вертикали – в духовном росте, в вершинах творчества – равенства не признавал. Тоже курьез, но когда в Париже в гостях у Прокофьева, композитора, той же Цветаевой понравился самый вкусный, изысканный каштановый торт, то она, протянув тарелку и указав на него, вдруг попросит: «Дайте мне еще кусок того, этого, лучшего… Пастернака!» Заговорилась! Но имя сорвалось как эталон, как идеал. И весь вечер у Прокофьева так и звали, смеясь, этот торт «Пастернаком».
Жил мигами, как ребенок. Молнии и не живут иначе! В молодости мог на улице показать язык девице, уставившейся на него. Анненков, художник, видевший, что прохожие и так оглядываются на них, тут не смолчал: «Ну, это слишком!» На что поэт прогудел: «Я, знаете, очень застенчив…» Нескладная фигура, легкая, почти женская походка, огромные губы с медным отливом и взгляд, сверкающий белками. Таким выбегал на площадь перед храмом Христа Спасителя, когда отцу дали квартиру на Волхонке, в доме Художественного общества (Москва, ул. Волхонка, 14). Стихи писал сложные, но выглядел порой простовато. Смеялся, что когда его брали в армию и он голый предстал перед комиссией, то его, кандидата философии уже, автора двух книг, вдруг спросили: «А ты вообще грамотный или как?..» Да, да, это правда! И умел, словно рак, «хорошеть в кипятке». Так написал про себя. Чем хуже жизнь, тем – лучше. Это бесило близких, а будущих жен даже оскорбляло. Не от того ли жить с родителями ему очень скоро стало трудно. Крикливая, добрая, нервная еврейская семья: надрыв, слезы, вечная валерьянка. «Скандал утром, – пишет отец. – Желание настоять на своем. Больше жить вместе невозможно…» А сын просто выл: «Мама, милая, я гибну; всё больше и больше… и мне ясно, что всё это чуждое мне благополучие, благодушие… – увеличивающаяся гибель. Пока не поздно, я верну себя себе…» И – ушел. Снял комнату, где одна девушка, «как с полки», достала его жизнь и пыль «обдула». Так сочинит про каморку свою со спичечный коробок, где окно смотрело на Кремль, на не взятую пока вертикаль…
«Ах, бросьте эти штучки! Принимайте по пять капель Пастернака», – шутили в компаниях, когда хотели успокоить кого-нибудь. Доля истины в шутке была. Ибо поэт сначала поддакивал всему: «да-да-да!», и лишь когда допекало, говорил «нет», но – бесповоротно. Относилось это к семье, друзьям, флиртам, даже к революциям. Не просто жил иллюзиями – отстаивал их. «Почему всем, – написал отцу, – дана свобода обманываться, а я должен быть мудрецом, который решит жизнь как математическую задачу?..»
Вообще, счастливыми назовет потом 1913-й и 1917-й, те именно годы, когда с перерывом, дважды снимет одну и ту же комнату в Лебяжьем, ту самую – с видом на Кремль (Москва, Лебяжий пер., 1). Дом с панно Врубеля из майолики, построенный, кстати, Гончаровым, внучатым племянником жены Пушкина и отцом художницы Гончаровой, и ныне стоит рядом с Боровицкими воротами. Вот в нем-то, на последнем этаже, в табачном дыму, дурея от крепкого чая, он писал стихи и спорил по ночам с поэтами Асеевым, Бобровым, которого звали тогда «русским Рембо», с теми же Дурылиным и Костей Локсом. Последнему, к слову, посвятит «Февраль», первый из известных стихов своих, и именно про Локса скажет: он научил его писать прозу. А с Юлианом Анисимовым, поэтом и ярым антисемитом, здесь долгой бессонной ночью ждал дуэли. Дуэль, к счастью, не состоялась; Анисимов, уже женившийся и переехавший на Молчановку (Москва, ул. Малая Молчановка, 6), где поселится и Локс, – извинится! Но драться должны были 29 января, в день рождения Пастернака и – в день смерти Пушкина.
Всё это было, повторяю, в Лебяжьем. Отсюда бегал к «синим оковам», к сестрам Синяковым, где влюбился в Надю, я писал о доме сестер на Тверском в главе о Хлебникове. Синяковы, кстати, и придумали шутку про «пять капель Пастернака». Отсюда в который раз уже ездил в Петроград, к двоюродной сестре Оле Фрейденберг, в которую был перманентно влюблен; он и позже будет подолгу останавливаться у нее (С.-Петербург, кан. Грибоедова, 37). Из Лебяжьего, в потертом плаще и чуть прихрамывая (он повредил ногу, упав с лошади на даче), бегал по вечерам давать уроки и к сыну поэта Балтрушайтиса Жоржику (Москва, Покровский бул., 4/17), и на Воронцово Поле – к «Бубчику», отпрыску фабриканта Саломона (Москва, ул. Воронцово Поле, 8), и к «привязчивому мальчику» Вальтеру, сыну Морица, владельца крупных магазинов. Этот занимал сначала целый дом на Пречистенке (Москва, ул. Пречистенка, 10), а потом, после немецких погромов в начале Первой мировой, перебрался в Шереметьевский (Москва, Романов пер., 3), куда пригласил жить и Пастернака. Наконец, сюда, в Лебяжий, но уже в 1917 году («Я поселился здесь вторично, из суеверья…» – напишет в стихах), забегала к нему стройная девушка в черной шубке – Лена Виноград, дочь присяжного поверенного, которая и достанет его жизнь, «как с полки». Ей было двадцать, она была кузиной братьев Штихов, его друзей, и перебралась с родителями в Москву из Иркутска. Жила с ними в Хлебном (Москва, Хлебный пер., 30), куда провожал ее Пастернак, училась на каких-то курсах, но охотней гуляла с поэтом в Нескучном саду или на Воробьевых горах. Из-за нее он чуть и не ляжет на рельсы под Софрино вслед за Шурой Штихом, который тоже был влюблен в Лену. Хотя страшную любовь к ней, «нездоровую, умопомрачительную», он, кажется, опять выдумает. В стихах про Лену и про комнату в Лебяжьем напишет: «Из рук не выпускал защелки. // Ты вырывалась // И чуб касался чудной чёлки, // И губы – фиалок…» Но она, трезвая, скажет потом: всё было не так. «Я подошла к двери, собираясь выйти, но он держал дверь и улыбался, так сблизились чуб и челка. А “ты вырывалась”, – продолжит, – сказано слишком сильно, ведь Борис Леонидович по сути своей был не способен на малейшее насилие, даже на такое, чтобы обнять девушку, если она этого не хотела. Я просто сказала с укором: “Боря”, и дверь тут же открылась…» Поэт – мир воображаемый! «Вы неизмеримо выше меня, – захлебывался он в письмах к ней. – Когда Вы страдаете, с Вами страдает и природа, она не покидает Вас, так же как и жизнь, и смысл, и Бог…» Во как взвивался! Увы, в реале Лена выйдет замуж за владельца мануфактуры и переживет поэта на двадцать семь лет. Но вот ведь штука: счастливой, кроме как в стихах его, уже не будет.
Они увидятся еще раз, уже в дни революции. Он, прожив лето 1917-го у Збарских, друзей (Москва, Нащокинский пер., 6), жил тогда на Сивцевом, на пятом этаже у знакомого журналиста Давида Розловского (Москва, ул. Сивцев Вражек, 12). Жили холостяками, в том смысле, что со стола, заваленного газетами, остатки еды не убирали, а раз в месяц сгребали всё и несли на улицу. В ноябре 1917-го даже выходить стало опасно, «постовые открывали вдохновенную стрельбу из наганов и многие гибли от шальных пуль…» То-то удивится Пастернак, когда к нему забежит Лена. Вот тогда, в сумерках, не зажигая огня, наигрывая ей что-то на рояле, он, между прочим, и скажет: жизнь скоро наладится и в торговых лавках на Охотном Ряду снова будут висеть зайцы. Пять капель, мыслите? Увы, зайцев в Охотном никто и никогда не увидит уже. Но революцию примет восторженно. Как мальчишка – землетрясение. Да что там, через двадцать лет после октябрьского переворота, в 1936-м, будет с жаром говорить одному критику: «Я хочу быть советским человеком…» Все должны жить, как все, – это кредо, и потому революция, которая, по его словам, вырезает всё лишнее, есть «великолепная хирургия». Он не знал еще, что, когда напишет два этих слова про «хирургию» в романе «Доктор Живаго», лишним станет и сам, и его с улюлюканьем и «вырежут» из жизни. Вот цена иллюзий его, его вечного: «да-да-да»!..
И про любовь, и про зайцев в Охотном, и даже про будущие колхозы ему всё объяснит Цветаева. Единственный человек, чье превосходство (не по горизонтали – по вертикали) признавал. Просто в гулкой квартире на Сивцевом, в том же 1918-м, зазвенит вдруг телефон и его пригласят прийти. Звонил хромой поэт Амари, Михаил Цетлин, человек «тонкой выделки», державший салоны в Москве, потом в Париже и даже в США, где через много лет придумает знаменитый «Новый журнал». Так вот, он в жутком 1918-м ухитрится собрать в своей квартире всю поэтическую Москву. Это случится в доме на Трубниковском (Москва, Трубниковский пер., 11), Цетлины жили здесь в квартире чаеторговца Высоцкого, представьте, отца Иды Высоцкой. Более того, Цетлин был кузеном Иды. Сами Высоцкие отсюда рванут на Запад в 1917-м, а в просторную квартиру их въедут Цетлины. Авторы только что вышедшей книги «Москва Пастернака» считают, что встреча поэтов состоялась еще в шехтелевском особняке Цетлиных на Поварской (Москва, ул. Поварская, 9), в доме, который отец Цетлина приобрел еще в 1910-м. Там тоже, разумеется, встречались писатели и поэты, бывали и Зайцев, и Бальмонт, и Вячеслав Иванов, и Андрей Белый, но, подчеркну, – до революции, до того, как все подобные особняки были реквизированы новой властью. А та знаменитая встреча поэтов, на которую и позвали Пастернака, состоялась все-таки на Трубниковском (адрес этот я нашел в «Записных книжках» Цветаевой). Здесь почти год жили Цетлины, до осени 1918-го, до отъезда в Одессу. Впрочем, важно другое: в тот вечер в доме Цетлиных состоялось событие для русской поэзии едва ли не эпохальное. Ведь какие имена сошлись! Бальмонт, Вячеслав Иванов, Балтрушайтис, Белый, Ходасевич, Маяковский, Бурлюк, Каменский, Цветаева. Пишут, что были Эренбург, Алексей Толстой, Вера Инбер и Антокольский. Фантастика! Но сам Пастернак, так, во всяком случае, признается потом, выделил здесь одну Марину. За простоту. «В ней угадывалась родная мне готовность расстаться со всеми привилегиями». Она же скажет потом, что «каторжное клеймо поэта» увидела тут только на нем: «Это жжет за версту!» И добавит: «Кстати, внезапное озарение: вы будете очень старым, вам предстоит долгое восхождение». Небожительница узрела небожителя. И угадала: он проживет до семидесяти, и каждый год его можно назвать шагом к вершине. До отъезда Марины в эмиграцию они еще будут видеться, но мельком. Зато потом у них грянет такой роман, что небесам станет жарко. А соперницей Цветаевой, его «сердечного воздуха», станет первая жена поэта – «ангел и русалочка». Такой вот образуется треугольник…
Умел, умел «хорошеть в кипятке». И как 13-й и 17-й годы, мог, думаю, назвать счастливым и 1922-й. Во-первых, женился на «крутолобой художнице», во-вторых, влюбился в Цветаеву и готов был лететь к ней по первому зову, а в-третьих, именно в 1922-м вышла его книга «Сестра моя – жизнь» и на него свалилась баснословная слава. Да, чуть не забыл, именно в 1922-м его вызвал к себе, представьте, и сам Троцкий.
Из книги Н.Вильмонта «О Борисе Пастернаке»: «Звонок из секретариата председателя Реввоенсовета… Л.Д.Троцкий-де просит к себе Бориса Леонидовича в час дня “на ауедиенцию”… Прислан за ним был мотоцикл с коляской (такие были времена)… Троцкий спросил: “Скажите, а вы правда, как мне говорили, идеалист?!” – “Да, я учился на философском отделении университета, а потом – не совсем потом! – у Когена в Марбурге. Чудесный городок с густым отстоем старины…” – “Но лучше, если у вас в голове не будет этого «густого отстоя»”. – И Троцкий в “доступной форме” изложил Пастернаку “свою” точку зрения на идеалистическую и материалистическую философию и патетически, с необыкновенной либеральной “широтой и независимостью мысли”… воскликнул: “Не так уж даже важно, кто прав, кто виноват. Важно, что исторический материализм Маркса взят на вооружение социальными силами, способными преобразовать мир”. – “Я вас понял…” – ответил Пастернак».
«Ах, попалась птичка!» – попалась-таки! Что понял Пастернак? Уяснил, думаю, главное: уж если «силы социальные» способны «преобразовать мир», то одного-то человека «преобразуют» с легкостью. Через много-много лет скажет литературоведу Льву Озерову, что Троцкий не угрожал, не свирепствовал, но внятно и энергично сказал: «Если вы не перестроитесь, история сломает вам хребты…» А вообще эту фразу «Ах, попалась птичка!», смеясь, говорила ему в тот год, может, даже в тот день «крутолобая» девушка. Говорила, когда он поминутно ловил ее для поцелуев в самых неожиданных местах своего дома. В такие минуты, писал, ему всякий раз хотелось «просто купаться в ее лице»…
Ее звали Женечкой Лурье. Но попавшейся «птичкой» в их браке станет, кажется, он. Да еще птичкой «кругом виноватой». Их познакомит Миша Штих, брат Шуры, который и сам был без ума от Жени. Она была родом из Могилева, была младше поэта на восемь лет, и стихи его ей категорически не понравились. А соединил их руки как раз отвергнутый Штих. Прощаясь с ними на трамвайной остановке, он вдруг протянул им обе ладони сразу, а затем нечаянно вложил ее руку в руку поэта. Тот прогудел в ответ: «Как это у тебя хорошо получилось». А Женя, говорят, тихо засмеялась.
Она была гордой, независимой, властной. В детстве пушистой косой хлестала мальчишек, но школу закончила с медалью. В Москву, поругавшись с отцом, приехала поступать (и поступила!) на физико-математическое отделение Высших женских курсов. Но, забежав к подруге в художественную студию, где рисовали старушку в кружевной шали, взяла вдруг бумагу и такой «выдала» этюд, что ее уговорили остаться. Когда поступит во ВХУТЕМАС, учителями ее станут, кстати, и Кончаловский, и даже Фальк.
Поженятся в Петрограде. Женя сбежит от него туда к родителям. Но в дело вмешается… шпилька. «Я, убирая, отодвинул диван, – напишет ей поэт, – она звякнула – и опять: “Ах, попалась”…» Вспомнил и кинулся в Петроград. Там-то, в квартире родителей Жени (С.-Петербург, ул. Рубинштейна, 23), и «попался». Да, ему всё у них не понравилось: в квартире не было ни одной книги, сама Женя помогала отцу в рыбной лавке, которую тот открыл при НЭПе, – но семья Жени и особенно брат ее, надавив на поэта, «вложит» ее руку в его ладонь. Там он и распишется со своей «гулюшкой-калевушкой». А кольца отольет в Москве из школьной медали. Сам выцарапает на них: «Боря и Женя». Свадьбы не будет; поэт в квартире на Волхонке, ставшей уже коммунальной, просто посадит Женю на плечи и понесет на кухню (где шипели уже пятнадцать примусов) знакомиться с соседями. В такую вот любовь долго будет играть! Ей нравилось, что он сам ставил самовар и так колол дрова и топил печь, что можно было залюбоваться. Он же с диким наслаждением следил, как она, лежа на тахте с книгой и не читая ее, улыбалась чему-то в потолок. Может, о славе своей думала – славе художницы. Ведь когда на гонорар от его стихов они закатили пир на Волхонке, когда на стол выставили даже лиловое богемское стекло (баккара уехало с родителями в Берлин, в эмиграцию), когда явились Асеев, Маяковский, друг Локс и даже Миша Штих, который уже ничем, кроме еды, не заинтересовался, Женя вдруг громко сказала: она огорчена сменой фамилии. «Я так просила Бореньку, чтоб он принял мою, девичью». То есть – Лурье. На что поэт, сидя в кресле, с натужным смехом бросит: «Я ей сказал напрямки, что уже кое-что напечатал за своей подписью. А она – всё свое!..» Но если серьезно, то и тахта вместо хлопот по хозяйству, и интеллигентные перепалки на людях лишь ускорят разрыв. Она недооценит его и переоценит себя как художницу. К Цветаевой тоже ревновала, но больше и неуступчивей – к его успеху. Соперничество самолюбий, слегка прикрытое флером любви!..
С Цветаевой всё было иначе – виртуальней. А в жизни именно с ней он умел исчезать, как никто. Только что был, и глядь – нет. Дважды провалится как сквозь землю: сначала в Москве, потом – в Париже. Первый раз исчез в 1922-м у Новодевичьего монастыря. Шел с Цветаевой в толпе за гробом Скрябиной, жены композитора. Говорили о стихах, о друзьях. А у могилы, оглянувшись, Марина его уже не нашла. Исчез. Через месяц Цветаева уедет в эмиграцию. А еще через месяц он, прочитав ее «Версты», заочно влюбится в нее. «Дорогой, золотой мой поэт, – напишет вдогонку. – Простите. Я не знал, с кем рядом иду…» Так начнется их бешеный роман в письмах, который будет длиться ровно столько, сколько он будет женат на Жене. «О, как я Вас люблю, Марина! Как хочется жизни с Вами!» Она ответит: «Вы единственный, за кого бы я умерла», – и напишет, что хочет от него сына. Сын к тому времени у него уже был – от Жени. Но поэт почти сразу станет рваться к ней, в Париж. Речь пойдет даже о дне отъезда. Да, хорошел в кипятке, но до какого же кипения доводил любящих? То в сотый раз клянется в любви к жене, а то советует ей влюбиться в кого-нибудь. То пишет, что никому не отдаст ее, даже смерти, а то заявляет, что любовь его с Цветаевой – «мир, большой и необходимый». Любил обеих? Кажется, так. Играл с обеими. Ибо жене вдруг сообщит и про какую-то женщину в окне напротив, «невозможную красавицу», с которой ничего нет еще, но которая каждое утро умывается и не видеть ее, «всю крупную, золотисто-темную», нельзя. А Цветаевой, которая вся жила уже его приездом, вдруг признается про еще одну, про новую любовь: «Боюсь влюбиться, боюсь. Сейчас мне нельзя…» Что это: наивность, прямота, честность тупая? Или действительно не любовь – чистая «литература»? Не знаю. Но обе, и Марина, и Женя, устанут, разочаруются в нем, в единственном, кто и был вершиной этого странного треугольника!
Последней попыткой вернуть Пастернака станет для Цветаевой его приезд в Париж в 1935-м. Он придет к ней из отеля, в котором остановится (Париж, бул. Сен-Жермен, 143), в какое-то кафе, где Цветаева после нервного разговора станет язвить над его верой в колхозы. Вот тогда он вдруг встанет: «Пойду куплю папиросы». Выйдет из кафе и не вернется – исчезнет! Она назовет его за это «нечеловеком», но добавит: «только такие и пишут такое»! Хотя всё, кажется, было проще: в Москве его ждала уже вторая жена – горячо любимая Зина… А последней попыткой вернуть его уже Жени станет отчаянное, забывшее гордость письмо ее, где она криком будет кричать: «Почему этот кошмар въехал в мою жизнь. Помоги. Спаси меня. Пусть Зина вернется на свое место!..» Зина – это Зинаида Еремеева-Нейгауз, из-за которой он едва не кончит самоубийством, будущая Лара «Доктора Живаго». Романа, который под разными названиями он фактически писал всю жизнь.
По сути, романа его прошлых и даже будущих еще романов.
Рецепт от поэта
Он всегда был ребенком, да еще – в «непроходимом лесу». Так скажет о нем Эренбург. А Ахматова, когда Пастернаку было уже пятьдесят, проводив его до дверей, улыбнется: «Ему вечно четыре с половиной года…» Скажет это в октябре 1941-го, когда Москву вот-вот, казалось, сдадут немцам, но когда Пастернак как раз весь вечер шумно и весело хвастался, что из винтовки на занятиях стреляет лучше всех. «Почти всегда в цель!..» – изумлялся на себя…
«Война всех поставила в строй, – написал в изданном недавно дневнике В.Я.Кирпотин, чиновник от литературы. – Умелые шагают, чеканя шаг. Пастернак и тут индивидуалист. В стороне тренируется в повороте – налево. Слышно, как сам себе считает: “Раз, два – кругом!”». Ну не дитя ли? Он и зажигалки на крыше своего дома сначала тренировался тушить. Небо в прожекторах, сверху летят бомбы, а он в брезентовых рукавицах гигантскими щипцами энергично зажимает воображаемую зажигалку, идет к краю и делает вид, что кидает ее во двор. «Туши там, внизу!» – кричит, как положено по инструкции. А ведь два не воображаемых – реальных фугаса угодило в дом писателей в Лаврушинском. Поэт как раз жил на последнем этаже, «с выходом к звездам», как шутил. Небожитель, мог ли он обитать где-нибудь внизу?..
К тому времени наше «взрослое дитя» уже пыталось покончить с собой, тонуло в бурю на уральском озере, могло реально получить пулю в 1937-м, но самым страшным считало все-таки 1941-й. Правда, 1941-й Пастернак назовет потом и самым счастливым. Поверит, что в войну отомрет всё ложное, а всё истинное – воспрянет. Поймет: тюрьма не внутри него – снаружи. Это он жил за решетками иллюзий, веры в социализм, в нового человека. Поймет – и найдет себе спасительное «окошечко в тюрьме».
«Все мы стали людьми лишь в той мере, – напишет, – в какой любили и имели случай любить». Но у поэтов и в любви всё необычно, всё несет какой-то знак свыше. Руку первой жены Пастернаку вложил в ладонь его друг. На трамвайной остановке, помните? А через семь лет, в 1928-м, и тоже на какой-то трамвайной остановке, к нему подойдет женщина и, краснея от смущения, пригласит в гости: «И я, и муж поклонники ваши!» Звали ее Ирина, ей было тридцать пять, она была женой известного уже философа Валентина Асмуса. Так вот, поэт, придя к Асмусам, и встретит там будущую Лару из «Доктора Живаго» – красавицу Зину, тоже бывшую к тому времени замужем и тоже за довольно известным человеком – за пианистом Генрихом Нейгаузом.
Полуитальянка, дочь русского генерала (по другой версии – жандармского полковника) Зиночка Еремеева была влюблена в музыку, и только потому – в мужа. Нейгауз, профессор консерватории, вытворял за роялем «такое», что она, начав с робких уроков у него, не заметила, как оказалась замужем за ним, как родила двоих детей, хотя ее пятый палец (смешно!) он сразу нашел коротковатым для профессиональной игры. Вот с ними да с Асмусами и подружились Пастернаки. Всей компанией после концертов заваливались друг к другу. Чаще всего собирались у Асмусов. Асмус, «красный философ», к тому времени получил квартирку на первом этаже в новеньком доме «красной профессуры» (Москва, Зубовский бул., 16). Пили, ели, читали стихи, танцевали. Под утро шли провожать гостей, а те, не в силах расстаться, провожали уже провожатых. Поэт Зиночке Нейгауз понравился («у него светились глаза»), стихи его понравились меньше (он обещал написать ей попроще), и совсем не понравилась Женя – жена его. Они окажутся слишком разными: Женя Лурье и «считанная» московская красавица Зина Нейгауз. Первая и дальше будет упорно выдавать себя за художницу, хотя таковой не была (ничего, кроме трех–пяти довольно заурядных портретов), а вторая уже тогда была отнюдь не рядовой пианисткой, с которой играли и считались исполнители незаурядные. Биографы поэта как бы не замечают этой разницы; всё намекают да намекают на якобы «интеллектуализм» первой и «голое мещанство» второй. Бог с ними, «объективными»! Главное, что Пастернак разобрался во всем и через год сумасшедше влюбился в Зину. Даже не стал делать из этого тайны, хотя всех тайн Зиночки еще не знал…
О, битва грянет та еще! Женщины ведь и впрямь дрались из-за него. Уже не треугольник, а какой-то уродливый квадрат (Женя, Марина, Зина и он) свяжется в Москве в душный узел как раз к лету 1930 года. Всё решится в поезде, как всегда у него. Летом того года Пастернаки, Нейгаузы и Асмусы сняли дачи в Ирпени, под Киевом. Там Зина и сразит его. Чем? Тем, как босая, неприбранная, сверкая локтями и коленками, упорно мыла по утрам и так сверкавшие полы своей дачи. Как легко собирала хворост, ловко ловила утонувшее в колодце ведро, а вечером так же ловко, в четыре руки, играла с мужем Шумана. Вот это не укладывалось в голове: ведро и Шуман! Он скажет ей, что у нее и кастрюли «дышат поэзией». Ничего «такого» у себя он не видел годами. Женя, тонкая, умненькая, с утра уходила на этюды, в доме всюду валялись пыльные холсты и раздавленные тюбики с красками, а с компотами и борщами и вовсе было нерегулярно. Он устал от этого, ему было сорок, он был уже известным поэтом, а жил как подкидыш: неустроенно, безбытно. А еще Женя вечно противоречила ему и при всех уличала в позерстве и даже в фальши. Ну куда это годится? Хотя, если совсем честно, всё было еще хуже. Это и впрямь была литература – не любовь. «Нежно любимая моя, – писал ей, – я прямо головой мотаю от мучительного действия этих трех слов… Ах, какое счастье, что ты у меня есть!.. Твой особый неповторимый перелив голоса, грудной, мой, милый, милый. И когда ты улыбаешься и дуешься в одно время, – у тебя чудно щурятся глаза и непередаваемо как-то округляется подбородок…» Виртуозно воспарял, согласитесь. А незадолго до смерти вдруг признается просто в обратном одной знакомой своей – Жаклин де Пруайар.
Из письма Пастернака – Жаклин де Пруайар: «Моя первая женитьба. Я вступил в нее не желая, уступив настойчивости брата девушки, с которой у нас было почти невинное знакомство, и ее родителей. Если бы они знали, как восставала против этого моя совесть, если бы они догадывались, как, давая свое согласие, я обдумывал уже, как нарушу свои обещания и обязательства, как обману их вскорости… Это были совсем простые и наивные люди… но более низкого и неизвестного мне до тех пор круга, с которым у меня не было ничего общего, и который меня подавлял и удручал. Этот обман длился 8 лет…»
Короче, когда поезд Киев – Москва повез дачников в столицу, он и Зина оказались (верите ли, случайно) в коридоре – у окна. Вышли покурить, но простояли до рассвета. Тогда всё и решилось. Он восхищался, сыпал комплиментами, но услышал вдруг: «Вы представить себе не можете, какая я плохая!» Рассказала, что боялась отца и радовалась, когда он умер. Что брат, которого, напротив, любила, застрелился от любви к родной тетке. Но, главное, поведала о Николае Милитинском, о кузене своем, женатом, отце двоих детей, в кого не просто влюбилась – кому в пятнадцать лет, гимназисткой еще, отдалась. Скрытно, под вуалью ходила к нему в гостиницу «Северная», ныне – «Октябрьская» (С.-Петербург, Невский пр., 118). Дальше? Дальше мне можно не рассказывать, дальше – роман о Живаго, где как раз этот эпизод и станет завязкой. В книге, правда, совратитель девочки окажется злодеем, исчадием ада. Зина даже обидится за него, прочитав роман. Но тогда, у окна вагона, она вдруг услышит от поэта: «Как я это знал! Я угадал ваши переживания…» Из-за Зины он разойдется с Женей, навсегда обидит Цветаеву, когда в Париже, выбирая при ней шубу Зине, не подумав, приложит ее к фигурке Марины и поморщится: «У тебя нет ее прекрасной груди…» Наконец, из-за Зины рассорится с отцом – тот горой был за Женю. Но его несло уже, и привычное «да-да-да» на глазах превращалось в «нет». Через шесть дней после Ирпени он решительно придет к Нейгаузам – они жили в Трубниковском (Москва, Трубниковский пер., 26) – и при муже признается Зине в любви. А через год, зимой, в их же доме решится на самоубийство.
Ту зиму назовет страшной. «Ах, страшная была зима!» – напишет. Он метался, уходил от жены, жил у брата Шуры (Москва, Гоголевский бул., 8), у приятелей, у того же Вильмонта (Москва, Вспольный пер., 18). Вновь возвращался к Жене и каялся и – снова уходил. Сын восьмилетний, разрывая ему сердце, угрожающе брал полено и вставал в дверях: «Не пущу!». Гордая Женя сначала язвила: «Ты ведь ходишь с расстегнутыми штанами, все делают вид, что понимают тебя, а отвернувшись, удивляются». Но потом, забыв о чести, побежала жаловаться в профком, позже – в горком партии: верните мужа. Было, было и такое, поэта даже вызвали «на ковер», хотя он и не был членом партии. А Нейгауз, выступая с концертом где-то в Сибири, получив от Зины письмо, где она призналась в измене, прямо на сцене, пишут, саданул кулаком по клавишам и разрыдался. Каково! Нет, страшная, страшная была зима…
Поэт помнил, как в двенадцатом часу ночи в дикой тоске выскочил на мороз, в темные улицы. Днем раз пять брался писать прощальное письмо, но комкал, рвал бумагу. И вот всё быстрей летел неизвестно куда, и в нем развертывалась пружина обреченности. «Я вдруг увидел банкротство всей моей жизни. Я бежал по улице. Бежал к ней. Боялся, не доживу до утра, шептал ее имя и думал: я кончаюсь»… В их дом ввалился в полночь. Дверь открыл Нейгауз. Не раздеваясь, не сказав ни слова, поэт прошел прямо к Зине. Та спокойно глянула: что нового, с чем пришел? Он молчал. «Что же ты молчишь?» – сказала она и вышла запереть дверь за мужем; тот спешил на какой-то поздний концерт. Но, как только вышла, Пастернак, найдя на аптечной полке увесистый флакон с йодом, залпом опрокинул его в себя. Обожгло глотку, начались какие-то машинальные жевательные движенья. «Что ты жуешь? – воротясь, спросила Зина. – И почему пахнет йодом?..» Потом крикнула: «Где йод?» – и из глаз ее брызнули слезы. Его спасло то, что Зина училась когда-то на сестру милосердия. И еще – молоко, что держали для детей. Вызвали врача, началась беготня: шприцы, полотенца, камфара, тазы. А он лежал и хотел смерти. Когда пришел Нейгауз, то, вбежав к нему, всё повторял: «Ты это сделал? Борис, ты? Я б никогда не поверил…» Потом сел, посмотрел на Зину: «Ну что, довольна? Он доказал тебе свою любовь?..» Под утро Зина постелила себе на полу рядом с его диваном, и поэт отключился. Через много лет опишет эту ночь в романе: «Он понял, что не грезит, что раздет и умыт, и лежит в чистой рубашке на свежепостланной постели, и что, мешая свои волосы с его волосами и его слезы со своими, с ним вместе плачет Лара. Он, – сказано в книге, – потерял сознание от счастья»…
Да, Лара – это Зина. Лара Гишар из «Доктора Живаго» – это Зина Нейгауз, счастье, завоеванное им к сорока годам. «Жизнь моя, любимая, – писал ей в письме в 1932-м, – ликованье и грусть моя, наконец-то я с тобою…» И в том же 1932-м не писал ей – «писал ее»: начал роман о Ларе Гишар. Конечно, еще набросок, в нем всё было иначе, но героиню звали уже так. И, кстати, знаете, что значит «гишар»? Если имя «Люверс» в ранней его прозе «Детство Люверс» по-английски означает «решетка», «жалюзи на окнах», то «гише» по-французски – «окошечко в тюрьме». Потрясающе! Окно первого этажа в доме Асмусов на Зубовском, где он впервые увидел Зину, окно в поезде, наконец, окно, и тоже на первом, во флигеле нынешнего Литинститута, где он выбил себе и Зине две комнатки для жилья. Дверь почти без порога выходила в сад. А окно его кельи – на Тверской бульвар. Только не сразу поймешь: там ли, за ним, была тюрьма его, или в тюрьму уже превращался мир снаружи? Нет, всё, разумеется, было куда сложней, чем просто «белое» и «черное». Маяковский ведь сказал уже: «Счастливый Пастернак. Вон какую лирику пишет. А я больше никогда». Но, с другой стороны, как раз в 1932-м уже Пастернак, услыхав стихи Мандельштама, скажет: «Я вам завидую!.. Вам нужна свобода, а мне несвобода…» С одной стороны, написал Цветаевой: «Нет, я человек страшно советский», а с другой – слышал уже с каждой трибуны, что он «не наш», а стихи его – «вылазка врага». Да, трагедия его была, думаю, в том, что если Цветаева, Ахматова и даже Мандельштам уже в 1918-м всё поняли про советскую власть, то он жил иллюзиями, верил Сталину и долго, до 1950-х, верноподданно поддакивал эпохе: «да, да, да!» Правда, когда скажет «нет», это слово взорвется ну прямо как бомба!..
Восхвалял КПСС – это грех. «Партия для меня автор непомерно великих исторических свершений, – говорил с трибун, – я это авторство переживаю, я этим живу…» Писал стихи о Сталине – великий грех! Был влюблен в вождя, хотя об арестах и даже бессудных расстрелах знал не понаслышке. Но уж очень хотелось ему «навязать себя эпохе» (его слова). Стихи о вожде ему закажет Бухарин в 1936-м. Он был уже не член Политбюро – просто редактор «Известий».
Пастернак бывал у него в редакции и раньше. В 1934-м влетел к нему в кабинет с перевернутым лицом: «Мандельштама арестовали!» «Что он напозволял себе?» – выскочит из-за стола Бухарин. «В том-то и дело, что не знаю, – слукавит Пастернак. – Какие-то антисоветские стихи…» Стихи Мандельштама про «горца кремлевского» и казни он как раз знал; тот сам прочел их ему. Пастернак, как помните, сказал: «Я этих стихов не слышал, вы их не читали…» Но еще круче он сдаст Мандельштама, когда через три дня ему позвонит сам Сталин. Десятки мемуаров пересказывают его разговор с вождем; я насчитал двенадцать версий этой беседы, но верю – одной. Ее автор Вильмонт, тогда близкий друг поэта, человек безупречной репутации, но главное – единственный, кто, кроме Зины, слышал разговор с вождем. Был в квартире поэта, когда позвонил Сталин.
Из книги Н.Вильмонта «О Борисе Пастернаке»: «Сталин: – Говорит Сталин. Вы хлопочете за вашего друга Мандельштама? – Пастернак: – Дружбы между нами, собственно, никогда не было. Скорее наоборот. Я тяготился общением с ним. Но поговорить с вами – об этом я всегда мечтал. – Сталин: – Мы, старые большевики, никогда не отрекаемся от своих друзей. А вести с вами посторонние разговоры мне незачем…»
Всё! Трубку в Кремле оскорбляюще бросили. Поэт, который пошлет потом Сталину три письма и не получит ответа, в первый миг кинется названивать в Кремль. Но телефон оглохнет. «Пастернак скиксовал», напишет потом Юрий Нагибин. А друг молодости поэт Бобров скажет в беседе с Дувакиным резче: «напустил в штаны». Вот после этого разговора с вождем поэт и заболеет, не сможет есть, спать, будет беспричинно плакать и думать о смерти. Двухгодовой депрессии его, нервному срыву биографы поэта найдут сотни причин. Но первопричиной, думаю, была все-таки брошенная трубка, контакт с вождем, который он нашел было и вдруг – потерял. Только этим и можно объяснить и суетливую трусость его, и суетливую смелость…
Лев Толстой утверждал как-то: никто никого не должен звать трусом. Надо говорить, что такой-то оказался им в среду, а в пятницу, скажем, был редким храбрецом. Не знаю, универсальна ли мысль, но к Пастернаку, кажется, приложима. Он мог в понедельник, например, сдать Мандельштама Сталину, а во вторник послать вождю письмо в защиту мужа и сына Ахматовой, которых арестовали. Мог в среду, перепугавшись до поджилок, не пойти на встречу с Цветаевой, вернувшейся в Москву, а в четверг, за два дня до ареста Бухарина, когда того, как прокаженного, обходили даже близкие, написать ему неслыханно смелое письмо, где была фраза, что ничто не заставит его «поверить в предательство» Бухарина. Почти приговор себе, ведь все письма Бухарина уже читались. Да, Пастернак мог (допустим, в пятницу) вызвать к себе дочь Цветаевой и, сообщив, что арестован Мейерхольд, пустить слезу: «Завтра это случится и со мной». А мог 14 июня 1937-го (дата известна, но пусть это будет как бы суббота!) выгнать из дома гонца Союза писателей, который пришел за его подписью под обращением «Не дадим житья врагам!» Обращение требовало расстрела Тухачевского, Уборевича, Якира. Зина напишет: «Первый раз я видела Борю рассвирепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего: “Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали”». Зина, беременная сыном, кинулась ему в ноги, прося ради будущего ребенка подписать бумагу, иначе это – почти гарантированный арест. «Если я подпишу, – ответил ей он, – я буду другим. А судьба ребенка от другого меня не волнует». «Но он погибнет!» – заорала Зина. «Пусть!» – сказал он голосом, какого она не слышала еще. Он вышел к гонцу: «Пусть мне грозит та же участь…» «Всю ночь, – пишет Зина, – он… спал младенческим сном, лицо его было таким спокойным, что я поняла, как велика его совесть. Меня вновь покорило величие его духа и смелость»… Ну разве – не герой?!
«Всё ложное отомрет, – сказал он в 1941-м, – а всё истинное воспрянет». Верил: война изменит политическую систему. Последняя иллюзия. Но тогда же, в 1941-м, высказал мысль, которая подтверждает: войну с собой он выиграл до войны с системой. «Нет ничего более полезного для здоровья, – сказал, – чем прямодушие, откровенность, искренность и чистая совесть. Если бы я был врачом, то я написал бы труд о страшной опасности… криводушия, ставшего привычкой…»
Не знаю, можно ли назвать писателя врачом, но такой труд – считайте, рецепт! – Пастернак начнет писать. Имя ему – «Доктор Живаго».
Голгофа… для стихотворца
Первого ноября 1958 года, за полтора года до смерти поэта, «Литературная газета» напечатала письмо экскаваторщика Васильцова: «Допустим, лягушка недовольна и она квакает. А мне слушать ее некогда… Я не читал Пастернака. Но я знаю: в литературе без лягушек лучше…» А 27 октября, за четыре дня до этого, поэта, только что получившего Нобелевку, исключали из Союза писателей. Не рабочие «пожрали» – братья-писатели. По протоколу: Тихонов, Михалков, Катаев, Шагинян, Панова, Прокофьев, Яшин, Марков, Грибачев, Полевой, Нилин, Щипачев. Не голосовал вроде бы Твардовский – сбежал в буфет. Там к нему подсел Ваншенкин, поэт: «Я с Пастернаком даже не знаком». – «Немного потеряли, – якобы ответит даже Твардовский и добавит: – Мы не против Нобелевской. Пусть бы дали Маршаку. Кто же возражает?..»
Эх, эх, родина-мать! Маршак, четырежды лауреат Сталинской премии, именно в это время в который раз уже переписывал из-за перемен в стране своего «Мистера Твистера». Успеет получить и пятую, уже Ленинскую премию. А «Доктор Живаго», роман Пастернака, раскалывал уже мир – саму планету. Немыслимо, но им занимались Хрущев и Джавахарлал Неру, Брежнев и королева Бельгии, генсек ООН Даг Хаммершельд и госсекретарь США Джон Фостер Даллес, наконец, генпрокурор СССР Руденко и генсек компартии Италии Тольятти. Не роман – именно что взрыв. Первая бесцензурная книга о режиме. А автор ее в те дни тихо сказал одному литератору: «Советов не даю… Но один вывод из моего опыта может вам пригодиться. Я вовремя убрал себя из банки с пауками. Попробуйте. Это важно…»
События эти: премия, исключение «из писателей», требование выгнать его из СССР – случились в семь дней октября 1958 года. А начались, если вытягивать ниточку прошлого, ровно двенадцать лет назад, когда в октябре 1946 года у него состоялись две встречи в «Новом мире», определившие судьбу его до конца жизни. Первая случилась в кабинете, где пахло отличным трубочным табаком, крепким одеколоном, где в углу стояла дорогая трость, а на стол была небрежно брошена пижонская лохматая кепка. Возможно, хозяин кепки, редактор «Нового мира» Константин Симонов купил ее в Англии, откуда, кстати, привез Пастернаку посылку от сестер, в которой лежал костюм умершего отца. Тот как раз костюм, в котором поэта и похоронят. Симонов позвал его в редакцию, в угловой дом на Малой Дмитровке (я писал о нем в главах о Денисе Давыдове и Есенине), чтобы вернуть стихи, печатать которые испугался. В них не было «ничего советского»; это и впрямь попахивало «клеветой на действительность», как писали уже газеты. Правда, узнав, что Пастернак начал писать роман, Симонов не глядя заключил договор на него. Это, кажется, и решило дело. Без договора поэт, думаю, забросил бы роман, как уже не раз бросал прозу. И даже с договором, возможно, не дописал бы его, если бы здесь же, в редакции, и в тот же вечер, не случилось второй встречи – с «шаровой молнией» его, с будущей героиней романа – с золотоволосой Ольгой.
Стол ее в редакции был в клетушке под лестницей; она заведовала отделом молодых авторов. Но именно к ней, кутавшейся в старую шубку, подвела поэта провожавшая его секретарша журнала: «Знакомьтесь, ваша поклонница Ольга Ивинская!» Поэт прогудел в ответ: «Как это интересно, что у меня остались еще поклонницы!» И – влюбился! На четырнадцать лет влюбился…
Уже через месяц здесь же, на Пушкинской площади, он вдруг встанет перед ней на колени: «Хотите, подарю вам эту площадь?» «Я хотела», – напишет она. «Но наша встреча не пройдет даром, – скажет. – Не поверите, но я, такой некрасивый, был причиной стольких женских слез!..» А еще через месяц, вызвав ее к памятнику Пушкину, попросит говорить ему «ты» (потому, что «вы» – уже ложь!) и в тот же вечер признается ей в любви.
А затем наступит их день – 4 апреля 1947 года. Она будет впервые гладить ему брюки. А он в ее халате с кистями расхаживать по пустой квартире и, как напишет она, гордиться «победой». Ему пятьдесят семь, ей – тридцать пять. Это случилось в ее доме, в Потаповском (Москва, Потаповский пер., 9/11). Когда встретились впервые во дворе «у бездействующего фонтана», то он, кивнув наверх, испуганно сказал: «Какая-то женщина чуть не выпала из окна!» Ольга рассмеялась: «Мама моя! Ей же интересно!..» А когда впервые поднялся к ней, то семилетняя Ира, дочь Ольги, тут же прочла ему его же стихи. Это всё были знаки. И пошловатое словечко «победа», и мать в окне, и стишок, заученный к его приходу. Но он не замечал их. А когда вдруг рванулся к Ольге со стула на красный диванчик и тот рухнул, поэт отпрянул: «Это рок! Сама судьба указывает на мое недостойное поведение!..» Куда там! Любовь запела вовсю. Звонки, прогулки до рассвета, бульвары, будто пропахшие медом, «недосып» лип на Чистых прудах. И, наконец, эта ночь, когда она, отослав мать и детей за город, ждала «своего» поэта на балконе шестого этажа. Он ли одержит «победу», или она – не нам судить. Но битва за него, «матрасная война», как шутил, вновь начнется нешуточная. В то утро он на своей книге и написал ей: «Жизнь моя, ангел мой, я крепко люблю тебя». А через три года, когда ему вернут эту книжку на Лубянке, где уже сидела Ольга, он, воротясь к себе, тайно и торопясь вырвет эту надпись…
«Поэту нужна красавица, – сказала ему Цветаева. – Остальное… у него уже есть». Ну, как у Пушкина – Наталья Николаевна. Сказала в 1935-м, в том году, когда в Париже, в зале дворца Мютиалите (Париж, ул. Сен-Виктор, 22) на Конгрессе писателей в защиту мира, ему аплодировали стоя. А он с трибуны сказал тогда всего две, но очень странные фразы. «Умоляю вас – не организуйтесь! – сказал. – Важна только личная независимость». Словно видел уже пауков в банке, которые сожрут его. А вторую фразу он, небожитель, сказал, конечно же, про высоту. «Поэзия, – сказал, – остается всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется под ногами, надо только ее подобрать!» Гениально! Валяется под ногами! Но знаете ли вы, что он и фамилию Живаго, давшую название роману, тоже нашел… под ногами! Она, как пишут, была оттиснута на чугунной крышке какого-то люка на улице. Какая-то фирма какого-то Живаго отливала когда-то эти люки. И роман «Мальчики и девочки» стал «Доктором Живаго». Пауки, правда, будут кричать потом, что герой романа никакой не Живаго – «Мертваго».
Арестовать Пастернака должны были в 1949-м. Все шло к тому. «Я двигаюсь по острию ножа, мне нет выбора», – написал он. Уничтожили тираж вышедшей книги, двадцать пять тысяч экземпляров, писали о «злобе», с какой отзывался о революции, кричали, что стихи его наносят, представьте, «ущерб советской поэзии». Агния Барто, влюбленная в его книги, недоумевала: почему он «не напишет ничего… советского! Ну, о комсомоле, например! Ведь это совсем легко!» А он сидел дома, писал роман и ждал ночного звонка (Москва, Лаврушинский пер., 17). И такой звонок грянет. Жуткую эту сцену описал Аркадий Ваксберг, будущий журналист, а тогда юный поэт. Его друг, тоже поэт, уговорит его завалиться вечером к Пастернаку, в Лаврушинский, в писательский дом: «Нормально, – убеждал Ваксберга. – Подумаешь, не знакомы! Поэты всегда ходили друг к другу…» Но на шестом этаже у квартиры поэта лампочка не горела.
Из воспоминаний А.Ваксберга: «Я позвонил… Послышались шаги, и дверь распахнулась. То, что произошло сразу за этим, и сегодня заставляет меня ощутить холодок на спине. Открывший нам дверь мужчина, всматриваясь в темноту из ярко освещенного коридора, испустил звук, напоминающий стон раненого зверя. Кто?! – вскрикнул он, пятясь в глубину коридора от двоих мужчин, без приглашения уже переступивших порог. И снова – в отчаянии, полушепотом: – Кто?.. Хлопнувшая дверь лифта, вечер, темная лестница, два мужика (а за ними, возможно, и третий, и пятый) – вот что увидел он…»
Продолжая пятиться и приставив ладонь ко лбу, чтобы загородиться от света лампы, поэт отпрянул в каком-то неуклюжем прыжке… «Мы – поэты!» – пролепетали друзья спасительное слово. Человек в коридоре замер, обмяк и вдруг засмеялся. Сначала заливисто, как ребенок. Потом – страшно. «Это был не смех, – пишет Ваксберг, – а истерика. Жуткая, страшная разрядка человека, вдруг вернувшегося с того света. Не дай Бог никому увидеть ее!..»
Поэт избежит ареста. «Не будем трогать этого небожителя», – скажет Сталин. Но арестуют ее, Ивинскую, его «шаровую молнию», и, как видно из «Дела № 3038», за связь с ним… «английским шпионом». Кстати, следователь Семенов говорил ей на Лубянке про Пастернака почти то же, что и Агния Барто: «Пусть он напишет что-нибудь подходящее, и родина его оценит…» Им подходящее, тюремщикам. Но сам поэт знал уже: писать надо, «рискуя жизнью за каждое слово»…
К тому времени он все больше жил в Переделкине, на даче. Ее и ныне легко найти среди сосен и елей. Пишут, что похожа на шотландскую башню, на шахматную туру. Но я бы сравнил ее с рубкой подводной лодки. Поэт и сам, бешено работая над романом, говорил, что живет, как в подводной лодке: «Кто нашел мир в себе, – говорил, – тому внешний мир только помеха». Топил печь, шинковал капусту, парил бочки, пил чай, которым «заведовал» сам, и, вообразите, – купался в местной речушке до середины ноября, когда все надевали шубы. Но больше всего любил рубить ветки для плиты и собирать хворост. А когда приходили гости, то за накрытым столом, озорно оглядываясь на Зину, жену, требовал порой погасить свет и, поджигая одному ему известным способом коньяк в рюмке, стоя и до дна выпивал этот синий огонь. Чаще всего за чей-нибудь блеснувший в полутьме женский взгляд. И до старости мечтал, сумасшедший, что когда-нибудь на крыльце его дома мирно усядутся все три Лары его: две жены, бывшая и нынешняя, и Ольга. Дитя! Но содержал всех трёх вместе с семьями. Женя, первая жена, выйдя замуж за какого-то инженера и разойдясь с ним, тем не менее всю жизнь получала от него по тысяче рэ в месяц, пользовалась всеми закрытыми распределителями его и даже за год до смерти поэта настаивала из писательского дома отдыха, из Коктебеля, чтобы он выслал деньги за июль – вперед: «Я остаюсь еще на месяц…» А ведь поэт, как известно, уже помогал деньгами вдовам Андрея Белого, Тициана Табидзе, семье Боброва, сестре и дочери Цветаевой и – скольким еще! А самого – повторю в который раз! – похоронят в старом отцовском костюме и, кажется, в его же ботинках; их переслала ему из Лондона сестра поэта. Но дороже всего ему стоила всё-таки Ольга; про нее даже близкие вынуждены были признать: «любит деньги»…
Удивительно, но вы почти не найдете мемуаров, где о ней, об Ольге, писалось хотя бы сносно. Ее презирала Ахматова, с ней рассорились Лидия Чуковская и довольно долго дружившая с ней Аля, дочь Цветаевой. Мало кто пишет о ней хорошо. Увядшая блондинка, ленивая, изворотливая, расчетливая, мать двоих детей от двух мужей, она до встречи с поэтом, как говорила ее дочь Нине Воронель, своей подруге по институту, имела триста одиннадцать любовников. Правда? Хвастовство? Бравада? – не знаю, но число «побед» ее было названо именно это. Она и поэта, кого женщины и так брали голыми руками, влюбляла в себя по тем еще правилам. Подстерегала, притворялась умирающей, звалась официальной женой и даже говорила, что сын ее – от него. Было, всё было. Но он любил такую! И, кстати, дал ответ всем нам. Когда к юбилею Пушкина стали бурно осуждать Наталью Николаевну, жену его, когда Щеголев, пушкинист, обвинил ее в смерти поэта, то ведь именно Пастернак тогда и съязвил: «Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве»…
Любил, какой была. «Ивинская, Лара моего романа, – писал сестре в Лондон. – Это единственная душа, с кем я обсуждаю, что такое бремя века, что надо сделать, подумать, написать… Зина – кроткая, запуганная, постоянно взывающая к сочувствию, по-детски тираническая и всегда готовая заплакать, созидательница и хозяйка дома… не та женщина, которая способна страдать за другого». Любил Ольгу. И когда наступили те семь октябрьских дней 1958 года, когда его исключали «из писателей» и выгоняли из страны, когда газеты захлебывались от яда, а Фадеев, Федин и Сурков (друзья вроде бы!) обегали его за километр, он именно Ольге принес в ладони двадцать две таблетки нембутала. «Лелюша, – сказал, – ты говорила, что одиннадцать таблеток – это смертельно. Вот двадцать две. Давай это сделаем. Это будет пощечина»! Имел в виду пощечину власти. Откуда ему было знать, что она, любовь его, тут же побежит в ЦК партии?
Первый «нож в спину Родины» он воткнул тем, что опубликовал роман на Западе, где почти сразу получил Нобелевскую премию. Ныне мы знаем – не без помощи ЦРУ (это доказал Иван Толстой в книге «Отмытый роман Пастернака»). А второй «нож» – тем, что захотел убить себя. Так скажет Ольге Поликарпов, завотделом ЦК КПСС: «Если допустите самоубийство, то поможете второму ножу вонзиться в спину России. Скандал уладим с вашей помощью. Будьте с ним рядом…» С ним – с поэтом! Но, позвольте спросить тогда, в качестве кого? Музы, любимой или доносчицы – «агента власти», как назовет ее Каверин? Вот в чем предательство ее: она, в отличие от поэта, кажется, была согласна: он виноват перед народом и партией. Не могут же все быть неправы, а он один – прав? А значит, надо лишь изловчиться, найти компромисс, но не идти на Голгофу. В крайнем случае, не идти вдвоем. Вот и всё! Но хотел ли такого спасения, искал ли такого исхода он, «собеседник небес», последним романом своим всё поставивший на карту?..
Голгофой его станет общее собрание московских писателей в Доме киноактера (Москва, ул. Поварская, 33), кстати, до 1940 года – Доме каторги и ссылки, доме Общества политкаторжан! Символичное место! Там даже лестница широкая сохранилась, прямо с улицы и прямо на второй этаж, лестница, по которой он должен был взойти на казнь. Здесь в огромном зале и распинали его. Человека, не мешавшего ни единой душе в мире. Он любил оставаться наедине с чистым листом бумаги, любил читать стихи и главы из романа у друзей. У пианистки Марии Юдиной (Москва, Беговая ул., 1а, корп. 5), у поэта и журналиста Кузько (Москва, Настасьинский пер., 8), у Чуковского (Москва, ул. Тверская, 6), у дочери великого Серова Ольги, с которой дружил (Москва, ул. Большая Молчановка, 12), наконец, у подруги своей и машинистки, печатавшей его роман, Марины Баранович (Москва, Романов пер., 2, корп. 2). А еще любил, помните, собирать в Переделкине хворост. Эти же, грозно собравшиеся в Доме киноактера, любили как раз всемирные костры, хворостом для которых, как в Средние века, служили души живые. 31 октября 1958 года они собрались, чтобы голосованием утвердить уже принятое секретариатом решение: исключить его из писателей. Исключили. Показалось мало. Вера Инбер предложила, а все дружно проголосовали и за выдворение Пастернака из СССР. «Вон из страны, литературный Власов!..» Да, им надо было только не поднимать руки (правой, конечно!), той, которой они писали свои рассказы, повести и даже, представьте, стихи. Подняли, увы!..
И – полыхнуло! На года, на – десятилетия! Не его убивали – себя. Сергей Смирнов: «Нет поэта более далекого от народа». Борис Полевой: «Не хотим дышать с ним одним воздухом». Сергей Антонов: «Нобель перевернулся бы в гробу, если бы узнал». Сергей Баруздин: «Собачьего нрава не изменишь!» Выступали Безыменский, Ошанин, Зелинский, Слуцкий, Николаева, Солоухин, Мартынов, Инбер. Что говорить, почтенный Шкловский и Сельвинский, почти ученик Пастернака, отдыхая в Ялте, и те извернулись и, пусть в курортной газетке, но выразили свое единодушие с пауками.
«Моя вина, – покаялась в старости Ивинская, его Лара. – Если бы я, Аля Эфрон, Кома Иванов и Ира не подготовили и не подсунули ему на подпись покаянные письма – он и не подумал бы их подписывать. Потому и продвинули эту идейку через нас, наши страхи, наши руки, наше влияние…»
Такая вот история! Он, как помним, не хотел быть первым поэтом, но с 1930-х негласно стал им. Потом, после судилища на Поварской, стал изгоем. Потом – на долгие годы и после смерти – опальным, но именно потому в сознании интеллигенции опять первым. А теперь? А теперь, когда сошел уже налет «запрещенности», флер оппозиционности, когда вновь и уже спокойно мы прочитали всё, написанное им, – кем стал он теперь? Мне кажется, вновь и не первым, и, уж конечно, не великим – просто известным поэтом.
Музы на небе, и прежде всего Клио, муза истории, все-таки справедливы. Ведь мы, еще вчера считавшие, что стих «Ты так же сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятья в халате с шелковою кистью» – великий стих, сегодня, вчитавшись, всё не можем понять: как же «халат с кистью» умудрился оказаться у героини стиха, кстати, Ивинской, под ее платьем? Чушь же! И таких нелепостей находят в его стихах всё больше и больше: читайте блестящий анализ его поэзии в книге В.И.Сафонова «Борис Пастернак. Мифы и реальность». Беспощадный анализ! И, кстати, Пастернак и сам никого не щадил при жизни. В поэзии – не щадил. Ахматова на старости лет скажет: «Не признавал никого. Я была дружна с ним, но ни разу не слышала ни одной похвалы..» Он ведь и сам тасовал, как колоды, этот самый «ранжир» поэтов. Трижды переадресовывал свою стихотворную строчку «Нас мало. Нас, может быть, трое // Горючих, донецких и адских…» Сначала имел в виду себя, Ивана Аксенова, совсем забытого ныне, и Сергея Боброва. Позже настаивал: имел в виду опять-таки себя, но еще Асеева и – Маяковского. А потом, в Берлине, посылая книгу «Темы и вариации» Цветаевой, вдруг надписал ей: «Несравненному поэту М.Ц. “донецкой, горючей и адской” (стр. 76) от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высевки и опилки и теперь кающегося». Номер страницы в инскрипте обозначал ссылку в книге всё на тот же стих: «Нас мало. Нас, может быть, трое…» Могла ли не заметить этого, не усмехнуться всевидящая Клио? А вслед за ней ведь и мы…
Да, заканчивая книгу о «домочадцах» русской литературы, не могу не сказать об этом. Известный, крупнейший, даже знаменитый поэт ХХ века Пастернак – не велик. Нет, не велик, увы. Он – автор доброй сотни безупречных стихов, если совсем не открывать беспомощных и просто смешных виршей про войну, создатель крепких, но уже не безупречных переводов и – вполне среднего, по меркам минувшего века, но вовремя прошумевшего романа «Доктор Живаго». Он ведь и сам признавался (об этом пишет в дневнике К.Чуковский), что «роман выходит банальный, плохой, да, да, – но надо же кончить его…» Роман, что уж там говорить, вполне конъюнктурно, на волне холодной войны, получивший Нобелевскую премию… Вот и всё!.. Велика Цветаева, велик Блок, Есенин, Хлебников, даже Мандельштам, стихи которого, «ворованный воздух», и ныне непонятно как сделаны. А Пастернак, как верно заметил Иван Толстой в книге «Отмытый роман», просто всю жизнь «очень умело возводил здание пастернаковедения». И, сравнив его с поэтами ХХ века, убийственно закончил: возможно ли «вообразить литфондовскую дачу Мандельштама или – личного шофера Цветаевой?..» Великих всегда единицы – что тут поделаешь. Хотя еще через полвека и этот ранжир, возможно, изменится. Кто-то скатится ниже, кто-то, напротив. – взлетит и станет истинным, не назначенным вождями небожителем. Ведь первый признак величины поэта в меняющемся мире – востребованность его у нас, читателей. Это – главное! Верьте своей руке, скользящей по поэтическим полкам, когда она ищет, что вам хочется перечитать, когда надо вспомнить забытую вдруг строку, прочитать любимое стихотворение на ночь ребенку или – в споре о жизни – процитировать, может, самую гениальную строфу.
…Небо и три сосны – вот и весь почетный караул у могилы Пастернака. Похоронен на взгорке в Переделкине, словно и после смерти – тянется к облакам. Словно дает понять: нет – ничего не кончено, друзья! Словно хочет, чтобы там, в вышине, над верхушками сосен, мы за свистом вольного ветра услышали бы голос его, его «гудёж» и самый главный совет, а может, завет его:
«Нужно писать вещи небывалые, нужно совершать открытия и чтобы с тобой происходили неслыханности, вот это жизнь, остальное всё вздор…»
И это, разумеется, неопровержимо!
Список литературы
Адамович Г. Одиночество и свобода. СПб., 1993.
Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994.
«А за мною шум погони…» Борис Пастернак и власть. Документы. 1956–1972.
М., 2001.
Азарх-Грановская А.В. Воспоминания. Беседы с В.Д.Дувакиным. М., 2001.
Аксакова В.С. Дневник. М., 2004.
Алданов М. Портреты. М., 1994.
Александр Блок в воспоминаниях современников: Т. 1–2. М., 1980.
Александр Блок. Исследования, материалы. СПб., 2011.
Александрова Т. Истаять обреченная в полете. Жизнь и творчество М.Лохвицкой. СПб., 2007.
Аллой Рада. Париж для зевак. СПб., 2010.
Алянский С. Встречи с Александром Блоком. М., 1972.
Амфитеатров А.В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих.
Т. 1–2. М., 2004.
Андреев Л.Н. Дневник 1897–1901. М., 2009.
Андреева-Бальмонт Е.А. Воспоминания. М., 1997.
Анна Ахматова в записях Дувакина. М., 1998.
Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1989.
Анненков Ю. Дневник моих встреч. М., 2001.
Антипина В. Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е годы.
М., 2005.
Ардов В. Великие и смешные. М., 2005.
Ашукин Н., Щербаков Р. Брюсов. М., 2006. (ЖЗЛ).
Бабаев Э. Воспоминания. М., 2000.
Бальмонт К. О русской литературе. Воспоминания и раздумья. М., 2007.
Баранов В. Горький без грима. Тайна смерти. М., 1996.
Бахрах А. Бунин в халате и другие портреты. По памяти, по записям. М., 2005.
Бахтин М.М. Беседы с В.Д.Дувакиным. М., 2002.
«Башня» Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006.
Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990.
Белкина М. Скрещение судеб. М.,1999.
Белозерская-Булгакова Л.Е. Воспоминания. М., 1989.
Белый А., Блок А. Переписка 1903–1919. М., 2001.
Белый А. На рубеже двух столетий. Начало века. Между двух революций. Т. 1–3. М., 1989–1990.
Белый А. Письма к М.К.Морозовой. 1901–1928. М., 2006.
Белый Андрей о Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. М., 1997.
Белякаева-Казанская Л. Эхо серебряного века. СПб., 1998.
Бениславская Г.А. Дневник. Воспоминания. Письма к Есенину. СПб., 2003.
Берберова Н. Курсив мой. М., 1996.
Боборыкин П.Д. За полвека. Воспоминания. М., 2003.
Богомолов Н.А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах: документальные хроники, М., 2009.
Богомолов Н.А. Вокруг «Серебряного века». Статьи и материалы. М., 2010.
Богомолов Н.А. Русская литература первой трети ХХ века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999.
Большая цензура. Писатели и журналисты в стране Советов (1917–1956). М., 2005.
Бондаренко В. Вяземский. М., 2004. (ЖЗЛ).
Борисов Л. За круглым столом прошлого: воспоминания. Л., 1972.
Брюсов В. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. М., 2002.
Брюсов В. Из моей жизни. Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994.
Брюсов В., Петровская Н. Переписка: 1904–1913. М., 2004.
Булгаков М. Дневник. Письма. 1914–1940. М., 1997.
Булгаков М. Письма. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. М., 2000.
Булгаковы Михаил и Елена. Дневник Мастера и Маргариты. М., 2001.
Бунин И.А. Воспоминания. Собр. соч. Т. 8, М., 2000.
Бургин Д.Л. София Парнок. Жизнь и творчество русской Сафо. СПб., 1999.
Бурлюк Д. Интересные встречи. М., 2005.
Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста: Письма. Стихотворения. СПб., 1994.
Быков Дм. Борис Пастернак. М., 2005. (ЖЗЛ).
Ваксберг А. Моя жизнь в жизни. Т. 1–2, М., 2000.
Валентинов Н. Два года с символистами. М., 2000.
Варламов А. Александр Грин. М., 2005. (ЖЗЛ).
Варламов А. Алексей Толстой. М., 2006. (ЖЗЛ).
Варламов А. Михаил Булгаков. М., 2008. (ЖЗЛ).
Вержбицкий Н. Встречи. М., 1978.
Вечорка (Толстая) Т. Портреты без ретуши. М., 2007.
Вигель Ф.Ф. Записки. М., 2000.
Видгоф Л. «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город. Книга-экскурсия. М., 2012.
Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М., 1989.
Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике: 1917–1953 гг. М., 1999.
Вокруг смерти Горького. Документы, факты, версии. М., 2001.
Волконский С. Воспоминания: в 2-х т. Т. 2. М., 2004.
Волошин М. История моей души. М., 1999.
Волошин М. Жизнь – бесконечное познанье… М., 1995.
Волошина М.С. О Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания… М., 2003.
Волошина-Сабашникова М. Зеленая Змея: История одной жизни. М., 1993.
Вольпин Н. Блудный сын. 1923–1925: Воспоминания о С.Есенине // Минувшее: Исторический альманах. 12. М.; СПб., 1993.
Воронель Н. Без прикрас. Воспоминания. М., 2003.
Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995.
Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991.
Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988.
Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992.
Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993.
В поисках минувшего. Из жизни Русского зарубежья: Очерки. Беседы, Документы. М., 2011.
В ста зеркалах. Анна Ахматова в портретах современников. М., 2004.
Встречи с прошлым: Сборник материалов ЦГАЛИ. Вып. 1–4. М., 1970–1982.
Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ 1921–1923 гг. М., 2005.
Вяземский П.А. Старая записная книжка. М., 2003.
Галанина Ю.Е. Любовь Дмитриевна Блок. Судьба и сцена. М., 2009.
Гаспаров М.Л. Записи и выписки, М., 2008.
Герра Ренэ. «Когда мы в Россию вернемся». М., 2010.
Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998.
Герцык А. Из круга женского. М., 2004.
Герцык Е. Воспоминания. М., 1996.
Гильдебрант-Арбенина О. Девочка, катящая серсо… М., 2007.
Гинзбург Л.Я. Записные книжки. М., 1999.
Гиппиус З. Дневники. Т. 1–2. М., 1999.
Гиппиус З. Воспоминания. М., 2001.
Гиппиус З. Новые материалы. Исследования. М.: ИМЛИ, 2002.
Гладков А. Встречи с Пастернаком. М., 2002.
Голлербах Э. Встречи и впечатления. СПб., 1998.
Гречишкин С.С., Лавров А.В. Символисты вблизи: Статьи и публикации. СПб., 2004.
Гречук Н. Петербург. События. Лица. СПб., 2010.
Грибанов Б. Женщины, любившие Есенина. М., 2002.
Грибоедовские места. Сб. материалов. М., 2007.
Грин Н. Воспоминания об Александре Грине. Мемуарные очерки, дневниковые записи, письма. М., 2005.
Громова Н. Все в чужое глядят окно. М., 2002.
Громова Н. Распад. Судьба советского критика: 40–50-е годы. М., 2009.
Громова Н. Узел. Поэты: дружбы и разрывы. Из литературного быта конца 20-х – 30-х годов. М., 2006.
Гуль Р. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. 1–3. М., 2001.
Гуро Е. Из записных книжек (1908–1913). СПб., 1998.
Гюнтер Иоганнес фон. Жизнь на восточном ветру… М., 2010.
Давыдов Денис. Сочинения. М., 1962
Далош Дьёрдь. Гость из будущего. А.Ахматова и сэр И.Берлин. История одной любви. (Пер. с венгерского). М., 2010.
Данько Е.Я. Воспоминания о Федоре Сологубе // Лица: Библиографический альманах. 1. М.; СПб., 1992.
Две любви, две судьбы: Воспоминания о Блоке и Белом. М., 2000.
Декабристы. Биографический справочник. М., 1988.
Демин В. Лев Гумилев. М., 2007. (ЖЗЛ).
Добужинский М.В. Воспоминания. М., 1987.
Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 1991.
Дункан А. Моя жизнь. М., 1997.
Дункан И., Макдугалл А.Р. Русские дни Айседоры Дункан… М., 1995.
Дурылин С. В своем кругу. М., 2006.
Дутли Ральф. Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. СПб., 2005.
Емельянова И. Легенды Потаповского переулка. М., 1997.
Емельянова И. Пастернак и Ивинская. М., 2006.
Ермолинский С. О времени, о Булгакове, о себе. М., 2002.
Есенин С.А. Материалы к биографии. М., 1992.
Есенина Т.С. О В.Э.Мейерхольде и З.Н.Райх: Письма К.Л.Рудницкому. М., 2003.
Жданов В. Любовь в жизни Льва Толстого. М., 1993.
Желвакова И. От Девичьего поля до Елисейских полей. М., 2005.
Жизнь Александра Грина, рассказанная им самим и его современниками. Автобиографическая проза… Феодосия–Москва, 2012.
Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990.
Жихарев С.П. Записки современника. М., 2004.
Задонский Н. Денис Давыдов. Историческая хроника. М., 1981.
Зайцев Б. Мои современники: Воспоминания, портреты. М., 1999.
Зайцева-Соллогуб Н. «Я вспоминаю…» Устные рассказы. М., 1998.
Занковская Л.В. Новый Есенин: Жизнь и творчество поэта без купюр и идеологии. М., 1997.
Злобин В.А. Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания. Статьи. Стихотворения. М., 2004.
Зобнин Ю. Мережковский. М., 2008. (ЖЗЛ).
Золотоносов М.Н. Братья Мережковские: Книга 1. Отщеpenis Серебряного века. М., 2003.
Иванов Вячеслав: Архивные материалы и исследования. М., 1999.
Иванов Г. Собр. соч.: в 3 т. М., 1994.
Иванов Георгий, Одоевцева Ирина, Гуль Роман. Тройственный союз (Переписка 1953–1958 годов). СПб., 2010.
Иванова Е. Александр Блок: последние годы жизни. СПб.; М., 2012.
Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. М., 2000.
Ивинская О. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. М., 1992.
Ивнев Рюрик. Дневник. 1906–1980. М., 2012.
Ивнев Рюрик. Жар прожитых лет. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 2007.
Игорь Северянин глазами современников. Сборник. СПб., 2009.
Ильина Н. Судьбы. М., 1980.
Каверин В. Эпилог. Мемуары. М., 1989.
Каган Ю.М. Марина Цветаева в Москве. Путь к гибели. М., 1992.
Калицкая В. Моя жизнь с Александром Грином. Феодосия–Москва, 2010.
Карохин Л. С.Есенин и А.Ахматова. СПб., 2001.
Кирпотин В.Я. Ровесник Железного века. Мемуарная книга. М., 2006.
Клепинина-Львова С.Н. Музей-квартира М.Цветаевой в Болшево. Калининград, Мос. обл., 1993.
Ключевский В.О. Литературные портреты. М., 1991.
Книпович Е. Об Александре Блоке. Воспоминания. Дневники. Комментарии. М., 1987.
Коваленко С. «Звездная дань»: Женщины в судьбе Маяковского. М., 2006.
Коган Д. Сергей Юрьевич Судейкин. М., 1974.
Кожинов В. Тютчев. М., 1988. (ЖЗЛ).
Колоницкая А. «Все чисто для чистого взора…» (Беседы с И.Одоевцевой). М., 2001.
Кони А. Воспоминания о писателях. Литературные очерки. СПб., 2010.
Кралин М.М. Победившее смерть слово. Томск, 2000.
Крандиевская-Толстая Н. Воспоминания. Л., 1977.
Крейд В. Георгий Иванов. М., 2007. (ЖЗЛ).
Крученых А. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы. М., 2006.
Кудрова И. Гибель Марины Цветаевой. М., 1997.
Кудрова И. Путь комет. Т. 1–3. СПб., 2007.
Кузин Б. Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н. 192 письма к Б.Кузину. СПб., 1999.
Кузмин М. Дневник 1908–1915. СПб., 2005.
Кузмин М. Дневник 1921 // Минувшее: Исторический альманах. 12. М.; СПб., 1993.
Кузнецов В. Тайна гибели Есенина. М., 1998.
Куприн А. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста. М., 2006.
Куприна К.А. Куприн – мой отец. М., 1979.
Куприяновский П.В., Молчанова Н.А. «Поэт с утренней душой»: жизнь, творчество, судьба К.Бальмонта. М., 2003.
Кюстин А. Николаевская Россия. М., 1990.
Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. М., 1995.
Лавров А.В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007.
Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. М., 1969.
Ласкин А. Ангел, летящий на велосипеде: О. Ваксель. СПб., 2002.
Лекманов О. Жизнь Осипа Мандельштама: Документальное повествование. СПб., 2003.
Летопись жизни и творчества С.А.Есенина. Т. 1–4. М., 2003–2010.
Либединская Л. «Зеленая лампа» и многое другое. М., 2000.
Ливанов В. Невыдуманный Борис Пастернак. Воспоминания и впечатления. М., 2002.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989.
Липкин С. «Угль, пылающий огнем…» Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка. М., 2008.
Литература одного дома. Материалы конференции 27 окт. 2007 г. СПб., 2008.
Литературная жизнь России 1920-х годов. Т. 1. Ч. 1–2. Москва и Петроград. 1917–1922 гг. М., 2005.
Литературное зарубежье России. Энциклопедический справочник. М., 2006.
Литературное наследство. А.Блок: Новые материалы и исследования. Т. 92. Кн. 4. М., 1978.
Литературное наследство. А.Блок: Новые материалы и исследования. Т. 92. Кн. 3. М., 1982.
Литературное наследство. Ф.И.Тютчев. Т. 97. Кн. 2. М., 1989 г.
Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. М., 2004.
«Лица». Биографический альманах. № 1. М.; СПб., 1992.
«Лица». Биографический альманах. № 5. М.; СПб., 1994.
Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 2000.
Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. Воспоминания, письма, дневники. М., 2001.
Лукницкая В. Любовник. Рыцарь. Летописец. Три сенсации из Серебряного века. СПб., 2005.
Лукницкий П.Н. Встречи с Анной Ахматовой. М.; Париж, 1997.
Маковский С. Портреты современников. М., 2000.
Максимов А., Потресов В. Боблово и его обитатели. 1865–1920. М., 2008.
Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999.
Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1990.
Мандельштам Н. Третья книга. М., 2006.
Мандельштам Н. Об Ахматовой. М., 2007.
Мандельштам О. Воронежские тетради: Стихи. Воспоминания. Письма. Документы. Воронеж, 1999.
Мандельштам О. Шум времени. М., 2002.
Мансуров Б. Лара моего романа. Б.Пастернак и О.Ивинская. М., 2009.
Марина Цветаева – Борис Бессарабов. Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915–1925). М., 2010.
Марина Цветаева – Николай Гронский. Несколько ударов сердца. Письма 1928–1933 годов. М., 2004.
Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922– 1936 годов. М., 2004.
Марченко А. Ахматова: жизнь. М., 2009.
Масленникова З. Портрет Бориса Пастернака. М., 1995.
Менегальдо Е. Русские в Париже. 1919–1939. М., 2001.
Мережковский Д. Было и будет. Дневники. М., 2001.
Мец А.Г. Осип Мандельштам и его время: Анализ текстов. СПб., 2005.
Миклашевская Л., Катерли Н. Чему свидетели мы были: Женские судьбы.
ХХ век. СПб., 2007.
Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования 1911–1998. М., 2000.
Митурич П. Записки сурового реалиста эпохи авангарда: Дневники, письма, воспоминания, статьи. М., 1997.
Михайлов О. Вещая мелодия судьбы. М., 2008.
Михайлов О. Жизнь Куприна. М., 2001.
Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990.
Молодяков В. Валерий Брюсов. Биография. СПб., 2010.
Московский Парнас. Кружки, салоны, журфиксы Серебряного века. 1890– 1922. М., 2006.
Мочалова О. Голоса Серебряного века: Поэт о поэтах. М., 2004.
Муравьева И. Салоны пушкинской поры. Очерки литературной и светской жизни Санкт-Петербурга. СПб., 2008.
Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989.
Мягков Б. Булгаков на Патриарших. М., 2008.
Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой. М., 1989.
Наппельбаум И. Угол отражения. СПб., 1999.
«Напишите мне в альбом». Беседы с Н.Б.Соллогуб… М., 2004.
На рубеже двух столетий: Сб. в честь 60-летия А.В.Лаврова. М., 2009.
Недошивин В. Прогулки по Серебряному веку. Безымянные дома – великие судьбы… М., 2008.
Неизданный Федор Сологуб. М.: НЛО, 1997.
Нерлер П. Слово и «Дело» Осипа Мандельштама: книга доносов, допросов и обвинительных заключений. М., 2010.
Никитенко А.В. Дневник. Т. 1–3. М., 2005.
Николаев П. Брюсовский переулок: люди и судьбы. М., 2007.
Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990.
Николай Гумилев. Исследования и материалы. СПб., 1994.
Н.Гумилев, А.Ахматова: По материалам историко-литературной коллекции П.Лукницкого. СПб., 2005.
Никулин Л. Годы нашей жизни. М., 1966.
Обер Р., Гфеллер У. Беседы с Д.В.Ивановым. СПб., 1999.
Обоймина Е. Свет земной любви. История жизни матери Марии – Елизаветы Кузьминой-Караваевой. М., 2009.
Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1989.
Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989.
Озеров Л. Дверь в мастерскую. Париж; Москва; Нью-Йорк, 1996.
Орлов Вл. Поэт и город. Л., 1980.
Осип Мандельштам и его время: Сборник воспоминаний. М., 1995.
Осоргин М. Времена. Екатеринбург, 1992.
Оцуп Н. Николай Гумилев: Жизнь и творчество. СПб., 1995.
Оцуп Н. Океан времени: Статьи и воспоминания. СПб., 1994.
Павлова М. Писатель-инспектор. Федор Сологуб и Ф.К.Тетерников. М., 2007.
Пайман А. История русского символизма. М., 1998.
Панаев И.И. Литературные воспоминания. Л., 1928.
Панфилов А. Непридуманный Есенин. М., 1997.
Пастернак Е. Борис Пастернак. Биография. М., 1997.
Пастернак А. Воспоминания. М., 2002.
Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам 1907–1960. М., 2004.
Пастернак Б. Раскованный голос. М., 2000.
Пастернак Борис. Собр. соч.: в 5 т. Т. 4–5. М., 1991.
Пастернак Зинаида. Воспоминания. М., 2004.
Перцов П.П. Литературные воспоминания. М., 2002.
Петелин В. Жизнь Алексея Толстого. М., 2001.
Петербург Ахматовой: В.Г.Гаршин. СПб., 2002.
Петербург Ахматовой: семейные хроники: З.Б.Томашевская рассказывает. СПб., 2000.
Петербургский текст. Вып. 2. Из истории русской литературы ХХ века. СПб., 2003.
Петербургский диагноз: Седьмые Ахматовские чтения. СПб., 2002.
Петровская Н. Воспоминания // Минувшее: Исторический альманах. № 8. М., 1992.
Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма. М., 2002.
Пинаев С. Максимилиан Волошин, или Себя забывший Бог. М., 2005. (ЖЗЛ).
Письма З.Н.Гиппиус к А.Л.Волынскому. // Минувшее. № 12. М.; СПб., 1993.
Поликовский А. Граф Безбрежный. Две жизни графа Ф.И.Толстого-Американца. М., 2006.
Полонская Е.Г. Города и встречи. М., 2008.
Полонский Вячеслав. «Моя борьба на литературном фронте». Дневник // Новый мир. 2008. №№ 1–6.
Полушин В. В лабиринтах Серебряного века. Кишинев, 1991.
Полушин В.Л. Гумилевы. 1720–2000. Семейная хроника: Летопись жизни и творчества Н.С.Гумилева. М., 2004.
Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. Петербург–Париж, 1993.
Попова Н.И., Рубинчик О.Е. Анна Ахматова и Фонтанный дом. СПб., 2000.
Последний луч Серебряного века. Воспоминания об Анастасии Цветаевой. М., 2010.
Пржиборовская Г. Лариса Рейснер. М., 2008. (ЖЗЛ).
Пришвин М.М. Дневники. 1914–1917. СПб., 2007.
Пунин Н.Н. Мир светел любовью: Дневники. Письма. М., 2000.
Пяст Вл. Встречи. М., 1997.
Рейн Е. Заметки марафонца. Неканонические мемуары. Екатеринбург, 2003.
Ремизов А. Петербургский буерак. М., 2003.
Ремизов А. Дневник 1917–1921 // Минувшее. № 16. М.; СПб., 1994.
Рецептер В. Жизнь и приключения артистов БДТ. М., 2005.
Рождественский Вс. Страницы жизни: из воспоминаний. М., 1974.
Русское зарубежье о Есенине: Воспоминания. Т. 1–2. М., 1993.
Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1997.
Сабанеев А.А. Воспоминания о России. М., 2004.
Сафонов В.И. Борис Пастернак. Мифы и реальность. М., 2007.
Санжарь Н.Д. Письма к Блоку // Лица. № 7. М.; СПб., 1996.
Сарнов Б. Заложник вечности. Случай Мандельштама. М., 2005.
Свирская М.Л. Из воспоминаний // Минувшее. № 7. М., 1992.
Седых А. Далекие, близкие. М., 1945.
«Серапионовы братья» в собраниях Пушкинского Дома: Материалы. Исследования. Публикации. СПб., 1998.
Сергеева-Клятис А., Смолицкий В. Москва Пастернака. М., 2009.
Серджио д’Анджело. Дело Пастернака: воспоминания очевидца. М., 2007.
Серебряков Г. Денис Давыдов. М., 1985. (ЖЗЛ).
Серебряный век: Мемуары. М., 1990.
Серпинская Н. Флирт с жизнью. М., 2003.
Скабичевский А.М. Литературные воспоминания. М., 2001.
Смирнова-Россет А.О. Воспоминания. Письма. М., 1990.
Сосинский В. Рассказы и публицистика. М., 2002.
«Сохрани мою речь». Записки Мандельштамовского общества. Воспоминания. Материалы к биографии. Современники. М., 2000.
Спивак М. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006.
Среди великих. Литературные встречи. М., 2001.
Ставровский Е. Род Бальмонтов в лицах и судьбах. Шуя, 2007.
Старкина С. Велимир Хлебников. Король времени: Биография. СПб., 2005.
Степун Ф.А. Портреты. СПб., 1999.
Стогов Э. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М., 2003.
Стронгин В. Любовь Михаила Булгакова. М., 2000.
Суворин А. Дневник. М., 1992.
Судейкина Вера. Дневник. Петроград, Крым, Тифлис. М., 2006.
Существованья ткань сквозная. Б.Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак… М., 1998.
Тагер Е. О Мандельштаме // Звезда. 1991. № 1.
Тарасов А. Домовая книга эпохи: 80 лет легендарному «Дому на набережной»: лица, ракурсы, тени, трактовки. М., 2011.
«…Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы. М., 2007.
Тименчик Р. Анна Ахматова в 1960-е годы. Москва; Тоronto, 2005.
Тимина С. Культурный Петербург: Диск. 1920-е годы. СПб., 2001.
Толстой И. «Доктор Живаго»: Новые факты и находки в Нобелевском архиве. Прага, 2010.
Толстой И. Отмытый роман Пастернака. «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ. М., 2009.
Томашевский Б.В., Шлионский Л.И., Назарова Л.Н., Медерский Л.А. Пушкинский Петербург. СПб., 2000.
Тыркова-Вильямс А. То, чего больше не будет: Воспоминания. М., 1998.
Тэффи Н.А. Житье-бытье: Рассказы. Воспоминания. М., 1991.
Тэффи Н. Моя летопись. М., 2004.
Тютчев Ф.И. Сочинения: в 2 т. М., 1980.
Тютчева Анна. Воспоминания. М., 2002.
Устами Буниных. Дневники. Т. 1–2. Посев, 2005.
Фарджен А. Приключения русского художника: Биография Бориса Анрепа. СПб., 2003.
Федин К. Горький среди нас: Картины литературной жизни. М., 1977.
Федоров А. Иннокентий Анненский: Личность и творчество. Л., 1984.
Федоровский В., Сен-Бри Г. Русские избранницы, М., 1998.
Фельтринелли Карло. Senior Service. Жизнь Джанджакомо Фельтринелли. М., 2003.
Фидлер Ф.Ф. Из мира литераторов. М., 2008.
Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. М., 2005.
Фрезинский Б. Писатели и советские вожди. Избранные сюжеты 1919–1960 годов. М., 2008.
Харджиев Н. От Маяковского до Крученых. М., 2006.
Хлебников В. Проза. Статьи. Декларации. Заметки. Автобиографические материалы. Письма. СПб., 2001.
Ходасевич Вал. Портреты словами. М., 1991.
Ходасевич Вл. Собр. соч.: в 4 т. Т. 4. М., 1997.
Хорватова Е. Маргарита Морозова. Грешная любовь. М., 2004.
Хрисанфов В.И. Мережковский Д.С. и Гиппиус З.Н. Из жизни в эмиграции.
СПб. 2005.
Цветаева А. Воспоминания. М., 1995.
Цветаева М. Неизданное: Записные книжки. Т. 1–2. М., 2000.
Цветаева М. Неизданное: Сводные тетради. М., 1997.
Цветаева М. Неизданное: Семья. История в письмах. М., 1999.
Цветаева М. Письма к Анне Тесковой. М., 2008.
Цветаева М. Письма к Константину Родзевичу. Ульяновск, 2001.
Цензура в России в конце XIX – начале ХХ века: Сборник воспоминаний.
СПб., 2003.
Чегодаева М. Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых. Вера и Петр. М., 2004.
Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. 1889–1966. М., 2008.
Чехов Мих. Воспоминания. М., 2000.
Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988.
«Чужбина, родина моя!» Эмигрантский период жизни и творчества М.Цветаевой. XI Международная научно-тематическая конференция (9–11 октября 2003 г.). Сб. докладов. М., 2004.
Чулков Г. Годы странствий. М., 1999.
Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1–3. М., 1997.
Чуковский К.И. Дневник 1901–1929. М., 1997.
Чуковский К. Современники. М., 2008. (ЖЗЛ).
Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989.
Шаховская З. Таков мой век. М., 2006.
Шварц Евг. Живу беспокойно… Из дневников. СПб., 1990.
Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. М., 1992.
Шенталинский В. Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. М., 1995.
Шенталинский В. Донос на Сократа. М., 2001.
Шенталинский В. Преступление без наказания: Документальные повести.
М., 2007.
Шервинский С. Стихотворения. Воспоминания. Томск, 1997.
Шилейко Вольдемар-Георг-Анна-Мария. Воспоминания. Письма. Стихи.
СПб., 2003.
Шилейко В. Последняя любовь: Переписка с А.Ахматовой и В.Андреевой.
М., 2003.
Шкловский В.Б. Гамбургский счет. Третья фабрика. Жили-были. СПб., 2000.
Шнейдер И. Встречи с Есениным. М., 1966.
Штерн Людмила. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph. М., 2001.
Шруба Манфред. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890– 1917 годов: Словарь. М., 2004.
Шубинский В. Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий. СПб., 2011.
Шубинский В. Николай Гумилев. Жизнь поэта. СПб. 2004.
Шубникова-Гусева Н. Сергей Есенин и Галина Бениславская. СПб., 2008.
Шульц С.С. мл. «Бродячая собака». СПб., 1997.
Шульц С.С. мл. Невская перспектива. СПб., 2004.
Щеглов Д.А. Хроника времен Фаины Раневской. М., 2005.
Экшкут С. Тютчев. Тайный советник и камергер. М., 2003.
Энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб.; М., 2006.
Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т. 1–3, М., 2005
Эфрон А. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М., 1989.
Эфрон Г. Дневники. Т. 1–2. М., 2004.
Эфрон С. Записки добровольца. М., 1998.
«Я всем прощение дарую…» Ахматовский сборник. М.; СПб., 2006.
Якобсон Р. Будетлянин науки. Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза.
М., 2012.
Янгфельдт Б. Любовь – это сердце всего: В.Маяковский и Л.Брик. М., 1991.
Яновская Л. Записки о Михаиле Булгакове. М., 2002.
Яновский В.С. Поля Елисейские. Книга памяти. СПб., 1993.
Ясинский И.И. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. Т. 1–2. М., 2010.
Яцевич А. Пушкинский Петербург. СПб., 1993.
Указатель адресов в Москве, Санкт-Петербурге, Париже{ Черным шрифтом выделены дома, где жили главные герои книги, поэты и писатели. В скобках обозначены вероятные годы проживания их по данному адресу.}
Москва
Арбат ул., 2 (ресторан «Прага»)
Арбат ул., 4 (гостиница «Столица»)
Арбат ул., 16
Арбат ул., 19
Арбат ул., 25 – Д.Давыдов (1825)
Арбат ул., 28
Арбат ул., 31 – Н.Нолле-Коган (с 1917)
Арбат ул., 35 – Н.Петровская (1910-е)
Арбат ул., 51 – Н.Нолле-Коган (с 1919)
Арбат ул., 53 – А.С.Пушкин (1831)
Арбат ул., 55 – А.Белый (1880–1906)
Армянский пер., 11 – Ф.Тютчев (1810–1829)
Балчуг ул., 1 (гостиница «Балчуг»)
Банковский пер., 10
Баррикадная ул., 2 – А.Куприн (1874–1877)
Бахрушина ул., 4 – В.Ходасевич (1910-е)
Беговая, 1а, корп. 5 – М.Юдина (1930-е)
Богословский пер., 3 – С.Есенин (1920–1921)
Большая Дмитровка ул., 6 (театр Оперетты)
Большая Дмитровка ул., 8
Большая Дмитровка ул., 9 – Е.Ланн (1920-е)
Большая Дмитровка ул., 10 (гостиница «Тулон»)
Большая Дмитровка ул., 14 – В.Ходасевич (1890-е)
Большая Дмитровка ул., 15а («Клуб писателей»)
Большая Дмитровка ул., 34
Большая Лубянка ул., 14 – М.Погодин (1820)
Большая Лубянка ул., 21 – (гостиница «Селект»)
Большая Молчановка ул., 12
Большая Молчановка ул., 25 (кружок «Шмаровинские среды»)
Большая Молчановка ул., 32 – Б.Пронин (1920-е)
Большая Никитская ул., 6 – М.Цветаева (1940)
Большая Никитская ул., 15
Большая Никитская ул., 46 – М.Булгаков (1920-е)
Большая Ордынка ул., 17 – А.Ахматова (1940–1960)
Большая Пироговская, 35а – М.Булгаков (до 1934)
Большая Полянка, 10 – О.Мандельштам (1931)
Большая Полянка, 44
Большая Садовая, 4
Большая Садовая, 10 – М.Булгаков (1920-е)
Большая Семеновская, 53 – П.Зайцев (1910–1920-е)
Большая Черемушкинская, 14, корп. 1 – Н.Мандельштам (1964–1980)
Большая Якиманка, 45 – О.Мандельштам (1923–1924)
Большой Афанасьевский, 17
Большой Афанасьевский, 30 – А.Кусиков (1910–1920-е)
Большой Гнездниковский пер., 5 – Ф.Тютчев (1863)
Большой Гнездниковский пер., 9
Большой Гнездниковский пер., 10 («Дом Нирензее»)
Большой Знаменский пер., 8
Большой Знаменский пер., 17 – Д.Давыдов (1820-е)
Большой Каретный пер., 1 – М.Лохвицкая (1897)
Большой Каретный пер., 20 – С.Парнок (1910-е)
Большой Кисловский пер., 4 (женская гимназия)
Большой Козловский пер., 12 – И.Дмитриев (с 1799)
Большой Конюшковский пер., 25
Большой Могильцевский пер., 7 («Антропософское общество»)
Большой Николоворобинский пер., 3–9 – И.Бабель (1930-е)
Большой Николопесковский пер., 4
Большой Николопесковский пер., 11
Большой Николопесковский пер., 13
Большой Николопесковский пер., 15 – К.Бальмонт (1916–1920)
Большой Ржевский пер. 11, стр. 1
Большой Строченовский пер., 24 – С.Есенин (1912–1914) – 569
Большой Харитоньевский пер., 2 – В.Л.Пушкин (1800–1801)
Большой Черкасский пер., 2 («Гослитиздат»)
Борисоглебский пер., 6 – М.Цветаева (1914–1922)
Борисоглебский пер., 15 – Г.Шенгели (1910–1920-е)
Боткинский, 2-й проезд, 5 («Боткинская больница»)
Брюсовский пер., 2/14, стр. 1 – С.Есенин (1924–1925)
Брюсовский пер., 9 – Н.Карамзин (с 1795)
Брюсовский пер., 12 – В.Мейерхольд, З.Райх (1920–1930-е)
Брюсовский пер., 15 (церковь Воскресенья на Успенском вражке)
Брюсовский пер., 19–21 – Е.Андреева-Бальмонт (1890-е)
Бурденко ул., 18 – Б.Пильняк (1924)
Варсонофьевский пер., 8
Воздвиженка ул., 6
Воздвиженка ул., 8
Воздвиженка ул., 14 – С.Есенин (1918)
Воздвиженка ул., 16
Вознесенский пер., 6 – Е.Баратынский (с 1826)
Вознесенский пер., 7 (газета «Гудок»)
Вознесенский пер., 9 – П.Вяземский, А.С.Пушкин (с 1821)
Волхонка ул., 9 – В.Серов (1890-е)
Волхонка ул., 14 – Б.Пастернак (1910–1920-е)
Волхонка ул., 16
Волхонка ул., 18/2 (1-я Московская гимназия)
Воронцова поля ул., 8
Вспольный пер., 15 – С.Есенин (1920)
Вспольный пер., 18
Гагаринский пер., 20 (церковь Св. Власия)
Гагаринский пер., 29 – С.Эфрон (1890–1900)
Гагаринский пер., 33 – Д.Давыдов (1826)
Газетный пер., 3 – Е.Никитина (1920-е)
Глазовский пер., 7 – Н.Вольпин (1922)
Глазовский пер., 8
Глинищевский пер., 6 – А.С.Пушкин (с 1826)
Гоголевский бул., 8 – Б.Пастернак (1930-е)
Гоголевский бул., 31 (издательство «Мусагет»)
Гороховский пер., 10 (женская гимназия)
Госпитальный пер., 1–3 – А.С.Пушкин (1810–1811)
Гранатный пер., 2/9 – Б.Зайцев (1900-е)
Грибоедовский пер., 6
Денежный пер., 5
Долгоруковская ул., 17 – Г.Шпет (до 1928)
Достоевского ул., 4 (Александровский Женский институт)
Зачатьевский 3-й пер., 3 – А.Ахматова (1918, 1920)
Знаменка ул., 11 («Религиозно-философское общество»)
Знаменка ул., 15 – В.Ходасевич (1910-е)
Знаменка ул., 20 – Н.Петровская (1900-е)
Знаменка ул., 21 (Александровское военное училище)
Знаменский пер., 17 – Д.Давыдов (1820-е)
Зубовская ул., 14 – А.Бестужев-Марлинский (1825)
Зубовский бул., 16 – В.Асмус (1920–1930-е)
Зубовский бул., 25 – Вяч.Иванов (1913–1918)
Ильинский пер., 5
Казакова ул., 18
Камергерский пер., 2 – Л.Сейфуллина (1931–1954)
Камергерский пер., 4 – В.Ходасевич (1886)
Каретный ряд ул., 4 – К.Станиславский (1903–1920)
Карманицкий пер., 3 – К.Бальмонт (1900-е)
Козицкий пер., 3 – С.Есенин (1919)
Композиторская ул., 16 – Д.Давыдов (1830–1831)
Котельническая наб., 1/15
Крапивенский пер., 4 – Н.Львова (1913)
Красная пл., 1/2 (Исторический музей)
Краснокурсантский 1-й пр., 3–5
Крестовоздвиженский пер., 9 – Б.Пронин (1920)
Кривоарбатский пер., 4 – Б.Зайцев (кон. 1910-х)
Кривоколенный пер., 4 – М.Волошин (1912)
Кривоколенный пер., 11
Кузнецкий мост ул., 7 (гостиница «Россия»)
Кузнецкий мост ул., 21
Кузнецкий мост ул., 22
Курсовой пер., 15 – В.Нарбут (1930-е)
Лаврушинский пер., 17 (писательский дом-кооператив)
Лебяжий пер., 1 – Б.Пастернак (1913, 1917)
Ленинградский пр-т., 32/2 (ресторан «Яр»)
Ленинградский пр-т., 34 – В.Ходасевич (1910-е)
Леонтьевский пер., 5 (типографияа.Мамонтова)
Леонтьевский пер., 16
Леонтьевский пер., 21 (журн. «Русская мысль»)
Лопухинский пер., 7 – С.Бобров (1910-е)
Малая Бронная ул., 18/13 – О.Мандельштам (1929–1930)
Малая Бронная ул., 32
Малая Дмитровка ул., 1/7 – С.А.Есенин (1915)
Малая Дмитровка ул., 8 – М.Марьянова (с 1920-х)
Малая Дмитровка ул., 22 – О.Гзовская (1910-е)
Малая Дмитровка ул., 25
Малая Дмитровка ул., 29 – А.Чехов (1890–1891)
Малая Молчановка ул., 6 – Ю.Анисимов (1910-е)
Малая Молчановка ул., 8 – М.Волошин, А.Н.Толстой (1913–1917)
Малая Никитская ул., 20 – В.Качалов (1910-е)
Малая Пироговская ул., 18 – М.Булгаков (1920-е)
Малый Знаменский пер., 8 (Книжная палата)
Малый Ивановский пер., 2
Малый Казенный пер., 16 – О.Мандельштам (1920)
Малый Кисловский пер., 4 – Е.Тагер (1920–1930-е)
Малый Козихинский пер., 11
Малый Козихинский пер., 12
Малый Козловский пер., 1–5
Малый Левшинский пер., 4 – М.Булгаков (1920-е)
Малый Левшинский пер., 5
Малый Палашёвский пер., 3 (церковь Рождества Христова в Палашах) – с.
399
Малый Трехсвятительский пер., 8 – Ф.Тютчев (1809–1810)
Мансуровский пер., 3
Маяковского пер., 15/13 – В.Маяковский (1926–1931)
Мерзляковский пер., 1
Мерзляковский пер., 6
Мерзляковский пер., 9 (Музыкальное училище)
Мерзляковский пер., 16 – М.Цветаева (1939–1940)
Мерзляковский пер., 18а – М.Цветаева (1920–1930-е)
Милютинский пер., 9
Милютинский пер., 14 – В.Брюсов (1873)
Мира пр-т, 30 – В.Брюсов (1910–1925)
Мира пр-т, 51 – С.Шенгели (1950-е)
Миусская пл., 6 («Университет Шанявского»)
Моховая ул., 1/6 («Дом Пашковых»)
Мясницкая ул., 21
Мясницкая ул., 22
Мясницкая ул., 24 – Л.Столица (1910-е)
Мясницкая ул., 26 – Н.Львова (1900-е)
Мясницкая ул., 42 – А.Грибоедов (1823–1824)
Настасьинский пер., 8
Нащокинский пер., 3–5 (кооперативный дом писателей)
Нащокинский пер., 6 – Б.Пастернак (1916)
Нащокинский пер., 6
Неглинная ул., 6
Неглинная ул., 29/14 (гостиница «Эрмитаж»)
Неопалимовский 1-й пер., 3 – С.Парнок (1926–1928)
Неопалимовский 1-й пер., 5 – Д.Давыдов (1784)
Неопалимовский 1-й пер., 12 – А.Белый (1918–1919)
Неопалимовский, 3-й пер., 5–7
Никитский бул., 8 (Дом журналистов)
Никитский бул., 12а – С.Парнок (с 1930)
Никитский пер., 2
Никольская ул., 17 ( гостиница «Славянский базар»)
Новая Басманная ул, 20 – П.Чаадаев (1830–1850-е)
Новая Басманная ул, 27 – П.Вяземский (1810)
Новая Башиловка ул., 24 – В.Хлебников (1910-е)
Новинский бул., 11 – А.Н.Толстой (1910-е)
Новинский бул., 32
Новослободская, 45
Огородная слобода ул., 6
Октябрьская, 43 – Н.Харджиев (1920–1930-е)
Оружейный пер., 42 – Б.Пастернак (1890-е)
Остоженка, 36
Павловский, 2-й пер., 3 – С.Есенин (1915)
Петроверигский пер., 4
Петровка ул., 5 (кафе «Табакерка»)
Петровка ул., 19
Петровка ул., 25 (гимназия Креймана)
Петровка ул., 26 – Н.Валентинов-Вольский (с 1907)
Петровский пер., 5 – С.Есенин (1918–1919, 1923)
Плотников пер., 13 – М.Гершензон (1910–1920-е)
Плотников пер., 15
Плотников пер., 21 – А.Белый (1906–1910)
Плющиха ул., 53 – А.Белый (с 1932)
Поварская ул., 1/2 (5-я мужская гимназия)
Поварская ул., 9 – М.Цетлин-Амари (1919)
Поварская ул., 10
Поварская ул., 13
Поварская ул., 24 – Ю.Балтрушайтис (1920–1938)
Поварская ул., 30
Поварская ул., 33 – М.Лохвицкая (с 1874)
Поварская ул., 52 («Дворец Искусств»)
Погодинская ул., 12а – Н.Гоголь (1840-е)
Пожарский пер., 9 – О.Мандельштам (1923)
Пожарский пер., 10 – Вяч. Иванов (с 1912)
Покровка ул., 22
Покровка ул., 29 – О.Мандельштам (1931)
Покровский бул., 3
Покровский бул., 4/17 – Ю.Балтрушайтис (1910-е)
Покровский бул., 14/5 – М.Цветаева (1940–1941)
Померанцев пер., 3 – С.Есенин (1925)
Померанцев пер., 8 – С.Шервинский (1920–1930-е)
Потаповский пер., 9/11 – О.Ивинская (1940–1950-е)
Пречистенка ул., 10
Пречистенка ул., 11 (музей Л.Н.Толстого)
Пречистенка ул., 13 – Д.Давыдов (1784)
Пречистенка ул., 17 – Д.Давыдов (1835–1837)
Пречистенка ул., 20 – С.А.Есенин (1922–1924)
Пречистенка ул., 21 – А.Ахматова (с 1926)
Пречистенка ул., 24/1 – О.Мандельштам (1919–1920)
Пречистенка ул., 32 (мужская гимназия Поливанова)
Пречистенка ул., 33 – С.Бобров (1910-е)
Пречистенка ул., 35
Пречистенская наб., 5
Пречистенский пер., 9
Пятницкая ул., 2 – И.Грабарь (1920-е)
Пятницкая ул., 49 – В.Ходасевич (1910-е)
Пятницкая ул., 81
Рождественка ул., 3/6 (гостиница «Савой»)
Рождественка ул., 5
Рождественка ул., 11
Рождественский бул., 14 – К.Павлова (1830–1850-е)
Романов пер., 2, корп. 2
Романов пер., 3 – Б.Пастернак (1917) – 642
Россолимо ул., 11
Ростовский, 6-й пер., 11 – А.Белый (с 1911)
Ростовский, 7-й пер., 7 (женская гимназия)
Ростовский, 7-й пер., 11 – В.Ходасевич (до 1920)
Ружейный пер., 9
Руновский пер., 4 – А.Ивич-Берштейн (1930-е)
Садовая-Каретная ул., 8 – А.Ахматова (1950-е)
Садовая-Кудринская ул. ул., 3 (женская гимназия)
Садовая-Кудринская ул., 6 – А.Белый (1919)
Садовая-Кудринская ул., 7 – Г.Рачинский (1900-е)
Садовая-Кудринская ул., 15 – Е.Ростопчина (1840–1850)
Садовая-Сухаревская ул., 2 – С.Парнок (1916–1917)
Садовая-Триумфальная ул., 25 – Ф.Тютчев (1843)
Садовая-Черногрязская ул., 34 – К.Станиславский (189–1900-е)
Садовническая наб, 1
Сверчков пер., 4а
Сеченовский пер., 5
Сивцев Вражек, 6 – ЮЛибединский (1930–1940-е)
Сивцев Вражек, 12 -Б.Пастернак (1917–1918)
Сивцев Вражек, 19 – М.Цветаева (1911–1912)
Сивцев Вражек, 30а – С.Аксаков (с 1849)
Сивцев Вражек, 35
Сивцев Вражек, 44
Смоленский бул., 3 – Д.Давыдов (1830-е)
Смоленский бул., 26
Скатерный пер., 25
Соймоновский пр., 1 («Дом З.И.Перцевой»)
Солянка ул., 2
Солянский пр-д, 3
Сокольническая, 3-я ул., 20 – С.Есенин (1916)
Спартаковская ул., 4 – Ю.Анисимов (1910-е)
Спиридоновка ул., 6 – А.Блок (1904)
Спиридоновка ул., 24/27
Средний Тишинский пер., 5/7 – Л.Андреев (1900-е)
Сретенский бул., 6 (Наркомпрос, ЛИТО)
Староваганьковский пер., 13 – К.Бальмонт (1893) – 126
Староконюшенный пер., 5 – П.Зайцев (1920-е)
Староконюшенный пер., 25
Староконюшенный пер., 33 – А.Ганин (1920-е)
Старопименовский пер., 7, корп. 3
Старопименовский пер., 11 – бр. М. и П.Киреевские (1840-е)
Старосадский пер., 10 – О.Мандельштам (1928, 1931)
Столешников пер., 9 – В.Гиляровский (1886–1935)
Страстной бул., 6
Страстной бул., 8 – С.Волконский (1910–1920-е)
Страстной бул., 11 («Журнально-газетное объединение»)
Тараса Шевченко наб., 7/1
Тверская ул. ул., 1 (гостиница «Националь»)
Тверская ул., 3 (гостиница «Франция»)
Тверская ул., 4 (кафе поэтов «Домино»)
Тверская ул., 6 – К.Чуковский (1960–1990-е)
Тверская ул., 12 – Ф.Тютчев (1851)
Тверская ул., 13 (Дом генерал-губернатора, Моссовет, Мэрия)
Тверская ул., 15 (гостиница «Лувр и Мадрид»)
Тверская ул., 16 – А.Блок (1890-е)
Тверская ул., 17 («Кафе имажинистов»)
Тверская ул., 24 – В.Ходасевич (с 1901)
Тверская ул., 29
Тверская-Ямская 2-я ул., 2 – Б.Пастернак (1890-е)
Тверская-Ямская 4-я ул., 8 – С.Парнок (с 1924)
Тверской бул., 7/2 – Д.Бурлюк (1910-е)
Тверской бул., 9 («Дом Коровина»)
Тверской бул., 25 (Союз писателей, Литературный институт)
Тверской бул., 27 (театр им. А.С.Пушкина)
Театральная пл., 1/4 (гостиница «Метрополь»)
Телеграфный пер., 9
Тимура Фрунзе ул., 20
Трехпрудный пер., 3/16 – Ю.Слезкин (1920-е)
Трехпрудный пер., 8 – Цветаева (1892–1911)
Трехпрудный пер., 10 – Р.Ивнев (1918–1919)
Трубниковский пер., 4 – И.Бунин (1906)
Трубниковский пер., 11 – М.Цетлин-Амари (1918)
Трубниковский пер., 26 – Д.Давыдов (1820-е)
Трубниковский пер., 30
Успенский пер., 7 – М.Шагинян (1910-е)
Фадеева ул., 4 – С.Есенин (1915–1916)
Фрунзенская наб., 38/1 – К.Куприна (1950-е)
Хлебный пер., 1 – А.Толстой (1923)
Хлебный пер., 30
Хоромный тупик, 4
Цветаевой ул., 15 (Болшево) – М.Цветаева (1939–1940)
Цветной бул., 22 – В.Брюсов (1878–1910)
Черняховского ул., 4
Чистопрудный бул., 21 – Н.Телешов (1898–1904)
Чистый пер., 1/24 – М.Булгаков (1916, 1917, 1921)
Чистый пер., 5 – И.Аксенов (1910-е)
Чистый пер., 9 – М.Булгаков (1920-е)
Чкалова ул., 14/16 – С.Маршак (1940–1960-е)
Шубинский пер., 2/3 – В.Вересаев (1921–1945)
Щетининский пер., 1 – М.Цветаева (1912–1913)
Щипковский пер., 1-й, 26 – Ар.Тарковский (1930-е)
Щипок ул., 6 – Э.Герштейн (1920–1930-е)
Юлиуса Фучика ул., 11 – В.Хлебников (1912)
Яузский бул., 10 – В.Брюсов (1874–1879)
Санкт-Петербург
Адмиралтейская наб., 12 – С.Маковский (1910-е)
Адмиралтейский пр-т, 6/2 – Д.Давыдов (с 1891)
Александровский парк, 4 («Народный дом»)
Английская наб., 10 – Ф.Тютчев (1822)
Английская наб., 12 – Ф.Тютчев (1844–1845)
Английская наб., 32
Английская наб., 62 – Н.Минский (1890-е)
Английская наб., 74
Арсенальная наб., 7 (тюрьма «Кресты»)
Басков пер, 21 – Д.Философов (1904)
Блохина ул., 15а – Е.Чириков (1910-е)
Большая Зеленина ул. П.С., 9 – Ю.Анненков (1910-е)
Большая Конюшенная ул., 21–23
Большая Монетная ул., 11
Большая Морская ул., 31 – Н.Берберова (1990-е) – 531
Большая Морская ул., 47 – В.Набоков (1899–1919)
Большая Морская ул., 49 – П.Вяземский (1868–1869)
Большой пр-т В.О., 6 – К.Бальмонт (1916)
Большой пр-т В.О., 64 – К.Бальмонт (1915)
Большой пр-т П.С., 56/1 – И.Пуни (1910-е)
Боровая ул., 11–13 – Н.Тэффи (до 1912)
Бородинская ул., 13 («Дом Артистов»)
Боткинская ул., 9 – А.А.Ахматова (1918–1919)
Верейская ул., 3 – Д.Мамин-Сибиряк (1908–1912)
Верейская ул., 12 – Д.Мережковский, З.Гиппиус (1889–1891)
Владимирский пр-т, 7 (ресторан «Капернаум»)
Волковский пр-т, 54 – В.Хлебников (1910)
Воскова ул., 8
Восстания ул., 22 – С.Алянский (1910–1930-е)
Гагаринская ул., 16 («Салон Карамзиной»)
Галерная ул., 12 – А.Плещеев (1820-е)
Галерная ул., 27
Галерная ул., 58–60
Галерная ул., 63
Глинки ул., 15 – Е.Лансере (1920-е)
Гончарная ул., 24 – А.Коринфский (1898)
Гороховая ул., 2/6
Грибоедова кан., 9 («Писательский дом»)
Грибоедова кан., 14 – Ф.Тютчев (1854)
Грибоедова кан., 37 – Б.Пастернак (1900–1930-е)
Грифцова пер., 10 («Географическое общество»)
Гродненский пер., 11 – Ф.Сологуб (до 1910)
Дворцовая наб., 10
Декабристов ул., 57 – А.Блок (1912–1921)
Дмитровский пер., 11 – К.Бальмонт (1901)
Донская ул., 11 – В.Хлебников (1910)
Жуковского ул., 6 – Н.Берберова (1900-е)
Жуковского ул., 10
Жуковского ул., 41 – К.Бальмонт (до 1901)
Загородный пр-т, 1 – А.Дельвиг (1820–1830-е)
Загородный пр-т, 8 – Т.Шевченко (1833–1838)
Загородный пр-т, 9
Загородный пр-т, 10 – А.Грин (1913)
Загородный пр-т, 11 – Л.Чуковская (1930–1941)
Загородный пр-т, 12 – Е.Полонская (с 1917)
Загородный пр-т, 14 – О.Мандельштам (1913)
Загородный пр-т, 17 (Тенишевское училище)
Загородный пр-т, 18 – В.Капнист (1790–1793)
Загородный пр-т, 21 – С.Венгеров (1910-е)
Загородный пр-т, 25 – П.Чайковский (1860-е)
Загородный пр-т, 28 – Н.Римский-Корсаков (1893–1908)
Загородный пр-т, 42 – М.Глинка (1940-е)
Загородный пр-т, 64/2 – Д.Шостакович (1906–1910)
Загородный пр-т, 70 – О.Мандельштам (1911)
Зверинская ул., 17 – В.Калицкая-Грин (1920-е)
Зоологический пер., 5 – Г.Чулков (1907)
Инженерная ул., 4/2 (Русский музей)
Институтский пер., 4 – В.Хлебников (1908)
Исаакиевская пл., 5
Исаакиевская пл., 6
Искусств пл., 5 (кафе «Бродячая собака»)
Итальянская ул., 13
Каменноостровский пр-т, 13 – Л.Андреев (1907–1908)
Каменностровский пр-т, 69/71
Кирочная ул., 3
Кирочная ул., 8
Кирочная ул., 14
Кирочная ул., 17 – Н.Берберова (1910-е)
Климов пер., 7 – Ф.Сологуб (1880-е)
Колокольная ул., 13 – А.Волынский (1908–1909)
Константина Заслонова ул., 5
Константина Заслонова ул., 15 – А.Н.Толстой (1910-е) – 308
Кременчугская ул., 4 – В.Вересаев (с 1898)
Кронверкский пр., 23 – М.Горький (1914–1921)
Кутузова наб., 12 – А.Ахматова (1944–1945)
Кутузова наб., 32 – А.С.Пушкин (1834–1836)
Лейтенанта Шмидта наб., 13 – Н.Нолле-Коган (1913)
Ленина ул., 11 – М.Шкапская (1923)
Ленина ул., 19 – Ф.Сологуб (с 1907)
Ленина ул., 34 – А.Ахматова (1960-е)
Лермонтовский пр., 19 – Ф.Сологуб (1868)
Лесной пр-т, 61, корп. 3 – А.Куприн (1938)
Лизы Чайкиной ул., 2 – В.Хлебников (1908–1909)
Линия 4-я В.О., 3, («Квартира № 5»)
Линия 4-я В.О., 17
Линия 4-я В.О., 21 – Н.Нолле-Коган (1913)
Линия 5-я В.О., 62 – С.Андроникова (1910-е) – с 489
Линия 6-я В.О., 41 – Е.Дмитриева-Черубина (1900–1910)
Линия 7-я В.О., 20 – Ф.Сологуб (1899–1907)
Линия 7-я В.О., 62 – Е.Дмитриева-Черубина (1910-е)
Линия 9-я В.О., 44 – Ф.Сологуб (с 1916)
Линия 10-я В.О., 5/37 – Ф.Сологуб (1920–1921)
Линия 10-я В.О., 33 (Бестужевские женские курсы)
Линия 11-я В.О., 18
Линия 11-я В.О., 48 – В.Хлебников (1910)
Линия 13-я В.О., 28 («Учительский институт»)
Линия 22-я В.О., 5 – К.Бальмонт (1916–1917)
Литейный пр-т, 15 – О.Мандельштам (1903–1905)
Литейный пр-т, 24 – Д.Мережковский, З.Гиппиус (1891–1912)
Литейный пр-т, 32 – С.Есенин (1917–1918)
Литейный пр-т, 42 («Юсуповский дворец»)
Литейный пр-т, 45 – С.Дягилев (1890–1900-е)
Малая Морская ул., 13 (ресторан «Вена»)
Малая Морская ул., 21
Малый Казачий пер., 9 – А.Ремизов (с 1908)
Малый пр-т В.О., 15
Малый пр-т В.О., 17/23 – В.Хлебников (1908)
Малый пр-т П.С., 69 – Ф.Сологуб (1900-е)
Манежный пер., 6 – К.Чуковский (1910–1920-е)
Марата ул., 7 – К.Случевский (1890-е)
Марата ул., 9
Марата ул., 31
Марата ул., 41 – В.Немирович-Данченко (с 1898)
Марата ул., 65/20 – С.Маковский (до 1917)
Марсово поле, 3 – Ф.Тютчев (1846–1848)
Маяковского ул., 3 – А.Кони (1909–1927)
Миллионная ул., 5а – А.Ахматова (с 1921)
Миллионная ул., 35 – В.Жуковский (1827–1840)
Минский пер., 3 – Ф.Сологуб (1880-е)
Михайловская пл., 5 («Бродячая собака»)
Мончегорская ул., 2 – В.Розанов (1893–1899)
Московский пр-т, 7 – Я.Полонский (1860–1870-е)
Московский пр-т, 8 – П.Плетнев (1820-е)
Моховая ул., 30
Моховая ул., 32 – П.Вяземский (1836)
Моховая, 35 (Тенишевское училище)
Моховая ул., 36 (издательство «Всемирная литература»)
Моховая ул. – 39 Ф.Тютчев (1848–1849)
Наб. р. Ждановки, 3/1 – Ф.Сологуб, А.Н.Толстой (1920-е)
Наб. р. Карповки, 2/44 – А.Блок (1889–1906)
Наб. р. Мойки, 39/6
Наб. р. Мойки, 78 – А.Смирнова-Россет (с 1840)
Наб. р. Мойки, 84
Наб. р. Фонтанки, 18 – А.Ахматова (1921–1923)
Наб. р. Фонтанки, 20
Наб. р. Фонтанки, 21
Наб. р. Фонтанки, 25 – Н.Карамзин, П.Вяземский (с 1816)
Наб. р. Фонтанки, 34 – А.Ахматова (1925–1952)
Наб. р. Фонтанки, 37 – В.Одоевский (с 1840)
Наб. р. Фонтанки, 38 – И.Тургенев, Л.Толстой (1854–1856)
Наб. р. Фонтанки, 50 (Союз писателей Ленинграда)
Наб. р. Фонтанки, 56
Наб. р. Фонтанка, 62 («Петровское училище»)
Наб. р. Фонтанка, 116 – В.Гиппиус (1898–1899)
Наб. р. Фонтанки, 123
Наб. р. Фонтанки, 127 – К.Случевский (1900-е)
Наб. р. Фонтанки, 133/9 – А.Куприн (1910-е)
Наб. р. Фонтанки, 149 – Л.Гумилев (1938)
Невский пр-т, 10
Невский пр-т, 36 (гостиница «Европейская»)
Невский пр-т, 42 – Ф.Тютчев (1854–1872)
Невский пр-т, 54/1 – Ф.Тютчев (1852)
Невский пр-т, 59 – М.Волошин (1924)
Невский пр-т, 60 – П.Вяземский (1844–1845)
Невский пр-т, 64
Невский пр-т, 66 – А.Куприн (1893)
Невский пр-т, 67 – А.Куприн (1901–1902)
Невский пр-т, 68 – Ф.Тютчев, И.Тургенев и др. (1840-е)
Невский пр-т, 72 («Салон Наппельбаумов»)
Невский пр-т, 73 – М.Волошин (1907–1908)
Невский пр-т, 80
Невский пр-т, 81
Невский пр-т, 84 – М.Волошин (1920-е)
Невский пр-т, 118
Невский пр-т, 147 – А.Н.Толстой (1910–1912)
Некрасова ул., 11 («Дом литераторов», 1920-е)
Некрасова ул., 17 – Н.Тэффи (с 1912)
Некрасова ул., 35 – А.Куприн (1902–1903)
Никольская пл., 6
Обводный кан., 56
Ординарная ул., 18
Островского пл., 2 (Александринский театр)
Островского пл., 9 – Е.Кругликова (1920-е)
Пестеля ул., 4 – М.Шагинян (1909)
Петровская наб., 2
Петрозаводская ул., 3 – И.Пуни (с 1915)
Пирогова ул., 17 – Н.Кульбин (1910-е)
Поварской пер., 1 – Ф.Сологуб (1898)
Правды ул., 1а, уч. 21 – Б.Пильняк (1927–1936)
Правды ул., 12
Правды ул., 14
Прачечный пер., 10 – Ф.Сологуб (1880-е)
Профессора Попова ул., 10 – Е.Гуро, М.Матюшин (1912–1913)
Пушкинская ул., 17
Пушкинская ул., 20 (гостиница «Пале-Рояль»)
Радищева ул., 17/19
Разъезжая ул., 7 – А.Куприн (с 1903)
Разъезжая ул., 30
Разъезжая ул., 31 – Ф.Сологуб (1910–1916)
Рентгена ул., 3
Рентгена ул., 4 – Е.Гуро, М.Матюшин (1904–1910)
Рубинштейна ул., 13 («Зал Павловой»)
Рубинштейна ул., 23
Рубинштейна ул., 24
Рылеева, ул., 47 – В.Гиппиус (1908)
Садовая ул., 13 – В.Ходасевич (1920)
Садовая ул., 49 – А.Майков (с 1830)
Саперный пер., 21
Синопская наб., 52
Смольный пр-д, 1 («Смольный институт»)
Советская, 5-я ул., 38 – А.Ремизов (1906)
Советская, 7-я ул., 36 – К.Родзевич (до 1917)
Советская, 8-я ул., 36
Социалистическая ул., 22 – О.Мандельштам (1907)
Спасский пер., 5 – Н.Михайловский (1900–1904)
Старорусская ул., 5
Стремянная ул., 4 – М.Лохвицкая (с 1898)
Стремянная ул., 23 – Ф.Тютчев (1853)
Суворовский пр-т, 16 (Рождественское училище)
Съездовская линия, 7, В.О. – Д.Менделеев (с 1890)
Таврическая, 3 – А.Ремизов (1910–1911)
Таврическая, 35 – Вяч. Иванов (1905–1912)
Университетская наб., 7–9 – А.Блок, Д.Менделеев (1880-е)
Харьковская ул., 9
Чайковского ул., 3 – М.Лохвицкая (1870-е)
Чайковского ул., 7 – А.Ахматова (1920–1921)
Чайковского ул., 10
Чайковского ул., 21 – П.Вяземский (1840-е)
Чайковского ул., 83 – Д.Мережковский, З.Гиппиус (1912–1920)
Чехова ул., 11
Шпалерная ул., 2 («Дом предварительного заключения»)
Шпалерная ул., 41–43 (казармы Кавалергардского полка)
Щербаков пер., 7 – Ф.Сологуб (1890-е)
Ярославский пр-т, 78
Париж
Амели ул., 8 – В.Ходасевич, Н.Берберова (1920-е)
Амстердам ул., 54 – Генрих Гейне (1848–1851)
д‘Артуа ул., 21 – Ф.Тютчев (1827)
Асомсьен ул., 70 («Русский Клуб»)
Бак ул., 44
Беллони ул., 2 – К.Бальмонт (1920-е)
Бонапарта ул., 10 – Н.Гумилев и А.Ахматова (1910)
Бонапарта ул., 59 – М.Цветаева (1908)
Бреа ул., 19 (ресторан «Доминик»)
Буало ул., 7 – И.Шмелев (1930-е)
Буассонад ул., 17 – Е.Кругликова (с 1901)
Бурбонов наб., 45–47 – Д.Давыдов (1814)
Бюсси де ул., 10 – Г.Аполлинер (1900-е)
Бюсси де ул., 12 («Союз возвращения на Родину»)
Ваграм ав., 41 (кафе «Прадо») – с.537
Валентина Гау ул., 5
Вэр де Сен-Жульен ул., 31 – М.Цветаева (1926–1927)
Версаль ав., 18 бис – Н.Тэффи (с 1933)
Виктора Гюго ул., 46 – В.Ходасевич, Н.Берберова (1930-е)
Виньон ул., 23 – Н.Тэффи (1920-е)
Гренель бул., 25 – Н.Тэффи (1930-е)
Гренель ул., 145 – К.Бальмонт (с 1898)
Годефруа-Кавеньяк ул., 4
Данфер-Рошро ул., 18 бис
Данфер-Рошро ул., 79
Дарю ул., 12 (Собор Александра Невского)
Дарю ул., 13 (кафе «Петроград») – с 537
Дворца Бурбонов пл., 5 (газета «Последние новости»)
Деламбр ул., 9 – А.Дункан (1927)
Де ла Помп ул., 27 (кафе «Ага»)
Де ла Помп ул., 99 – Айседора Дункан (1910-е)
Де О, ул. 3 – И.Василевский (Не-Буква), Л.Белозерская (1920–1921)
Дю Буа ав., 2 – М.Цветаева (1927–1932)
Жака Калло ул., 16
Жакоб ул., 20
Жана Батиста Потена ул., 65 – М.Цветаева (1934–1938)
Жана Оффенбаха ул., 1 – А.Куприн, И.Бунин (1920–1950-е)
Жувине ул., 22 бис – А.Куприн (1920–1930-е)
Иены пл., 6 (музей Гимэ)
Кампань-Премьер, 9 – М.Волошин (1910-е)
Кардине ул., 22 (журнал «Иллюстрированная Россия»)
Катр-Шемине ул., 10 бис – В.Ходасевич, Н.Берберова (1920-е)
Клебера ав., 9 (гостиница «Мажестик»)
Клоделя пл., 1 (кафе «Вольтер»)
Клод Лоррен ул., 2 – Н.Берберова (1930-е)
Клод Лоррен ул., 11 – Б.Зайцев, М.Осоргин (1920-е)
Колизе ул., 27 (ресторан «Московские колокола»)
Колизе ул., 29 («Российский Общевойсковой союз»)
Колизе ул., 44
Колонэль Боннэ, 11 бис – Д.Мережковский, З.Гиппиус (1910–1940)
Кондорсе ул., 101 – М.Цветаева (1932–1933)
Лазар Карно ул., 10 – М.Цветаева (1933–1934)
Ламбларди ул., 14 – В.Ходасевич, Н.Берберова (1926–1928)
Лакретель ул., 26
Лакретель ул., 28
Ла Тур-Мобор бул., 52 – Н.Берберова (1930-е)
Леона Гилло ул., 4 – М.Слоним (1920–1930)
Леопольда Робера ул., 5 – К.Бальмонт (1902)
Лерич ул., 17 – П.Милюков (1920–1930-е)
Лувр наб., 14 (кафе «Самаритен»)
Мадлен пл., 8 (кафе «Колибри»)
Мадлен Моро ул., 8
Менильмонтан ул., 32 (Франко-Славянская типография)
Мерседес ул., 11 – Д.Мережковский, З.Гиппиус (1911)
Мишле ул., 7 (Институт социальной истории)
Могадор ул., 25 (театр «Могадор»)
Монморанси бул., 1 бис – А.И.Куприн (1922)
Монпарнас, 99 (кафе «Селект»)
Монпарнас, 105 (кафе «Ротонда»)
Монпарнас, 108 (кафе «Дом»)
Монпарнас, 123 – М.Волошин, М.Сабашникова (1910-е)
Монпарнас, 171 (кафе «Клозери де Лиля»)
Мулен-де-Пьер ул., 83 – Н.Бердяев (1930-е)
Мюрат бул., 219
Николо ул., 59 – М.Цетлин-Амари (1930-е)
Октава Фьюле ул., 24 – М.Волошин (1905)
д Отейль ул., 83 (кафе «Мюрат») – с 538
Орфевр наб., 14 (тюрьма «Консьержери»)
Пастера бул., 32 – М.Цветаева (1939)
Планте ул., 26 – К.Бальмонт (1930-е)
Пуссена ул., 26 (ресторан «Жокей»)
Пьерр ул., 9 – Б.Лазаревский (1920-е)
Ранеляг ул., 99 – А.Белый (1906–1907)
Распай бул., 43–47 (гостиница «Лютеция»)
Распай бул., 131 (ресторан «Крымский домик»)
Распай бул., 207 – В.Ходасевич, Н.Берберова (1920-е)
Рене пл., 3 (кафе «Версаль»)
Ренуара ул., 48а – К.Бальмонт, И.Бунин, А.Куприн (1920-е)
Республики бул., 2 – И.Шмелев (1930-е)
Республики бул., 8 (кафе «Терминас»)
Риволи ул., 172 – А.Герцен, П.Боборыкин (до 1870)
Рише ул., 32 (ресторан «Фоли-Бержер»)
Руве ул., 8 – М.Цветаева (1925–1926)
Руселе ул., 26
Сайгон ул., 8 – В.Набоков (1939)
Сез ул., 2 (газ. «Возрождение»)
Сен-Виктор ул., 22
Сент-Жермен-де-Пре пл., 6 (кафе «Дё Маго»)
Сен Жермен бул., 143 – Б.Пастернак (1935)
Сен-Жермен бул., 170 (кафе «Флор»)
Сен-Жермен бул., 184
Сен-Жорж ул., 51
Сент-Оноре ул., 383 – Ф.Тютчев (1844)
Сесиль Динан ул., 60 – К.Бальмонт (1930-е)
Сингер ул., 10 – Л.Зиновьева-Аннибал (1890-е)
Сингер ул., 17 – М.Волошин (1906)
Согласия пл., 10 – С.Есенин (1923)
Сорбонны ул., 5–19
Теофиля Готье ул., 15 – Д.Мережковский, З.Гиппиус (1906–1908)
Террасе ул., 15 – В.Брюсов (1909)
Тур де ла ул., 43 – К.Бальмонт (1920-е)
Тур де ла ул., 60 – К.Бальмонт (1908)
Фальгиер ул., 14
Франсуа Жерара ул., 39 (Русская католическая церковь)
Фриэдланд, 38–40 – А.Ахматова (1965) – с.563
Фобур-Сент-Оноре ул., 252 (зал «Плейель»)
Шанз-Элизе ав., 73 (газета «Возрождение»)
Шанз-Элизе ав., 97 (ресторан «Фукет»)
Эдгара Кине ул., 16 – М.Волошин (1905)
Эдгара Кине ул., 19 (ресторан «Джигит»)
Эколь ул., 47




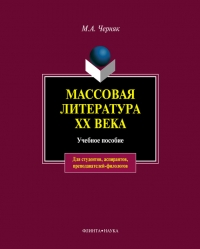


Комментарии к книге «Адреса любви: Москва, Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской литературы», Вячеслав Михайлович Недошивин
Всего 0 комментариев