Хамуталь Бар-Йосеф ВВЕДЕНИЕ: ДЕКАДЕНТСКИЙ КОНТЕКСТ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА
Романтическая литература?
Как известно, девяностые годы девятнадцатого века стали периодом основания политического сионизма и литературы Еврейского возрождения. Но эти же годы были fin de siècle, «концом века» в европейских культуре и литературе со всеми декадентскими признаками: политический и социальный пессимизм; эстетицизм; кризис веры в национальные, моральные и социальные идеалы; отвращение к вульгарности и естественной примитивности и уважительное отношение к самым незначительным чувствам и ощущениям; интерес к болезненным и противоестественным сторонам человека и общества; обнаружение жестокого и злого начала в отношениях мужчины и женщины; вкус к эзотерическим, мистико-чувственным переживаниям, предназначенным для «избранных».
Девяностые годы девятнадцатого века в русских литературе и искусстве стали также Серебряным веком, который сформировался под влиянием западноевропейских символизма и декадентства.[1] На первый взгляд, трудно представить себе явления, более чуждые друг другу, может быть даже несовместимые друг с другом, чем культура европейского Декаданса и движение Еврейского национального возрождения. Тем не менее, в исторической реальности оба эти явления действовали в одно и то же время — конец века — и в одних и тех же местах, в местах, в которых декадентство считалось последним криком моды, и его основные положения были известны каждому образованному европейцу. Возможно ли, чтобы ивритская литература конца девятнадцатого — начала двадцатого веков осталась абсолютно непроницаемой для культурного климата декадентства, столь модного в тот период? Даже если бы декаданс вызывал у ивритского писателя или читателя только сопротивление и отталкивание — смысл такой реакции невозможно понять без знания соответствующего контекста.
В истории ивритской литературы было принято считать конец девятнадцатого века переходным периодом между литературой Просвещения (Хаскала) и литературой Возрождения. Оба понятия кажутся анахронистическими — ведь в европейских литературах эпоха Просвещения завершилась к концу восемнадцатого века, с началом эпохи романтизма, тогда как европейская литература Возрождения (Ренессанс) приходилась на четырнадцатый-шестнадцатый века. Понятие «литературный Ренессанс» стало употребляться в русской литературной критике в эпоху Серебряного века и обозначало переход от декадентства символистов первого поколения к «зрелому символизму» поэтов второго поколения. Вполне вероятно, что именно это понятие и вдохновило Иосифа Клаузнера и других современных ему исследователей ивритской литературы на введение в обиход понятия «литература Возрождения». Несоответствие этих понятий литературной реальности породило как незначительные терминологические изменения (Шимон Халкин, например, предложил звучное название «литература Возрождения и Изумления» (Тхия у-техийя), так и многочисленные социологические, психоаналитические и формально-эстетические объяснения тех признаков этой литературы, которые совершенно не сочетаются с термином «литература Возрождения». Можно ли действительно считать Новую ивритскую литературу конца девятнадцатого — начала двадцатого веков «отсталой» по сравнению с европейскими литературными течениями?
Было принято утверждать, что переход от литературы Просвещения (Хаскалы) к литературе Возрождения принес в ивритскую литературу, с опозданием на сто лет, романтическую чувствительность к природе, творческой фантазии, народной сказке, любви и чувственному опыту.[2] Появление романтической ивритской литературы через сто лет после появления романтизма в европейской литературе было воспринято как чистой воды отставание: «Он (романтизм) появился в ивритской литературе спустя много лет после того, как его луч угас в Европе, где в этот период уже набирали силу его новые воплощения — неоромантизм, символизм и другие модернистские течения»[3]. В некоторых случаях то же явление было представлено как «эклектика», что, по сути, являлось смягченной формой утверждения, согласно которому литература Возрождения объединила в себе влияния различных течений, действовавших в европейской литературе на протяжении девятнадцатого века.[4] Но в европейской литературе конца девятнадцатого — начала двадцатого веков романтизм, в отличие от неоромантизма, уже был анахронистическим явлением, так же как реализм того же периода уступил дорогу натурализму, импрессионизму и символизму. Спрашивается: почему романтизм «ждал» сто лет, прежде чем «появился» в ивритской литературе? Почему ивритские писатели, читавшие не только на иврите и идише, но и на русском и немецком (как минимум), предпочитали игнорировать то, что происходит вокруг них, и обращаться к якобы устаревшим направлениям? В последние годы раздается все больше и больше голосов, указывающих на связь между ивритской литературой рубежа веков и превалирующими тенденциями европейской литературы того же периода. Орцион Бартана выделяет в ивритском неоромантизме четыре модели, одна из которых — «декадентская модель»[5]; Реувен Цур указывает на бодлеровские мотивы в поэзии Бялика[6]; Дан Мирон находит признаки влияния русского символизма в поэмах Бялика[7], а также пишет о модернизме в творчестве М. Й. Бердичевского[8]; Эстер Натан показывает ясную связь между поэмой Бялика «Мейтей мидбар» (Мертвецы пустыни) и русским символизмом[9]; Ципора Каган подчеркивает модернистское новаторство Бердичевского;[10] Авнер Холцман обнаруживает временное тяготение молодого Бердичевского к модернизму немецкой литературы[11]. И все-таки общий романтический имидж Бялика, Бердичевского и других писателей того же периода (Переца, Файерберга, Черниховского) остался незатронутым, а неромантические стороны декадентства вообще не были замечены. В некоторых исследованиях на одном дыхании говорится о романтизме и модернизме в поэмах Бялика[12] или о бодлеровских основах наряду с романтизмом и классицизмом его поэзии[13], возможно, полагая, что читатель сам понимает противоречия между этими тенденциями. Романтизм и декадентство иногда представляются как одно и то же: «Наша новая национальная культура создавалась в ужасное время — в эпоху декадентства, и таким образом продала свое первородство за чечевичную похлебку романтизма»[14]. В работах Менахема Бринкера[15] и Ирис Паруш[16] закрепился реалистический имидж Бренера. Что же привело к так называемому отставанию ивритской литературы? — задается вопросом читатель. Настоящим или мнимым было это отставание? Существует ли связь между тем, что кажется отставанием или консерватизмом, и национальной идеологией и выведенной из нее поэтикой?
На самом деле, для ивритской литературы Возрождения, наряду с декларативной верностью романтизму и реализму, характерна частичная, в известном смысле замаскированная, открытость художественному модернизму своего времени. Эта частичная замаскированность объясняется, главным образом, тем, что основные положения модернизма противоречили идее национального возрождения. Направления, превалирующие в европейской литературе конца девятнадцатого века — декадентство, импрессионизм и символизм, — выражали протест против веры в значение социальной и национальной принадлежности в жизни личности. Такая вера была принята в девятнадцатом веке как среди романтических, так и среди реалистических авторов. Может ли литература национального возрождения существовать без такой веры? Естественно, что в ивритской литературе рубежа веков — как и в других второстепенных европейских литературах — украинской, чешской, румынской, болгарской — возник конфликт между национальной идеологией и новейшими художественными влияниями, в том числе и декадентством.
Неспособность критиков и литературоведов различить декадентские основы в литературе Возрождения объяснялась, прежде всего, тем, что ивритские литературоведы, как и их европейские собратья, воспринимали слово «декаданс» как ругательство и видели в декадентстве проявление культурного упадка, морального разложения и «болезненности». Достижения литературы Возрождения (и особенно поэзии Бялика) приписывались разным течениям, считавшимся ценными в глазах того или иного критика и его современников (классицизм, реализм, романтизм). Проблема заключалась также в типологическом, неисторическом, слишком широком и расплывчатом использовании понятий, связанных с различными движениями и течениями европейской литературы.
По отношению к европейской литературе конца девятнадцатого века литературная критика применяла одновременно два понятия — романтизм и неоромантизм. Особенно это было характерно для критиков, пытавшихся поддержать новейшие течения и защитить их от нападок. Понятия «романтизм» и «неоромантизм» были приняты, главным образом, в Германии, отличавшейся давней и богатой романтической традицией. В России эти понятия выражали, на первом этапе, пренебрежение к ценности и опасности новейших течений, а позднее — признание общеевропейского и христианского характера символизма.[17] На фоне мощной реалистической традиции в России, новые течения, отрицавшие социальную и моральную роль творца, воспринимались как романтический бунт, тогда как лозунг философского «идеализма» отождествлялся с якобы «романтическими» философиями Шопенгауэра и Ницше. Этот лозунг был сформулирован, кроме прочих, Акимом Волынским (псевдоним Акима Флексера), начавшим свою карьеру в качестве корреспондента и редактора еврейской прессы в России, а в конце 80-х годов девятнадцатого века возглавившим редакцию альманаха Северный вестник — главной сцены русских декадентов и символистов первого поколения. В этом альманахе Волынский опубликовал серию эссе под названием «Борьба за идеализм», вышедшую в 1900 году отдельной книгой.
В ивритской литературе рубежа веков также просматривается склонность приписывать некоторым писателям романтизм как знак одобрения за приближение ивритской литературы к современной европейской, без ущерба для «души нации». В те времена определение «романтизм» служило своего рода прикрытием, свидетельствующим о верности автора своему народу. В отличие от периода рубежа веков, в современном ивритском литературоведении понятие «романтизм» обозначает как раз индивидуальное, автобиографическое самовыражение, отражающее мир сна и фантазии, а также живое и ощутимое проявление природы и любви.[18] До сих пор использование понятия «романтизм» для описания литературы Возрождения не может быть нейтральным, оно всегда содержит в себе оттенок одобрения или осуждения, хотя и по иным причинам, отражающим отношение исследователя к романтическому переживанию.
Еще одно неразличение существует между понятиями «романтизм» и «модернизм». Исследователи первой половины двадцатого века считали, что романтизм и модернизм объединены романтическим иррационализмом и национальным пробуждением, и видели в них ранние признаки фашизма и нацизма[19] или источник морального упадка западной культуры в двадцатом веке.[20] В отличие от них, сторонники психоаналитического подхода к литературе склонны подчеркивать позитивные стороны этих направлений, общие как для переживаний эпохи романтизма, так и для переживаний современного человека.[21] Тем самым они приближают современного читателя к романтической литературе, но при этом упускают различия и даже противоречия между разными эстетическими и историческими климатами. Осознание этих различий крайне важно для понимания происхождения тех противоречий, которые отличали ивритскую литературу в период «Возрождения и Изумления» (Тхия у-техийя). Широкое и неисторическое употребление понятия «романтизм» затушевывает различия между явлениями и делает возможным легкие и поверхностные объяснения сложных исторических и культурных процессов, влияние которых ощущается по сей день.
Было ли декадентство, по своей сути, поздним возвратом европейской литературы к романтизму? Действительно, во Франции и Германии декадентская литература возникла, прежде всего, как сопротивление натурализму и как требование права выражать иррациональный внутренний мир личности. В России декадентство было направлено, главным образом, против литературы, обслуживающей позитивистские социальные цели, и требовало свободы от моральных принципов и общественного долга. В этом смысле декадентство вернуло европейскую литературу к романтизму начала девятнадцатого века. И все-таки, между романтизмом и декадентством есть целый ряд различий, заслуживающих нашего внимания: во-первых, в отличие от романтиков, склонных к описанию прекрасного, декадентскую литературу, вслед за натурализмом, занимали грязные, уродливые и отталкивающие стороны действительности. Во-вторых, декадентская литература выражала крайне пессимистические настроения уныния и депрессии, далекие от романтических меланхолии и Weltschmerzа. В-третьих, декадентство характеризуют душевная апатия и ощущение прижизненной смерти, в отличие от мощной, революционной чувственности, характерной для романтизма. В-четвертых, декадентская литература описывает монотонную, не способную к изменениям действительность, что отличает ее от произведений романтизма с превалирующей в них динамичностью. Кроме того, декаденты отрицали романтическую идею возврата к историческому прошлому как пути к национальному возрождению. В-пятых, декаденты обнаружили в красоте природы агрессивные и жестокие черты и описывали ее как опустошающую смертельную ловушку, тогда как романтическая литература подчеркивала чистоту, святость и живительные силы природы. В-шестых, декадентская литература открыла психологию, объясняющую, что человеческим поведением правят инстинкты и бессознательные импульсы, а не естественные чувства. В романтической литературе любовь показана как стремление к душевному, духовному и физическому слиянию одновременно, чувство, которое сильнее жизни, в то время как декадентская литература показала хищническую жестокость, скрывающуюся за магией полового влечения. В-седьмых, в романтической литературе описывался бунт личности против общества, а декадентская литература показала полный разрыв индивидуума с обществом и с себе подобными. Декаденты воспользовались эпистемологическими положениями Канта и Шопенгауэра о субъективности человеческого сознания и, в конце концов, дошли до полного отрицания способности человека к истинному контакту с ближним. Русская литература уделяла особое внимание образу оторванного от действительности декадента, потерявшего способность сопереживать и сочувствовать страданиям людей, объединенных с ним общей кровью, семьей или общей родиной, и превратившегося в гражданина (западного) мира, в космополита, лишенного корней. И, наконец, в-восьмых, декаденты перестали придавать значение естественному чувству и естественной форме, обладавшими высшей ценностью в романтизме, и культивировали формальную и стилистическую виртуозность, эзотерические формы языка, полисемантику, метафорическое изобилие, использование синестезии и музыкального языка как средства создания атмосферы туманной чувственности.
Короче говоря: декадентство выражало как отрицание некоторых основных положений романтизма, так и глубокое разочарование в некоторых романтических чувствах и переживаниях. Неудивительно поэтому, что декадентство пришло в ивритскую литературу в период, когда романтические ценности, в том числе и ценность национальных чувств, переживали глубокий кризис и, для того чтобы вернуться к жизни, нуждались в серьезной духовной борьбе.
Начало: 1894
Когда в ивритской литературе появились первые признаки декадентства? В русской литературе принято датировать начало модернистской эпохи 1892 годом — годом написания всеобъемлющего трактата Дмитрия Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»[22] — или 1894 — годом выхода в свет трехтомника «Русские символисты»[23] под редакцией Валерия Брюсова. Началом модернистской эпохи в ивритской литературе можно считать 1894 год — год издания сборника стихов Ицхака Лейбуша Переца «Ха-угав» (Орган). Наум Слущ в своей книге, посвященной истории ивритской литературы, однозначно определил стиль этих стихов как «символизм на грани декадентства».[24] По его мнению, в этих стихах Перец является «символистом», потому что он проявляет новые виды чувственности, пользуется синестезиями для изображения порочной эротики и пишет погребальные песни вечной печали в духе поэзии конца девятнадцатого века.[25] Что именно создало у Слуща такое впечатление? В одном из стихотворений из сборника «Ха-Угав» Перец задается следующими вопросами: «Создан ли наш мир Б-гом или сам Б-г создан человеком по образу и подобию своему? Существует ли некто, кто руководит миром и кто судит человека после его смерти? Или, может быть, мы пишем по воде и рисуем на песке, а вся наша история станет пищей для червей? Может быть, из того, что мы посеяли, вырастут лишь колючки? Свеча моей любви погасла и черви едят мой мозг».[26]
Стихи из сборника «Ха-Угав» вызвали многочисленные споры в критике.[27] Возражения раздавались как со стороны позитивиста Моше Лиленблюма,[28] так и со стороны — и этому трудно найти иное объяснение, кроме личной неприязни, — Давида Фришмана, обвинявшего Переца в подражании поэзии Гейне,[29] чье творчество в России 90-х годов девятнадцатого века отождествлялось с модернизмом и декадентством.[30] Клаузнер подчеркивал сходство между нападками Фришмана на этот сборник и критикой Максом Нордау декадентской литературы.[31] Он, со своей стороны, нашел в стихах Переца влияние «французских символистов и декадентов, тех самых новых поэтов, которые решили, что для стихотворения достаточно одного только звучания слов и нет нужды ни в какой внутренней идее».[32] Три года спустя Йехошуа Хоне Равницкий заметил, что в ранней поэзии Переца есть явная склонность к декадентству: «Были времена, когда наш писатель [Перец] склонен был ходить по путям, проложенным декадентскими прозаиками, однако факел таланта вернул его на естественный для него путь, и в последние годы описания Переца действительно стали лучше и совершеннее».[33] Исследователи литературы на языке идиш тоже отмечают влияние символизма и декадентства на раннее творчество Переца.[34] Известно, что творчество Переца на иврите и на идише оказало сильное влияние на ивритских (в том числе и на молодого Бердичевского) и идишских (Номберга и других) писателей рубежа веков.[35]
В том же 1894 году Перец написал и первые модернистские манифесты ивритской литературы и опубликовал их в альманахе Ха-хец, выходившем под его редакцией. Перец, как и Брюсов (который, как уже упоминалось, в том же году опубликовал первые сборники «Русских символистов»), написал не только предисловие-манифест к тонкой брошюре, но и тексты разных жанров, под которыми подписался инициалами или вымышленными именами. Во вступительном слове от редакции, которое называлось «Рождение Моисея, Пятикнижие дающего», Перец предлагал читателю новый литературный путь в таком тоне, как будто речь шла о спасении нации и всего мира. В первой статье, «Письма о литературе» (подписанной «Ха-Перецы»), в том же духе представлена война между старым и новым поколениями ивритской литературы. В одном из параграфов этой статьи, «Старики и молодые в ивритской литературе», Перец иронизирует над ивритскими писателями, восхищающимися реализмом и народностью в духе романтизма в то время, когда в Европе уже господствуют декадентство и символизм. Подобно Мережковскому, он обрушивается на позитивистское отношение к литературе как к социальному и политическому орудию и на сентиментальный, слезливый и наивный альтруизм в духе русской «гражданской литературы»:
В мировой литературе солнце реализма давно закатилось, вслед за ним уже взошло солнце материализма и декаденты подняли свое знамя! […] А у нас, далеких от поля деятельности, «реализм» считается новым девизом, зажигающим сердца. […] Добавьте еще капли мирра, любви к Сиону и росинки народности и пейте, но скажите мне: что вы пьете?[36]
В третьем параграфе той же статьи, «Душевные болезни писателей», Перец объясняет «новую психологию»:
[У душевнобольных] нет самостоятельной воли, а только страсти и похоть; нет ни одного цельного свойства, а лишь мешанина различных свойств; нет цельного разума, а только претензии и ощущения. В то время как у здорового человека все духовные впечатления объединяются в единый дух, душа больного распадается на множество душ и различные черты характера сменяют одна другую. Новая психология не будет молчать при виде зверя, время от времени внезапно пробуждающегося в человеческом сердце. […] Она знакома с «дибуком» [разновидность душевного заболевания], он не новое создание, она только стремится понять причины, которые пробуждают дремавшие в течение тысячелетий или целых поколений силы. […] А что касается общего мировоззрения, слишком мало существует людей, которых можно назвать здоровыми![37]
В этих словах слышны отголоски взглядов на психопатологию, распространенных в конце девятнадцатого века. В том же параграфе Перец объясняет, что у здорового человека дух и части тела действуют ради общего целого, тогда как «мозг больного не способен достичь цельности, и поэтому его частные мнения и взгляды живут каждый сам по себе или группками, не способные раствориться в общем мировоззрении; в то время как у здорового мозга есть одна точка зрения, у больного их множество»; и он видит «затуманенные пространства».[38] Похожее восприятие процесса декадентского разложения можно найти в основополагающей статье Поля Бурже «Теория декаданса: очерки современной психологии» (1881) и в «Деле Вагнера»[39] Ницше (1888). С другой стороны, в заметке «Йоцрей тоху» (Создатели хаоса), подписанной псевдонимом «Амити» (Настоящий), Перец резко обрушивается на декадентскую мысль, согласно которой историческое развитие детерминировано и свойства того или иного народа объясняются генетическими данными. Перец уделяет много внимания опровержению такого подхода, приписывает его Золя и Ибсену в литературе и Дарвину в науке и называет его «миражами невежественной философии избалованного и вырождающегося поколения».[40]
Легко заметить, что декадентство Переца в сборнике Ха-хец далеко не полно и не последовательно, в основном во всем, что касается национального вопроса, что Перец не делает различий между декадентством и символизмом, но в то же время он пропитан понятиями декадентской мысли. Новые течения интересуют его, в основном, с точки зрения новой психологии, новой эротики и определяемого ими нового стиля, в то время как разрыв с национальной и социальной принадлежностью, так же как и отрицание возможности перемен и вытекающее из этого отрицания чувство безнадежности, им не принимаются. Такое мышление типично для периода вхождения декадентства в ивритскую литературу.
Мы задержались на сборниках Переца «Ха-угав» и «Ха-хец», потому что, как было сказано выше, их появление в 1894 году можно считать точкой отсчета для вхождения декадентских влияний в ивритскую литературу. Можно даже предложить рассматривать 1894 год как дату начала новой эпохи в ивритской литературе, эпохи сложных контактов литературы национального Возрождения с духом декадентства, господствующим в европейской литературе. Такое предложение ставит перед необходимостью пересмотреть принятую периодизацию новой ивритской литературы.
Принято считать 1881 год, год первой волны еврейских погромов в России, датой перехода от литературы Просвещения (Хаскалы) к литературе Возрождения. Выбор этой даты подразумевает, что перемена в ивритской литературе произошла сразу, как только изменилось политическое положение евреев России: погромы; разочарование, которое жестокие проявления антисемитизма поселили в евреях, веривших в просвещение, то есть в русификацию евреев России; пробуждение национального и сионистского сознания в 80-е годы. Но ведь, несмотря на значение этих событий в истории Сионизма, не они породили те достижения ивритской литературы, которые называют «литературой Возрождения». Первая волна погромов привела к формированию в 80-е годы движения Хибат-Цион (Любовь к Сиону) и к возникновению наивной и сентиментальной поэзии, значительная часть которой носит явные черты романтизма. Восьмидесятые годы породили также и сионистское мышление, позитивистское в своих формулировках, но романтическое по своему основному подходу. Погромы имели четкие исторические последствия в истории восточноевропейского еврейства, но они не повлекли за собою значительных художественных изменений в ивритской литературе начала 80-х годов. Изменения произошли лишь 10–15 лет спустя и вследствие других причин. Первые признаки сдвига ивритской литературы в сторону модернизма и начала эпохи доселе невиданных художественных достижений появились лишь в начале 90-х годов, одновременно со становлением Серебряного века русской литературы, а стали очевидным литературным фактом только в середине десятилетия, в поэзии Бялика и Черниховского и в прозе Переца, Бердичевского и Файерберга. То, что получило название «литературы еврейского Возрождения», началось в середине 90-х годов девятнадцатого века и завершилось в конце второго десятилетия двадцатого, когда центр литературной деятельности переместился из Европы в Эрец-Исраэль. В первое десятилетие двадцатого века декадентство было уже распространенной модой, чем-то само собой разумеющимся в среде образованных евреев, как можно понять из заметки Бренера «Нехе руах»[41] (Инвалид духа) написанной в 1906 году. Во втором десятилетии двадцатого века молодые образованные евреи пользовались декадентским жаргоном как чем-то само собой разумеющимся. Примером этому служит брошюра «Хаим Рецуцим (Разбитая жизнь) — фрагмент из дневника молодого человека», вышедшая в свет в 1913 году в Варшаве. Брошюра написана в виде дневника типичного молодого еврея, оторванного от национальных корней и не скупящегося на описания своих читательских впечатлений:
Меня особенно интересует душа индивидуума, душа современной личности. […] Проникнуть в глубину души такой новой личности […] удалось только двум-трем из гениев нашего поколения — Уайльду, Андрееву и Пшибышевскому — тем самым великим писателям, подвергающимся нападкам марксистов за дегенератизм, излишнее декадентство и эксцентричные галлюцинации, которые якобы встречаются в их творчестве.[42]
В этот же период жили и творили в Европе Иешая Бершадский, Мордехай Зеев Файерберг, Йосеф Хаим Бренер, Хирш Довид Номберг, Ури Нисан Гнесин, Гершон Шофман, Двора Барон, Давид Шимонович и Яков Штейнберг. Какова была сущность контактов между ивритской литературой Возрождения и декадентством, проникшим в Россию из литератур Запада? Ограничивались ли эти контакты тем, что ивритские писатели, приверженные устаревшим течениям девятнадцатого века, отвергали современную европейскую литературу? Или становление ивритской литературы Возрождения определено и пронизано тем же духом пугающего и манящего модернизма?
Духовный климат ивритской литературы конца девятнадцатого века
Заметки, интервью и научные статьи, опубликованные в ивритских газетах и журналах в течение последнего десятилетия девятнадцатого века, свидетельствуют о том, что европейская декадентская мысль (больше, чем сама декадентская литература) была известна образованному еврею и что она влияла не только на понятия и ценности, но даже на настроения. Первый признак этого — мода на пессимизм. Статья под названием «Еврейское отчаяние последних дней» (1892) показывает, что пессимизм превратился в моду среди еврейской образованной молодежи уже в самом начале 90-х годов. Пессимизм и уныние — это «два демона», с которыми пытается бороться ивритская литература, — так утверждал Ерахмиел Шкапнюк, видевший источник этого явления во влияниях современной европейской литературы, особенно во влиянии Шопенгауэра, объяснению «Теории отчаяния» которого автор статьи уделил непропорционально большое место.[43]
В середине десятилетия «отчаяние и моральное разрушение» были представлены как настроения, увлекающие даже тех, кто не был пессимистом по природе.[44] Человек этой эпохи описывался пораженным «чувством опустошения и разрушения, опьянения и ослепления». «Страшное отчаяние поразило его и даже искры надежды у него не осталось», — все это под влиянием «чудовища нашего времени, идола поколения», под которым имелись в виду «материализм и порожденный им пессимизм»[45]. В сноске к той же статье так объяснялось понятие «пессимизм»: «Я имею в виду известную систему Шопенгауэра и Гартмана»[46]. Для подтверждения своих слов автор опирался на книгу И. Э. Каро «Пессимизм в 19 веке»[47]. Популярность, которой пользовалась меланхолия, заметна и в некоторых названиях, например, фельетон «Что напишу — фельетон меланхолика»[48] или заметка «Без излишней меланхолии».[49] «Отчаяние от ума»[50] — так назвал эту моду один из пишущих.
Уже в начале 90-х Шопенгауэр и Гартман упоминаются на одном дыхании, как авторы системы, «в которой слышится дух отчаяния и тьмы»,[51] и как «философы отрицания нашего поколения».[52] В середине 90-х годов Шопенгауэр так популярен (даже больше, чем Ницше), что можно было написать: «Кто не слышал имя Шопенгауэра […], давшего своим ученикам теорию смерти, в которой можно жить»[53]. Магией, которой было окутано имя Шопенгауэра в глазах молодых еврейских интеллектуалов, пронизаны длинная статья, опубликованная в журнале Ха-мелиц под заголовком «Теория жизни по Шопенгауэру»[54], и очерк Хилела Цейтлина «Добро и зло в понимании еврейских мудрецов и мудрецов других народов»[55], представляющий собой хвалебный гимн пессимизму в истории мировой и еврейской мысли.
В тот же период Цейтлин принес весть о «святом пессимизме» Шопенгауэра и Ницше компании своих молодых приятелей в Гомеле, среди которых были Бренер и Гнесин. В автобиографическом рассказе «Бе-терем» (Прежде) Гнесин описывает стоявший в доме отца главного героя — Уриэля — книжный шкаф, в котором рядом с религиозными книгами стоял сборник коротких эссе Шопенгауэра Parerga und Paralipomena.[56] Сам Гнесин, для которого Шопенгауэр был самым близким философом, постоянно носил во внутреннем кармане своего пиджака это популярное сочинение[57].
Не было ли исторических и биографических причин, оправдывающих отчаяние молодого образованного еврея? Конечно, были, всегда есть. Но представители этого периода все-таки были правы, когда видели в пессимизме моду, причины распространения которой заключались в заимствовании европейского мышления и в популяризации философских и психологических идей Шопенгауэра и Гартмана, в духе декадентской культуры.[58] Пессимизм в духе Шопенгауэра и был первым признаком декадентского влияния на еврейскую культуру того времени.
Вторым признаком являлось усвоение декадентской историософии, включающей в себя мифы «конца века»: кризис утопических верований в прогресс, в вечность национального духа и в возможность возродить его силами немногих избранных; восприятие истории народов и культур как детерминистского процесса, ведущего через детство, молодость и старость к неизбежной и обязательной смерти; и самое главное — страх перед агонией и смертью народов, обладающих богатой, но древней культурой. В еврейском контексте эта идея была особенно пугающей и раздражающей, она вызывала мысленный протест, находящий мощную поддержку в неоромантическом мифе, согласно которому именно продолжительное умирание еврейского народа, представляющее собой затянувшийся сон, и есть признак его сверхъестественной жизнестойкости: «Это действительно так! Мы — это мир умирающих, но […] кто знает, может быть, в таком продолжительном умирании заключается бессмертие?»[59]. Та же мысль слышится и в поэме Бялика «Меитей мидбар» (Мертвецы пустыни, 1902). Однако уже в 1892 году в журнале Ха-мелиц появляется приводящее в отчаяние описание положения еврейского народа, в духе декадентской мысли: «Поколения сменяются и колесо возвращается на круги своя, то, что было, то и будет […] и нет этому конца»[60]. Далее в той же статье написано так: «Эта же главная нота отличает нашу прекрасную эпоху, получившую в газетных заметках название ‘конец века’ […] против этого движения наши слова бессильны»[61]. Вся Европа умирает, а еврейство тем более — такая идея звучала из многих уст на протяжении всех 90-х годов. Левинский оплакивает агонию еврейства, превратившегося в живой труп[62], а в фельетоне Товиова, опубликованном в рубрике «Примеры из книги слов», «застой» определяется как постоянная черта еврейского характера. Еврейский народ не застывает в период отчаяния, когда он окончательно потерял надежду, — утверждает автор фельетона, — наоборот: в смутное время евреи просыпаются, но сразу, как только хорошие дни возвращаются, они погружаются в спячку во всем, что касается национальной жизни чувств.[63] В конце десятилетия Клаузнер увязывает стихи из сборника Переца «Ха-угав» с историческим положением Европы и европейского еврейства: «Сколько идей и раздумий вызовут эти рифмы в сердце каждого, кто чувствует страшное духовное и материальное положение всей Европы ‘конца века’, а тем более в сердце еврея, ибо ‘загнивающее отчаяние’ или ‘отчаянное загнивание’ еще не раз будут разлагать его народ и способствовать его истреблению»[64].
В двух статьях 1897 года Клаузнер объясняет еврейскому читателю перемену, произошедшую в европейской исторической мысли. Одна статья была опубликована в журнале Ха-шилоах, вторая — в журнале Ха-мелиц. В первой статье Клаузнер подчеркивает роль исторического материализма Бакля (Buckle) в формировании «исторического фатализма» своего времени. По Клаузнеру, вывод Бакля заключается в том, что «ни у одного человека, будь он великим мудрецом или просвещенным монархом, нет никакой возможности изменить ‘дух времени’ даже в малой степени».[65] Во второй статье Клаузнер утверждает, что теория Дарвина в естественных науках, с одной стороны, и психология подсознательного школы Шопенгауэра и Гартмана, с другой, привели историческую мысль к новому пониманию каузальной теории, отрицающей свободу воли и романтический тезис, согласно которому историю вершат «великие личности».[66] Клаузнер не принимает детерминистское толкование истории и идею непременной кончины состарившихся культур. Он утверждает, что вера и чувство отдельных личностей или народов обладают исторической силой, и даже когда эта сила ослабевает, ее можно пробудить заново, и литература является мощным двигателем этой силы. Чтобы опровергнуть теорию, по которой каждый народ переживает четыре периода: «детство, молодость, зрелость и старость, а потом — полное уничтожение»[67], - он приводит в пример народы, исчезнувшие с лица земли в период «детства», такие как этруски и гунны, а с другой стороны, народы, находящиеся на пике старости, но, тем не менее, все еще полные жизни: «арабы, китайцы и особенно евреи».[68] Клаузнер утверждает, что детерминистское понимание истории само по себе вредно воздействует на молодых, так как сеет среди них пессимизм, заставляет их ненавидеть жизнь и действие и поклоняться безделью.[69] Он считает, что эта опасность уже вызвала решительное сопротивление европейских интеллигентов, «поэтому в последние годы мы наблюдаем своего рода возврат к романтизму», в том числе и в нашей литературе.[70] Клаузнер показывает декадентство и символизм в европейской литературе как похвальное проявление неоромантического сопротивления детерминизму и обновленной веры в индивидуализм. В пример он приводит Ибсена и Ницше. Еще одно проявление такого сопротивления — это национальная идея. Клаузнер не видит никакого противоречия между национальной идеей и культивированием индивидуализма, наоборот: в духе романтизма, в национальной идее он видит требование уделять внимание индивидуальным особенностям каждого народа. По мнению Клаузнера, декаденты и символисты являются, по своей сути, «наследниками романтиков»[71], и поэтому они тоже могут внести свой вклад в ивритскую литературу национального возрождения. Клаузнер не всегда так оправдывал и поддерживал декадентство и символизм, как он это делал в начале своего пути, будучи критиком, но его доводы указывают на возможность таких сочетаний, как сочетание между декадентством и «литературой национального Возрождения» и между понятием «исторической необходимости» и сионистской идеологией.[72]
Третий признак декадентского влияния на еврейскую мысль рубежа веков — это перемена в понимании морали. В 90-е годы девятнадцатого века в Ха-Мелице, наряду со «Статьей об обязанности человека быть добрым ко всем»[73], были опубликованы статьи и заметки, описывающие вырождение духа национальной морали, жалующиеся на отсутствие альтруизма и братства в современной еврейской жизни или абсолютно отрицающие существование этих ценностей и видящие в них не более, чем иллюзию. Левинский заявляет, что он готов отказаться от «вечной жизни» еврейского народа ради материальной «жизни часа»[74] (злободневности), однако предостерегает, что «весь народ как будто сжался и сократился. Нет Божьего благословения», а только мелочность, эгоизм и вульгарность, под влиянием «яфетизма [красивости] Яфета»[75]. Он не только осуждает отсутствие братства среди евреев, но также отрицает братство и альтруизм как желательные ценности или как осуществимые идеалы, и здесь он выступает как последователь русских декадентов с их «беспочвенностью». уныние (ennui), бессилие, меланхолия, апатия и безразличие — описываются как коллективные черты еврейского народа в настоящем: «Наши страсти ослабевают, наши ощущения портятся, а ‘скука’ (кавычки намекают на то, что это знакомое всем понятие) […] ляжет на нас тяжким бременем […] и все наши занятия будут пропитаны меланхолией»[76]. В 1901 году в журнале Ха-Дор выходят две статьи — о Ницше и о Штирнере, автор которых фокусируется на моральной концепции, оправдывающей эгоизм и видящей в нем идеальный образ жизни.[77] Книга Макса Штирнера Индивидуум и его имущество (Der Einzige und sein Eigentum, 1845), проповедовавшая крайний эгоизм, была очень распространена и популярна в России конца девятнадцатого века.[78] В 1892 году в сатирической рубрике «Новый лексикон» появляется следующее определение слова «братство»: «одно из дорогих имен, оставшихся в словарном запасе для оговорок», а слово «человек» объясняется как «хищное животное»[79].
Четвертым признаком является новое восприятие любви, женственности и отношений между мужчиной и женщиной. Подчеркивается телесная сторона любви и получает признание женская сексуальность, а также животная и фатальная (для мужчины) суть женской природы. В течение всех 90-х годов Ха-Мелиц публикует сведения о сексуальной испорченности, в основном, о проституции еврейских женщин и о торговле девственницами, которых сутенеры отправляют в разные страны. В 1900 году журнал публикует объявления на иврите и на идише о различных клиниках, специализирующихся на «женской хирургии» (т. е. на абортах) и обеспечивающих пациенткам кошерное питание. Слова Шопенгауэра по поводу психологического и детерминистского характера сексуального влечения и иллюзорности романтической любви эхом звучат в научных статьях на иврите. В статье «Что такое смерть» автор объясняет, что смерть мужчины начинается с ослабления телесного семени. Любящие «с закрытыми глазами постигают смысл основ творения (Generationelement), посеянных в их телах, и бессознательно выполняют свою функцию», то есть любовь — это не свободное чувство, а результат слепого наследственного импульса, предназначенного удовлетворять потребности развития видов в природе; человеку, решившему жениться, только кажется, что он действует по доброй воле.[80] В серии статей под названием «Пчелиный рой» описывается борьба пчелиных маток в улье, с целью показать ревность, агрессивность и злобу как «природные» свойства женщины.[81] В статье «Любовь» написано, что это слово принадлежит к «законам романтика», и трудно понять, вошло ли это слово из жизни в литературу или литература искусственным образом внесла его в жизнь нового еврея и превратила в «постоянное занятие»: «Это тоже плохо, так как с тех пор, как в нашу литературу поселили романтика, любовь стала ‘постоянным занятием’ для наших юношей и девушек (а иногда даже для мужчин и женщин)»[82]. Совершенно другое юмористическое определение «любви» приводится несколькими годами позже: «Любовь: устаревшая болезнь, появившаяся на свет вместе с родом человеческим и сопровождавшая его до времен нашего ‘просвещенного’ поколения, благодаря ‘нашим личным счетам’ исчезающая с лица земли»[83].
Пятый признак — заимствование понятий из психологии, формировавшейся в конце девятнадцатого века в Европе, и применение их к состоянию еврейства. Важным источником этого процесса являлась книга Макса Нордау Entartung (Вырождение), вышедшая на немецком языке в 1892 году, переведенная на русский в 1894, неоднократно переизданная и вызвавшая широкий резонанс. Книга основывается на тезисе, согласно которому хорошая литература должна быть здоровой литературой и тем самым способствовать душевному здоровью читателей, тогда как значительная часть европейской литературы второй половины девятнадцатого века, а тем более декадентские и символистские произведения, написаны писателями, являющимися декадентскими личностями, которые из-за нездорового образа жизни и наследственных факторов страдали неврастенией и, в сущности, были душевнобольными. Восприятие Максом Нордау современного ему писателя и современного человека вообще как склонных к неврастении и другим душевным болезням воспроизводит до-фрейдистскую психологическую мысль, вырабатывавшуюся в Европе конца девятнадцатого века. В середине 90-х годов она просочилась и в Россию[84], а оттуда — в ивритскую мысль. Одним из примеров тому служит упомянутая статья И. Л. Переца «Душевные болезни писателей», вышедшая в альманахе Ха-Хец в 1894 году.
Центр внимания научных разделов ежедневной ивритской прессы переходит с телесных болезней и эпидемий к душевным расстройствам и их соматическим проявлениям.[85] В сообщениях на эту тему бросается в глаза осознание связи между явлениями физического вырождения и душевными расстройствами.[86] Изменяются восприятие душевного заболевания и портрет душевнобольного: в отличие от романтической литературы, которая описывала сумасшедшего как человека с богатыми воображением и интуицией и даже приписывала ему особую духовность и искры гениальности, в конце девятнадцатого века душевнобольной представлен как человек, нервная система которого деградирует из-за извращенного образа жизни или наследственных данных.[87] Термин «безумие», обладавший в романтической мысли положительными ценностными коннотациями, заменяется менее комплиментарными: «нервные болезни», «дряблость нервов» и «слабость нервов» — так было переведено название самой обсуждаемой в конце века болезни «неврастения».[88] Нервная система превратилась в термин, объясняющий любую аномалию — душевную, моральную или физическую: от выпадения волос[89] и до головной боли у подростков.[90] Алкоголизм, повышенная склонность краснеть и заливаться румянцем, эпилепсия, глупость, тупость, депрессия, проблемы пищеварения, преступные задатки — все эти проблемы представлены как болезни нервов или результат взаимовлияния души и тела, обладающие к тому же причинно-следственной связью, источник которой — слабая нервная система. Целая статья была посвящена обсуждению положительного влияния солнечных лучей на нервные болезни.[91]
В рамках интереса к неврастении описываются такие явления, как повышенная чувствительность к нервным раздражителям и синестетическое восприятие. Автор научной статьи объясняет синестетическое восприятие в реальности и в литературе, находит его даже в Священном Писании, видит в нем явление, не противоречащее законам природы, и не соглашается с мнением, что такое восприятие является признаком болезни мозга.[92] Новелла Брайнина описывает юношу с исключительным синестетическим восприятием (он, например, нюхает деньги так же, как нюхают розу), который, в конце концов, сходит с ума.[93]
Душевные болезни стали центром интереса образованной еврейской публики конца девятнадцатого века еще и потому, что в этот период было распространено мнение, согласно которому среди евреев душевнобольных больше, чем среди представителей других европейских народов, и что это национальная проблема, требующая решения.[94] Еврейские и нееврейские ученые (Шарко, Крафт-Эбинг, Ламброзо) подтверждали мнение, что евреи Диаспоры генетически предрасположены к неврозам и психозам[95]. В последнее десятилетие девятнадцатого века нервные болезни стали неотъемлемой частью личности еврейского «декадента», чем и объясняется то обширное место, которое уделялось этой теме в еврейской прессе. Патологические душевные состояния были распространенной темой в европейской и русской литературах конца века, и критика была склонна видеть в этом свидетельство душевного нездоровья самих писателей или нездоровых наклонностей современного европейского человека. Ивритская журналистика заостряла внимание на идее, согласно которой эти болезни особенно распространены среди евреев и они характерны для того аномального состояния, в котором находится еврейский народ.
Научные разделы и популярные научные публикации этого периода посвящают обширное место описанию душевных болезней евреев, анализу их причин и способам исцеления.[96] Уходящее корнями в прошлое понятие «еврейство как болезнь» претерпевает в 90-е годы психиатрический переворот: становится общепринятой вера в то, что из-за жизненных условий, ставших со временем генетическими свойствами, евреи склонны к неврастении и душевным болезням больше, чем представители других народов. Особенно характерной для евреев считалась меланхолия, то есть хроническая депрессия, тот самый сплин, многократно описанный Бодлером в своих стихах. Таким образом, до-фрейдистская психологическая мысль, взращенная на декадентской почве, проникла в еврейское национальное мышление и заново оформила понимание еврейской проблемы и путей ее решения.
Шестой признак — восприятие национальной принадлежности, антисемитизма и сионизма в психиатрических терминах. Декадентская культура имела далеко идущее влияние на понимание национальности и на расистский характер современного антисемитизма: исторический детерминизм шел рука об руку с физио-генетическим восприятием общечеловеческого и национального характера. Национальная принадлежность понималась теперь как то, что зависит не только от чувства, но и от генетического кода и от неуправляемых инстинктов, так что статус такой принадлежности понизился по сравнению с тем высоким местом, которое она занимала в иерархии исторической мысли романтизма. По большому счету, декадентская мысль усиливала космополитические тенденции, с одной стороны, а с другой, вызывала ощущение принудительной принадлежности к еврейской расе.
Антисемитизм тоже был представлен как генетическая болезнь европейских народов, вылечить которую просвещением нет никакого шанса.[97] Эта идея упоминалась уже в «Автоэмансипации» Пинскера (1882), но в 90-е годы она получила широкое распространение благодаря высказываниям Ламброзо, согласно которым антисемитизм — это генетическая болезнь представителей арийской расы.[98] В 1897 году Ха-Мелиц сообщил об опубликованной в английской газете статье Ламброзо, в которой утверждается, что антисемитизм происходит от генетического атавизма; это душевная болезнь, время от времени обостряющаяся и вызывающая эпидемии, поэтому просвещение не сможет ее уничтожить. Так объясняет автор статьи в Ха-Мелице и добавляет: «Хотя многие еврейские писатели приходили к этому печальному выводу (особенно Герцель в известной брошюре), однако, насколько нам известно, еще никем источник этого зла не был так научно обоснован, как это сделал Ламброзо»[99]. Выводы относительно положения еврейского народа не согласовывались с идеей сионизма: Ха-Мелиц сообщал и о другой статье Ламброзо, в которой автор приписывает духовные заслуги евреев «силе Галута (Изгнания)» и предсказывает, что если евреи будут жить в безопасности на своей земле, они перестанут отличаться своей духовностью.[100]
Клиническое понимание положения евреев было особенно характерно для Нордау, который в своей получившей широкое распространение книге Вырождение (1892) выразил, как уже упоминалось, резкий протест против декадентской болезненности. Большинство образованных сионистов Восточной Европы почитали Нордау, а после нападок на декадентство стали сравнивать его с «одним из пророков Израиля»[101]. Среди почитателей Нордау были Давид Фришман, Реувен Брайнин и Йосеф Хаим Бренер. Фришман писал: «У этого автора были такого рода мужество и аристократическая, высшая наглость, какие мы находим у человека лишь в редчайших случаях […] Мы имеем дело с огромной моральной независимостью, примеры которой не каждый день встречаются»[102]. Фришман считает, что в книге Вырождение Нордау доказал «на основе патолого-медицинского исследования и с помощью психопатологических аналогий, что всё и вся есть вырождение, своего рода дегенерация».[103] Вместе с тем, Фришман выступает против приписывания Нордау имиджа протестанта, ставя вопрос следующим образом: «А что будет, если тот же комар ‘условной лжи’ станет также отрицать и сионизм?»[104]. Фришман приходит к выводу, что Нордау и Герцель продвигали идею политического сионизма как раз с той исходной точки скептицизма, которая, в конце концов, принесла им славу «мечтателей, провидцев, фантазеров и верующих»[105]. Брайнин, который перевел на иврит книгу Нордау Парадоксы, цитирует слова, сказанные Нордау на выступлении в Берлине: «В 1896 году я начал осознавать болезнь моего народа […] Теперь я сионист, я знаю как болезнь, так и средство исцеления»[106].
И действительно, сионизм был предложен как лекарство от «еврейской болезни»: «Работать лопатой на 'живой земле', на виноградниках Израиля — вот проверенное лекарство от опустошенности, скуки и остальных болезней еврейского декаданса»[107]. Так возникла связь между декадентской мыслью и сионизмом конца века: восприятие сионизма как возрождения национального духа, характерное для движения Хибат Цион и мировоззрения Ахад Ха-Ама, получает терапевтический поворот. Кроме того, клиническое понимание положения евреев служило основой для оправдания декадентских основ в ивритской литературе: Шмуэль Лейб Цитрон утверждал, что меланхолия естественна для еврейской психологии, и поэтому декадентская поэзия — это естественная ивритская поэзия[108].
Седьмой признак — это появление требования приспособить ивритскую литературу к современному европейскому вкусу. Практическим смыслом такого требования в тот период было сближение с импрессионизмом, декадентством и символизмом, связанными общей идеей «искусства ради искусства». Требование эстетизации ивритской литературы было не ново; его выражал М. Ц. Мане в эссе, написанных в начале 80-х годов и свидетельствовавших о его романтической поэтике. Но в 1892 году это требование получило новые формулировки, которые свидетельствовали о влиянии духа времени. В очерке «Поэт и поэзия» И. Л. Левин утверждал, что все, до сих пор написанное на иврите о поэзии, включая статьи Мане, это «болтовня […] и древняя традиция времен романтизма».[109] Он выступил против романтического восприятия поэта как пророка и сформулировал программу такого искусства, которое будет воздействовать посредством изощренного использования формы и языка: «Форма, язык и знание жизни — вот художественные средства, которыми поэт воздействует на читателя».[110] Понимание поэзии как средства, предназначенного не объяснять и не описывать, а производить впечатление посредством суггестивного языка, было характерно для художественной мысли конца девятнадцатого века.
В статьях Клаузнера конца 90-х годов заметно стремление довести до сведения читателей последние достижения европейской литературы. Клаузнер требует от писателей применять эти достижения в ивритской литературе и не оставлять ее погруженной в состояние «застоя». По его мнению, реакция на происходящее вокруг — это признак жизни, тогда как отсутствие такой реакции — признак смерти: «На живое существо положительно или отрицательно влияет все, что его окружает, и все, что находится вне его. Только мертвая литература может оставаться свободной от влияния новых течений […] Как понимает читатель, я не собираюсь отрицать, что новые требования к нашей литературе в известной мере являются плодом подражания другим литературам».[111] В продолжение той же статьи Клаузнер утверждает, что все новые течения проповедуют поклонение свободному чувству и требуют уделять больше места человеческой личности, вне связи с ее социальным положением, в этом они противоположны реализму и сближаются с романтизмом. Разница между декадентской и романтической литературами заключается в том, что романтическая литература была далека от вопросов современности и общества, тогда как «декадентство поднимается против любой эксплуатации и несправедливости, происходящих под солнцем, и с бессильной пеной у рта кричит о нарушении мирового порядка, о тирании природы и слабости человека», и значит, декадентство представляет собой некое сочетание романтизма с реалистическими устремлениями.[112] Творчество символистов, по словам Клаузнера, похоже на «лихорадочное заикание» и потому «их стихи никому не нужны»; в качестве примера он приводит творчество Ницше. И все-таки Клаузнер совершенно ясно призывает ивритских писателей сблизиться с новыми течениями европейской литературы, созданной «декадентами, наследниками романтизма»[113].
В те же годы Фришман резко критиковал романтизм вместе с реализмом и подчеркивал важность «классической» эстетической отделки, в духе французского символизма. Как и русские символисты, он видел в развитии эстетического вкуса средство для возрождения нации.[114] Фришман первый опубликовал на иврите статьи о Бодлере и о французской символистской школе вообще[115], и даже переводил стихи Бодлера и Метерлинка. В первом выпуске журнала Ха-Дор под его редакцией, опубликована заметка из Парижа, в которой описываются различные выставки и основное внимание сосредоточено на известной картине Томаса Кутюра (Couture) «Конец Рима» (1847) и на культуре быта декадентского Парижа.[116] Требование литературы, основанной на форме и красоте, можно было услышать и от Брайнина, который с 1891 года жил в Вене и посвятил себя сближению ивритской литературы с миром европейской культуры. Для той же цели он создал и редактировал в 1894–1899 годы журнал Ми-мизрах у-ми-маарав (С Востока и Запада), название которого говорит само за себя. Это требование, повторяемое в ивритской прессе на протяжении всех 90-х годов, стояло и в центре полемики между компанией «молодых», сторонников Бердичевского, и их оппонентами, последователями Ахад Ха-Ама. Отношение к Нордау, противнику декадентской литературы, стало в этой дискуссии признаком принадлежности к тому или иному лагерю: на фоне всеобщего почитания Нордау, Брайнин в апреле 1898 года отмежевался от экстремизма, которым отличалась книга Вырождение, а Бердичевский, в статье «Дор ве-доршав» (Поколение и его ораторы)[117], открыто выступил против Нордау в защиту декадентской литературы.
Требование европеизации литературы заключало в себе еще и поэтическое требование к литературе отражать психологические состояния и процессы так же, как это делают декадентские писатели. Один из авторов начинает свою заметку цитатой из Пшибышевского — польского писателя, автора декадентских романов на немецком и польском языках, называя его «исследователем возвышенной души» и замечая, что «описание души — вот в чем роль нереалистического писателя».[118] По мнению Цитрона, верность (реалистическая) «природной» психологии еврейского декадента оправдывает литературу, полную отчаяния и меланхолии, тогда как «нет большего анахронизма», чем описание «природы, человека, красоты, любви и тому подобного»[119].
Восьмым и последним признаком является отношение читателей и критиков к влиянию декадентства и символизма на ивритскую литературу конца девятнадцатого века как к существующему, хотя большей частью и нежелательному, факту. В 1896 году Клаузнер высказался в поддержку декадентской литературы: «Романтизм начала века и декадентство его конца изучают и исследуют сердце человека, описывают его самые скрытые чувства, его самые заветные желания»,[120] — и выразил надежду увидеть такие явления и в ивритской литературе тоже. По его словам, в поэзии Переца, Бялика и Черниховского уже есть первые признаки этого.[121] В 1898 году Равницкий без малейшего оттенка неприятия написал о рассказе Файерберга «Ха-цлалим» (Тени), что «от него веет мистицизмом и декадентством»[122].
Но даже Фришман, который в принципе поддерживал сближение с европейской литературой и в первые годы двадцатого века как редактор и переводчик всячески содействовал знакомству еврейского читателя с декадентской литературой, в «Письмах о литературе» подверг нападкам проявления декадентства и символизма в ивритской литературе и назвал их «ножом в руках ребенка», то есть опасной и рискованной игрушкой.[123] В 1897 году с нападками на «новое течение» выступил Шимон Бернфельд. Он утверждал, что это течение не что иное, как подражание немецким декадентам и символистам, которые «уже вышли за рамки литературы и относятся к области психиатрии», тогда как «наш народ нуждается в здоровой духовной пище».[124] В 1898 году Лиленблюм — представитель «старого поколения» — выступил против «эпидемии» любовных стихотворений в стиле Гейне, распространившейся в ивритской и идишской литературах: «Стихи о любви […] есть не что иное, как частное дело, касающееся одного человека, и для них нет места в общей литературе […] Какое дело читателям приложений до собраний частных вздохов и стонов [поэтов]?».[125] В 1904 году Бернфельд вновь утверждает, что ивритская литература продолжает подвергаться немецкому влиянию, но на этот раз не влиянию Просвещения, а «влиянию писателей, держащих в своих руках деяния декадентов».[126] В том же году он описывает положение в ивритской литературе таким образом: «Примерно в течение четырех лет это являлось главной претензией писателей нового течения в художественной литературе, да и наши декаденты не переставали кричать, что нет у нас никакого чувства вкуса и красоты […] Теперь все кричат: красивых ремесел! Картин! Скульптур! […] Всё у них называется возрождением нации, и всякий, кто отдаляется от них, как будто уходит из жизни».[127] В статье 1902 года, написанной в виде переписки с приятелем и посвященной обзору литературы ивритского Возрождения, Цитрон писал: «Ты спрашиваешь: есть ли в нашей литературе народные поэты, поэты Возрождения? К сожалению, я вынужден ответить тебе: […] нет и нет! […] Там, где они [народы мира] заканчивают, мы только начинаем. Они завершают декадансом, а мы с него начинаем. Какая горькая насмешка!».[128] В 1904 году Яков Хаим Каценельсон начал публикацию серии статей о Бренере в газете Еврейская жизнь с иронического описания состояния ивритской литературы в виде «жалкого стога сена, возвышающегося до высоты декадентства».[129] Он пишет, что еще до появления Бренера «декадентская звезда уже мелькнула на горизонте нашей литературы», и предупреждает молодого писателя не слишком увлекаться декадентством, признаки которого в его первом романе «Ба-хореф» (Зимой) слишком заметны. Критик Б. Владек в 1908 году писал об идишской поэзии того времени, что она пропитана основами декадентства и символизма. Но были и такие, которые видели в этом слишком большой комплимент ивритской литературе: в том же году Бааль-Махшавот (Эляшев) отверг мнение, что в произведениях Номберга, Шофмана, Анохи, Гнесина и «их последователей» есть отголоски декадентства. Он писал, что было бы большой ошибкой ставить в один ряд духовную бедность этих писателей с величием и силой чувств писателей европейского Декаданса, таких как Бодлер, Верлен, Уайльд и Ницше.[130]
Таким образом, Бялик, Бердичевский и Бренер начали писать в период, когда ивритская литература осуществляла как контакты, так и сражения с декадентской культурой. Как мы увидим в дальнейшем, Бренер находил декадентство в любовной лирике Бялика; в декадентстве обвиняли рассказы Бердичевского 1900 года и его самого как личность; да и самого Бренера предостерегали от увлечения этим направлением. Эти трое не были исключением; контакты ивритской литературы с декадентством были нескрываемым фактом для литературной общественности данного периода, несмотря на то, что отношение к декадентству обычно было самым отрицательным.
Еврейский декаданс и его решение: символизм
Литературные течения по-разному распространяются и абсорбируются в разных культурных и национальных контекстах. На самом деле, сходство между их проявлениями в разных контекстах сегодня может удивить нас больше, чем различия. Декаданс, зародившийся во Франции, в разных странах получил разные оттенки: в Англии он породил «Желтые девяностые», в России — Серебряный век. В ивритской литературе он просочился в самую сердцевину литературы Возрождения. Декадентство везде, даже во Франции, вызывало сопротивление и воспринималось как движение, подвергающее риску ценности существующей культуры. Во многих странах, и особенно в России, оно воспринималось как искусственное заимствование, чуждое народному духу, который обязана выражать литература. Разумеется, в ивритской литературе декадентство действовало и воспринималось особенным образом, отличным от других европейских литератур. Поэтому тому, кто знает декадентство по французской или английской литературе, трудно будет обнаружить его присутствие в текстах, написанных на иврите и описывающих жизнь евреев в европейской диаспоре.
Особое положение еврейской культуры в контексте конца девятнадцатого века выражается, прежде всего, в центральном, хотя и не исключительном, месте, которое отводилось в культурной системе написанной букве. В Европе декадентство имело место не только в литературе; оно проявлялось в изобразительном искусстве (Моро, Бердслей, Климт и другие), в драматургии и в опере (Адан, Уайльд, Вагнер, Андреев) и, возможно, в еще большей степени, в эстетике повседневной жизни: в архитектуре и дизайне (Арт Нуво), в книжной иллюстрации, в стиле афиш и плакатов, в моде на одежду и на косметику и даже в пластике и в мимике, запечатленных в фотографиях того периода. Эти области не были развиты в новой еврейской культуре, но даже в том небольшом, что было, заметен вкус эпохи, как например, в витиеватом Югендштиле живописи Эфраима Лилиана, пламенный сионизм которого не мешал ему черпать вдохновение в декадентском стиле Бердслея. В фотопортретах того времени запечатлен элегантный «денди»: белый костюм, трость, шелковый платок, благородная поза, полный мировой скорби взгляд…
Но наиболее ярко признаки европейского декадентства в еврейской культуре конца девятнадцатого века проявились в литературе и публицистике, написанных на иврите. В произведениях Бялика, Бердичевского и Бренера эти признаки еще не совсем полно и ярко выражены, и тому есть три причины: во-первых, эти произведения отражают не состояние француза или англичанина, а состояние еврея; во-вторых, они написаны на возрожденном языке — иврите; и, в-третьих, эти три писателя, описывавшие декадентское состояние еврейского человека и еврейского народа, относились к декадентству с неприкрытым идеологическим сопротивлением и с глубоким страхом. А ведь положение еврейского народа не было положением империи периода заката, равнодушной к приходу варваров! Верлен в своем стихотворении «Langueur» (Дряблость, 1883), считающемся манифестом французского декадентства, мог описывать равнодушие декадента к приходу варваров. В отличие от него, возможность полного исчезновения еврейского народа, казавшаяся слишком реальной в период усиленной модернизации Восточной Европы, пугала ивритских писателей и приводила их в состояние глубокого пессимизма, но не оставляла равнодушными. Не в меньшей степени их пугала и привязанность отдельной личности к умирающему телу национальной общности, идея, получавшая подкрепление в расистском антисемитизме Европы конца девятнадцатого века и в детерминистском понимании истории, очень популярном среди мыслителей этого периода. Творчество ивритских писателей свидетельствует об этом сильнее, чем их идеологические декларации. Возрождение нации было единственным шансом избежать смертного приговора, но их вера в прорыв исторического детерминизма была неустойчивой. Их творчество иногда выражает полное неверие в этот шанс, но даже когда в нем выражается вера, эта вера опирается не на органические процессы «очищения», как было принято в романтическом восприятии истории, а на насильственный взлом генетического кода или на мистический прорыв редких чудодейственных сил.
Интенсивность озабоченности писателей положением еврея и судьбой еврейского народа представляет собой самое сильное анти-декадентское свидетельство в ивритской литературе Возрождения. Более того, все известные декадентские основы окрашиваются еврейской точкой зрения: моральная испорченность связывается с «галутным» еврейством (еврейством Диаспоры), психологическая атрофия и нервозность называются особенностями еврейской психики, болезненная эротика — достоянием еврейского человека, отвращение к примитиву направлено против персонажей и явлений еврейской жизни, и даже обнаружение зла в природе и в человеке происходит в еврейском контексте. Европейские декаденты отказывались от национальной принадлежности и погружались в свой субъективный мир, оторванный как от общества, так и от ближнего; ивритский писатель, несмотря на все его усилия быть европейцем, всеми фибрами своей души остается одержимым положением евреев.
Европейский декадентский писатель тоже не рад был обнаружить признаки декадентства в окружающей его действительности или в себе самом и искал лекарство от этой «болезни», в основном, в символистской мистике или в ницшеанстве. Но такие писатели, как Бодлер, Уайльд, Бердслей и Брюсов открыто приняли на себя декадентский имидж и размахивали им как идеологическим флагом. В отличие от них, ни один ивритский писатель не принял открыто декадентство как свою поэтику, даже если отстаивал эстетизм и европеизм и боролся за них, подобно Фришману. Как было сказано, с идеологической точки зрения декадентство вызывало протест и осуждение. С эмоциональной точки зрения оно притягивало и соблазняло, вызывало отвращение и пугало.
Европейское декадентство предпочитало эстетический и чувственный опыт моральному долгу и оправдывало «модернистское» нонконформистское поведение, считавшееся ужасным и извращенным в глазах общества. Для ивритских писателей того же периода процесс свободомыслия оказался непростым испытанием, связанным с отказом от моральных ценностей и сопровождаемым страхом нигилизма, тем более что влечение к аморализму, к чувственным удовольствиям и к эстетизму было чуждым для бывших воспитанников хедера и ешивы. Даже после «освобождения» (эмансипации) их образ жизни был далек от богемного декадентства европейских писателей. Бялик, Бердичевский и Бренер, так же как и Бершадский, Номберг, Гнесин, Шнеур, Яков Штейнберг и Фогель, не вели декадентский образ жизни, подобный образу жизни Бодлера, Адана, Уайльда и Пшибышевского, даже если и подражали иногда внешности и стилю одежды «денди». Их сексуальная отвага оставалась гораздо скромнее, чем у европейских декадентов, несмотря на то, что они позволяли себе свободные связи с представительницами противоположного пола и признавали женскую сексуальность, в том числе и у еврейской женщины. Они открыли для себя откровенный, неромантический секс и даже «нездоровую», извращенную сексуальность, но еврейская реальность — не только в местечках, но и в таких городах, как Одесса, Варшава и Петербург, — оставалась далекой от декадентства европейских метрополий. Ивритские писатели могли найти в этой реальности только еврейские параллели, что и делали Бердичевский, Гнесин, Фогель и другие.
Во многих смыслах еврейский контекст декадентства был похож на декадентство российское: оно являлось частью западного модернизма и европеизма внутри национальной культуры, воспринимающейся как «восточная» и принадлежащая прошлому. На фоне культуры, ставящей особое ударение на долге отдельной личности перед нацией, декадентство воспринималось как благословение космополитизма и культивирование личного «эго». В русском контексте эгоизм был воплощением аморализма. Он отождествлялся с «беспочвенностью», то есть с эмоциональной неполноценностью, с неспособностью сопереживать своему народу, другу, любимой женщине и членам семьи, а также с недостатком альтруистического импульса, ответственного за такое сопереживание. На этом фоне возникли еврейский «Талуш» (беспочвенник) и «литература одинокого еврея», описывающая людей, физически — по происхождению — принадлежащих еврейскому народу, но утерявших чувство национальной принадлежности.
В еврейском декадентстве не было зазора между шиком и утонченностью вкуса, как не было и щегольской легкости. В нем были, в основном, глубокие пессимизм и депрессия, порождавшие ощущение оторванности от действительности и восприятие реальности в виде «теней». Не случайно слово «тени» так часто встречается в названиях рассказов, написанных в этот период; это слово отражает не только субъективное эмоциональное состояние, но и восприятие еврейства как мира, оторванного от реальности. Исходное положение Шопенгауэра, согласно которому реальный мир может оказаться только сном и фантазией, получило социологическое осмысление, увязывающее «тени жизни» с положением евреев. В таком декадентстве существовало также осознание испорченности окружающей среды, экзистенциального зла и внутрисемейной жестокости. Все эти явления воспринимались как результат социального упадка и как проявление психофизиологического вырождения, которое искажало моральный облик личности, превращало ее в невротического монстра и отрывало ее от Чистоты, от существования которой в реальности писатель не был готов отказаться.
Находилась ли ивритская литература этого периода еще и под стилистическим влиянием декадентства, и если да, то каковы особенности ивритского декадентского стиля? Это трудный вопрос, ответ на который будет сложным, во-первых, из-за проблемы различения между декадентским, импрессионистским и символистским стилями[131], а во-вторых, из-за исключительного положения языка иврит по сравнению с языками европейских литератур и даже по сравнению со второстепенными европейскими литературами, например, с украинской. Положение этих литератур в данный период было похоже скорее на положение идишской литературы: они также боролись за создание элитарной художественной литературы на языке, который считался «жаргоном». В то же время ивритская литература конца девятнадцатого века боролась, с достойным изумления успехом, за противоположную цель: возродить народный, разговорный слой языка, который использовался, в основном, как язык молитвы и как письменный язык образованных мужчин, путем создания разговорного эффекта в языке, на котором почти никто не разговаривал. Эта борьба не прекращалась и в той части ивритской литературы, которая испытывала символистские и декадентские влияния, хотя здесь этой борьбе придавалось меньшее значение, ибо декадентский стиль отвергал эстетику, придерживающуюся естественности языка.
Стилистическое влияние декадентской эстетики на ивритскую литературу проявляется в использовании элементов неразговорного языка, таких как архаизмы и неологизмы, в поэтическом структурировании языка прозы, в подчеркнутой музыкальности, в использовании синестезий и других структурных, риторических и характеристических элементов. На фоне реалистической еврейской прозы девятнадцатого века декадентский стиль проявляется, в том числе, и в замене рассказчика или поэта «из народа» (Менделе Мохер-Сфарим и Шалом-Алейхем в идишской литературе, народные песни Бялика и т. п.) на образ рассказчика или поэта, получившего чрезмерное еврейское и/или общее образование, так что его речь переполнена изысканными и даже эзотерическими выражениями.
Осуждение декадентства и опасение за его проникновение в ивритскую литературу были характерны для позиции тех, кто создавали ее поэтику — Ахад Ха-Ам, Клаузнер, Бялик и Бренер, так и большинства менее известных литературных критиков. В своем сопротивлении декадентству ивритская литература не отличалась от других европейских литератур, которые обычно относились к декадентству как к порочному и вредному явлению. Наиболее остро отрицательная реакция на декадентство проявлялась в России, что выражалось, между прочим, и в атакующих статьях Горького о Верлене и французских декадентах (1896), в трактате Льва Толстого «Что такое искусство» (1898), в необыкновенной популярности Нордау, чья книга Вырождение, как отмечалось, была переведена на русский язык вскоре после ее выхода на немецком и даже удостоилась повторных изданий (1896, 1901). В России декадентство воспринималось как продолжение «западнического» направления, поэтому оно и вызывало сопротивление славянофилов. Революционерам-социалистам его либеральный политический характер казался проявлением «буржуазности», так что декадентство подвергалось нападкам и со стороны советского литературоведения.
В ивритской литературе декадентство воспринималось, и не без причины, как угроза идее национального возрождения. В контексте ивритской литературы Восточной Европы, решающее различие между романтизмом и декадентством заключалось в понятии народности, в понимании национального чувства и в оценке шансов на национальное возрождение. В корне замешательства, в котором оказалась ивритская национальная мысль в конце девятнадцатого века, было противоречие между романтической верой в возможность национального возрождения и расовыми и детерминистскими теориями, заполнившими собой воздушное пространство Европы этого периода. Романтизм отождествлялся со стремлением оживить народные корни национальной культуры и с верой в моральную святость «народного духа», тогда как декадентство выражало отказ от общественного и национального долга и сосредоточенность на субъективных ощущениях. Декадентская литература описывала человека, отдаляющегося от нации, от религии и от всех общественных связей и погружающегося в мир тумана, сна и извращенных странностей. В России декадентов обвиняли в «беспочвенности», то есть в безразличии к ближнему и в нечувствительности к проблемам народа и общества. Типичный образ «талуша» (беспочвенника) в ивритской литературе несет на себе, по крайней мере, часть из совокупности характерных черт декадента: интеллектуал или человек искусства, утративший чувство религиозной и национальной принадлежности, человек своего времени, не мужественный, страдающий от неврозов, эстет. Понятие «талуш» не является изобретением ивритской литературы. Это перевод французского слова déraciné, которым Морис Баррэ называл своих современников[132], и русского понятия «беспочвенность», которым воспользовался Лев Шестов в своем труде «Апофеоз беспочвенности»[133], для того чтобы оправдать положение нового человека — радикального скептика, отказывающегося служить идеологическим, общественным и моральным ценностям. Декадентские персонажи западной литературы тоже отказывались от этих ценностей, но в русской и еврейской культурах, в которых национальная и социальная принадлежность занимали более весомое место в этических нормах и в понимании роли литературы, моральное потрясение было гораздо сильнее.
Важной причиной того протеста, который вызывало декадентство среди писателей Еврейского Возрождения, являлся болезненный характер декадентских литературы и искусства, то есть склонность заниматься темами и эмоциональными состояниями, считавшимися аморальными или патологическими. Ведь, согласно мировоззрению этих писателей, литературе принадлежит центральная роль в управлении политическими и культурными процессами, а в период, когда само существование ивритской культуры и еврейского народа находится в опасности и еврейство страдает от смертельной болезни, ивритская литература должна способствовать его выздоровлению, а на это способна только «здоровая» литература. И все же общепринятое мнение, что еврейство погружено в болезненное состояние или что оно само по себе является хронической болезнью, вызывало следующий вопрос: может ли существовать здоровая литература, достоверно отражающая больное состояние разрывающегося на части и рассыпающегося еврейства? Не является ли задачей ивритского писателя, тем более писателя-реалиста, со всей жестокостью отражать декадентское состояние еврейского народа? Исходя из этой логики, Бердичевский уже в 1891 году написал, что ивритская литература должна описывать «в том числе разложение и мерзость, существующие в нашей жизни»[134], а Цитрон в 1902 году утверждал, что правдивая еврейская поэзия, создающаяся в изгнании, обязана быть декадентской; только в Эрец Исраэль будет создана естественная еврейская поэзия.[135] В 1910 году Бренер защищал содержание и форму еврейской декадентской литературы, потому что она верно отражает пустоту и разложение еврейской жизни в Диаспоре, и любая другая литература была бы лживой.[136]
Литературное декадентство воспринималось протестующими против него ивритскими писателями не только как измена принципам еврейской морали и еврейскому духу, но и как дешевое и поверхностное подражание моде, которая отражает жизненную реальность, чуждую еврейскому человеку: полная излишества и испорченности жизнь богемного артиста в европейской метрополии, так же как и его слишком развитая чувствительность к красоте, казались принадлежащими к незнакомому для евреев миру, поэтому еврейский писатель не может и не должен пытаться отразить ее в своем творчестве. Возможно, отвращение к декадентству укреплялось и благодаря той роли, которую играли ассимилированные и крещеные евреи, являвшиеся посредниками между русской литературой и новым космополитизмом Западной Европы. Декадентство полностью соответствовало стремлениям евреев из ассимилированных семей, разочаровавшихся в либерализме и опасавшихся растущего национализма, и поэтому в любом центре декадентской деятельности можно найти хотя бы одного еврея: Гюстав Кан во Франции 80-х годов, Макс Бирбаум в «Желтых Девяностых» в Англии, Артур Шницлер, Гуго фон Гофмансталь и Рихард Бер-Гофман в Вене. В России проводником декадентства и символизма служил альманах «Северный вестник» под редакцией Акима Волынского (Флексера) и Любови Гуревич, среди авторов которого были Николай Минский (Виленкин) и Зинаида Венгерова. Космополитизм декадентской культуры являлся источником надежды для ассимилированных евреев, надежды, которая себя оправдала, ведь не даром в модернистской литературе двадцатого века, более чем в любом другом движении в истории мировой литературы прошлых веков, писатели еврейского происхождения занимают такое значительное место.
Именно в этом и заключается проблема зарождения модернизма в ивритской литературе: для литературного творчества на иврите, в европейском понимании слова «литература», нужна была вера в идею национального возрождения, вера, основанная как на романтическом мировоззрении, согласно которому национальный дух можно возродить путем возвращения к древним источникам, так и на идеях европейского Просвещения, выступавшего за прогресс и за оздоровление больного общества с помощью реформ и изменений условий жизни. В то же время модернизм в Европе 90-х годов находился в тени декадентства, которое отрицало идею прогресса и, несмотря на близость к романтизму в отдельных точках, было противоположно ему по некоторым важным вопросам, в основном, по вопросу о национализме и революционности.
Как можно оттолкнуть декадентский пессимизм и возродить романтический революционный национальный дух после того, как он обманул все возлагаемые на него надежды? Есть ли способ обновить национальную энергию и создать здоровую и оздоровляющую литературу на основе декадентской хвори, с помощью нового «несмотря ни на что»? Эта проблема была общей для литератур всех европейских народов, погруженных в политическое, национальное или революционное брожение. Для создателей ивритской литературы, большая часть которых считали себя ответственными за будущее еврейского народа и верили, что национальное возрождение невозможно без литературного возрождения, эта проблема была решающей. Сходными были и решения проблемы: одним из них было решение видеть в открытости западной культуре признаки Ренессанса, революционного выхода из гетто цензуры и конъюнктурной литературной идеологии. В таком духе описывает свою встречу с французской и английской литературами конца века Зинаида Венгерова, работавшая гувернанткой в семье Гинзбургов,[137] и так же видели ситуацию Фришман, Бердичевский и Клаузнер. Другим решением было сочетать западноевропейский модернизм с классическими и классицистическими традициями, что пытались делать Мережковский и Брюсов в русской литературе и Черниховский и Лея Гольдберг — в литературе ивритской.
Но наиболее успешным решением проблемы оказался «зрелый» русский символизм, то есть символизм второго поколения, представители которого не были готовы отказаться от национального самосознания в его мистическом одеянии, от переживания «соборности» и от роли поэта как пророка гибели и спасения народа. Символизм позволял отвечать на сероватый декадентский пессимизм эсхатологическим, экстатическим пророческим оптимизмом; он освобождал личность поэта от декадентской неполноценности и освещал ее великолепным сиянием и даже святостью «сверхчеловека», находящегося за гранью добра и зла; он позволял заново мифологизировать природу, любовь и дух нации. Романтический индивидуализм был заменен на мистический имперсонализм, одновременно отражающий происходящее на метафизическом уровне и происходящее на уровне индивидуального, национального и общечеловеческого подсознания. Символизм в его христианско-православной версии позволял освятить страдание, жертвоприношение и кровопролитие; он вернул к жизни апокалипсические мотивы, при помощи которых страдания, связанные с революциями 1905 и 1917 годов, описывались как необходимый этап на пути к мессианскому освобождению; он давал поэтам возможность не только выражать резкий пессимизм по поводу будущего нации, но и приветствовать с одобрением — или, по крайней мере, с осознанием их закономерности — варварство, кровопролитие и вульгарность, порожденные революцией, и видеть в них неизбежный этап исторического процесса. Символизм вернул поэзии возвышенные чувствительные интонации, иррациональные всплески энергий, и в этом смысле оправдывал звание «неоромантизма», присвоенное ему в разных странах. И все-таки нельзя забывать, что идея возрождения в европейском романтизме начала девятнадцатого века основывалась на вере в свободу духа и в нравственность естественного чувства и первичных общественных сил, тогда как основа идеи возрождения в символистской литературе находилась за гранью добра и зла. Будучи разочарован и в либерализме и в романтизме, символизм опирался на пессимистические психологические и этические концепции и видел в эгоизме, насилии и мировом зле неизбежные факты жизни человека и общества. Поэтому, по символистско-ницшеанской версии, национальное возрождение обязательно должно быть омыто кровью и пройти через смерть и разрушение или, по крайней мере, через страдания и жертвы.
Хасидская традиция, которую некоторые из ивритских писателей впитали с молоком матери, подготовила почву к быстрому и легкому восприятию символизма ивритской литературой. В фундаменте символизма был заложен религиозный, мистико-светский подход к действительности. Некоторые из создателей символизма во Франции и в России интересовались Каббалой, например, Маларме и Соловьев. Были и такие, что пытались найти «психологию подсознательного» по Гартману в хасидизме.[138] Символизм делал возможным так называемый «возврат к религии» еврейского неоромантизма. Ярким примером перехода от декадентского начала к неоромантическому еврейскому национализму через интерес к хасидизму (несмотря на нехасидское происхождение его семьи) является биография Переца. Бердичевский в Сефер Хасидим (Хасидская книга, 1899) описывает танец и молитву хасидов как мистическое переживание, а стиль его описания напоминает прозу Маларме и других символистов. Бялик в начале своего творческого пути экспериментировал с поэтическим стилем Хибат Цион и с натурализмом («Рхов ха-ехудим» — Еврейская улица), а в более поздний период написал, наряду с романтическими стихами, значительное количество стихотворений, отражающих декадентские мотивы и настроения. Вершины своего творчества он достиг в символистской поэзии, которая позволила ему «евреизировать» современную ему европейскую поэзию самым естественным образом. В «Ми-кан у-ми-кан» (Отсюда и оттуда) Бренера символистский конец намекает, что у героя произведения есть шанс излечиться от своего декадентства и приблизиться к религиозному миру.
Элементы декадентства и символизма, иногда вместе и иногда по отдельности, продолжают появляться в ивритской литературе, написанной в Эрец Исраэль, а также в израильской литературе. Продолжение исследования взаимоотношений новой ивритской литературы с декадентством и символизмом может оказаться эффективным не только для более полного осмысления тех или иных произведений и для более точного описания их поэтики, но также и для более полного понимания сионистской культуры, в которой литература занимала далеко не последнее место. Знакомство с декадентским фоном, как я надеюсь, принесет пользу и преподаванию произведений, так или иначе связанных с декадентскими конвенциями.
Примечания
1
Бар-Йосеф, Введение.
(обратно)2
Садан, Чтение и анализ, 105; Халкин, Введение в ивритскую литературу, 416; Курцвайль, Наша новая литература, 29, 338; Ха-Эфрати, 1970; Ха-Эфрати, Замены в поэзии природы.
(обратно)3
Шакед, Ивритская литература 1880–1890, 104.
(обратно)4
Там же.
(обратно)5
Бартана, Беспочвеники и пионеры, 76–85.
(обратно)6
Цур, Романтические и антиромантические основы, 48.
(обратно)7
Мирон, Расставание с бедным «Я», 187.
(обратно)8
Мирон, Приход ночи, 193–222.
(обратно)9
Натан, По дороге к «Мертвым пустыни».
(обратно)10
Каган, Бердичевский как современный рассказчик.
(обратно)11
Холцман, Архивы Михи Йосефа, 131–137.
(обратно)12
Шавит, Поэзия и идеология, 162.
(обратно)13
Зива Шамир, Откуда поэзия, 234–235.
(обратно)14
Шабтай, Беседа о поэзии, 13.
(обратно)15
Бринкер, До переулка.
(обратно)16
Паруш, Литературный канон.
(обратно)17
Гоффман, Поэты символизма; Венгеров, Русская литература ХХ века; Жирмунский, Немецкий романтизм.
(обратно)18
Ха-Эфрати, 1970; Мирон, Комментарии и разъяснения.
(обратно)19
Barzun, Romanticism and the Modern Ego.
(обратно)20
Babbitt, The New Laokoon, Decadence.
(обратно)21
Bloom, The Internalization of the Quest-Romance; Hartman, Romanticism and Anti-Self-Consciousness; Frye, The Road to Express.
(обратно)22
Мережковский, О причинах упадка.
(обратно)23
Брюсов, Русские символисты.
(обратно)24
Slousch, La poésie lyrique hébraïque, 150.
(обратно)25
Ibid, 151.
(обратно)26
Перец, Орган, 26.
(обратно)27
Харъэль, Новый взгляд, 118–120.
(обратно)28
Лиленблюм, Поэтические произведения.
(обратно)29
Фришман, Полное собрание сочинений, 1: 38–54.
(обратно)30
Бар-Йосеф, Восприятие Гейне.
(обратно)31
Харъэль, там же: 119.
(обратно)32
Клаузнер, Стихи о любви, 69.
(обратно)33
Равницкий, Литературные новости, 573.
(обратно)34
Пинес, 1911, 2: 177; Горальник, 1983: 52.
(обратно)35
Wisse, I.L Peretz, 37–40.
(обратно)36
Перец, Ха-хец, 15.
(обратно)37
Там же: 19.
(обратно)38
Там же: 20. Подчеркнуто автором.
(обратно)39
Ницше, תשל"ט, с. 27. (Найти русскоязычное издание)
(обратно)40
Перец, там же: 61.
(обратно)41
Бренер, Собрание сочинений, 1: 699–701.
(обратно)42
Зан, Разбитая жизнь, 12.
(обратно)43
Шкапнюк, Еврейское отчаяние, 41, 47–49.
(обратно)44
Винц, Примеры, 57: 1.
(обратно)45
Рабинович, Вечный Израиль, 2.
(обратно)46
Там же.
(обратно)47
Caro, Le pessimisme au xix siécle.
(обратно)48
Товиов, Фельетон меланхолика.
(обратно)49
Усышкин, Без излишней меланхолии.
(обратно)50
Элатин, Отчаяние от ума.
(обратно)51
Шолом-Алейхем, Самоубийца.
(обратно)52
Ха-Адраи, Лев Толстой и его взгляды, 35.
(обратно)53
Без подписи, Терновый путь, 2.
(обратно)54
Финкель, Теория жизни по Шопенгауэру.
(обратно)55
Цейтлин, Добро и зло.
(обратно)56
Гнесин, Полное собрание сочинений, 1: 261.
(обратно)57
Там же: 625.
(обратно)58
Бар-Йосеф, Введение, 22–30.
(обратно)59
Мазэ, Салтыков и его высказывания.
(обратно)60
Фридберг, Временное понимание, 260: 6.
(обратно)61
Там же, 268: 4.
(обратно)62
Левинский, Общая любовь, 181: 2–3.
(обратно)63
Товиов, Примеры из книги слов, 2–3.
(обратно)64
Клаузнер, Стихи о любви, 70. Кавычки автора.
(обратно)65
Клаузнер, Основы нового еврейского движения, 537.
(обратно)66
Клаузнер, Еврейская мудрость, 216: 7.
(обратно)67
Клаузнер, Основы нового еврейского движения, 540.
(обратно)68
Там же.
(обратно)69
Там же: 541.
(обратно)70
Там же.
(обратно)71
Там же: 549.
(обратно)72
Альмог, Сионизм и история, 48–58.
(обратно)73
Райфман, Статья об обязанности человека.
(обратно)74
Левинский, Красивость Яфета, 1–2.
(обратно)75
Левинский, Общая любовь, 175: 2–3.
(обратно)76
Товиов, Безделье, скука и другие.
(обратно)77
Зецер, Макс Штирнер, Зецер, Фридрих Ницше.
(обратно)78
Rosenthal, Nietzsche in Russia, 64.
(обратно)79
Касдай, Новый лексикон, 2.
(обратно)80
Френкель, Что такое смерть.
(обратно)81
Грэйс, Пчелиный рой.
(обратно)82
Товиов, Любовь.
(обратно)83
Касдай, Новый лексикон, 2.
(обратно)84
Эткинд, Эрос Невозможного.
(обратно)85
Эпштейн, Влияние души на тело; Изгор, Душевная болезнь.
(обратно)86
Гордон, Методы лечения.
(обратно)87
Mathias, De l'imaginaire psychosomatique.
(обратно)88
Гросбергер, Глава из науки о дряблости нервов.
(обратно)89
М. П., Отчего у людей выпадают волосы.
(обратно)90
Грэйс, Головная боль.
(обратно)91
Без подписи, Терновый путь.
(обратно)92
Френкель, Обман чувств.
(обратно)93
Брайнин, Пять чувств.
(обратно)94
Альмог, «Еврейство как болезнь».
(обратно)95
Gilman, Difference and Pathology.
(обратно)96
Иуда Ха-Рофэ, Здоровье и вера; Марголин, О нервных болезнях у евреев.
(обратно)97
Альмог, Сионизм и история, 48–57.
(обратно)98
Никуда, О статье Ламброзо.
(обратно)99
За границей, 21 января 1897.
(обратно)100
За границей, 12 декабря 1897.
(обратно)101
Сиркин, Доктор Макс Нордау, 4.
(обратно)102
Фришман, Полное собрание сочинений, 7: 124–125. Подчеркнуто автором.
(обратно)103
Там же: 124.
(обратно)104
Там же: 126.
(обратно)105
Там же.
(обратно)106
Брайнин, Проповедь Макса Нордау.
(обратно)107
Бен-Меир, Скука и ее лечение.
(обратно)108
Цитрон, Отрывки из переписки.
(обратно)109
Яалель, Поэт и поэзия, 249: 7.
(обратно)110
Там же, 254: 7.
(обратно)111
Клаузнер, Наша молодая литература, 283: 1.
(обратно)112
Там же, 282: 2.
(обратно)113
Клаузнер, Основы нового еврейского движения, 549.
(обратно)114
Паруш, Литературный канон, 55–58.
(обратно)115
Фришман, Шарль Бодлер; Фришман, Новая лирика во Флоренции.
(обратно)116
Людвиполь, На развалинах выставки.
(обратно)117
Бердичевский, Поколение и его ораторы.
(обратно)118
Ротблюм, Рут Лацарус, 76.
(обратно)119
Цитрон, Отрывки из переписки, 88.
(обратно)120
Клаузнер, Война духа, 70.
(обратно)121
Там же: 72.
(обратно)122
Равницкий, Календарь Ахиасафа, 562.
(обратно)123
Паруш, Литературный канон, 120.
(обратно)124
Бернфельд, Счет нашей литературы, 36.
(обратно)125
Лиленблюм, Поэтические произведения.
(обратно)126
Бернфельд, Диаспора, 3.
(обратно)127
Бернфельд, Искусная работа, 10. Подчеркнуто автором.
(обратно)128
Цитрон, Отрывки из переписки, 89.
(обратно)129
Каценельсон, Литературные беседы, 9: 189.
(обратно)130
Бааль Махшавот, Вне лагеря, 113.
(обратно)131
Бар-Йосеф, Введение, 56–64.
(обратно)132
Barrés, Les Déracinés.
(обратно)133
Шестов, Апофеоз беспочвенности.
(обратно)134
Бердичевский, Частное право, 32.
(обратно)135
Цитрон, Отрывки из переписки, 90.
(обратно)136
Бренер, Полное собрание сочинений, 3: 411–414.
(обратно)137
Венгеров, Русская литература ХХ века, 1: 136.
(обратно)138
Markus, Hartmann's induktiv Philosophie.
(обратно)


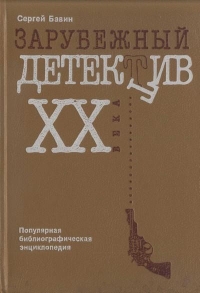
Комментарии к книге «Введение: Декадентский контекст ивритской литературы конца девятнадцатого века», Хамуталь Бар-Йосеф
Всего 0 комментариев