ПРИГОВ И КОНЦЕПТУАЛИЗМ (Сборник статей)
ТЕОРИЯ
Михаил Ямпольский
ВРЕМЯ И МЕТАМОРФОЗЫ (Как тексты Пригова избегают устойчивой модальности)
Если бы меня спросили о том, что, на мой взгляд, является наиболее важной чертой творчества Дмитрия Александровича Пригова, я бы сказал, что это крайняя и сознательно выстроенная сложность в однозначном определении существа его текстов. Невозможно сказать, чем они являются — пародией, пастишем, языковым экспериментом, соц-артистским манифестом. Пригов сам неоднократно говорил, что разные читатели могут выбирать в его тексте любой уровень значения. Но то, что такой выбор возможен и однозначно не определяется автором, неизбежно создает ситуацию смысловой неопределенности. Пригов говорил о «неоднозначных стихах»:
«А неоднозначно, — объяснял он, — в смысле, что в пределах обычного житейского потребления условно выделенного практикой жизни привычного языка многого числа объединенных им простых людей они кажутся как бы нетрактуемы <…> или трактуемы, если уж кому особо захочется, весьма многообразно, практически каждое слово дает возможность увести в другую сторону, в другой ментальный и культурный пласт»[1].
В разговорах с Сергеем Шаповалом Пригов указывал на совершенно особые черты российского концептуализма, который, по его мнению, радикально отличался от западного. На Западе важной была проблема взаимоотношения вещи и языка описания, а в России это отношение не имело существенного значения, на первый же план выдвигалось иное: «разыгрывание пространства жития текста» и «драматургия текста, читателя и автора»[2]. При этом Всеволода Некрасова Пригов выводил за рамки актуального концептуализма потому, что тот, как и авангардисты 1920-х годов, верил «в абсолютное значение текста» (ПГ, с. 12). Но концептуализм, по мнению Пригова, кончился в конце 1970-х гг., а на смену ему пришел постмодернизм, усложнивший отношения между автором, текстом и читателем:
«У концептуализма были все-таки жесткие рамки допустимости, добродетелью концептуализма было неспутывание автора и текста, жесткая выдержанность дистанции автора относительно текста. Постмодернистское сознание несколько спутало все это, породило модель мерцающего взаимодействия автора с текстом, когда весьма трудно определить степень искренности высказывания» (ПГ, с. 13).
Внешне приговское понимание постмодернизма похоже, например, на теорию полисистемности, разработанную в США Томом Леклером, Джозефом Натали, Уильямом Полсоном, Итамаром Эвен-Зохаром и другими. Согласно этой теории, культуру следует понимать как систему, объемлющую иные системы, динамически в нее входящие. Эти системы накладываются друг на друга и дестабилизируют друг друга, постоянно перераспределяя позиции центра и периферии. Но Пригов, в сущности, предлагает свое совершенно особое понимание того, что он за неимением лучшего[3] называет постмодернизмом.
Постмодернистская теория предполагает некие пространства неразличимости, в которых происходит взаимодействие элементов, утрачивающих свою идентичность. Один из лидеров постмодернистской теории Жан-Франсуа Лиотар, например, использовал в качестве метафоры такого пространства — так называемую зону, полосу, окружающую город, где последний смешивается с пригородом:
«Сегодня границы города прорваны мегаполисом, который не имеет ни внешнего, ни внутреннего, будучи тем и другим одновременно наподобие зоны. Таким же образом метафизика, бывшая урбанизацией с помощью концепций чего-то внешнего по отношению к мысли, как будто утрачивает смысл, когда внешнее, природа, реальность, Бог, человек растворяются под воздействием критики»[4].
Зона — место деконструкции понятий, крушения метафизики, место критики, в котором Бог, человек и природа перестают противостоять друг другу так же, как внешнее и внутреннее.
Зона, вообще говоря, — это такая область неопределенности, которая выходит за рамки всякого эклектизма, всякого взаимодействия систем. Здесь совершенно исчезают идентичности. Показательно, что Пригов, например, связывает критику идентичности с практикой миметизма:
<…> именно мимикрия, как я могу реконструировать и сам себе объяснить, у меня артикулировалась в персонажное поведение, что, конечно, является психотерапевтической сублимацией. Например, ко мне подходят и говорят: вот ты — поэт, а я отвечаю: нет, нет, я — художник. Или наоборот: вот ты — художник, а я: нет, нет, я — поэт. Такая вот спасительная попытка избежать идентификации — почти ясно выраженная синдроматика (ПГ, с. 28).
Тут нет попытки деконструировать понятия «поэт» или «художник». Здесь возникает миметическая поведенческая модель, в рамках которой сам Пригов — то поэт, то художник, или, вернее, — то не поэт, то не художник. Но то же самое происходит и с его текстами — то они шутка, то эксперимент, то пародия, или, вернее, — то не шутка, то не пародия и т. д. Особенность такого отношения, по мнению самого Пригова, заключается в том, что оно разворачивается не между вещью и описанием, означающим и референтом:
«У нас уровень вещи и ее качественности замещен пафосностью номинации, т. е. оказалось, что у нас отсутствует возможность концептуализма. Но в то же время акцентуация на языке описания, которую делал концептуализм, порождала иллюзию, что номинация — это уже концептуализм» (ПГ, с. 12).
Особенностью такого российского псевдоконцептуализма было «выстраивание языков над номинациями и игра, иллюзия восприятия номинации, как предмета» (ПГ, с. 12). Это очень важное замечание. Речь, собственно, идет не об отношении понятий «поэт» или «художник» к фигуре автора, а об игре номинаций. Я назову его «поэтом», и он станет поэтом. Номинация становится предметом. А вот я назову его «художником», и он станет другим «предметом» — «художником». Отсюда важный момент его стратегии — подмена идентичности ролями. Но роли эти совсем не релятивистские, не деконструктивные и, по существу, не постмодернистские. Речь в данном случае идет о совершенно особой стратегии роста смысла из игры номинаций. В 1977 г. Пригов замечал:
«Что же познаю я средствами поэзии? Конечно же, не многообразие материального мира, не людей, не их психику, не социальные законы, не… ничего. Тут я понял, что, скорее, не познаю что-то уже существующее, а построяю. Построяю мир поэзии и параллельно его же и познаю» (СПКРВ, с. 26).
В 1977 г. Пригов создал цикл из четырех стихотворений «Имя Бога», который он включил в «сборник» «Опасный опыт». В этом «сборнике» большую часть места занимало сложное теоретическое «Предуведомление». Его пафос связан с мистическим богословием Псевдо-Дионисия Ареопагита, который имел для Пригова чрезвычайно большое значение и которого он систематически упоминал в разных контекстах. Речь идет о трактате Дионисия «О Божественных именах»:
«Поскольку истинного Имени Бога в человеческом языке быть не может (что с избыточностью показал Дионисий Ареопагит <…>), — писал Пригов, — не может быть в сфере языка истинного развертывания Имени. А стихи (и, соответственно, поэт), подвигнувшиеся на подобное, невольно претендуют на это. Они скрыто (если не лукаво) несут в себе отрицание какого-либо другого возможного развертывания Имени. И мы должны признать, что в плане поэтического языка (именно поэтического, в других я не судья) единственно истинное в них — это сама динамика развертывания, реализующаяся система порождения, которая может реально различно воплощаться»[5].
Эта динамика, подчеркивает Пригов, отличает стихи от графических построений: «В стихах же динамика существует как воплощенная жизнь, а графический момент является хоть и закономерным, но побочным моментом закономерностей иного порядка» (ССЗ, с. 156). Графическая и письменная культура в большей степени выражают отчуждение сознания, чем стихотворная речь. Когда-то Моисей Мендельсон, оказавший сильное влияние на Канта и Гегеля, писал о том, что система наших знаков складывается в результате необходимости сводить «неизмеримое к измеримому». Он замечал, что в языках, не знающих письменности, неопределенность звуков устной речи гораздо выше, чем в языках с письменностью, так как письменные знаки дисциплинируют и упрощают речь. Системы графических обозначений (пиктография, иероглифика) вносили измеримость в неизмеримость мира, подменяя реальность внятностью графем, которые постепенно подменили собой реалии мира. «Мы видели, как такая невинная вещь, как простой способ письма, может очень скоро выродиться в руках человека и превратиться в фетишизм. <…> Нужда в письменных знаках была первой причиной фетишизма»[6].
Что означает невозможность истинных имен? Прежде всего — невозможность референции, возникающая в выродившихся языках. Ни одно имя не обладает референциальностью, связывающей его с вне-языковой реальностью. Мы уже видели, что именно такую связь с референцией Пригов считал утраченной в советской культуре. В ином месте, опять же со ссылкой на Дионисия, Пригов говорил:
«<…> я прежде всего занимаюсь вычленением некоего Логоса данного типа письма и творения. Меня не очень интересует его взаимосвязь с конкретной жизнью. Вот Дионисий Ареопагит, его можно читать как Дионисия Ареопагита, но он меня всегда интересовал в не меньшей мере и как модификация лозунгов, которые висят на улице, как такие вот ангелы нашей мистической реальности» (ПГ, с. 20–21).
Лозунги в таком понимании не имеют никакого референтного значения, никак не связаны с жизненной реальностью, но лишь с определенными процедурами речевой практики, с порождающими операциями разворачивающегося Логоса. Вопрос, однако, заключается в том, что связь лозунгов с Логосом далеко не самоочевидна. В лозунгах письменные фетиши заняли место живого понятия. Идея, понятие в той мере, в какой они принадлежат живому Логосу, как считал Гегель, — это и есть жизнь:
«Мертвая, неорганическая природа несоразмерна идее, и лишь живая, органическая природа является ее действительностью. Ибо жизни присуща, во-первых, реальность различий понятия как реальных, во-вторых, в ней имеется также и отрицание этих различий <…>, в-третьих, в ней налицо нечто одушевляющее как положительное явление понятия в его телесном воплощении, как бесконечная форма, которая в состоянии отстаивать себя как форму в своем содержании»[7].
Понятие обладает внутренней диалектикой, которая делает его живым, в том случае, когда оно не отчуждается в абстракции и схоластической универсальности. В «Феноменологии духа» Гегель будет говорить об эквивалентности понятия времени.
Остин как-то заметил, что вопрос о значении слов глуп сам по себе, так как предполагает, что слова имеют какой-то выделимый и абстрагируемый смысл. Он указывал на то, что нелепо само предположение, что есть такая «одиночная вещь (single thing), называемая смыслом»[8]. Не существует ни понятий, ни класса определенных идей, к которым может отсылать слово как к области своего смысла. Источником такого рода заблуждений Остин считал смешение слова и имени:
«Прежде всего существует занятное верование, что все слова — имена, даже имена собственные, а следовательно, замещают что-то или указывают на что-то так же, как собственные имена. Но это представление о том, что общие имена „имеют денотацию“ точно так же, как собственные имена, так же нелепо, как и убеждение в том, что собственные имена „имеют коннотацию“ точно так же, как общие имена…»[9].
Имена Бога у Дионисия тоже не обладают референцией или денотацией, так как относятся к бесконечной сущности, которая выше любой референциальной практики. Но имена эти не бессмысленны. Они связаны с Богом как с Логосом, который един, но к которому причастно все многообразие сотворенного. Так, Дионисий различал «объединяющие» имена Бога, которые относятся «ко всецелой Божественности» (2: 3), и имена, выражающие раздельность в Боге, например, «Отец», «Сын» и «Дух» — «они никак не могут быть обращены или использованы как полностью общие» (2: 3)[10]. Эти аспекты Бога «неслиянно растворены друг в друге». Слияние в Едином и разложение на множественность идут параллельно и приводят в некоему состоянию Логоса, который погружается в молчание, выражающее созерцание невыразимой тайны Бога. Известный теолог Ганс Урс фон Балтазар, для которого Дионисий был важным источником, писал в книге о христианском созерцании, что сам Христос движется к всеединому и что движение это отражается в нарастающем его молчании, отказе от слова, покуда в конце своей земной жизни он не становится «бессловесным, но все еще звучащим Словом»[11]. Слово начинается в молчании и кончается в молчании.
В цикле «Имя Бога» Пригов конструирует стихи как такую генерацию множественности из единства, множественности, которая в конце вновь поглощается единством. Все четыре стихотворения графически дают сначала форму расширения из острия, а затем постепенного сужения в острие. Все стихотворения являют амплификацию первослов — «Бог», «Отец», «Сын» и «Дух». Каждое из этих слов трактуется как аббревиатура, то есть именно как сведение множества «имен» в одно. Так Бог — это аббревиатура «Бездна Омыта Грядущим» или «Бездна Осыпается Гулко». И стихотворение дается как постепенное развертывание аббревиатуры, а затем ее свертывание. Например:
БОГ БеОмГр БезОмыГряд БездОмытГряду Бездна Омыта Грядущим. (ССЗ, с. 168)Затем происходят трансформации слов, которые постепенно начинают сворачиваться в исходное слово «БОГ», но уже в ином буквенном составе:
БеОсГу БуОмГл БлОсГр БОГКак видим, тут нет никакой референции, никакой внешней материальной реальности, но лишь процессы схождения и расхождения, воплощенные в движении букв и слов. Одновременно с элиминацией референтности исчезают претензии поэзии на истинность, которыми больна русская поэтическая традиция. Пригов так описывает движение Логоса в цикле:
«Очевидно, сузившись на кратком пределе возможности прикоснуться к первоименам до состояния узкой языковой иглы, по обратному ее собственным усилиям направлению, то есть, по направлению от первоименик речи, в неком вычищенном виде выкажут себя строгие закономерности, сходящие из этой горней области во все сферы материального бытия» (ССЗ, с. 161).
Такого рода движение Логоса целиком относится к сфере теологического платонизма. В поэзию это движение букв и слов превращается, по мнению Пригова, только тогда, когда хотя бы один из участвующих в расширении и схождении слоев распознается читателем как игровой. Поэтому различие между теологией и поэзией заключается в модальности понимания качества слоя (игровой vs. неигровой). Пригов замечает: «Примером, кстати, может служить Крученых, который, по причине бытования исключительно в сфере поэзии, воспринимается как голая игра, но который, приди это кому-нибудь на ум, мог быть воспринят и как умозритель абсолютнейшей серьезности» (ССЗ, с. 164). Эта условность модальности, которая позволяет один и тот же текст читать как сакральный, или поэтический, или смеховой, основана на все той же приостановке референтности. У нас просто нет никакого объективного критерия для оценки модальности слоя или всего текста. Отсюда огромное значение, придаваемое авторскому поведению, тому, что Пригов назвал «разыгрыванием пространства жития текста». Без этого разыгрывания вообще нельзя понять, что перед нами. Неопределенность модальности текстов у Пригова, с которой я начал, — прямой продукт такого рода поэтики.
Но есть тут и еще один важный момент. Пригов говорит о динамике слоев в движении Логоса как «воплощенной жизни». Свой собственный стиль он однажды полушутя обозначил как «соввитализм» и пояснил: «Уже из двух составляющих можно понять, что он имеет отношение к жизни (в данном случае термин „витализм“ взят именно для акцентирования некоего всеобщего и всевременного значения понятия жизнь) и к жизни именно советской» (СПКРВ, с. 88–89). Он вообще часто использовал термин «жизнь», который всегда у него означает нечто иное, чем жизнь реальных тел в мире референтной реальности. Это именно воплощенная жизнь, но жизнь не в физическом ее понимании. В трактате Дионисия «О Божественных именах» между прочим есть главка о жизни. Здесь дается описание жизни именно как движение от сверхсущей Причины (своего рода Логоса молчания) к разнообразию имен. И процесс этот не эквивалентен процессу творения, но сродни процессу самовыражения, экспрессии, которая не обращена вовне, не реализуется по направлению из трансцендентного к области тварного, земного:
«Бытием же и Самой-по-себе-жизнью (и Самой-по-себе-божественностью) мы называем — как нечто изначальное, божественное и являющееся Причиной — единое сверхначальное и сверхсущественное Начало и Причину всего, а как нечто причастное — подаваемые непричастным Богом промыслительные силы: самого-по-себе-осуществления, самого-по-себе-оживления, самого-по-себе-обожения. — Соответствующим образом причащаясь каковым, сущее является, и называется и сущим, и живущим, и обоженным, и тому подобным» (IX: 6)[12].
Речь идет именно о самоэкспрессии первопричины, которая создает условия для причащения к себе самой в силу ее выраженности. Это и есть движение, которое Дионисий называет жизнью.
Пригов пишет о такой же динамике его собственной поэзии: «В моих стихах единицей опять-таки остается слово, но оно берется не как данное, а как становящееся, развертывающееся из слогов и букв, в свою очередь, имеющих свою интенцию стать словом» (СПКРВ, с. 33). Иначе говоря, за исток текста берется слово, которое развертывается, точно так же как в цикле «Имя Бога», в слоги и буквы, которые имеют тенденцию снова собраться в слово. В итоге мы получаем то, что имели в начале, но только финальное слово (например, «Бог» в рассматриваемом мной стихотворении) уже причащается через этот динамический процесс самоэкпрессии к самому себе, первоначально не выраженному, не живому. Этот странный процесс, как говорил Дионисий, «самого-по-себе-осуществления, самого-по-себе-оживления» и есть жизнь вне области референции, а в режиме, так сказать, автореференции.
Весь процесс жизни у Пригова разворачивается как отрицание исходного термина, его уничтожение, трансформация этого термина в чужое, иное и затем возвращение к себе. Но это возвращение выступает как дифференциация себя из себя же, внедрение внутреннего различия. В этом смысле становление чего-то позитивного, наличествующего (жизни) всегда разворачивается как процесс отрицания, как внедрение небытия. В предуведомлении к сборнику «Апофатическая катафатика» — отмечу еще раз связь с теологией — Пригов писал: «Да и вообще, где ты незыблемая точка, с которой можно было бы истинно сказать чему-либо или о чем-либо: да! или нет! Только, пожалуй, о себе, да и то о своей предполагаемо-интенциональной, а не субстанциальной природе» (СПКРВ, с. 210). В этом «апофатически-катафатическом» контексте Пригов понимал и советскую реальность. Коммунизм у него был классическим мерцанием между существованием и несуществованием. Неистинным именем, из которого что-то рождалось.
Такое понимание искусства близко тому, что Хент Де Врис назвал «минимальной теологией». Это странная теология неверия, возникающая оттого, что Бог до такой степени уходит в трансцендентное, что утрачивает всякие признаки присутствия:
«Модальность трансцендентности Бога кажется все менее и менее способной найти, а тем более утвердить какое бы то ни было присутствие, наличность существования. И при этом она не предоставляет единожды и навсегда простой редукции, фальсификации, натурализации или секуляризации»[13].
Де Врис, как и Пригов, считает эту неопределенность существования или несуществования Бога, невозможность однозначно решить этот вопрос свойством постмодернистского сознания.
Неопределенность и постоянные динамические переходы от одного к другому встречаются у Пригова часто и принимают то тематическую форму, то форму словесной игры, например палиндромов. Его особенно интересуют метаморфозы тел, превращение человека в монстра. Отсюда, среди прочего, — интерес к тематике оборотничества. В 1992 г. Пригов написал текст под названием «Оборотень», в котором рассказывается, как муж некой крестьянки превращается по ночам в волка-оборотня. Там же повествуется о том, как крестьяне идут на охоту за волками и привозят в деревню вместо волков тела молодой супружеской пары. Крестьянка подходит к возку с оборотнями и поднимает рогожу, прикрывающую тела:
А там, а там, о Господи — Она, она не понимает Она, она, да, понимает Нет, нет, она не понимает Не понимает, не понимает Нет, нет, она все понимает Все понимает, понимает И все же не понимает и не понимает, и не понимает и все-все-все понимает…[14]Понимание и непонимание входят тут в режим постоянного мерцания, которое не может зафиксировать никакого из названных состояний. Но этот текст перерабатывает более ранние мотивы, например, очевидные в сборнике 1978 г. «Стихи весны лета осени года жизни 1978», где оборотень ассоциируется с фантомностью имен советской идеологии:
Какой характер переменчивый у волка — Сначала он, я помню, был вредитель Стал санитаром леса ненадолго И вот опять — то[т] самый же вредитель Так человек — предатель и вредитель Потом — попутчик, временный приятель Потом опять — предатель и вредитель Потом опять — вредитель и приятель[15].В 1992 г. Пригов писал о волке:
«<…> волк всегда являет собой тип злодейский (отнюдь не по причине хищности — полно других хищников, не наделенных чертами злобности и жестокости). Соответственно, тот социальный тип, в предыдущее время геральдически обозначенный как волк, в наше время выходит из тени социальной негации. Оставляя на нем опознавательные знаки волка, попытаемся по-новому понять и описать их» (СПКРВ, с. 221).
Иными словами, вредитель становится санитаром прямо на наших глазах. И эта метаморфоза интересует Пригова.
Но то же самое происходит и с Пушкиным:
«Обычно, когда люди говорят „Пушкин“, они имеют в виду некий фантом, который они принимают за истинного Пушкина. Фантомов много. Есть Пушкин пушкинистов. Пушкин поэтов, Пушкин власти, Пушкин власти царской… Мощь поэтов. Или же литераторов, культурных деятелей вообще, она заключается именно в том, сколько таких фантомов можно набрать и насколько все они сочетаются. Вот Пушкин в России самый великий поэт, не потому что он там хорошие стихи написал — он хорошие написал стихи — но потому что у него больше всего этих фантомов существующих, и они действительно как-то иерархически вкладываются один на другой» (СС4, с. 214).
Пригов считал, что Пушкин в долгу перед ним, потому что он умножил количество фантомов, обозначавшихся этим именем и приговскими усилиями еще более утративших связь с референцией. Эта мультипликация фантомов вводит Пушкина одновременно в область теологии и советской культуры, от нее неотличимой. В ином месте Пригов признавался: «Я исходил из того, что любой язык может стать советской властью. Я неожиданно для себя это понял буквально по одной фразе (не помню кому она принадлежит): „Сталин — это Пушкин сегодня“» (ПГ, с. 95).
Метаморфозы имени часто разворачиваются у Пригова между двумя полюсами — демоническим и ангельским. И демоны, и ангелы — фантомные, неистинные имена, но именно они создают полюса безреферентных трансформаций. Пригов описывает текст, как если бы его раздирали между собой демоны и ангелы. Ангелы влекут его к абсолютно неслышимому и непроизносимому пению, демоны — к неартикулируемому скрежету, рыку и реву. Оба полюса выводят текст за пределы семантики, и в этом смысле они родственны. Но тематически они воспроизводят два полюса метаморфозы — прекрасной юной пары и зловещего волка, вредителя и санитара. В 1989 г. Пригов писал в предуведомлении к сборнику «Демоны и ангелы Текста»:
«Чуяли ли вы (о, конечно! конечно чуяли! кто не чуял!? — нет такого), как под тонкой и жесткой корочкой стиха пузырится вечно что-то, пытаясь разорвать ее зубами, вспучит спиной своей бугристой пупырчатой! Это и есть демоны текста, внаружу [sic!] выйти пытающиеся…» (СПКРВ, с. 191).
Демон текста буквально прорывается сквозь текстовую кожу, как волк-оборотень — сквозь тело человека:
«Но тут же бросаются им наперерез белые ангелы текста, выхватывая из их зубов слова в их предначертанной целости, и распевают как имена, с другими неспутываемые и ни в какие, кроме равенства, возможной единовременности и разной слышимости звучания, отношения не вступающие» (СПКРВ, с. 191).
В ином месте Пригов описывает единовременность звучания «чеховских разговоров лошадей свифтовских» (выполняющих роль демонов) и ангельского пения:
«<…> треском, воем, ором, шумом, громом заглушить пытается враг наш в умах наших пение ангелов наших, но поскольку он не слышит, как поют ангелы, а ангелы все слышат и знают и видят и ведают, то промахивается враг наш, ангелы же спокойно уходят от него и поют поверх всех этих дикостей, отвратительностей и немыслимостей» (СПКРВ, с. 176).
Эта одновременность двух текстов, которые трудно отличить один от другого и которые дифференцируются только в процессе взаимного движения, придает всей текстовой метаморфозе особый характер. Речь идет именно не о последовательном движении от одного полюса к другому, но об их взаимной дифференциации в рамках синхронности. В 1992 г., когда интерес Пригова к метаморфозам достиг своеобразного пика, он написал «Предуведомление к сборнику „Обратимые полуметаморфозы“», которое имеет смысл привести здесь целиком:
«Обратимость полуметаморфоз является свидетельством некой потери классически понимаемого (как положительного) иммунитета, фазовости перехода и его обратимости. Ну, наше время, известно, гомогенизирует пространства (социальные, экономические, информационные, культурные и пр.) посредством обживания, конституирования и интенсифицирования манипулятивно-коммуникационной сферы, так что метаморфозы в пределах аритикуляционной зоны (раньше мыслившейся как истинно соотносящаяся с референтной зоной) становятся все более жестовой практикой, сами по себе потеряв обязательное соотнесение с привычными референтами, но просто включая их в ареал возможных корреляций и мерцающего контекста. В то же время языковая практика, если и не порождает новые референтные сущности, то во всяком случае обнаруживает некоторые иные (вернее, иное), либо новые связи между привычными, либо просто переносит акцентацию» (СПКРВ, с. 237).
«Обратимость полуметаморфозы» — это приговский термин, выражающий процесс дифференциации, который завершается в точке своего начала («обратимость», «полу»), в результате чего в идентичность вписывается инаковость. Кэролайн Уокер Байнум, изучавшая средневековое понимание феномена «оборотня», предложила различать два типа изменений: «изменение-замену» и «изменение-эволюцию». Первое имеет резкий радикальный характер и имеет место, например, при трансмутации материалов в алхимии или в евхаристии, второе имеет характер медленного органического изменения[16]. Приговские вервольфы и полуметаморфозы в принципе не могут описываться в подобных терминах. В них не происходит подмены одной идентичности другой. И это отсутствие полной метаморфозы связано с особым пониманием времени, которое выражается в исчезновении «фазовости перехода». Фазовость в данном случае отсылает к «расхожему пониманию времени», о котором писал Хайдеггер, возводя его к Аристотелю. Тот, как известно, представлял себе время как последовательность моментов «теперь»: «Время подает себя ближайшим образом как непрерывная череда теперь»[17]. Эти теперь, моменты наличия, присутствия, моменты настоящего и являются носителями фаз метаморфозы. И в качестве фаз эти теперь связаны с идентичностью вещей. Хайдеггер замечал: «Хотя отчетливо не говорится, что теперь наличны подобно вещам, все же онтологически они „увидены“ в горизонте идеи наличности»[18]. Пригов пишет о том, что ранее метаморфоза мыслилась в пределах зоны, в которой происходила артикуляция фаз и вещей, то есть чего-то относящегося к референтному миру. Но по мере распада референциальных связей сами фазы времени (соотносимые с моментами присутствия, то есть, в конечном счете, с вещами) утрачивают смысл. Артикуляция логоса и мира вещей распадается, уступая место чистому жесту, сущность которого сводится исключительно к внутренней дифференциации включенных в движение масс. Эту дифференциацию Пригов называет «акцентацией», или перераспределением «возможных корреляций и мерцающего контекста». Иными словами, подлинной метаморфозы не происходит, но внутри некоторой неопределенности начинается процесс «жизни», меняются акценты, устанавливаются новые связи. Исходное дифференцируется, тем самым генерируя инаковость внутри себя.
Вся эта проблематика в конечном счете связана с артикуляцией пространства и времени. Нечто представимое, видимое (а Пригов говорил, что создает «имиджи», в том числе и имиджи как авторские маски) здесь непосредственно связано с формой временного развертывания. Отношение пространства и времени издавна артикулируется вокруг понятий линии и точки. Аристотелевский момент «теперь» подобен пространственной точке. Гегель писал о том, что «пространство есть непосредственное, налично существующее количество, в котором все остается устойчиво существовать, и даже граница носит характер устойчивого существования. В этом заключается недостаток пространства»[19]. Эта разграниченность и устойчивость пространства и не допускает метаморфоз. Это внутреннее противоречие пространства снимается во времени, которое, согласно Гегелю, буквально возникает из пространства в качестве диалектического снятия этого противоречия. Снятие этого противоречия уже заключено в точке, которая является конституирующим элементом пространства, но ему не принадлежит, так как не обладает размером: «Время и есть наличное бытие этого постоянного снятия; во времени, следовательно, точка обладает действительностью. <…> Истиной пространства является время; так пространство становится временем. Таким образом, не мы переходим к времени, а само пространство переходит в него»[20]. Только во времени, идентифицируясь с моментом «теперь», точка приобретает действительность.
Пригов по образованию был художником, он много работал в области пластических искусств, категория пространства постоянно занимала его. «Я пишу не отдельные стихи. Я пишу поэтическое пространство», — заявлял он (СПКРВ, с. 47). Я, впрочем, уже приводил его высказывание, где он выражал неудовлетворенность чистой пространственностью. Повторю его: «В стихах же динамика существует как воплощенная жизнь, а графический момент является хоть и закономерным, но побочным моментом закономерностей иного порядка». Графический элемент слишком укоренен в разграниченности и устойчивости, в которых Гегель видел недостаток пространства. В графическом поле Пригова поэтому особенно интересовали точки и линии, которые проходят и маркируют эти точки. В точке, совершенно как у Гегеля, у Пригова осуществляется артикуляция пространства и времени, диалектическое снятие одного другим, или, как выражался Гегель, обнаружение времени как «истины пространства». В 1978 г. Пригов писал:
«Темой этого сборника („Болевые точки“. — М.Я.) является ситуативность. Но вместо описаний ситуаций и положений я попытался отыскать их, как бы это выразить — болевые точки <…>. Некоторые фразы являются пограничными ключами перевода из одной ситуации в другую. <…> Слова „в этой жизни“ стоят на границе между реальным и загробным» (СПКРВ, с. 73).
Точка позволяет осуществить артикуляцию одного пласта, одного пространства другим. Здесь кроется ключ к метаморфозе. В другом тексте Пригов писал о том, что его занимает дифференциация «столь близкого, загадочного, пугающего и наполненного неясными и бескачественными значениями понятия времени» (СПКРВ, с. 79). И в этой дифференциации принципиальную роль также играет «точка в поле времени, способствующая его кристаллизации» (Там же).
И хотя точка сохраняет у Пригова существенное значение, например в его романах, она сама в каком-то смысле постепенно подвергается снятию, так как жизнь и «обратимые полуметаморфозы» с их сложным взаимопроникновением прошлого и будущего в принципе не могут быть артикулированы в категориях точки и линии. Хайдеггер в свое время подверг критике гегелевское понятие времени и его артикуляцию вокруг точки, показав, что такое понимание времени исключает его экстатический характер, выход из себя, и потому не способно оперировать понятием будущего. Поскольку оно возникает из отрицания противоречий, заключенных в пространстве, оно у Гегеля не более чем «абстрактная негативность»[21]. Пригов сам выходит за параметры точки как чистой негативности, как абстрактного отрицания пространства, когда пишет, что «время является не просто континуумом, но имеет и бытийное существование» (СПКРВ, с. 79).
Проблему неопределенности смыслов, «жизни» и метаморфозы я предлагаю рассмотреть на примере одного текста, специально артикулирующего эту проблематику, — «Пятьдесят капелек крови». Текст этот был опубликован в 1993 г. и прямо примыкает к произведениям 1992 г., сосредоточенных на проблематике метаморфозы, — в частности, к «Оборотню». Предуведомление к «Пятидесяти капелькам» декларирует неопределенность смыслов, вытекающую из совершенной жанровой неопределенности текста:
«Как можно заметить, этот опус находится на пересечении стилистик японской хайху, ассоциативной поэзии, традиции афоризмов и поп-артистских и концептуальных текстов.
Правда, в отличие от хайху, всякое указание на конкретный предмет или же переживание сей же час стремится стать простым высказыванием, просто языковым актом. В отличие от традиции афоризмов, автор не следует принципу экономии и дидактической осмысленности, если и не манифестируемой, то предположенной как осмысляющая интенция.
Ассоциативной же поэзии не соответствует столь жесткая предумышленность, почти каноническая форма (3–4 строки) с назойливо повторяющейся присказкой о капельке крови.
От поп-арта и соцарта, а также концептуальных текстов эти отличает стремление апеллировать к какому-никакому реальному визуальному и эмоциональному опыту, а также к прямому поэтическому жесту.
В общем, всего понемножку, и ничего, к сожалению, в целом»[22].
Текст, таким образом, заявляет о себе как совершенно неопределенная смесь несочетаемых стилевых и жанровых черт, подрывающая возможность однозначного его понимания. В произведение включены 44 коротких текста. В книге, подготовленной Приговым, эти тексты перемежаются пятнадцатью графическими листами, которые соотнесены с корпусом «Пятидесяти капелек». Графические листы, как я уже говорил, не обладают такой же способностью к жизни, как слово в стихах, но они образуют важный слой отчужденного смысла, который позволяет стихам обретать дополнительную жизнь. Через все тексты и листы графики проходит один мотив — крови, или «капелек крови», как уточняет Пригов.
Связь с хайку в текстах — наиболее бросающаяся в глаза. В некоторых случаях она заявлена тематически:
Ветка сакуры на листе японского календаря Капелька крови и слезинка на фарфоровом блюдце Громовой иероглиф, выпадающий Из свинцовой тучи Рим должен быть разрушен! (ПКК, с. 56)Ветка сакуры на календаре — указание на определенный тип темпоральности, характерный для дальневосточной поэтики, в частности для хайку. Марсель Гране был первым, кто заметил, что китайцы не знают понятия времени в европейском смысле, то есть как автономной от мира прогрессии, в которой один момент сменяет другой. Гране писал о Китае:
«Ни один философ не подумал о том, чтобы помыслить Время в виде монотонной длительности, составленной из качественно однородных моментов, следующих друг за другом в единообразном движении. Ни один не видел интереса в том, чтобы рассматривать Пространство как простую протяженность, возникающую от соположения однородных элементов, как протяженность, каждая часть которой может быть наложена на другую. Все предпочитали видеть во Времени совокупность периодов (ères), времен года и эпох, а в Пространстве комплекс областей (domaines), климатов и частей света (orients)»[23].
Время года на Дальнем Востоке выражает движение времени, которое не воспринимается как изолированная длительность, но как совокупность процессов, движений, изменений. Франсуа Жюлльен пишет о том, что для китайца время года «ткет сеть сходств, оно осуществляет коммуникацию между различными аспектами внутри одного и того же качества»[24]. Время года — это всегда состояние изменения, особенно очевидное весной и осенью, — изменения, подчиненного взаимодействию инь и ян. Это изменение понималось китайцами как «жизнь». Американский исследователь писал:
«Что в пейзаже указывает на качество наполняющей его жизни? Цзин Хао в своих „Шести основах живописи“ назвал это цзин (ошибочно переводимым как вид или пейзаж). Цель цзин заключалась в том, чтобы „придать изображению атмосферу сезона, явить таинственное в нем и через это установить истину“»[25].
В улавливании цзин существенную роль играло изображение цветов: «Цикл роста, цветения и увядания цветка иллюстрирует действие инь и ян; так живопись цветка на определенной стадии развития описывает либо его аспекты ян либо инь»[26]. В трактате Чжу-жэня «Альбом живописи сливы мэй [мастера] Хуа-гуана» (XII в.) разъясняется, что в саму структуру ветки сливы вписан процесс взаимодействия ян и инь:
«В цветах мэйхуа заключен образ-символ — сян. Это и есть, по сути дела, их дух, сущность — ци. Цветы построены по принципу ян, как и Небо, тогда как деревья, их стволы и ветви — по принципу инь, как и Земля. <…> Тычинки тоже полны символики. Когда сливы в полном цвету, это означает стадию [развития], называемую лаоян — „возмужалый Ян“. [Если] распустившиеся цветы до первой стадии увядания — тычинок семь. Когда же цветы увядают, они символизируют лаоинь, и тогда тычинок остается шесть. Полураскрывшиеся цветы символизируют шаоян — „меньший Ян“, и тычинок тогда три. Цветы, частично увядшие, олицетворяют шаоинь — „меньшую Инь“, и тычинок тогда четыре»[27].
Цветок оказывается диаграммой времени, вписанной в процесс его цветения и увядания. Когда Пригов в самом начале говорит о «ветке сакуры на листе японского календаря», он соединяет две взаимосвязанные манифестации времени — время года и цветок. Вторая строка, однако, уже движется в ином направлении: «Капелька крови и слезинка на фарфоровом блюдце». Фарфор обладает сильной дальневосточной коннотацией. Капли встречаются в хайку, чаще всего это капли дождя или росы:
Как быстро летит луна! На неподвижных ветках Повисли капли дождя[28].Иногда капли косвенно сопоставляются со слезами. Например, у Басё:
Росинки на горных розах. Как печальны лица сейчас У цветов полевой сурепки[29].Иногда слезы появляются в контексте увядания цветов и прямо не связываются с каплями воды:
Цветы увяли. Сыплются, падают семена, Как будто слезы[30].Но капли крови — необычный для хайку мотив. Особенно странно капли крови и слез возникают в тексте на фоне последующей строки:
Громовой иероглиф, выпадающий Из свинцовой тучи.Дело в том, что капли чаще всего являют себя в контексте миновавшего дождя, как временной след последнего. В одном из хайку, например, Басё писал:
Нынче выпал ясный день. Но откуда брызжут капли? В небе облака клочок[31].Это облако вписано в ясный день, как инь в ян, оно знаменует движение времени, и дождь вместе с этим изменением вносит меланхолию в ясность. У Пригова же капли на блюдце предшествуют грозе и заявляют о своей непричастности к ней. К тому же молния сама вдруг дистанцируется от движения времени как изменения погоды, превращаясь в письменный знак, иероглиф, движение кисти по бумаге. Иероглиф выворачивает природу молнии из вспышки в графему, зафиксированную на бумаге и не знающую времени. Молния эта утрачивает связь с временем, которая характерна для хайку, где молния обычно возникает в контексте неподвижности, обездвиженности, как некий прорыв, сдвиг:
Молния в тьме ночной. Озера гладь водяная Искрами вспыхнула вдруг[32].Или:
Молнии блеск! Как будто вдруг на его лице Колыхнулся ковыль[33].Неожиданная четвертая строка как будто полностью выпадает из контекста хайку: «Рим должен быть разрушен!» Эта строка — искаженный афоризм, в который вдруг перерастает хайку. Молния как будто сбивает афоризм, радикально меняя его смысл. Не Карфаген должен быть разрушен Римом, как того упрямо требовал Катон Старший, но прямо наоборот. Временная инверсия тянет за собой инверсию семантическую, которая ретроспективно позволяет читать молнию как проявление гневающегося громовержца Юпитера. Дюмезиль прямо связывает громовержский аспект Юпитера и его способность посылать пророческие знаки — auspicia — в виде, например, птиц, по которым гадали авгуры[34]. Высвечивая небо, вспышка молнии вызывает прозрение будущего, являемого в знаках.
Марк-Ален Уакнин обратил внимание на семантику в библейском иврите слова zag, означавшего виноградную шкурку, прозрачность которой позволила использовать это слово для обозначения стекла и его производных. От этого корня производились слова со значением ‘прояснять’ ‘делать прозрачным’. Уакнин поясняет:
«Таким образом, мы открываем возможную этимологию слова zigzag, восходящую к арамейскому zigzèg — „прояснять“. Это образ молнии в черной ночи, указывающей путь заблудившемуся страннику. <…> Значение света, высвечивающего вещи, вплоть до того, что из него возникает ангел, носящий имя Zagzag’el»[35].
Существенно и то, что зигзаг, пророчески проясняющий путь, имеет форму не прямой линии, но ломаной кривой, в которой движение вперед прерывается движением в сторону и даже назад. Уакнин ассоциирует зигзаг с риторической фигурой зевгмы (zeugma[36]), позволяющей связывать неким общим термином два совершенно разнородных понятия. Примером зевгмы может послужить, скажем, такая фраза: «Я потерял рассудок и сумку». И действительно, рассматриваемый короткий текст Пригова, как и практически все тексты «Пятидесяти капелек крови», имеет зевгматический характер. В них происходит насильственное связывание совершенно разнородных реалий — сакуры и Рима, например. И связь эта основана на глубокой трансформации темпоральности: от темпоральности хайку — к темпоральности афоризма и пророчества в едином, обратимом вспять, зигзагообразном движении.
Эта обратимость времен в пророчестве отсылает нас к катренам Нострадамуса, который часто выдавал слегка замаскированные сведения о событиях прошлого за пророчества. О его катренах принято было говорить как о «ретроактивных пророчествах». Как показал уже упомянутый Дюмезиль, один из катренов (V 6) является прямым пересказом эпизода из Тита Ливия, когда Нума превращается жрецом-авгуром в царя, преемника Ромула[37]. К числу ретроактивных пророчеств можно отнести и описание разграбления Рима имперской армией, случившееся примерно за тридцать лет до первого издания «Центурий» и которое фигурировало в них как пророчество будущего. Упоминание Рима в рассматриваемом тексте Пригова как будто указывает в этом направлении.
Я бы не упоминал Нострадамуса, если бы в «Пятидесяти капельках» не было пародийного «астрологического» текста, напоминающего катрены последнего и прямо вводящего тему гороскопа как пророчества:
Затягивающиеся белизной глаза Умирающего ягненка Поздно обнаружившееся смещение Марса в сторону Лебедя Но и не капелькой крови единой ведь Конечно нет. (ПКК, с. 43)Умирающий ягненок — это, конечно, классический топос принесенного в жертву агнца божьего, совмещенный тут с пародийной астрологией.
У Нострадамуса можно найти множество астрологических элементов сходного типа, помещенных в сознательно темный гномический контекст. Например (II 48):
La grande copie qui passera les monts. Saturne en l’Arq tournant du poisson Mars: Venins Cachés sous tête de saumons, Leur chef pendu à fil de polemars[38].Принятый перевод этого странного текста гласит:
Великая сила перейдет горы. Сатурн в Стрельце, Марс отворачивается от рыбы[39]: Яд спрятан под головами лосося, Их начальник повешен на веревке командира.Сложность понимания этого текста во многом связана с его искаженной макароничностью. Сила, армия из первой строки — это «copie», что по-французски значит «копия». Но слово это является искаженным латинским «copia» — армия[40]. То же самое со странными словами Arq и polemars. Первое слово — сокращение латинского для созвездия Стрельца — Arquitenens, а второе — сокращение латинского polemarchos, «того, кто ведет войну». Таким образом в живой язык вклиниваются элементы мертвого языка, прибавляя языковое смешение к смешению времен.
Но главное заключается в том, что этот странный переход от прошлого в будущее, фиксируемый в астрологических знаках, которые одновременно осуществляют этот переход, позволяет соединять в коротком тексте совершенно разнородные элементы, расположенные на разных хронологических и причинных плоскостях. «Абсурдность» текстов Пригова лежит в той же области ускользающего от нас причинно-хронологического единства. Эудженио Гарин писал о том, что структура ренессансной астрологии основана на навязчивой теме смены эпох: «renovatio (обновления) и translatio (превращения)»[41]. Темнота описаний этой смены эпох отсылает к самому процессу превращения как процессу темпоральному.
Показательно между тем, какое место у Нострадамуса занимает топос крови, встречающийся с неослабевающим постоянством. Речь, например, может идти о потоках крови, в которых плывут люди, или о кровавом дожде. Есть и катрен (V 62), в котором кровавый дождь соединен с пророчеством о катастрофе в Риме:
Sur les rochers sang on verra pleuvoir, Sol Orient, Saturne Occidental: Près d’Orgon guerre, à Rome grand mal voire, Nefs parfondrees, et pris le Tridental[42]. Будет видно, как на скалы идет кровавый дождь, Солнце на Востоке, Сатурн на Западе: Война под Оргоном, в Риме будет видно великое зло, Корабли пущены на дно и взяты Трезубцем.Кровь у Пригова, как и у Нострадамуса, — оператор трансформации Модальности текста. Из физически фиксируемых капель, подобных каплям росы или дождя у Басё, кровь становится символом, в котором поглощается неустойчивая темпоральность становления и исчезающего момента (упадет, не упадет, падение капли как явление моментальности, исчезающего «теперь»).
Капля крови — это пространственная фиксация точки, или, вернее, точка артикуляции времени и пространства, как у Гегеля. Именно через каплю происходит переход мгновения в вечность, прошлого в будущее и т. д. В этом контексте особенно значимы графические листы, сопровождающие приговские тексты. Они в основном следуют единой модели. Пригов брал некое сделанное до него и тривиализированное культурой изображение и добавлял в него элементы, например большой черный глаз или надпись, а сверху изображал капли и струйки крови, выполненные ярко-алой краской (иногда, впрочем, кровь выполнена черным). Эту операцию он проделал, например, с двумя картинами Левитана: «Весна. Большая вода» и «Над вечным покоем» (из которой использована только центральная часть). Любопытно, конечно, что одна картина фиксирует время года, а вторая апеллирует к вечности. К левитановской «Большой воде» приделаны парящие в черных пятнах слова «Сука» и «Нет», из которых стекают черные струйки крови. Существенно также и то, что на многих листах вверху расположен алый кружок — как бы точка генерации всей репрезентации. Этот кружок может быть звездой, или планетой, или просто отмеченной точкой пространства. Краска, обозначающая кровь, откровенно наложена поверх изображений и не принадлежит пространству репрезентации. Она располагается на плоскости самого листа, а не внутри изображенного на нем мира. И в этом смысле она напоминает тексты — стихи, подписи и датировки, например, на японских гравюрах. Здесь в «пятнах» — картушах и печатях, часто красного цвета — размещалась информация о дате производства листа, его авторе, печатнике, номере листа в серии, название серии и т. д. В цензорских печатях в порядке датировки часто помещался условный знак зодиака — тигр, заяц, крыса, змея и т. д.[43]
Изображение крови на листах не принадлежит миру, репрезентированному «внутри» листа, но накладывается на него как некий внешний слой, как жест, обращенный к листу извне, в то время как само явление крови говорит о чем-то внутреннем, вытекающем изнутри организма. В этом смысле кровь действует именно как зевгма, как движение между разными модальностями и пространствами, соединяющее их. Важно также и то, что Пригов активно использует чрезвычайно богатую символику крови. В «Пятидесяти капельках» одна и та же капелька — это священная кровь Христа на иконе, кровь, оставленная вампиром на шее жертвы, менструальная кровь «на краю унитаза», кровь безвинно убиенного мученика Дмитрия и т. д. Капля, которая фиксирует мгновение перед отрывом и падением, вся находящаяся во временном экстазе, символизируется и вводит вневременность в текст. Главным символическим значением крови, естественно, является жизнь. Пиеро Кампорези назвал свою книгу о символизме крови «Сок жизни». Напомню, что Дионисий считал жизнь движением от сверхсущей Причины (своего рода Логоса молчания) к разнообразию имен. Но именно это мы и наблюдаем в неустойчивой феноменологии крови у Пригова, где кровь безостановочно меняет свои «имена» в широком смысле этого слова. Кровь, постоянно зевгматически соединяющая несоединимое и меняющая в этом жесте «имена», — это прежде всего знак оживления или оживания. И, как обычно у Пригова, пролитая кровь — знак насилия и гибели — становится в приложении к текстам носителем странной жизни, «соввитализма». Не случайно, конечно, кровь накладывается на давно канонизированные, так сказать, умершие произведения искусства. Пригов «анимировал» кровью картинки музеев и музейных экспозиций. Несколько раз в книге «Пятьдесят капелек» кровь наложена на изображения знаменитых скульптур. Книга открывается изображением Венеры работы Антонио Кановы. К плечу Венеры Пригов пририсовал закрашенный красным шприц, от иглы которого по телу богини стекают струйки алой крови. Пригов впрыскивает кровь из шприца не только в Венеру, но и в «Девушку, читающую письмо» Вермеера. Это впрыскивание крови в статую прямо читается как впрыскивание жизни. Но, разумеется, шприц с кровью тянет за собой и ассоциации со СПИДом.
В англоязычном издании «Пятидесяти капелек», почти не содержащем графических листов, фигурирует отсутствующий в русском издании «вымазанный кровью» бюст А. М. Голицына (1775) работы Ф. И. Шубина. Кровь наложена Приговым и на известную скульптуру Н. А. Андреева «Ленин-вождь». Скульптура, конечно, в наиболее полной мере выражает идею фетиша, о котором упоминал Моисей Мендельсон в связи с письмом. У андреевского Ленина по телу от глаза течет черная кровь-слезы, за его головой виден большой глаз (Бога?), из которого вытекают алые слезы-кровь. Это смешение слез и крови происходит во множестве работ Пригова, особенно в связи с мотивом большого парящего «божьего» ока, из которого текут алые слезы. Слезы и кровь — это именно «имена», в которых являет себя сверхсущая Причина Дионисия. В одном из текстов Пригов вспоминает, как он якобы плакал в дни кончины Сталина: «Но я плакал и чувствую ответственность за эти слезы и в том смысле, что они действительны — слезы, и в том, что для кого-то они, пусть и не прямо, а опосредованно обернулись кровью» (СПКРВ, с. 97). Превращая слезы в кровь в контексте ленинского образа, Пригов прямо работает с обратимостью символа как обратимостью имен.
В книге «Рим, Неаполь и Венеция» Стендаль описывает глубокий шок, пережитый им от созерцания фресок Джотто в Санта-Кроче[44]. Выйдя из собора, Стендаль садится на ступени и читает стихи своего друга Уго Фосколо (из «Гробниц»):
Лишь памятник узрел я, Где прах того великого почиет, Что, умеряя скипетры владык, Срывал с них лавр и раскрывал народам, Откуда слезы и откуда кровь… (Di che lagrime grondi e di che sangue)[45].Это разделение крови и слез попадает в контекст надгробных статуй и художественного экстаза, смешивающего искусство и жизнь, или, вернее, наделяющего искусство жизнью. Пригов играет с этой художественной экстатикой[46], которая осваивается им как чисто языковая процедура, мешающая окончательному разделению имен, которое в стихах Фосколо осуществляет смерть. И эта блокировка разделения имен — знак победы над смертью, знак жизни. В одном из текстов Пригов специально обращается к чрезвычайному эстетическому сентиментализму как источнику читательских и писательских слез:
«Но понял я также, что это некие позывные, вызывающие из сердца авторского и читательского глубоко личные слезы, которые, разливаясь неложно, блестят на всех изломах этого, почти канонического, орнамента, этого знака „Лирического“, который не подглядывает картинки жизни, но сам диктует жизни, какой ей быть» (СПКРВ, с. 101).
Слезы тут — пространственное воплощение стихии лирического, которая соединяет все разнообразие описываемых объектов, проливая некий унифицирующий блеск на «все изломы» «орнамента». И эта унификация через слезы, как и через кровь, не есть выражение некой внешней жизни, но творение новой жизни через искусство — соввитализм, подобный соцреализму.
В мифе о Пигмалионе, рассказанном Овидием, кровь оказывается медиатором между жизнью и смертью. Миф вводится историей Пропетид, отрицавших божественность Венеры и за это превращенных последней в публичных женщин. Их превращение в продажных дев у Овидия сопровождается утратой стыда, а следовательно, и крови в щеках, вызывающей румянец стыда. Это исчезновение крови и повеление — только первый этап трансформации Пропетид в камень:
utque pudor cessit sanguisque induruit oris, in rigidum parvo silicem discrimine versae. (10, 241–242)«Когда их стыд пропал, и кровь их лиц отвердела, они с небольшими изменениями были превращены в твердый камень»[47]. Эта утрата жизни Пропетидами рифмуется со сценой оживания Галатеи, чья плоть сначала становится мягкой как воск, утрачивает белизну слоновой кости, из которой она изваяна, а затем краснеет: «Дева, краснеет она…»[48] (10, 293). Виктор Стойкита заметил, что Овидий играет тут словами: «краснеет» — erubuit — и eburnea — дева из слоновой кости, ebur — слоновая кость, то есть белизна[49]. Метаморфоза, оживание оказывается игрой слов, сменой имен. Здесь мы имеем динамику слоев в движении Логоса как «воплощенной жизни», о которой писал Пригов. Напомню, между прочим, что оживление Галатеи инициировано Венерой и возникает в ответ на молитвы Пигмалиона, обращенные к богине любви. Помимо прочих символических обертонов кровь традиционно символизирует любовь, эрос, играющие принципиальную роль в оживлении статуи. Существенно, что первая статуя в «Пятидесяти капельках», которую покрывает кровью Пригов, это именно богиня любви, Венера.
Важно отметить и то, что кровь по-своему связана с временем. Кампорези поместил в своей книге о крови главу «Живые часы», в которой показывается, в какой степени работа сердца и движение крови понимались как центральный животворящий механизм человеческого тела[50]. Веками считалось, что юношеская или детская, а также «очищенная» кровь могут обратить время вспять и привести к омоложению[51]. Вечная молодость вампиров связана с этими суевериями. В романе «Живите в Москве» вампироподобный Ленин, будучи уже трупом в мавзолее, начинает безостановочно молодеть, доживая «до конца исторического зона»[52]. Завершение «зона» совпадает в романе с моментом, когда, двигаясь в обратном направлении времени, Ленин просто исчезает в результате «стремительного, немыслимого омоложения, вплоть до первичного небытия»[53].
Это движение между смертью и жизнью, с которым связана кровь, как и движение временных эонов, существенны для всей стратегии зевгмы и постоянной смены имен в некой неопределенности. И движение это в рассматриваемом цикле связано с дальневосточной поэтикой, особенно с хайку. Хайку строятся на переживании момента, вписанного в сезон, в движение времени. Ролан Барт считал, что «хайку движется по направлению к интенсивной индивидуации без компромисса с всеобщностью, несмотря, но и благодаря коду времен года, иными словами, жульничая с законом пережитого мгновения Мгновением, схваченным кодом (времени года, погоды) <…>»[54]. Поэтому Барт считал, что хайку основаны на вспышке личной непроизвольной памяти, в которой фиксируется пережитый опыт тела. Этот опыт связан с переживанием жары или холода. Отсюда странное соединение мгновенности вспышки памяти и протяженности ощущения времени года или погоды, которые не только длительны, но и кодифицированы.
В «Пятидесяти капельках» фиксация погоды, времени года, чаще всего зимы, восходящая к хайку, присутствует во множестве текстов:
Морозный узор на стекле Капелька крови на пальце мальчика… (ПКК, с. 9). Девушка по имени Анни Финн Выпадающая с мокрым снегом одна единственная капелька крови… (ПКК, с. 23). Ледяная водка меж оконных рам… (ПКК, с. 35). Испытание снегом и копотью Внутри капельки крови таящееся существо… (ПКК, с. 51). Дворник, сметающий капельку крови с заснеженного тротуара (ПКК, с. 60).Но всюду этот связанный с японской эстетикой опыт времени года почти тут же переходит в совершенно иную темпоральность, неопределенную темпоральность символического. В романе «Только моя Япония» Пригов объяснял, почему это растворение во времени года, эта темпоральность созерцания, когда мгновение связано с кодами погоды, его не устраивает: «Да, у японцев, — писал он, — сохранилось еще архаическое чувство и привычка визуальной созерцательности, когда длительность наблюдения входила в состав эстетики производства красоты и ее восприятия»[55]. Эта длительность восприятия — как раз то, что Барт относил к вспышке непроизвольной памяти, в которой длительность преобразовывалась в мгновение. И далее Пригов объяснял, что «красота объекта не может быть <…> понята созерцательным опытом и усилием одного поколения — слишком малое, ограниченное число смыслов вчитывается в произведения, чтобы они достигли истинного величия»[56]. В контексте приговского «витализма» созерцание ущербно потому, что не позволяет выйти за узкий набор смыслов, которые аккумулируются в течение времени созерцания. В том же романе Пригов описывает, как постепенно распадается темпоральность искусства, связанного с созерцанием и длительностью, как исчезает глубина культурной памяти, в которой аккумулируются смыслы:
«<…> горизонт реального и актуального времени стремительно сужается, пока окончательно в ближайшем будущем не сожмется до сенсуально-рефлективной точки. Потом будет другая точка, отделенная от предыдущей вакуумом, не передающим никакой информации и не пересекаемым траекторией ни одного длящегося ощущения. Интересный род вечности. Вернее, все-таки пока еще не реализованной, но лишь подступающей. Эдакие самозамкнутые зоны, переступающие катастрофическую пропасть, разделяющую их только неведомым трансгрессивным способом, при котором во многом утрачивается как сам объем информации, так и ее структурно-иерархические параметры»[57].
Ленин, молодеющий до исчезновения в небытии, сжимается как раз в такую точку. Эон японского времени хайку и эон пророчества о гибели Рима соединены иероглифом-молнией, этим скачком через пропасть, не знающим ни континуума, ни иерархий. И это смысловое движение характеризует, согласно Пригову, современность в отличие от темпоральности созерцания минувших эпох.
Темпоральность созерцания погружена в континуум, который, согласно Аристотелю и Гегелю, строится на бесконечной прогрессии следующих один за другим моментов. Эта прогрессия является основой каузальности, так как один момент примыкает к другому и влечет его за собой. Из такого понимания времени возникает идея необходимости. Если же время понимается как абсолютно непредсказуемая случайная встреча двух совершенно автономных эонов, которые вдруг соприкасаются в своем движении в какой-то точке, каузальность и прогрессия моментов выводятся за пределы темпоральности. Мы сталкиваемся здесь с временем, характерным для греческого атомизма. Согласно Эпикуру, до возникновения мира и времени атомы падали в пространстве. Некая непредсказуемая сила отклоняла падающие атомы от вертикали (это отклонение называлось клинаменом) и приводила к встрече двух атомов. Из этих встреч и возник мир, в котором мы живем. Альтюссер, работавший незадолго до своей смерти над альтернативной моделью материализма, которую он называл «материализмом встречи», придавал огромное значение тому факту, что в мире клинамена первично событие встречи, из которого возникает мир и необходимость. Не событие тут возникает из логики прогрессии моментов, но сама эта логика подчиняется случайной встрече. Альтюссер писал, что происходит «подчинение необходимости случайности, и факта форм, который „придает форму“, эффектам встречи»[58]. Иными словами, факт формы, реальность встречи двух атомов, создающих форму, предшествует всякой логике формообразования.
Капля крови, случайно падающая из одного мира в иной и, соответственно, меняющая смысл при переходе из одного «зона» в другой, создает некое подобие клинамена, который производит совершенно иную, нелинейную темпоральность миров, темпоральность, абсолютно несоотносимую с созерцанием. Само движение крови, пересекающее миры, создает особую темпоральность, возникающую из факта «встречи», столкновения и захватывающую совершенно разнородные, несоотносимые элементы, которые не могут быть объединены через понятие момента. Это случайное время гетерогенного. Антонио Негри пытался описать такого рода темпоральность в категориях кайроса. Кайрос — это момент, но не такой, который расположен среди равноценных моментов на линии бесконечной прогрессии, но момент, «открывающий темпоральность», вроде момента клинамена и встречи двух атомов, с которого «начинается» реальность атомов и мира и, соответственно, реальность времени. Интерес теории кайроса у Негри для меня заключается в том, что он связывает этот творящий момент, инициирующий темпоральность, с языковой активностью, а именно с определенной формой называния, при которой творится вещь и адекватное ей имя.
В классической онтологии наименование атемпорально. Вещь подводится под некое понятие, которое фиксирует в ней неизменность, некую постоянную сущность, выходящую из-под влияния времени. В этом смысле классические понятия оказываются связаны с классической идеей времени, которое понимается как череда атемпоральных моментов. Идентичность, лежащая в основе понятий, предполагает возможность совпадения с собой, взаимоналожения двух вещей в едином пространстве, не знающем ни временных трансформаций, ни момента «здесь и теперь», каким является сингулярный кайрос. Негри считает, что для кайроса характерно не приложение к вещам понятий, но то, что Спиноза называл «общими понятиями» (Notiones Communes), противопоставляя их всеобщим, универсальным и абстрактным понятиям. Такие общие понятия, как, например, «движение», свойственны множеству вещей, но не являются их сущностью: «То, что обще всем вещам <…> и что одинаково находится как в части, так и в целом, не составляет сущности никакой единичной вещи» (часть II, теор. 37)[59], — писал Спиноза. Время и пространство относятся к категории таких «общих понятий», которые являются не абстрактными универсалиями разума, но интуицией самих вещей, возникающей в момент их творения, то есть в момент кайроса. По мнению Спинозы, с помощью общих понятий мы способны прийти к адекватному знанию и всеобщности, избегая пустой абстрактности. Время — это «общее понятие», которое наш разум и культурная традиция превратили в пустую понятийную абстракцию[60]. Общее понятие, соединяющееся в кайросе с событием творения и явлением вещи, сохраняет в себе связь с сингулярностью и индивидуальностью вещей. Общие понятия, или «общие имена», о которых говорит Негри, имеют ту принципиальную особенность, что они прямо зависят от той «стрелы времени», которую производит, «выпускает» кайрос. Само общее понятие времени оказывается таким именем для темпоральности, инициируемой кайросом. Это имя «времени» не есть метафизическая абстракция — это адекватное выражение темпоральности кайроса. Негри писал:
«По своему определению кайрос распространяется в грядущее. Продление бытия, таким образом, несет с собой установление общего имени в событии кайроса, открытого грядущему, которое мы называем „воображением“. Воображение — это не фантазия (которая, как мы увидим ниже, есть модальность памяти). Воображение — это лингвистический жест, а следовательно, общий жест; жест, который набрасывает сеть на грядущее, для того чтобы постичь его, сконструировать его, организовать его своей властью»[61].
В таком понимании называния чрезвычайно существенно то, что ему не предшествует никакая наличествующая абстракция, никакое понятие. Само понятие приобретает смысл, вписываясь из момента кайроса в открытую им темпоральность. И вписываясь в эту темпоральность, такое «общее имя» начинает прояснять смысл являющейся реальности, одновременно само обретая богатство сингулярно-всеобщего смысла. Негри так писал об «общих понятиях» у Спинозы:
«Знание без промедления толкается вперед к интуиции конкретного, к онтологии определенного. Логическая коммуникация основана на „общих понятиях“, которые не имеют ничего общего с универсальным, но в действительности являются обобщениями номиналистических дефиниций общих свойств тел. В доктрине общих понятий Спиноза разрабатывает позитивный рационализм, противостоящий платонизму и любому реалистическому пониманию всеобщего»[62].
Если вернуться от Негри к Пригову, то мы увидим в лингвистическом жесте последнего много общего с кайротическим событием. Время в «Пятидесяти капельках крови» никогда не строится как пустая абстракция моментов. Оно движется в тексте, пластически трансформируясь вместе с возникающим из описания миром. Но и главная аллегория текста — кровь — не обладает никакой устойчивостью понятия. Витализм Пригова как раз в том и заключается, что понятие крови постоянно трансформируется с движением текста и развертыванием его темпоральности. Это действительно лингвистический жест, в котором кайрос, совпадающий с явлением и падением капли, распространяется в некое длящееся бытие, где «общее имя» крови приобретает особую смысловую пластичность.
Сказанное возвращает нас к приговскому интересу к негативной теологии, Псевдо-Дионисию, Майстеру Экхарту и т. д. Во всех этих случаях речь шла не только о непостижимости Бога, но и о невозможности истинного имени Бога, т. е. трансцендентальной абстракции, понятия, предшествующего времени и опыту. Как недавно заметил Хент Де Врис, «рациональность религиозного и теологического языка внятна только в той мере, в какой она может быть интерпретирована в терминах общего понятия трансцендентности». Общее понятие тут, однако, противоположно спинозовскому и обозначает абстрактную трансцендентальную универсалию, значимость которой как раз и не признавал Дионисий. Напомню, что Пригов утверждал, что «единственно истинное в них (именах. — М.Я.) — это сама динамика развертывания, реализующаяся система порождения, которая может реально различно воплощаться». Иными словами, истинность виталистского лингвистического жеста лежит именно в его кайротичности, в его связи с единичным моментом, развертывании специфической темпоральности. Мы имеем тут дело именно с истинностью «номиналистических дефиниций», противостоящих, согласно Негри, всякому виду платонизма.
Можно связать этот жест и с идеей пластики, которую развивал в своих трудах Гегель, особенно последовательно стремившийся возродить жизнь понятия и духа. В заключении «Феноменологии духа» он писал:
«Время есть само понятие, которое налично есть и представляется сознанию как пустое созерцание; в силу этого дух необходимо является во времени, и является до тех пор во времени, пока не постигает свое чистое понятие, т. е. пока не уничтожает время. Бремя есть внешняя, созерцаемая чистая самость, [т. е.] лишь созерцаемое понятие; когда последнее постигает само себя, оно снимает свою временную форму, постигает созерцание в понятии и есть созерцание, постигнутое и постигающее в понятии»[63].
Дух у Гегеля должен пройти через время, чтобы обрести собственную идентичность, полностью совпасть с собой. Будущее в такой перспективе, как заметила Катрин Малабу, «это просто возможность возвращения к себе самому»[64]. С точки зрения Малабу, возобновившей интерес философского сообщества к понятию «пластичности», пластичность у Гегеля позволяет будущему и времени обрести форму во взаимном диалоге. Будущее — вневременное в такой перспективе — оказывается не моментом времени, но логическим состоянием понятия, в котором последнее приходит к самому себе, снимая время как форму собственного движения, как возвращения к себе. Малабу пишет о том, что диалектика этого движения «пластична» потому, что создает связь между противоположными моментами полной неподвижности (зафиксированности) и пустоты (растворения), а затем соединяет оба в витальности целого, которое, примиряя эти крайности, само является союзом сопротивления (Widerstand) и текучести (Flüssigkeit)[65]. Это движение может принимать форму растворения всеобщего в частном и одновременного движения частного к всеобщему. Время же является прямым продуктом этого пластического процесса. В пластическом дух формирует тело, а тело порождает дух.
В этой гегелевской «пластической» перспективе можно понять особый интерес Пригова к скульптуре, явленный во многих листах, сопровождающих «Пятьдесят капелек». Скульптура — это момент финальной неподвижности, когда понятие совпадает с самим собой «в движении духа». Скульптура преодолевает в себе неоформленность пластического движения, в конце концов снимая само понятие времени. Воплощение духовности в классической греческой скульптуре, по мнению Гегеля, проходит через «устранение того бесформенного, символического, некрасивого и неудавшегося, которое они (греки. — М.Я.) имели перед собой в материале традиции»[66]. Классическая скульптура как бы выдавливает из идеальности своей формы бесформенное. И это выдавливание может пониматься как пластичность и движение времени одновременно. Кровь на статуях у Пригова — это нечто пластически бесформенное, вводящее время и жизнь в сам процесс движения скульптуры к идентичности с собой в фиксации собственного понятия: Афродита, Ленин и т. д.
МОДУС ТРАНЗИТНОСТИ
Тексты Пригова часто блокируют референтность. В качестве примера приведу тексты из цикла «В смысле», которые строятся сразу на нескольких риторических тропах.
Илья лелял Лилию В смысле, весна и расцвет возможностей Борис сбросил брус В смысле, осень и ожидание смерти Димитрий омертвил митру В смысле, все! зима! но что-то теплится[67].Или иной текст из этого же цикла:
Лейла лила алоэ В смысле, Гитлер в Европе Евгений, говно, вагина В смысле, Сталин на Волге Раппорт рапортует в рупор В смысле, Бог в небесах[68].Первая строчка каждой строфы построена на аллитерации. Каждое слово тут связано со следующим по созвучию, но в целом строфа не имеет никакого видимого референта. Вторая строфа предлагает интерпретацию первой, то есть призывает ее читать не как текст с референцией, но как загадочную метафору. Нам предлагают некую радикальную адианоэту, то есть метафору со скрытым смыслом. Но никакой видимой связи между строкой и ее смыслом не существует. Речь идет о простом утверждении, что «Лейла лила алоэ» в данном случае следует понимать как «Гитлер в Европе». Иными словами, Пригов подвергает сомнению сам факт референции литературного текста. Референция если и проникает в текст, то в результате насильственного интерпретационного жеста. Сама же речь не имеет естественной референции.
Михаил Рыклин в связи с этим говорит о «радикальном антитекстуализме» Пригова. «Любые „текстовые знаки“, — писал он, — не более как „отметки“, сопровождающие проект, причем, уточняет Пригов, сопровождающие его „почти фантомным образом“»[69]. Значение текста образуется не через отношение означающих и означаемых в этом тексте, но с помощью соотнесения текста с чем-то иным. При этом текст понимается не как поле знаков, но как некий квазиматериальный объект. В приведенных стихах эта квазиматериальность подчеркивается акцентировкой звучания, аллитерационным строением. Можно сказать, что некоторые тексты Пригова напоминают раскопанные археологами и непонятные нам предметы, которым приписывается значение: это — украшение, а это — предмет культа и т. д. В такой семиотике означивание осуществляется через перевод, перенос, например от текста к жесту, от одного мира к другому, от текстуального к материальному и т. д. Сам Пригов говорил в связи с этим о «модусе транзитности». В диалоге с Михаилом Эпштейном он объяснял, что художник «есть модуль перевода из одного состояния в другое»[70]. Концептуализм, по его мнению, утвердил именно такую функцию художника: «Утопии других миров — это просто наиболее акцентированная проблема модулей перевода. Причем перевода не обязательно вербального, но и телесного, и агрегатных состояний»[71]. Строки о Лейле и Гитлере вполне вписываются в эту стратегию транзитности. Мы имеем два абсолютно разных текстовых мира — один, кстати, связанный с агрегатным состоянием разжижения — Лейла льет алоэ, — а другой с Гитлером в Европе. Миры абсолютно различны, но художник насильственно переносит один в другой с помощью некоего риторического жеста. Существенно здесь, конечно, то, что миры эти едва ли соотносимы. Они похожи на параллельные серии, не имеющие точек пересечения.
Поскольку сам текст не является носителем автономного смысла, смыслонесущим оказывается только жест, приложимый к нему. В «Преуведомлении» к циклу «Явления стиха после его смерти» Пригов писал о возрастающей тенденции «растворения стиха (или в общем смысле — текста) в ситуации и жесте». Он поясняет, что теперь существенно не то, что описано в стихе и какова его структура, а то, как поэт «входит через правые двери, немного волнуясь, вынимает текст… и т. д.». Пригов суммирует: «Текст (стихотворение, скажем) присутствует как нулевой или точечный вариант ситуации и жеста»[72]. И это, казалось бы, довольно точно описывает статус текста у Пригова в том понимании, которое сформулировал Рыклин как «радикальный антитекстуализм».
Мне, однако, кажется, что «модус транзитности» не позволяет бесповоротно привилегировать жест, который имеет значение только в той мере, в какой сам он отменяется этим режимом транзитности. «Явления стиха после его смерти» как раз и свидетельствуют о том, что стихотворение никогда не достигает абсолютно нулевого варианта. После окончательной смерти текста (стиха) стих вновь является. В предуведомлении к этому сборнику говорится о реверсии ситуации:
«<…> вектор направлен от текста к ситуации, мы же его поворачиваем в обратном направлении, <…> ситуация, жест как бы отменяемы стихом, обнаруживая приводимые куски жестового и ситуационного описания в их самопародировании (кстати, роли, которая в предыдущей ситуации отводилась стиху) на фоне самоутверждающегося стихотворного текста в его онтологической первородности»[73].
Тексты, составляющие «Явления стиха после его смерти», состоят, как и тексты цикла «В смысле», из двух слоев. В первом слое описывается поведение поэта, или ситуация чтения. Например: «Сидят за столом, читают, появляется Милиция, учиняет проверку документов, поднимаются крики, возможно и драка, последнее, что тонет в общем гуле»[74]. И вслед за этим описанием ситуации и жестов идет поэтический текст, который, по замыслу Пригова, и придает ситуации и жесту смысл. Транзитность, таким образом, как бы действует в обоих направлениях. Жест тоже сам по себе не имеет смысла.
Любопытен первый текст цикла, имеющий эмблематический характер:
Вот стихотворение, которое потрясло меня в детстве, Хотя и было написано на 50 лет позже. Капли дождя как тварь дрожащая Пройдя насквозь зеленый пруд Ложится на прохладный лоб Младенца заживо лежащего На дне пруда[75].Здесь ситуация проецирования смысла текстом на жест особенно парадоксальна. Стихотворение о младенце ретроспективно потрясает поэта, когда он сам был в младенческом возрасте. Стихотворение несет в себе жест, способный преодолеть онтологическое различие между мирами не только в пространственном, но и во временном смысле. Модус транзитности тут хронологически вывернут. Существенно, однако, то, что само стихотворение тематизирует мотив транзитности, перехода. Капли дождя проходят через слой воды (то есть собственной материи) и достигают мертвого младенца на дне, который парадоксально жив. Транзитность тут осуществляется не только внутри материи, но и внутри агрегата жизни и смерти[76]. Понятно, что внешний жест чтения, поведения сам по себе едва ли способен придать транзитности такую глубину. Но самое, пожалуй, существенное тут — это акцент на прохождении некоего медиума, на проникновении из одного мира в другой как неком протяженном процессе.
В творчестве Пригова транзитность фиксируется в неких тематических образованиях, которые Пригов называл «сущностями». Сущность не имеет определенного онтологического статуса. Это ни живое, ни мертвое, это нечто расположенное между мирами, в тексте и вне его. Эти странные образования, которые могут принимать обличие монстров или демонов, оборотней и живых мертвецов, существенны тем, что, будучи чисто текстовыми продуктами, они вызывают у читателя некий аффект. Они близки телесному и жестовому. Пригов писал: «Есть некая глубинная мистическая боязливость, опасение общаться с такими вот фантомными, бродящими из мира в мир, переступающими через границу как бы дозволенного сущностями». Такая сущность, замечал Пригов, отличается от привычных нам образов фантазии, она «отстоит от них всех на расстояние трансцендентного монического, возвращенного нам в форме появления, исчезновения, мерцания и умилительного смирения перед лицом нашей тотальной неспособности постичь истинную суть происходящего»[77]. Одним словом, «сущность» — это материализация транзитности.
Но почему Пригову вообще нужны такого рода материализации? Дело в том, что вся его поэтика, постулируя наличие автономных миров, в том числе и автономию означающих от означаемых, стремится подчеркнуть их подлинную взаимную изолированность, принимающую почти материальный характер. Между мирами как бы возникает «перегородка». Если нет мира жестов, отчетливо отделенного от мира текстов, то и транзитность между ними не имеет смысла. Без этой «перегородки» они просто коллапсируют в неразличимую магму и, что едва ли лучше, в то, что Адорно называл «видимостью» (Schein). Напомню, что Адорно и Хоркхаймер в «Диалектике просвещения» описывали эволюцию западной культуры как движение от мифологического к рационально-понятийному мышлению, для которого мир превращается в набор видимостей, отсылающих к неким «сущностям» — идеям. Видимый облик вещи — это просто явление идеи, понятия, числа и т. д. Иначе в мифологическом мышлении:
«Когда с деревом обращаются не просто как с деревом, а как со свидетельством чего-то иного, как с местопребыванием мана, язык обретает способность выразить то противоречие, что нечто является им самим и в то же время чем-то иным, нежели оно само, идентичным и неидентичным. Благодаря божествам язык из тавтологии становится языком. Понятие, которое расхожей дефиницией определяется в качестве единства признаков под него подводимого, напротив, с самого начала было продуктом диалектического мышления, для которого что-либо есть то, что оно есть, лишь благодаря тому, что оно становится тем, чем оно не является. Таковой была первоначальная форма объективирующего определения, в которой разошлись врозь понятие и вещь <…>»[78].
С такой точки зрения прямая референтность — это результат рационального расколдовывания мира, изгнания из мира богов, которые держат ключи к смыслам в радикально иной области, области трансцендентного и природного одновременно. Когда различие между миром богов и миром людей исчезает, все упрощается до отношений субъекта и объекта, видимости и понятия. То, что мифологический (и поэтический) язык одновременно выражает идентичность и отрицает ее, и приводит к странному шаманическому демонизму, возникающему именно как результат разделения божественного и человеческого миров[79].
Сущности у Пригова противоположны сущностям Адорно и Хоркхаймера. Они подобны мифологическим существам, возникающим от перехода от одного мира к другому, при том что миры эти решительно отделены друг от друга. Именно в момент перехода и возникают монстры приговских сущностей. Стихи цикла «Явления стиха после смерти» сами являются такими сущностями — ожившими мертвецами, существующими на переходе от жестового мира к текстовому и наоборот. Младенец в воде — не жив и не мертв — это «сущность», о которой Пригов говорит, что она «отстоит от всех миров на расстояние трансцендентного монического». «Трансцендентного» — т. е. невообразимого для нашего опыта, «монического» — т. е. не знающего подлинного различия между мирами, картезианского дуализма материального и умозрительного. Но «трансцендентное моническое» — это и есть смысл, возникающий в результате транзитности как жеста. Смысл — это сущность. И тут, конечно, нет ничего удивительного.
Возникновение «монической сущности» происходит только в режиме транзитности, которая невозможна без взаимной изоляции миров. Миры должны быть разделены некой мембраной, перегородкой, завесой, которую можно назвать «экраном». Если такой перегородки нет, нет и жеста проникновения, пронизывания, соединения разделенного. Отсюда — тесная связь между сущностью и материальностью медиума, экрана, неизменно присутствующими у Пригова.
Я говорю об экране потому, что экран — это белая непроницаемая для взгляда поверхность, на которую может проецироваться иллюзия иного мира. Пригов признавался, что в кино любит титры, которые выявляют двойственную онтологию экрана — окна и листа бумаги одновременно. Вот что он говорил по этому поводу:
«Хорошо, когда экранное изображение покрывают компьютерные тексты. Тексты, взятые не в их собственном значении, в отрыве от семантики, когда важна пластика текста, его материальность, форма. Пластика текста — виртуальная пластика. Взаимодействие виртуальной пластики экранного текста и как бы реальной пластики киноизображения мне наиболее интересно. Будто бы текст нанесен на некое переднее стекло, и ты понимаешь, что вот эта материальность текста ближе и реальнее, чем углубленное пространство „за стеклом“, где разыгрывается действие. Ты понимаешь, что пространство, где действуют персонажи, конечно же, — выдуманное. А титры, текст, ими образованный, — абсолютно материален и реален, он ничего не имитирует. А в глубине — имитационное, нереальное пространство»[80].
На таком экране иллюзия трехмерного мира прямо зависит от материальности букв на поверхности медиума. Поверхность эта во всей ее плотности и ощутимости должна быть как бы прорвана, чтобы возник мир фикции. Речь идет о действительном переходе из одного мира в другой.
Экран — это удобная метафора. В действительности же медиум, который имел для Пригова характеристики такого экрана, — это бумага. Бумага играет в мире Пригова совершенно особую роль. Почти все его изобразительные работы выполнены на бумаге и часто включают в себя слова, буквы, надписи. Бумага широко присутствует и в его перформансах. Но и для словесных текстов бумага имела далеко не служебный характер. Хорошо известно, что Пригов оформлял циклы своих коротких текстов в небольшие самодельные машинописные книжицы, часто небрежно сделанные. И хотя его творчество относится к эпохе самиздата, эти книжечки — не просто единственно доступный способ распространения текстов. В них важна материальность, качество машинописного шрифта (часто третья-четвертая копия, сделанная под копирку) и т. д. Нет сомнений, что изготовление этих книг во многом мотивировалось потребностью превратить текст в физический объект, который «абсолютно материален и реален, и ничего не имитирует».
Интерес к материальности бумаги может быть отчасти понят через метафору листа, которую приводит Соссюр в «Курсе общей лингвистики», когда говорит о структуре знака:
«Каждый языковый элемент представляет собою arriculus — вычлененный сегмент, в котором понятие закрепляется определенными звуками, а звуки становятся знаком понятия. Язык можно также сравнить с листом бумаги. Мысль — его лицевая сторона, а звук — оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную»[81].
Соссюр, конечно, стремится показать, что мысль и звук неразделимы. Но эта метафора привносит в его логику, вероятно, не предвиденные им элементы. Поскольку звук и мысль находятся на разных сторонах листа, они не могут встретиться, они принадлежат разным мирам и могут встретиться, только если вывернуть бумагу наподобие ленты Мебиуса. Поскольку каждый языковый элемент — это «вычлененный сегмент», то сами границы этого сегмента парадоксально определяются элементом, который находится на недоступной оборотной стороне листа. Единственная возможность осуществить взаимное членение звука и мысли — это разрезать бумагу. Только этот разрыв бумаги и позволяет знаку состояться как arriculus’y.
Но именно разрез, разрыв поверхности и делает материальность медиума существенной и вводит агрессивный элемент жеста в процесс артикулирования значения. При этом жест тут имеет смысл проникновения, перехода от одной поверхности к другой, значение транзитности. У Соссюра есть еще одна метафора знака:
«Звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление. Это — не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но пластичная масса, которая сама делится на отдельные части, способные служить необходимыми для мысли означающими. Поэтому мы можем изобразить язык во всей его совокупности в виде ряда следующих друг за другом сегментаций, произведенных одновременно как в неопределенном плане смутных понятий (А), так и в столь же неопределенном плане звучаний (В). Все это можно весьма приблизительно представить себе в виде схемы (Илл. 1): <…> Нет, таким образом, ни материализации мыслей, ни „спиритуализации“ звуков, а все сводится к тому в некотором роде таинственному явлению, что соотношение „мысль — звук“ требует определенных членений и что язык вырабатывает свои единицы, формируясь во взаимодействии этих двух аморфных масс. Представим себе воздух, соприкасающийся с поверхностью воды; при перемене атмосферного давления поверхность воды подвергается ряду членений, то есть, попросту говоря, появляются волны; вот эти-то волны и могут дать представление о связи или, так сказать, о „спаривании“ мысли со звуковой материей»[82].
В этой метафоре Соссюр обходится без бумаги, слой которой бы отделял звук от мысли. Действительно, граница между воздухом и водой не имеет материальной толщины, это плоскость прямого соприкосновения волн с воздухом. Более того, волны — это поверхностные изменения, произведенные движением воздуха. Но если взглянуть на схему, то мы увидим, что между А («планом смутных понятий») и В («планом звучаний») существует некое неопределенное пространство, не позволяющее им войти в прямое соотношение. Это пространство, отделяющее мир понятий от мира звучаний, которые артикулируются между собой только жестом разрыва этого пространства.
Илл. 1.
Пригов явно материализует и абсолютизирует метафоры Соссюра. Между планом звучания и планом значения не существует связи. Это и понятно, ведь звук как материальный объект и значение как идеальный объект существуют в двух онтологически абсолютно разнородных мирах, переход между которыми в принципе невозможен. Эта идея отчасти напоминает логику стоиков, которые видели в мире абсолютно независимые и взаимно непроникающие сущности. Они считали, например, утверждение, что дерево зеленое, — абсурдом, потому что дерево — это одна сущность, а зеленый цвет — другая, и они не могут проникнуть друг в друга, так как, проникая друг в друга, они бы изменили сущности друг друга, и дерево в итоге перестало бы быть деревом, а зеленый цвет — зеленым цветом. Изменение сущего возможно только под влиянием сил, присущих ему изнутри. С точки зрения стоиков, все взаимодействия происходят только на поверхности вещей, которые соприкасаются этими поверхностями. Моделью тут может служить разрез. Разрез оставляет след на поверхности, но не меняет сущности ни разрезанного тела, ни ножа. Это поверхностное событие. Эмиль Брейе так определяет своеобразие демарша стоиков: они
«радикально отделили друг от друга то, что никто до них не разделял, — два плана бытия: с одной стороны, глубокое и реальное бытие, силу, а с другой стороны, план фактов, разыгрывающихся на поверхности бытия и составляющих множество не связанных между собой и не имеющих цели бестелесных сущих»[83].
Делез, испытавший сильное влияние стоицизма в интерпретации Брейе, окрестил тела, имеющие исключительно поверхности, «симулякрами». Смысл же лежит у него между высказываниями и вещами, всегда отделенными друг от друга:
«Вещи и предложения находятся не столько в ситуации радикальной двойственности, сколько на двух сторонах границы, представленной смыслом. Эта граница ни смешивает, ни воссоединяет их (поскольку монизма здесь не больше, чем дуализма); скорее, она является артикуляцией их различия: тело / язык»[84].
Смысл — это граница, соссюровский лист бумаги между звуком и значением.
Но Пригов, при всей близости стоической и делезовской модели смысла, — не стоик и не делезианец. Признавая значимость медиума, листа, поверхности, признавая абсолютную автономность миров мысли и вещей, материального и нематериального, он все-таки считает, что миры эти можно соединить, что возможна логика транзитности, жеста, проникающего из мира в мир, из одной онтологии в другую. В уже цитированном мной разговоре с Михаилом Эпштейном Пригов замечал:
«Очищение художника и вообще человечества от телесности, ее „перекодирование“ в модус транзитности. Вот это очень интересно, это и есть, собственно говоря, истончание, предельное истончание. В этом модусе транзитности гораздо легче сделать шаг в Другое, чем со всей своей предыдущей телесностью, коммунальными телами, художественными телами, я даже не говорю про физиологические тела»[85].
Что значит это «истончание», «перекодирование» телесности? В разговоре с Парщиковым он, например, утверждал, что в современной культуре «телесность в принципе вся метафоризирована в переделах нашего пользования. Оказалось, что проблема телесности — не проблема противостояния дискурсу, а проблема отысканий: где же все-таки та телесность, которая отличается от дискурсивности?»[86] Главной дискурсивной метаморфозой тела для Пригова была его способность проникать сквозь мембрану, отделяющую миры. Это свойство «пропускать и проходить сквозь» Пригов иногда определял как «хрупкость». В цикле «Хрупенькое все» он писал:
«А то, кто кого ударит по харе рукой, а она туда и проваливается, проваливается — ужас, как хрупко все
А то, кто сам себе руку на грудь положит, а она вдруг уходит внутрь, и он сам за нею летит, летит, не ведая куда
А то, кто коснется кошку погладить, а она хрупенькая треснет и вот уже оба проваливаются, проваливаются…»[87].
Особенно тут показателен кусок с человеком, который проваливается внутрь самого себя, как капля в цитированном выше тексте проходит сквозь себя, то есть сквозь воду. Тело в таких ситуациях — это и носитель поверхности, и воплощение транзитности, эту поверхность разрушающей. Книгу «Только моя Япония» Пригов завершил текстом «Японская хрупкость». Придуманные художником японцы здесь предстают как высохшие существа, утрачивающие телесность: «как кузнечики лапками в сухих растениях перебирают…»[88]. Но чуть позже та же метафора трансформируется:
А про японцев думается часто Что можно услышать Как мысли их, словно кузнечики лапками Перебирают легко извилины их суховатого мозга[89].То, что мгновение назад было хрупким телом, тут становится мыслью. Телесное превращается в умозрительное, потому что обладает способностью проваливаться внутрь себя, прокалывать поверхность тела-симулякра и уходить в глубину. Собственно транзитность понимается как неспособность материальной поверхности удерживать на себе тело знака, который проваливается внутрь себя, проходит сквозь экран и становится мыслью. Можно сказать и иначе. Транзитность укоренена в неспособности знака поддерживать свою собственную материальность, то есть инертность по отношению к жесту, пронизывающему эту материальность по направлению к онтологически иному миру. Знак, в силу свойственной ему интенциональности, преодолевает собственную телесность и проваливается в «идеальное» внутри самого себя.
Японцы — чисто абстрактная тематизация этой транзитной семиотики, которая в большинстве случаев манифестирована в отношении бумаги и письма. Вот, конечно, истинные протагонисты транзитности. Маршалл Маклюэн в «Галактике Гутенберга» утверждал, что наше умение видеть изображение, построенное по законам линейной перспективы, прямо связано с нашим навыком чтения алфавитного письма. Чтение заставляет нас схватывать совокупность отдельных элементов изображения как смысловое целое, а без этого навыка не существует понимание целостного перспективного пространства. Кроме того, писал Маклюэн:
«Только фонетический алфавит приводит к разрыву между глазом и ухом, между семантическим значением и визуальным кодом, и поэтому только фонетическое письмо создает условия для перехода человека из племенного мира в цивилизованный и дарит ему глаз вместо уха»[90].
Это утверждение означает, что только разделение, изоляция миров (слухового и визуального) позволяет состояться развитой визуальности и тем пространственным кодам, которые открывают пространство в глубину.
Не так давно Фридрих Киттлер обратил внимание на почти одновременное открытие и кодификацию перспективы Альберти и изобретение книгопечатания Гутенбергом. При этом он значительно углубил интуицию Маклюэна. Он показал, что книгопечатание основывалось на постулировании пустой клетки, пробела, так называемого spatium, который теоретик сравнил с математическим нулем, не имеющим собственного значения, но необходимым для установления порядка натуральных чисел. Пробел был нулевым элементом печатной страницы, который можно было заменить любым знаком. Таким образом, на страницу вводилось понятие фиксированного места знака, которое в каком-то смысле предвосхищало понятие точки зрения и точки схода перспективы. К тому же Киттлер показал, до какой степени важным для всего процесса формулирования новой парадигмы чтения и зрения было освоение «Элементов» Евклида и введенных им понятий точки и линии (Евклид был напечатан в 1482 г.)[91].
Установление пробела, spatium’a как места формирования смыслового поля существенно потому, что благодаря ему буквы на бумаге организуются по отношению к белому полю «экрана», в который тем самым вписывается некая фиксированная точка (точка схода или точка зрения), позволяющая этому экрану раскрыться в глубину. Таким образом, материальное тело знаков, букв, образующих собой материальный слой на стекле, о котором говорил Пригов в связи с кинематографическими титрами, само является предпосылкой открытия экрана в глубину, исчезновения плоскости и, в конечном итоге, исчезновения материальности знаков.
Провал, белизна открывают глубину и тем самым открывают смысл. В еврейской традиции существует предание, что Тора, полученная Моисеем, была выгравирована черным огнем по белому огню. Нахманид так комментировал это предание: «Тора, „написанная черным огнем по белому огню“, означает, что текст был написан без всякого перерыва, как непрерывная череда букв от первой и до последней. Это письмо составляет Имя, которое может быть разделено на Имена»[92]. Это значит, что чтение книги, внесение в нее смысла прежде всего предполагает отделение слова от слова, внесение пустот, пробелов, которые преобразуют материальный слой букв в смысл, куда, образно говоря, и «проваливаются» буквы, как бы теряющие свою материальность. Кроме того, еврейский текст не знает гласных, а потому его чтение предполагает создание пустот, которые будут заполнены гласными, куда «проваливается» хрупкая материальность согласных.
Марк-Ален Уакнин, разбирая эпизод Торы, посвященный путешествию Ноева ковчега, показал, каким образом материальность знака связана с самой темой движения, я бы сказал — транзитности. Прежде всего, Талмуд различает фрагменты текста, заключенные между пробелами, пустотами, местами, где особенно хорошо явлена экранная сущность бумаги. Текст, заключенный между двумя пробелами, называется paracha setuma — ‘закрытый’, а текст, ограниченный с одной стороны белизной поля, — paracha setuha — ‘открытый’. Материальность текста обладает динамикой по отношению к пустоте поля. Сами буквы по-своему организуют движение текста в его материальности — движение, которое выражает плавание Ковчега. Латинские буквы пишутся на строке, на воображаемой линии. Еврейские же буквы как будто подвешены к строке и держатся за линию своими верхушками. При этом ни одна из 22 букв не выступает над воображаемой линией, кроме одной — ламеда, входящего в корневой состав всех слов, означающих знание, учение. «Узнавать означает включаться в движение выхода за пределы линии письма»[93], — пишет Уакнин. Сама буква имеет динамическое значение транзитности. Буква движется из предназначенного ей места, как бы открывая пространство письма.
Талмудические эксперименты с буквами и письмом интересовали Пригова, который во многих графических работах использовал принцип написания одних согласных, а иногда одних гласных, предполагавший работу открытия поля письма, чья материальность сгущена до предела. Во многих приговских текстах описывается прорыв сквозь кожу, изнутри наружу монстров, сущностей и т. д. Но, конечно, привилегированным полем наглядного разворачивания семантики транзитности была для него графика. Графика доминирует в изобразительной продукции Пригова. Интерес именно к графике может быть объяснен выбором бумаги как медиума. При этом Пригов чаще всего использовал два типа бумаги: либо листы, покрытые типографским текстом, — газеты, либо бумагу классического формата для письма и машинописи. Даже большие композиции Пригов был склонен собирать из листов писчей бумаги стандартного формата.
Илл. 2.
Остановлюсь хотя бы на графическом цикле «Бог: пророки» (1994) (Илл. 2). Цикл состоит из 17 листов писчей бумаги, в верхней части которой имеется расплывчатое черное пятно, на котором видна белая надпись «GOD». Внизу листа Пригов легкой и разнонаправленной штриховкой создал как бы тень от пятна, его штриховой двойник и одновременно парадоксальный указатель на материальность пятна, явно не имеющего физической природы. В левом углу рукой художника написано имя пророка. Это может быть Екклезиаст, Иона, Иеремия, Иоанн, Даниил, Иезекииль, но может быть Маркс, Достоевский. Один лист подписан «Пригов». Черное пятно у Пригова, на мой взгляд, обыкновенно обозначает проступание, проникновение сквозь медиум, экран, завесу. Масляная краска не проникает в холст, она покрывает его слоем, делающим холст непроницаемым. Масляная краска разрушает проницаемость медиума. Отсюда необходимость в создании иллюзии глубины, фикции глубинного пространства. Отсюда идет и знаменитая ассоциация холста с окном, принадлежащая Альберти. Отношение бумаги и чернил иное. Чернила впитываются в бумагу, проникают в нее и могут проступить на оборотной стороне. Чернила транзитны, они обладают способностью к проникновению, т. е. к физическому переходу с той поверхности, на которой находится означаемое, к той, на которой расположено означающее. В случае с именем Бога эта ситуация проникновения имеет существенное значение. Бог никогда не может быть дан нашим органам чувств. Он всегда находится на «оборотной стороне» бумажного листа, к нам же от него приходит имя, в котором, как гласило имяславие, содержится энергия Бога. Эта энергия обеспечивает прохождение имени сквозь завесу. Любимый Приговым Псевдо-Дионисий Ареопагит говорил о «теархии», т. е. принципе манифестации невидимого Бога в иерархии созданных им творений.
Илл. 3.
Иерархии позволяют подняться по лестнице творений и имен и приблизиться к Богу, выйти вновь из этого мира в трансцендентность. Пригов создал целую серию эскизов инсталляции с лестницами, проникающими внутрь условно обозначенной призмы из черных люков, открывающихся в загадочное вовне (Илл. 3, илл. 4). К этой же проблематике относится и большая серия изображений столпа, соединяющего трансцендентное с его земной проекцией (Илл. 5). На одном из таких листов шар над столпом бросает плоскую круглую тень у его основания. Транзитность мысленного образа сферы в область графики и письма происходит через утрату одного из измерений. Во всех этих случаях речь идет о метафорах транзитности смысла, хорошо известных в различных религиях[94], о смысле как форме движения вверх и вниз в духе теологических неоплатонических нисхождения (katabasis), восхождения (anabasis), процессии (proodos) и возвращения (epistrophi). Смысл порождается формой движения. Не случайно, конечно, Псевдо-Дионисий называл священные иерархические порядки словом energeia — деятельность, активность.
Илл. 4.
Но использование бумаги как медиума имеет и еще один аспект. В графике белизна листа является эквивалентом света. В живописи маслом крайне трудно изобразить прямой источник света, а в графике возможно. Имя «Бог» в приговских «Пророках» дается через белизну листа, сохраненную внутри черного пятна. Пригов вообще любил оставлять буквы белыми, что существенно отличает надписи в его графике от обычной формы письма. Имя дается как energeia, свет, пронизывающий тьму. Свет, как, например, Фаворский свет у имяславцев, является прямой манифестацией бога, которая становится видимой только во взаимодействии с тьмой. Свет без примеси тьмы, как свет в космосе, остается невидим. Это взаимодействие света и тьмы часто интерпретировалось как взаимодействие духа, бога и материи, смысла и бессмыслицы. Но такая форма явления смысла, такая семиотика возможны только в медиуме бумаги. В рассматриваемом цикле имя Бога по-разному манифестируется у разных пророков, но каждый раз эта манифестация сначала задается как проникновение тьмы сквозь белый медиум бумаги, а затем сквозь тьму — света, идентифицируемого с тем же медиумом бумаги. Через обмен тьмы со светом в режиме проникновения сквозь медиум является смысл.
Илл. 5.
Такого рода работ у Пригова много. Упомяну хотя бы цикл работ, связанных с беспредметностью Малевича, которая сначала реализуется в слове, а затем в форме, предстающей в трехмерном условном геометрическом пространстве в виде репрезентации. Эта условная геометрия пространства на листе — знак того, что речь идет о воображаемой инсталляции, которая в каком-то смысле является идеальной формой инсталляции, ее платонической идеей. Инсталляция сама есть продукт проникновения в наш мир фантомных объектов воображения. В этом смысле она является следующим шагом по отношению к графике и письму. Пригов писал об этом:
«<…> запечатлеваясь на бумаге в виде проекта, они как бы уже и осуществляются, истинно соответствуя истинной фантомной природе инсталляции. Собранные же вместе, они являют некий идеальный, небесный мир существования ангельских тел многочисленных инсталляций — такая вот виртуальная страна с ее чистыми обитателями.
Все проекты моих инсталляций представляют собой изображение некоего модельного пространства, которое в реализации в пределах конкретного помещения, конечно же, модифицируется соответственно ему, изменяясь порой до неузнаваемости. Но на бумаге оно существует в первозданной чистоте и нетронутости. Через это модельное инсталляционное пространство фантомов проходят многочисленные предметы и обитатели окружающего мира, обретая различные масштабы и сочетания, но окрашиваясь в основные неварьирующиеся цвета. В три метафизических цвета, кстати, основных цвета русских икон и русского авангарда начала века — черный, белый и красный.
Черный — цвет укрытости, метафизической тайны и магической непроницаемости. Белый — цвет энергии и истечения. Красный — цвет жизни, Vita. Синонимами черного являются лиловый и фиолетовый. Белого — желтый и оранжевый. Красного — зеленый, на уровне распадения единого феномена жизни на жизнь вегетативную и кровенесущую»[95].
Илл. 6.
Проникновение «сквозь» делает возможным образование трехмерности, «инсталляционности», так как само проникновение сквозь медиум связано с временем, оно прибавляет к означаемому дополнительное измерение. В какой-то степени тут модель семиотической транзитности оказывается моделью творения. Особенно показателен в этой связи лист «Квадрат Малевича» (Илл. 6), неожиданно приобретающий в условном пространстве инсталляции квазиобъемность. И при этом квадрат не становится кубом, материальным телом. Это именно квазиобъемность репрезентации. Пригов подчеркивает это, спуская сверху на веревке плюшевого мишку, который повисает как бы внутри этого мнимого куба. И при этом он не просто повисает в пустоте мнимости, он наполовину окрашивается чернотой малевичевского квадрата. Он проникает внутрь мнимой фигуры, это именно форма проникновения — еще одной фигуры транзитности.
Илл. 7.
Имя Бога и тьма, беспредметные объекты Малевича и формы могут быть заменены иными элементами, но форма взаимообмена и проникновения сквозь медиум сохраняется Приговым во множестве работ даже тогда, когда обмен осуществляется между тьмой и тьмой, как в одной из вариаций на тему «Черного квадрата» Малевича (Илл. 7). В 1977 г., например, Пригов создал книжечку «Два портрета» (Илл. 8–12), где портреты Ленина и Брежнева обменивались значением через меняющуюся конфигурацию отверстий в страницах книги. Смысл возникает как взаимообмен и взаимопроникновение. При этом сюжет книги — это сюжет такого проникновения и обмена, идущего параллельно листанию страниц.
Илл. 8.
Илл. 9.
Илл. 10.
Илл. 11.
Илл. 12.
Такого рода семиотика усложняется в большом количестве работ, где бумага покрыта письмом, сквозь которое или на котором являют себя фигуры транзитности. Сошлюсь хотя бы на множество работ, выполненных на газетах. Газетный текст не принадлежит поэтике транзитности, он не связан с означаемыми на оборотной стороне бумаги, но является чисто поверхностным феноменом. Графемы тут отсылают друг к другу, но не к означаемым. Можно сказать, что такое письмо существует по законам, описанным Деррида, без референции. У Пригова есть работа, состоящая из четырех листов (Илл. 13). На трех из них изображены портреты — Человека, Пушкина и Лермонтова, а на четвертом изображена словесно-графическая вариация на тему лермонтовского «Бородина». «Портреты» тут выполнены традиционно карандашом по бумаге, то есть не обладают качествами транзитности, проникновения сквозь. О них и говорится как о продукте копирования некой модели, расположенной в этом мире. О Человеке:
«<…> что вы там говорите? Что? На меня похож? врете! Ну, действительно, поставил я как-то ясным весенним утром, когда плыли по ясному голубому небу прекрасные облака <…> поставил я значит перед собой зеркало / но это вовсе не значит, что на картинке я <…>».
Илл. 13.
О Лермонтове:
«Перед вами портрет великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, вы понимаете сразу по непосредственности графики, по тому, что за образец взят известный портрет из полного собрания сочинения поэта <…>» и т. д.
Портреты тут инкорпорированы в текст и определяются как результаты копирования, имитации. Текст же совершенно подчинен принципу контекстуального ассоциирования. Одно слово тут тянет за собой другое. Особенно хорошо это видно на примере текста о Пушкине:
«Перед вами великий русский поэт, краса русской и советской нации, гордость всего человечества, смелый соперник титанов духа и искусства всех времен и народов как то: Гомер, Софокл, Эсхил, Эврипид, Сафо, Пиндар, Платон, Сократ, Эпикур, Демокрит, Демосфен, Диоген, Одиссей, Геракл, Зевс, Перикл, Цезарь, Антоний, Клеопатра, Овидий, Вергилий, Сенека, Птолемей, Пифагор, Фидий, Поликлет, Цицерон, Катулл, Тибул, Проперций, Спартак, Красс, Нерон, Мус ме Лесбия, Пришел увидел победил, Аве Цезарь маритуре те салютант, Августин, св. Антоний, Авенариус, Юстиниан, Боэций, Утешение философией, Божественная иерархия, Цель оправдывает средства, Ноблез оближ, шерше ля фам, Петрарка, Данте, Оставь надежду всяк сюда входящий <…>» и т. д.
Этот набор элементов лежит исключительно на плоскости, так как один влечет за собой другой по ассоциативной смежности. Портреты не пробиваются сквозь текст, а интегрируются в него. Письмо расступается, предоставляя место изображению, сделанному в той же семиотике.
Но такого рода тексты сами, по существу, являются плоскостью, слоем на бумаге, медиумом, сквозь который могут проступать транзитные тексты, где реализует себя обмен между тьмой и светом, где слово проступает «сквозь», проникает. При этом это слово — транзитная сущность — не имеет отношения к поверхностному тексту. Так, например, в работе «Икона» (Илл. 14) слово «икона» как бы проходит сквозь лист «Известий», на котором напечатаны ответы президента России газете. Газетный текст — чисто поверхностное явление, а «икона», возникающая из него, — это уже своего рода инсталляция, в которой некая божественная сущность манифестирует себя в мнимом инсталляционном пространстве.
Илл. 14.
Работ, в которых представлены транзитные фигуры смысла, у Пригова так много и они так разнообразны, что не представляется ни малейшей возможности рассмотреть их в коротком тексте. Не удлиняя ряда примеров, перейду к некоторым теоретическим размышлениям. Прежде всего, я бы отметил два существенных момента. Первый — это неопределенный статус письма, которое у Пригова всегда балансирует на грани изображения. В серии «Пророки» (Илл. 2), например, слово «Бог», возникающее в апофатическом облаке тьмы, — это графемы, слово, но одновременно и изображение. Это слово меняет размеры, очертания и т. д. Иными словами, оно не ведет себя по законам нормативного письма, которое с точки зрения семантики индифферентно к типу шрифта и его размеру. Тут же вариации письма репрезентируют разный характер манифестации Бога.
Вторая особенность семиотики транзитности — это включенный в нее элемент темпоральности. Само проникновение сквозь медиум — это процесс. Письмо в принципе оторвано от времени. Именно эта элиминация временного позволила, по мнению, например, Деррида, возникнуть геометрии как абстракции, «не имеющей происхождения» и прямой связи с субъектом:
«Именно возможность письма обеспечит абсолютную традиционализацию объекта, его абсолютную идеальную объективность, то есть чистоту его отношения с универсальной трансцендентальной субъективностью; обеспечит, освобождая смысл от его наличной очевидности для реального субъекта и от наличного обращения внутри определенного сообщества. <…> скриптуральная пространство-временность <…> довершает и освящает существование некоей чистой трансцендентальной историчности. Без окончательной объективации, возможность которой создается письмом, любой язык остался бы пленником фактичной и наличной интенциональности какого-нибудь говорящего субъекта или какого-нибудь сообщества говорящих субъектов. Абсолютно виртуализируя диалог, письмо создает определенного рода автономное трансцендентальное поле, в котором может и не быть никакого наличного субъекта»[96].
Деррида, в частности, показал, что объективность и идеальность геометрических фигур, невозможность говорить об их происхождении связаны с подавлением «историчности» в письме, утрачивающем связь с устным истоком речи.
Но у Пригова письмо постоянно связывается с идеей происхождения, которая имеет темпоральный характер. В некоторых его работах, организованных в серии, т. е. включающих темпоральность, как, например, идеальные инсталляции, Пригов прямо работает с генезисом геометрических фигур. Сошлюсь хотя бы на цикл по мотивам Малевича (Илл. 15), а также на графическую серию «Линии» (Илл. 16–21). Именно связь с генезисом, характерная для семиотики транзитности, и помещает письмо Пригова на грань изобразительности, в которой связь с творением, явлением, присутствием еще не утрачена, как в типографской печати газетного или книжного типа.
Язык у Пригова не обладает прозрачностью «обыкновенного» коммуникативного языка и заставляет вспомнить об описании магического языка, данном Вальтером Беньямином. Беньямин, как известно, различал два типа языка: язык «как таковой», прямо восходящий к богу-творцу, творящему мир словом, и язык людей, служащий для коммуникации между людьми. Первичный язык «как таковой» ни к кому не обращен, в нем лишь выражается духовная сущность вещей. Именно этот язык творения Беньямин связывал с магией. Вторичный язык людей является результатом перевода первого и связан с референцией — немотивированным обозначением, предназначенным для получателя сообщения. Язык же «как таковой» не коммуникативен, он исключительно экспрессивен. Он выражает сущность. Беньямин писал: «<…> всякий язык коммуникативен по отношению лишь к самому себе. Или, точнее, всякий язык — это коммуникация себя в себе; это в самом чистом смысле слова медиум коммуникации»[97]. Эта чистая самокоммуникация, самоэкспрессия выражается у Беньямина в имени, не имеющем референтного коммуникативного значения, но лишь значение самомедиирующей сущности именованного.
Илл. 15.
У Пригова, и я с этого начинал, язык не ориентирован на коммуникацию, а имя играет совершенно особую роль. Мы как раз и имеем у него чистый медиум экспрессии, транзитность от умопостигаемой сущности к ее имени. Естественно, такая семиотика принимает форму не межсубъектной коммуникации, но откровения, не обращенного к кому бы то ни было, но лишь обнаруживающего скрытую сущность. Все воображаемые инсталляции Пригова — это пространственные макеты откровения, явления скрытого. Слова у Пригова не должны отсылать к вещам, но должны включаться в режим транзитности и проникать в иные сферы. Пригов об этом писал многократно: «<…> каждое слово дает возможность увести в другую сторону, в другой ментальный и культурный пласт»[98]. Отсюда особое значение «Азбук» для Пригова. Буквы не имеют никакого референтного значения, они обладают чисто магическим смыслом и являются точками проникновения транзитности в трансцендентное, то есть в мир сущности. И в этом, конечно, Пригов близок еврейской каббалистической гематрии:
«Можно звать вещь, — писал он, — обзывать, призывать, обходить, отрицать, бить, поносить, оставляя ее безответной. Но тонкий, слабый укол в болевую ее точку вдруг вскинет вещь, заставит затрепетать ее всем организмом, вскидывая руки и ноги, взывая неведомым досель голосом — это и есть назвать вещь истинным именем»[99].
Всякое референтное обозначение индифферентно по отношению к вещи. Только транзитность позволяет достичь мысленной сущности. И буква часто более эффективна, чем слово-имя, потому что она полностью порывает с призраком референтности. В единственном тексте, составляющем «Азбуку истинных имен», истинные имена чаще всего никак не связаны с означаемым в рамках какого бы то ни было языкового коллектива:
Абулькар — истинное имя стола Безумшин — истинное имя дома Валуан — истинное имя воды Дерьмо — неистинное имя говна Еврей — неистинное имя еврея[100].Илл. 16–17.
Илл. 18–19.
Илл. 20–21.
Как только слово опознается в своем референтном значении, оно утрачивает истинность. Развивается этот текст знаменательно. Постепенно исчезает не только опознаваемое означающее, но и опознаваемое означаемое, и Пригов начинает незаметно цитировать пророчество на стене Валтасарова дворца из «Книги пророка Даниила». Происходит буквальный переход от референтного к эскпрессивно-пророческому:
Фарес — это истинное имя одной вещи Хтекел — это истинное имя другой вещи Цмене — это истинное имя третьей вещиНо и это не конец. Дезинтеграция идет дальше. Загадочные буквосочетания перестают быть истинными именами и становятся истинными именами времени вещи:
Чфарес — это неистинное имя вещи Но истинное имя времени вещи…Что такое время вещи? Это есть чистая форма транзитности, то есть перехода. Это движение от референтной коммуникации к магии имен принимает форму дезинтеграции слова, которая обнаруживает форму времени вещи. Это хорошо видно в явлении сущности, представленном в графической серии «Ангелы» (Илл. 22–27). Серия эта интересна как раз тем, что, по существу, является фильмом, составленным из отдельных кадров побуквенных явлений. Транзитное явление сущности здесь наглядно связано с темпоральностью, развертыванием во времени.
Илл. 22–24.
Илл. 25–27.
Приговское понимание языка, как я уже отмечал, близко каббалистическому или талмудическому. Для кабалистов, как замечал Гершом Шолем, имя Бога, магический язык творения не имеет смысла. В языке осуществляется процесс творения, а не коммуникации. Имя Бога — мистический тетраграмматон — включал буквы Алеф, Хе, Вав и Йод. При этом особое значение придавалось согласной Йод, изображавшейся на письме небольшим апострофом, точкой. Эта форма точки делала Йод первичным истоком языка. Йод приходил в движение, два наложенных друг на друга апострофа прочитывались как два крыла, якобы возникавшие из первичного движения буквы[101]. Йод к тому же обладает особой энергией, сосредоточенной в точке, позволяющей инициировать весь процесс эманации сущностей. Буквы в каббалистике идентифицируются с сефирами — манифестациями Бога. В конечном счете, буквы понимаются как тайная форма самого непостижимого Бога. Шолем указывает, что лингвистическое движение, эманационная энергия букв восходит к первоначальному движению в непостижимой пустоте Эн Соф:
«Когда Эн Соф вплелся в самого себя, текстура первоначальной Торы сложилась и стала первоначальной силой лингвистического движения в Эн Соф. <…> Точковидный Йод с его силой, собранной воедино, передал это лингвистическое движение всем эманациям слов в процессе формообразования»[102].
Илл. 28.
Это самосплетение пустоты, как процесс первоначальной генерации сущностей, было тематизировано каббалистом Исааком Слепым как переплетение ветвей: «Буквы (из которых состоит имя) — это ветви, являющие себя как колеблющиеся языки пламени и как листья на дереве, его ветви и ростки, чей корень всегда содержится в самом дереве…»[103]. Письмо, таким образом, понимается не как инструмент коммуникации, но как деятельность, как движение из самого себя, как генерация форм, обращенных к самим себе. Пригов, несомненно, разделяет взгляд на такое понимание письма. Во многих изобразительных работах он настойчиво стремится представить это семиотическое саморазвитие, используя тот же образ, что и старый каббалист: я имею в виду постоянно присутствующую у него тему густого сплетения ветвей и листьев, обращенных на самих себя и осуществляющих коммуникацию внутри собственного медиума. При этом аналогичная Эн Соф первичная пустота и невыразимость тематизировалась у него пустым яйцом — символом истока. У Пригова много раз графически представлены варианты творения из ничто. Один из таких вариантов изображает пустое яйцо, внутри которого разворачивается лабиринт растения, напоминающий самосплетение Эн Соф в каббале (Илл. 28). Такой же лабиринт возникает и в листе, выполненном на газете. Здесь сквозь поверхностный лабиринт газетного шрифта прорастает густо сплетенный лабиринт листвы, из которого и за которым растет едва ли расшифровываемое слово или комбинация букв (Илл. 29).
Илл. 29.
Во множестве листов этой серии дается диаграмма транзитности. Например, в одном из пустых яиц возникает имя — сердце. Тут в пустоте яйца явлены четыре согласных СРДЦ, в которые входят сверху две красные гласные «е» (Илл. 30). Красный у Пригова обычно — знак крови, жизни. Две гласные «оживляют» бессмысленную энергетику согласных, и, таким образом, в ничто возникает сердце — жизнь.
Илл. 30.
Эти и подобные им листы изображают процесс рождения как явление сущности, выходящей в мир из ничто. Процесс этот — чистая транзитность из замкнутости яйца, из трансцендентного в мир феноменальности, зримого. Оболочка яйца — та же мембрана, позволяющая транзитности состояться как процессу и с большой полнотой воплощающая приговскую «хрупкость».
Сказанное возвращает меня к проблеме медиума у Пригова, т. е. к его безусловному предпочтению бумаги всем иным медиумам. Деррида как-то заметил, что бумага не является обыкновенным медиумом:
«Это носитель не только меток, но и сложной „операции“ — пространственной и временной; видимый, ощущаемый и часто звуковой; активный, но и пассивный (то есть и нечто иное, нежели „операция“ — становление произведением, архив деятельности)»[104].
Эта темпоральность становления связана для Деррида с тем, что за графемой письма всегда таится призрак оральности, фантомный голос. Вот почему он может написать:
«Под видимостью поверхности она (бумага. — М.Я.) таит объем, складку, лабиринт, чьи стены возвращают эхо голоса или пения, который этот голос несет; дело в том, что бумага заключает в себе также диапазон или диапазоны носителя голоса»[105].
Фантомный голос сам играет роль истока, вытесненного в логоцентрической культуре, но таящегося в глубине бумаги. Когда у Пригова гласные проникают в согласные и являют нам сущность сердца, речь ведь, как и у Деррида, идет об огласовке, о фантомном голосе, возникающем из недр медиума, недр бумаги в жесте, соединяющем хрупкость и транзитность в магическом знаке без референции.
Илл. 31–36.
И последнее, на чем я хотел бы остановиться особо, — это неоднократно упомянутое мной временное измерение семиозиса у Пригова. Эта темпоральность значения, понимаемого как процесс, отличает художественную практику Пригова от традиции репрезентации, обыкновенно тяготеющей к подавлению темпоральности. Временное развертывание становления смысла как транзитности придает семиотике Пригова аффективный характер. Это и понятно, ведь аффект — это прямая реакция на переживание времени, данного нам в микроизменениях, мерцаниях, а не в аристотелевских движениях, понимаемых как перемещения в пространстве. Лабиринты генезиса, представленные в хитросплетениях ветвей и листьев, — одна из диаграмм такого движения. Да и сам процесс рисования Приговым шариковой ручкой на бумаге был явно ориентирован на специфическое проживание длительности. Избранная им техника предполагала особо длительный процесс изготовления его изобразительных листов. В сущности, он рисовал так, как пишут, превращая линеарность письма в пространственный гештальт. И так же, как за письмом всегда, по мнению Деррида, таится призрак голоса, за изображениями Пригова всегда таится призрак линеарного письма.
Илл. 37–39.
У Пригова есть загадочная серия изображений, которые можно назвать «Линиями», но которые я для себя называю «Временем» (Илл. 31–39). Здесь нет фигуративных образов, но только линии, прочерченные внутри темного фона. От листа к листу линии слегка меняют свою конфигурацию, создавая эффект мерцания, микродвижения, собственно ощущения чистого протекания времени. Но эти темные листы без фигур, как мне представляется, стремятся передать не только самовплетение первичной неопределенности, исток возможной фигуративности и смысла. Здесь мерцание времени буквально связывается с проникновением внутрь медиума, с транзитностью сквозь медиум, сквозь бумагу, навстречу поверхности, фигуре, смыслу. Эта серия переходит в изображения возникающих фигур — кругов — белых и черных, но увиденных как бы изнутри самого медиума, до их выпадения в пространство репрезентации (Илл. 16–21). Эти загадочные листы, возможно, являются наиболее полной диаграммой транзитности. Их можно представить как иллюстрацию увиденного изнутри перехода с одной стороны соссюровского листа бумаги на другую его сторону, от чисто фонической вибрации к образу, от глубины к поверхности, от голоса к письму.
Марк Липовецкий, Илья Кукулин ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ Д. А. ПРИГОВА[106]
Теоретические работы Д. А. Пригова составляют неотъемлемую (возможно, даже важнейшую) часть его многожанрового и многомедийного проекта, объединенного фигурой автора. Парадоксальность проекта состоит в том, что сама эта фигура принципиально лишена цельности, а, наоборот, складывается из множества «имиджей». Сам Пригов неоднократно сравнивал свое «мозаичное» отношение к авторству с позицией режиссера, который руководит множеством «актеров» — дискурсов и методов высказывания, — но сам на сцене не видим.
Однако соотношение манифестов и иных теоретических текстов Пригова с «остальным» его творчеством — самостоятельная проблема: Пригов-теоретик выделял в собственной работе поэта, художника и перформансиста и в современной культуре в целом один главный аспект, творчество же его было более разнообразным и не сводилось к предлагаемым им схемам. Виктор Пивоваров писал, что в своих манифестах Пригов «выступал как твердокаменный концептуалист», в то время как вне публичных выступлений готов был обсуждать и «несовременные» проблемы в искусстве, которые его, казалось бы, не должны были интересовать, — например, «старое искусство, которое он превосходно знал и любил»[107]. Но последовательность, или «твердокаменность», была заметна скорее тем, кто читал приговские тексты по мере их публикации. Сегодня же мы видим, что эти работы пронизаны динамикой интеллектуального становления: одни сюжеты с годами проступают все резче, другие — исчезают, третьи — радикально трансформируются.
Игровой стиль
Теоретические высказывания Пригова — это синтетическая форма, в которых рациональный анализ (в том числе и собственных практик) переходит в манифест, но при этом сам автор как бы разыгрывает «позу лица» (как говорил сам Пригов) теоретика, то и дело пародируя риторику научного высказывания. Поэтому каждая его статья — это теоретическое высказывание (или манифест) и одновременно — перформанс такого высказывания. У Пригова есть и тексты, написанные для научного контекста, но представляющие собой чистую деконструкцию самого научного дискурса. Чаще его теоретический нарратив включает в себя и деконструкции самой операции постулирования аксиом (любимое присловье, которое Пригов вводил при формулировке какой-нибудь особенно провокативной или эпатажной мысли: «А что, нельзя? — Можно!..», «А что, неправильно? — Правильно…», «А что, неправда? — Правда…»), и оговорки типа: «Так ведь мы не ученые какие-нибудь». В другом тексте, однако, Пригов мог сменить маску на противоположную по смыслу:
«Но мы ведь с вами люди науки, мы ведь следим тенденции, отслеживаем процессы, выявляем закономерности, ошибаемся в результатах, меняем направление, не замечаем реальности, погибаем в деталях, обманываемся в причинах, обнаруживаем сокрытое и достигаем результата. Так вот…» («Культо-мульти-глобализм»)[108].
В его статьях даже встречаются «внутренние диалоги» — к примеру, в работе «Второй раз о том, как все-таки вернуться в литературу, оставаясь в ней, но выйдя из нее сухим!» (1991): «<…> так и было написано: складывания. — а я что говорю! — нет, ты смотришь как-то так! — как это так? — как-то так особенно! — хорошо, больше не буду! <…> — странно! это же не что-нибудь другое, а наука! — а я и смотрю как на науку! — ну ладно…»[109]. Однако эти «подначки» возникают неожиданно в контексте довольно сложного, академического письма, которым ДАП владел мастерски.
Особенно ярко промежуточный, «мерцающий» статус приговских теоретических высказываний заметен в «предуведомлениях», сопровождающих большинство циклов-сборников, в которые Пригов объединял свои тексты. В каждом из «предуведомлений» обосновывается эстетический эксперимент, реализованный в стихах или в прозаических сочинениях соответствующего цикла, и это объяснение, пародийное по смыслу, одновременно призвано решать совершенно серьезные рефлексивные задачи. Комментируя этот жанр в переписке с Ры Никоновой, Пригов предлагал воспринимать его «предуведомления» только как «указатель, указывающий пальцем на место автора вне текста, на отношение его к данной поэтической системе как к одному из возможных языков поэзии»[110], но впоследствии опубликовал их отдельной книгой[111]. Вероятно, он полагал, что к моменту выхода этой книги уже известный читателю контекст его творчества поможет воспринять «предуведомления» как тексты особой, «двоякодышащей» природы.
Перформанс теории — как и многие другие приговские перформансы — основан на осознанном и подчеркнутом переключении позиций: теоретика, остраненно рационализирующего культурные процессы, и автора, театрально разыгрывающего себя и свое место в культуре на (квази)научном языке.
Перформатизм
Несмотря на то что приговские идеи претерпевали известную эволюцию (о которой пока можно говорить достаточно гипотетически, поскольку многие его тексты не датированы), эта эволюция была непротиворечивой. Новый слой идей «надстраивался» над предыдущим, не отрицая, а наращивая предшествующую рефлексию.
С самого начала Пригов — и в этом Пивоваров прав — выступал как теоретик концептуализма. Можно обсуждать, насколько его творчество в целом было шире концептуализма, но очевидно, что с конца 1970-х до конца 1990-х Пригов декларировал взгляды, которые считал именно концептуалистскими, и лишь после этого положение несколько изменилось. В целом в развитии теоретических взглядов Пригова можно довольно отчетливо увидеть три слоя, или этапа.
1) Первый — это идеи, высказанные в самых ранних известных нам манифестах Пригова и сформировавшиеся в конце 1970-х — начале 1980-х гг. В фокусе его внимания был «московский романтический концептуализм» как особая форма рефлексии советского историко-психологического опыта и новый, актуальный тип эстетической реакции на «современность»:
«Мне сдается, что в наше время происходит, если уже не произошел <…> перелом в художническом и культурном сознании. <…> Концептуализм <…> берет готовые стилевые конструкции, пользуя их как знаки языка, определяя их границы и возможности, их совмещения и совместимости (это про меня)»[112].
2) Статьи, эссе, «предуведомления», лекции, интервью начала и середины 1990-х. В них Пригов предстает как едва ли не единственный автор из числа «классических» русских концептуалистов, готовый последовательно обсуждать, как работает концептуалистский метод на материале постсоветского сознания, в условиях кризиса идеократического общества, глобализации и появления новых для постсоветского контекста эстетических языков: феминизма, гей-культуры, новой телесности и пр. «Соратники» Пригова по концептуализму времен «бури и натиска» — Илья Кабаков и Борис Гройс — к этому времени стремятся так или иначе обозначить свой выход за пределы концептуалистской парадигмы или, по крайней мере, привычной для концептуализма проблематики. Пригов сохраняет верность тому и другому, но само слово «концептуализм» употребляет все реже. Важную роль на втором этапе развития Пригова сыграла скрытая рефлексия постконцептуалистских идей в визуальном искусстве и литературе, все более ясно определявших эстетический ландшафт 1990-х[113].
3) Третий этап — конец 1990-х и 2000-е гг. В это время Пригов, последовательно развивая собственные идеи, уже явно «перерастает» проблематику «классического» концептуализма и все больше обращается к идеям «новой антропологии», к мультимедийной эстетике и — на новом по сравнению с эпохой 1990-х уровне — к рефлексии «высокого» европейского модернизма.
Противоречий между этими слоями нет, поскольку все они структурированы центральной для Пригова художественной категорией, для которой, как ни странно, у него нет общего имени. Мы назовем ее перформатизмом, хотя Пригов этого слова и не употребляет, предпочитая говорить о поведенческом уровне, операционности, персонажности, имиджах и т. п. Вероятно, дело в том, что для него перформанс — это лишь частный случай более широкого принципа, о котором идет речь. (Он четко различает хэппенинг, акцию, перформанс и проект — но именно проект, т. е. мегаперформанс, вбирающий в себя все формы операционной эстетики и в предельном случае развивающийся в течение всей жизни автора[114], представляется наиболее адекватным определением главного жанра его собственной деятельности.)
Пригов-режиссер выступает и как «драматург», и даже как «сценограф» собственного творчества. Самым ярким проявлением этой театральности письма является приговская категория «назначающего жеста»:
«Чем отличается язык художественного произведения, вернее, сам художественный текст от любого другого — да ничем. Исключительно жестом назначения. То есть помещением в определенный контекст и считыванием его соответствующей культурной оптикой… Автор в этом случае вычитывается не на языковом, а на манипулятивно-режиссерском уровне, где языки предстают героями его драматургии» («Взять языка»)[115].
Однако перформатизм не сводится лишь к театрализации сцены письма, поскольку для Пригова и само письмо является не единственной сферой деятельности, а лишь одним из элементов художественной самореализации через жест, имидж или поведенческую стратегию. Он не устает повторять, что современная культура характеризуется «преодолением текстового уровня идентификации и реализации художника и перенесением их на уровень жестово-поведенческий и проективно-стратегический» («Культо-мульти-глобализм»[116]). По мысли Пригова, главное в современной культуре — не что, а кто создал то или иное произведение: именно «кто» определяет модальность читательского отношения к высказыванию. Но само это «кто», то есть «я» художника, существует только в режиме постоянного разыгрывания собственного статуса. Пригов говорит об «акцентированно-знаковом» поведении художника, которое включает в себя и тексты, но не ограничивается ими, и, более того, диктует значение и понимание этих текстов: «Только из имиджа и поведения самого художника, в пределах его большого проекта, можно идентифицировать субстанциональную сущность данного произведения», — пишет Пригов в статье «Скажи мне, как ты различаешь своих друзей, и я скажу, кто ты» (2000)[117] и добавляет: «Текст стал частным случаем более общего художественного поведения и стратегии. Этот способ объявления в зоне искусства имеет нематериальный характер — в некой, скажем так, виртуальной зоне возникает образ-имидж художника».
В интервью А. Яхонтовой Пригов аналогичным образом описывает уже собственную деятельность:
«<…> Для меня все <…> виды [моей] деятельности являются частью большого проекта под названием ДАП — Дмитрий Александрович Пригов. Внутри же этого цельного проекта все виды деятельности играют чуть-чуть иную роль. То есть они есть некоторые указатели на ту центральную зону, откуда они все исходят. И в этом смысле они суть простые отходы деятельности этого центрального фантома»[118].
Перформативность — в этой интерпретации — пронизывает все без исключения практики художника. «Следами» перформативного поведения становятся тексты, картины, инсталляции, собственно перформансы и любые публичные высказывания (например, интервью). В пределе речь идет о перформативной жизни актуального автора, о
«поведении, обнаруживающемся в пределах неигрового вида искусства, где привычный конвенциональный профессиональный язык не предполагает (вернее, до определенного времени не предполагал) появление самого творца, релятивизирующего тем самым ценность, прочность, однозначность и самодостаточность языка произведенных им объектов» («Оценки по поведению», 1997)[119].
Поколения: культурные и биологические
Наряду с перформатизмом другой ключевой для Пригова идеей является мысль о высоком динамизме смены культурных поколений во второй половине XX и начале XXI в. Этот динамизм позволяет ему обосновать категорию «художественного промысла». По мысли Пригова, если в прошлом любой стиль воспроизводился на протяжении жизни нескольких поколений, то в новейшей истории обновление эстетических идей, формирующих новую стилистику, происходит каждые 5–7 лет. Поэтому слово «поколение» в современном искусстве берет свой смысл не из демографического, а скорее из научно-технического, инженерного языка: «поколение» в искусстве ныне отсылает не к представлению о сменяющихся каждые 20–30 лет социальных генерациях, а скорее к метафоре «компьютер (или самолет) нового поколения».
Отсюда важнейшей эстетической категорией — во всяком случае, в лексиконе ДАП — становится «дар культурной вменяемости». Художнику необходимо поспевать за сменой этих «коротких поколений» или по крайней мере осознавать, что художники того демографического поколения, в кругу которых происходило его / ее становление, могли давно уже застыть в эстетической неподвижности и, следовательно, перестать быть актуальными. Впрочем, отмечал Пригов, в литературе смена культурных поколений происходит гораздо медленнее: если сравнивать с визуальным искусством, то современная русская литература соответствует визуальности начала 1960-х.
Неспособность вписаться в контекст нового культурного поколения обрекает авангардного художника либо на неузнанность, либо на «художественный промысел». Под последним Пригов понимает искусство, лишенное стратегической новизны:
«Когда известен способ порождения вещей и текстов, способ явления, утверждения и бытования художника в культуре и искусстве, способ восприятия всего этого культурой и публикой — это и есть художественный промысел от, скажем, росписи яиц до живописи, как Малевич, от народных танцев до грандиозных феерий Большого театра» («Оставьте в покое бедное тело», 1999)[120].
Именно «художественному промыслу» в понимании Пригова и противостоит актуальное искусство, обязанное предлагать неизвестные еще «способы порождения вещей и текстов, способы явления, утверждения и бытования художника в культуре и искусстве, способы восприятия всего этого культурой и публикой» (Там же).
Типология культуры
Особенность приговского типологизирования состоит в том, что он, конечно, таким образом артикулирует и (квази)исторически обосновывает логику исповедуемой им эстетики. Как и многие авангардисты, он подчиняет эволюцию мировой культуры тому, что считает ее итогом, — собственному творчеству.
В центре приговской типологии культуры лежит представление о «больших драматургических взаимоотношениях культуры и творческой личности». Иначе говоря, он описывает культуру через то, как позиционируется фигура художника, всегда отвоевывающего новые культурные территории и, условно говоря, стоящего на границе важнейших для данной культуры (в приговском понимании, конечно) оппозиций.
В манифестах конца 1980-х — начала 1990-х гг. Пригов утверждал, что в разные эпохи в искусстве поочередно приобретали то большую, то меньшую значимость разные уровни произведения: «идейно-мировоззренческий, сюжетно-содержательный, образно-метафорический, конструктивно-версификационный, культурно-ассоциативный и экзистенциально-творческий. <…> в разные времена на поверхности вод появлялся какой-нибудь позвонок этого огромного позвоночника». Преобладающее влияние того или иного «позвонка», уровня, определяло «большой стиль» эпохи. Современная же эпоха отменяет саму идею подобного сменяющегося доминирования уровней, так как допускает сосуществование разных стилей — «<…> художник прочитывается на метауровне как некое пространство, на котором сходятся языки»[121].
В текстах конца 1990-х — начала 2000-х гг. Пригов говорит о том, что сегодня происходит завершение четырех крупных социальнокультурных «проектов». Первый, Возрожденческий, основан на оппозиции «автор — неавтор»: автор заявляет свое право на индивидуальное творчество, отвоевывая его у анонимной традиционалистской парадигмы. Просвещенческий проект прибавляет к возрожденческому образу художника-титана новую составляющую — учителя, просветителя и мудреца. Основной оппозицией для этого типа культуры становится правда и знание, воплощенные в фигуре автора и противостоящие лжи властей и невежеству масс. Следующий проект — Романтический. В этом проекте художник обретает функцию медиатора между высоким и низким, хотя наполнение этих категорий у каждого автора может быть своим: «Хлебников представлял себя посредником между древними глубинными тайнами языка и повседневностью речи. Маяковский — между высшей энергией социального бунта и банальностью обыденной жизни» («Завершение четырех проектов», около 1999)[122]. Наконец, четвертый проект — Авангардный. Его основа — преодоление оппозиции «искусство — неискусство»:
«<…> основная драматургия авангардного типа поведения <…> была явлена в постоянно [м] расширени[и] зоны искусства, пока зоны неискусства не осталось. То есть зоной искусства оказались все возможные сферы манифестации художника с доминирующим назначающим жестом» (WSA, s. 300).
Внутри последней эпохи Пригов выделяет «три возраста» авангарда. Первый — футуристически-конструктивистский, он связан с «вычленением предельных онтологических единиц текста» и вычислением «истинных законов построения истинных вещей». Частью этой стратегии является «переход художников в сферу практической и социальной деятельности». Именно эта стратегия, как считает Пригов вслед за Б. Гройсом[123], послужила идеологическим и психологическим основанием тоталитарной культуры, которая лишь перевела авангардные принципы на макроуровень, «обнаружив и объявив „большие“ онтологические единицы текста, как бы макромолекулы, которыми можно оперировать как ненарушаемыми» (WSA, s. 302) — класс, народ, партия, история.
Второй «возраст» — абсурдистский, выявивший «абсурдность всех уровней языка, [его] недетерминированность никакими общими закономерностями, ни общей памятью, ни общедействующими операционными законами» (WSA, s. 303). В России этот тип авангардной культуры, считает Пригов, «сумел перекодировать элементы (существовавших на тот момент. — М.Л., И.К.) языковой тактики и стратегии, совпав по времени с западным новым авангардом — результатом прямого наследия традиции» (WSA, s. 303).
Наконец, третий возраст идентифицируется как поп-артистско-концептуалистский и выступает в качестве псевдодиалектического синтеза двух предыдущих возрастов: «Пафосом третьего периода стало утверждение истинности каждого языка в пределах его аксиоматики <…> и объявление его неистинности, тоталитарных амбиций в попытках выйти за пределы и покрыть весь мир собой» (WSA, s. 303).
Именно в этот период эволюции авангарда художник «оказывается в метаязыковой зоне операционального уровня», что порождает смешение разных видов искусств, различия между которыми «отменяются на уровне авторской языковой поведенческой модели» (WSA, s. 304). Как Пригов говорит в одном из интервью: «Только с концептуализмом пришел менталитет не текстовый, а операциональный, когда представители литературы не надстраивали новый стилистический слой, а представили динамическую модель. Для них все слои стали персонажами»[124].
Именно здесь наступает «конец текстоцентризма»: литература становится «ресурсом текстового и персонажного цитирования». «Операция, синоним жеста» берет на себя роль «единицы текста». В этой культурной среде актуальные стратегии разворачиваются на границах различных жанров и видов искусств, в результате чего и формируется произведение искусства нового типа — «как бы эдакий современный гезамткунстверк»[125] («Третье переписывание мира», 2003)[126]. Формируется новый, «мерцательный тип поведения» художника:
«<…> в принципе неподвижное существование в виртуальной зоне границы в реальности представляет собой как бы быстрое мерцание, перебегание из зоны в зону, [при котором автор] не задержива[ется] ни в одной из них настолько, чтобы влипнуть в нее и быть идентифицирован[ым] с нею, но и оставаясь на достаточно долгий промежуток времени, чтобы все-таки коснуться ее и быть с ней в контакте» («Культо-мульти-глобализм»).
В словесности эта стратегия осуществляется через переключение дискурсов и языков, в визуальной сфере — через смену разных типов медиа, но важна «конкретная демонстрация самого механизма переключения, самой операционной модели» (Там же).
Генезис и контекст идей Пригова
В своих манифестах Пригов почти никогда не ссылается на предшественников и редко — на единомышленников. Безусловно, подробное исследование истоков и контекста его теоретического мышления — дело будущего, но некоторые предварительные наблюдения и гипотезы можно высказать уже сейчас.
Для формирования идеи существования на границе, а вернее, культивирования лиминальной «мерцательности», как кажется, главным было не чье-либо персональное влияние, а прежде всего осознание Приговым своего положения между двумя «большими» видами искусств — словесным и визуальным. В текстах, обращенных к литераторам, он неустанно, с несколько утрированным пессимизмом сетовал на архаичность литературного мышления по сравнению с быстрыми сменами концепций в актуальном искусстве. Обращаясь же к Ры Никоновой, он намекал, что ее мышление по стилю напоминает художническое, вставая по отношению к ее манифесту «Литература и математика» в рефлексивную «метапозицию»: «<…> текст, написанный художником (я имею в виду ваше исследование), в силу своей интенсивности и апологетичности, свойственной художественному сознанию, объявляет <…>»[127]. Пригов, который сначала реализовался как художник и только существенно позже — как поэт, в некоторых ранних стихах стремился отрефлексировать собственный опыт автора визуальных работ[128]. В дальнейшем, видимо, это чувство «промежуточности» между разными языками искусства и разными культурными пространствами Пригов смог сделать мощнейшим продуктивным фактором собственной работы, отрефлексировав его и превратив в эстетическую концепцию всеобщей переводимости и «соотносимости»[129].
Если же говорить о современниках, с чьими работами перекликаются взгляды Пригова, то весьма заметные параллели с ними обнаруживаются в работах Ю. М. Лотмана, на уровне деклараций совершенно чуждого постмодернизму[130]. О возможности уровневого анализа произведения искусства, о котором говорит Пригов в цитированном выше письме к Ры Никоновой от 21 февраля 1982 г., в СССР проще всего было узнать из книги Лотмана «Анализ поэтического текста» (1972), от которой Пригов, вероятно, и отталкивался (хотя Лотман выделял в поэтическом произведении другие уровни). Однако наибольшее количество перекличек с манифестами Пригова обнаруживает статья «О семиосфере», впервые опубликованная в 1984 г.[131] Близкие к ней идеи Пригов высказывает уже в переписке с Никоновой 1982 г.; без дополнительных исследований пока нельзя сказать, знал ли Пригов соответствующие идеи Лотмана до их фиксации в статье или просто их мысли развивались параллельно.
Лотман писал:
«Семиосфера отличается неоднородностью. Заполняющие семиотическое пространство языки различны по своей природе и относятся друг к другу в спектре от полной взаимной переводимости до столь же полной непереводимости. Неоднородность определяется гетерогенностью и гетерофункциональностью языков <…>. Но ведь надо учитывать и то, что разные языки имеют разные периоды обращения: мода в одежде меняется со скоростью, несравнимой с периодом смены этапов литературного языка, а романтизм в танцах не синхронен романтизму в архитектуре»[132].
Семиосфера Лотмана напоминает модель современной культуры, как Пригов описывал ее в статьях и письмах 1980–90-х: пространство, в котором сосуществуют разные языки, развивающиеся с различной скоростью, и где доминирование одного из них всегда является временным событием. Аналогично, и для Лотмана, и для Пригова большое значение имеют понятия границы (семиосферы — у Лотмана, между искусством и «неискусством» — у Пригова):
«Представление о границе, отделяющей внутреннее пространство семиосферы от внешнего, дает только первичное, грубое деление. Фактически все пространство семиосферы пересечено границами разных уровней, границами отдельных языков и даже текстов, причем внутреннее пространство каждой из этих субсемиосфер имеет некоторое свое семиотическое „я“, реализуясь как отношение какого-либо языка, группы текстов, отдельного текста <…> к некоторому их описывающему метаструктурному пространству»[133].
Не это ли «семиотическое „я“» Пригов и называл «имиджем»? Не потому ли его не устраивали и отчетливо раздражали такие термины, как «маска» или «языковая роль», что он стремился перформативно воплотить именно более сложное отношение — то, которое описывает Лотман, говоря о «метаструктурном пространстве»? И если Пригов в своих «перформансах теории» последовательно стремился занять позицию метаописания, то это лишь на первый взгляд противоречит той гиперидентификации с существующими культурными языками, которая происходит в его текстах. Как поясняет Лотман:
«Высшей формой структурной организации семиотической системы является стадия самоописания. Сам процесс описания есть доведение структурной организации до конца. <…> При этом система выигрывает в степени структурной организованности, но теряет те внутренние запасы неопределенности, с которыми связаны ее гибкость, способность к повышению информационной емкости и резерв динамического развития»[134].
Отсюда можно высказать предположение, что приговская поэтическая практика отличается от многочисленных пародий и так называемой «иронической поэзии» именно тем, что Пригов работает с грамматикой определенного культурного языка, разыгрывая свой перформанс данного дискурса не на уровне конкретных образов и риторических ходов, а на уровне метаописания — и именно таким образом доводя дискурс до состояния окаменелости. Причем Пригов нередко описывал свою стратегию именно в лотмановской терминологии, например: «Меня волнуют не слова сами по себе, а некие культурологические грамматики, большие идеологические блоки…»[135].
Вообще определение семиосферы по Лотману обнаруживает неожиданное сходство со взглядами даже не Пригова, но американских концептуалистов 1960-х гг. Одна из самых известных инсталляций основателя концептуализма Джозефа Кошута «Один и три стула» (One and Three Chairs, 1965) состоит из реального стула, фотографии этого же стула и написанной на загрунтованном холсте копии словарной статьи «стул». Ключевым для понимания работы является тот факт, что на фотографии изображен именно выставленный стул. Ср. у Лотмана:
«Представим себе <…> зал музея, где в разных витринах выставлены экспонаты разных веков, надписи на известных и неизвестных языках, инструкции по дешифровке, составленный методистами пояснительный текст к выставке, схемы маршрутов экскурсий и правила поведения посетителей. Поместим в этот зал еще экскурсоводов и посетителей и представим себе это все как единый механизм. <…> Мы получим образ семиосферы»[136].
По-видимому, несмотря на минимальный интерес к современной ему неподцензурной поэзии и к неофициальному искусству, Лотман развивался в том же культурном пространстве, что и они, и адаптируя ту же логику.
Условием «мерцательного типа поведения художника», который описывал Пригов, является тактика «невлипания» или «незалипания».
Слово «незалипание» — одно из ключевых в кружковом лексиконе московского концептуализма[137]; вероятно, оно возникло под влиянием философской концепции, предложенной в дилогии Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Капитализм и шизофрения» (ее составляют книги «Анти-Эдип» и «Тысяча плато»). Активным пропагандистом идей Делеза и Гваттари в кругу московских концептуалистов был Михаил Рыклин — скорее всего, от него Пригов первоначально и узнал о работах французских философов. Однако важно подчеркнуть, что рецепция идеи «невлипания» у Пригова, как и у других концептуалистов, была вполне инновативной: Делез и Гваттари призывали творчески настроенных интеллектуалов (к которым они в первую очередь и адресовались) сопротивляться любым дискурсам власти, но мало говорили о временном режиме этого сопротивления и о том, как можно, сопротивляясь, все же изучать и эстетически осваивать властные языки — «оставаясь на достаточно долгий промежуток времени, чтобы все-таки коснуться <…> и быть <…> в контакте».
Российская специфика
Пригов настойчиво не противопоставляет Россию западной культуре, подчеркивая не один раз, что Россия является «только и исключительно Востоком Запада» («Тысячелетье на дворе»[138]), что, впрочем, не исключает специфики русской культурной динамики. Попробуем суммировать взгляды Пригова на эту динамику — в том виде, в котором они были сформулированы во второй половине 1990-х и в 2000-е.
Во-первых, постоянной стратегией российских элит является «сознательная архаизация культуры и выстраивание ее по некоему подобию просвещенческо-аристократической модели старого образца». Для российской культуры поэтому характерны литературоцентризм и магическая, сакральная роль писателя, особенно поэта. Отсюда и особые функции интеллигенции и совмещение в писателе «функций учителя, пророка, судьи, и более мелких — философа, публициста, просветителя» (WSA, s. 317). Эти функции, конечно, характерны для того, что Пригов называет Просвещенческим проектом, который в Европе, по мнению Пригова, был окончательно дискредитирован итогами Второй мировой войны (здесь можно увидеть отголосок идей, высказанных в книге Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно «Диалектика Просвещения» [1944], а также послевоенных работ Адорно). «Однако же в Советском Союзе, — пишет Пригов, — эти итоги были, наоборот, восприняты как торжество Возрожденческого проекта» («Завершение четырех проектов»), который при этом наложился на законсервированную Просвещенческую модель.
Во-вторых, России свойственно чередование периодов изоляции и «догоняющей модернизации» («Тысячелетье на дворе»). В периоды «догоняющей модернизации» целый ряд пропущенных в годы изоляции исторических инноваций является сразу — в готовом виде, как «нечто целое с доминирующими интеграционными признаками». Такой способ освоения инноваций вызывает в русской культуре стабильный «прото-постмодернистский эффект»:
«<…> ничего из возникавшего в социо-культурной перспективе не уходило в историческую перспективу и длилось в своей неизменной актуальности. То есть когда одинаково горючей слезой оплакивали и кончину, к примеру, только что отошедшей матери, и смерть безвременно ушедшего полтора века назад А. С. Пушкина. Именно постоянное передвижение, мелькание, мерцание между этими многочисленными вечно актуальными культурно-историческими пластами и породили специфику русского культурного сознания… Эдакое наше прото-постмодернистское сознание» («Третье переписывание мира»)[139].
Или же о перестроечном периоде:
«Диахронный <…> процесс изменений в мировой культуре у нас объявился периодом синхронного, параллельного освоения, обживания и пластифицирования к местным условиям всех направлений и стилей. То, что на Западе заняло 100 лет, в СССР прошло за 10» («Как вас теперь называть»)[140].
В-третьих, периоды «догоняющей модернизации», как правило, совпадают с периодами глобальных исторических катастроф, что придает российским модернизациям эсхатологический оттенок:
«Россия же, в очередной раз поднявшись из глубинных китежских экранирующих вод остраненности и самозамкнутости, присоединившись к западно-культурным процессам, подтвердила, что всякое ее появление на европейском плацдарме приводит, или же просто провиденциально совпадает с глобальными катаклизмами. Да, поверьте, это страшно! Да вы и сами видите…», — пишет Пригов в тексте «Мужайтесь, братья!»[141].
Взятое вместе — в совокупности с более широкой типологией культуры — приводит самого ДАП к спектру стратегий, которые могут быть объединены категорией трикстерства.
Художник-трикстер
Трикстер как культурный троп предполагает комбинацию следующих категорий: (1) лиминальность и связанные с ней (2) позиция медиатора и амбивалентность; (3) трансгрессия законов, норм, правил, приличий, понимаемая как эстетический, т. е. самодостаточный, акт; (4) трансгрессии и подрыв разнообразных табу как парадоксальный способ отношений с сакральным.
На первый взгляд категория трикстера кажется малоприложимой к такому рациональному по методам художнику, как Пригов. Однако парадокс приговской поведенческой стратегии видится именно в том, что он рационально моделирует именно трикстерскую позицию: в самой этой позиции присутствует то, что Пригов называет драматургией, — напряжение между рациональным программированием и спонтанной реализацией трансгрессивной свободы. Спонтанность, по Пригову, должна быть сначала отрефлексирована, а потом уже воплощена в жизнь по определенным правилам: «<…> для меня важна чистота позиции, принцип осознанности правил игры, аксиоматических положений, положенных в основу твоего поведения» («Я работаю, имиджами», 1992).
Ключевыми в приговской интерпретации трикстера (а это вообще один из самых подвижных культурных архетипов) становятся понятия перформатизма как особой версии артистизма и лиминальности, порождающей, в свою очередь, амбивалентность и медиацию. О перформатизме было сказано выше, что же касается лиминальности, то Пригов видит место современного (актуального) художника только и исключительно в пограничной зоне — между визуальным и словесным искусствами, между разнообразными «логосами языка», между личным и социальным, между истеблишментом и альтернативной культурой (в пределе — между властью и терроризмом), подчеркивая, что эта граница «должна быть не на замке, а насквозь, легко и в любом месте проходима, то есть моя работа и есть [деятельность] по повышению проходимости этой границы, но в то же время надо следить, чтобы она полностью не исчезла, так как исчезнет основное напряжение моей деятельности» (WSA, s. 316). Таким образом, сам художник становится «модулем перевода из одного языкового пространства в другое» («Культо-мульти-глобализм»), Но главное — в современной культуре, с ее акцентом на операционности и поведенческих стратегиях, художник сам создает границу, которую тут же с удовольствием пересекает — тем самым выступая как вдвойне трикстер:
«Именно этот фокус произвольного назначения границ, назначения зон по обе ее стороны и авторского объявления в любой точке посредством манипулирования границами и зонами и дает искусству до сих пор возможность слыть за нечто „неземное“ не только во мнении публики, но и в самоидентифицировании самих художников, лукаво забывающих об изначальном аксиоматическом жесте»[142].
Как упоминалось, Пригов связывает функцию художника-медиатора с романтическим типом культуры. Однако до постмодернистской эпохи медиация, осуществляемая художником, носила относительно закрепленный характер: типы медиации могли меняться по ходу эволюции автора, но в каждый данный период явственно доминировал один определенный вариант. В постмодернистскую же эпоху распад устойчивых художнических ролей (творца-титана, просветителя, мудреца, авангардиста-экспериментатора) требует постоянной и одновременной игры на гранях этих и многих других позиций и дискурсов, видов искусств и типов высказываний. При этом на первый план выходит не столько медиация, сколько амбивалентность. Очень важной оказывается «проблема личного высказывания» — суть проблемы сводится к неопределенности категории «личности», от которой могло бы исходить такое высказывание. Пригов отвечает на этот вопрос, ограничивая «личность» автора «способностью] одного и того же художника оперировать различными языками, не отдавая пальму первенства ни одному из них, не идентифицируясь ни с одним из них, не полагая ни один из них уровнем разрешения своих творческих амбиций <…>» («Скажи мне, как ты различаешь своих друзей, и я скажу, кто ты»)[143].
В сочетании с тотальным перформатизмом, направленным на все без исключения дискурсы и языки с их универсалиями, лиминальность формирует трикстерскую — трансгрессивную — функцию художника; в своей «Пушкинской речи» (1993) Пригов формулирует ее так:
«<…> миссией художника является свобода, образ свободы, тематизированная свобода не в описаниях и толкованиях, но всякий раз в конкретных исторических обстоятельствах, конкретным образом являть имидж художника, инфицировавшего себя свободой со всеми составляющими ее предельности и опасности <…>. Именно артикуляция свободы (во всяком случае в наше время) является точкой, стягивающей на себя все остальное и являющей через себя все остальное» (WSA, s. 290).
Трикстерская трансгрессивная свобода проявляется, в частности, и в приговской растрате всего авторитарного и сакрального[144].
Новая антропология
Эффект глобализации, размывающей географические и культурные границы, культ мобильности, одновременно фиксирующий и стимулирующий текучесть идентичностей, развитие генетики и новых технологий — все это, по мысли Пригова, способствует проблематизации границ человека и человеческого. «Вера в уровень общеантропологических оснований в момент нынешней дискредитации всех остальных социальных и культурных утопий и является последней утопией, основой и возможностью нынешнего существования общечеловеческой культуры» («Культо-мульти-глобализм»)[145]. Именно ее, эту последнюю утопию, и должно, по логике Пригова, подрывать современное актуальное искусство. В «Завершении четырех проектов» он пишет об этой же утопии «<…> нынешнее пафосное, даже драматическое утверждение этой утопии только подтверждает сомнения и предощущение ново-антропологического трансгрессивного выхода за ее пределы»[146].
Телесность — тема, выпестованная в постмодернистской философии, — поначалу представляется Пригову ключом к новой антропологии: «Представим, что у человека, танцора, к примеру, три ноги. А что, нельзя? — можно! Или что он вообще — шар»[147], — пишет он в тексте «Оставьте в покое бедное тело» (1999), и сам этот перенос постмодернистской мобильности на телесность (в духе голливудского фильма «Гаттака», где у профессионального пианиста обнаруживаются лишние пальцы на руках — продукт генной инженерии) уже является формой подрыва границ. Если собственно антропологические трансформации изменяют материальную основу человека, то виртуальность — как альтернативная составляющая новой антропологии — его вовсе дематериализует, превращая в «фантомное тело»: «Тотальная виртуализация предполагает редуцирование тела до иных агрегатных состояний <…>. Новая антропология предполагает работать с телом способом продуцирования взаимозаменяемых, воспроизводимых и идентичных антроподобных образований». Сама возможность создания таких копий или клонов, по мнению значительной части современных «западных обществ», бросает вызов важнейшим принципам иудеохристианской культуры (что подтверждают политические запреты на эксперименты по клонированию людей). Главным конфликтом этой наступающей культуры Пригов считал «напряжение между дискурсом и его телесностью» (WSA, s. 340).
Однако такое напряжение уже присутствует в постмодернизме, и в манифесте еще 1993 г. «Мы так близки, что слов не нужно» Пригов так объяснял отличия современной ситуации от той, что была актуальной еще вчера: «Вечная драматургия (постмодернизма. — М.П., И.К.) „свой — чужой“ приобретает несколько иную конфигурацию <…>. Ныне способность мобильности и переводимости экстраполируется за пределы антропоморфного существования». Что, в свою очередь, предполагает «возможную практику смирения, то есть умаления себя до чего-то, поначалу внешнего, и идентифицирования себя с ним, принятия на себя его мерности» (WSA, s. 339). Таким образом, центральной для новой эпохи должна стать оппозиция «человеческое — нечеловеческое»; и художнику придется искать себе место в лиминальной зоне между этими категориями. По-видимому, многочисленные и разнообразные приговские монстры, соединяющие черты человеческого и нечеловеческого, как раз и выражают такую «пограничную ситуацию».
«Новая антропология» — радикальная проблематизация гуманизма, не отвергающая гуманистическую традицию напрочь, но исследующая ее основания в современном мире. При этом Пригов оперирует выработанным в гуманистической традиции понятием «человека вообще» (многие критики гуманизма от него отказываются). Он ставит под вопрос центральное положение человека в мире, но очень озабочен этим положением, эта забота выступает как едва ли не главный мотив его размышлений.
На первый взгляд кажется, что в приговских рассуждениях о «новой антропологии» авангардист побеждает постмодерниста. Пригова явно увлекает модальность проектирования будущего. Однако, во-первых, Пригов в своих проектах будущего, в которых человеческая жизнь и личность, как он предполагает, выйдут за пределы человеческой телесности — путем клонирования или виртуальным образом, — обращает внимание на то, как эти трансформации разрушат фундаментальные мифологемы человечества; а во-вторых, его интересуют новые границы внутри новой антропологии, которые он тут же подвергает проблематизации[148]. Вот почему, несмотря на авангардный пафос радикального нового будущего, сам он описывает «новую антропологию» в категориях постмодернистской эстетики — постмодернизм оказывается достаточно гибким для того, чтобы вобрать в себя и эту проблематику (недаром в рассуждениях Пригова так много перекличек с постмодернистским киберпанком и голливудскими фантастическими фильмами 1990-х — их эстетика Пригова интересовала специально[149]).
Авангардный постмодернизм
С авангардом Пригова роднит настойчивый поиск новизны, а вернее, новой эстетической драматургии. Здесь важно именно понятие «драматургии», которым Пригов оперирует: под ним имеется в виду поле конфликта, внутренних напряжений культуры, из которых только и может родиться новизна. Пригов очень скрупулезно следит за тем, как меняются конфигурации конфликтных полей культуры, как былая новизна превращается в «художественный промысел», — с тем чтобы избежать этой судьбы. У него не просто «нюх на новизну», он целенаправленно и рационально ищет зоны, где клубятся культуростроительные конфликты. Он определяет их как
«зоны неразличения (вот! вот! они-то и есть самые страшные! интуитивно чувствуемые как зоны опасности! Тьмы, откуда появится чудище, предназначенное сожрать нас!), непрозрачности, определяемые как чушь и нонсенс, но, по-видимому, именно где-то в их пределах и следует искать, вернее, предполагать прорастание истинно нового (а может, уже частично и проросшего), не имеющего разрешения в пределах конституированной системы и определяемого просто как иное».
Характерно, что эссе, из которого взят этот фрагмент, называется «Расскажи мне, брат, про свое будущее, и я скажу, кто ты, брат»[150].
Пригов возвращает искусству политическое значение[151] тем, что в его системе идей организующая функция выражается в том, что искусство не только проблематизирует любую властную идеологию, но и парадоксальным образом структурирует культурный, а значит, и политический континуум. Постоянно пересекая и сдвигая границы, художник в приговском понимании тем не менее их охраняет, поскольку граница связана с конфликтом, а конфликт вытекает из эстетической драматургии момента. Художник выступает как своего рода «демон Максвелла» — по сути, глубоко романтический персонаж.
Конечно, такое понимание политики искусства противоположно авангардному активизму и явственно принадлежит эстетике постмодерна. От постмодернизма идет и приговское отношение к языкам искусства, политики, массмедиа и к самому себе как к персонажу тотального «макроперформанса». От его типологии культуры веет авангардным универсализмом, но этот пафос уравновешивается «даром культурной вменяемости», четким осознанием того факта, что параллельно и одновременно — особенно в России — сосуществуют множество культур, литератур и соответствующих способов их восприятия. Отчетливо постмодернистской является и последовательная проблематизация Приговым собственной позиции, «личного высказывания», проявляющаяся даже в его теоретических сочинениях (перформанс теории).
Пригов постоянно возвращался к мысли о том, что в современной культуре отсутствует оптика, в которой можно было бы наблюдать тот основанный на тотальном перформатизме тип искусства, который он создал и теоретически обосновал. Так, например, в интервью А. Яхонтовой (2004) он говорит:
«В будущем, может быть, возникнет специальная оптика для отслеживания данного фантома („проекта ДАП“. — МЛ., И.К.). Пока же она отсутствует, посему почти невозможно следить и запечатлевать эту центральную — фантомную, поведенческую, стратегическую — зону деятельности. Современное литературоведение обладает оптикой слежения только за текстами. А когда оно смотрит в эту самую обозначенную центральную зону, перед ним просто несфокусированное мутное пятно. Литературоведы не могут ничего разобрать. Посему они и занимаются отдельными окаменевшими текстами. Но если со временем наука или исследователи изобретут оптику, которая могла бы считывать вот эту центральную зону, тогда все остальное, как и было сказано, предстанет им как пусть порой и привлекательные и даже кажущиеся самоотдельными, но все-таки случайные отходы деятельности вот этой центральной зоны, где происходят основные поведенческие события»[152].
Можно ли описать эту «центральную зону», исходя из беньяминовской модели автора как продюсера? Лишь отчасти и весьма неполно. Более полезными нам представляются наследующие Франкфуртской школе современные теории социальных практик: не столько даже Бурдье, сколько Люка Болтански и Лорана Тевено, видящих ядро социальной практики в специфических логиках оправдания данной практики, в особых риторических конструкциях, обосновывающих, структурирующих и объединяющих многообразные формы того, что мы называем бизнесом, повседневной жизнью, производством, политикой, или культурной деятельностью, или искусством[153].
Рассматривая творчество Пригова в этом контексте, можно высказать гипотезу о том, что он обращает свою критику не только на «грамматику дискурсов», о чем мы говорили выше, но и на существующие «логики оправдания» современных культурных практик. Подрывая эти логики, он одновременно создает динамическую перформативную модель того, что значит «заниматься искусством», «быть художником», «сочинять стихи» в данном пространстве и времени. Таким образом, Пригов превращает художественное существование именно в «раскрывающую метапрактику», выступая в качестве аналитика социокультурных практик и их гипертрофированного производителя одновременно. Тем самым он стремится создать глобальный перформанс современной культуры, в своем роде Gesamtkunstwerk современности, пропущенный через фильтры приговской индивидуальной системы деконструкции.
Именно в этом стремлении к трикстерскому «разыгрыванию» всей современной культуры, по-видимому, следует искать причину легендарной продуктивности Пригова-поэта. Огромное количество (более двадцати тысяч) стихотворений, которые написал Пригов, создавая их в ежедневном режиме, важны именно не как тексты, а как практика, которая и должна быть ежедневной или по крайней мере регулярной и которая должна состоять из в принципе неисчислимого количества однородных, но не идентичных феноменов.
Таким образом, сквозь призму теоретических идей Пригова «проект ДАП» предстает по-своему уникальным экспериментом постмодернистской деконструкции, осуществленной не только по отношению к социокультурным практикам, но и на самом этом поле — экспериментом, который неизбежно (а в случае Пригова целенаправленно) влиял на состояние объекта анализа. Впрочем, учитывая целенаправленность воздействия проекта «ДАП» на широкое поле культурных практик, приговский постмодернизм можно прочитать и как постутопическую версию авангарда с его политическим активизмом — в том виде, в каком его воображал Беньямин. Пригов и тут остается медиатором, а точнее, трикстером.
Июнь, сентябрь 2010 г.Лена Силард НАЧАЛА И КОНЦЫ (К проблеме образа автора и его автопортретов)
Проблема автора и авторского образа в современной литературе — одна из наиболее спорных. Не случайно она дала о себе знать и в полемике ДАПа с А. Зиминым, который воспроизвел общеизвестный европейский тезис второй половины XX в. о смерти автора. Замечательно было возражение ДАПа, отвергающее это банализованное многими современными эстетиками утверждение: по слову ДАПа, «автор <…> мутировал, но никуда не исчез»[154].
Насколько приложимо это утверждение к творчеству самого ДАПа? Если мутировал, то — как, в каких направлениях? Сложность проблемы состоит здесь, конечно, прежде всего в том, что творческая деятельность ДАПа развертывалась на стыке самых разных форм искусства, иными словами: если для большинства других авторов род искусства оказывался «меткой», указывающей на пределы избранной ими формы, то для ДАПа, утверждавшего в качестве центральной задачи современного художника — быть модулем перехода из одного состояния в другое, искусство являлось предпочтительным полем деятельности, направленной на то, чтобы быть «поверх барьеров» и тем самым наиболее отчетливо реализовать свое назначение как области абсолютно явленной свободы.
Взаимодействие разных форм творчества в деятельности ДАПа, пришедшего в литературу из мира изобразительных искусств, давало о себе знать с самого начала. Примечательно лишь то, что по мере развертывания того, что он назвал «проектом ДАП», число вовлекаемых в этот проект систем разных искусств стремительно расширялось, стремясь к вовлечению также и акустических, и динамико-кинетических, и полимедиальных форм; однако я — исходя из установок самых ранних его творений — позволю себе ограничиться всего лишь проблемой взаимодействия словесного и визуального рядов. Тем более что и сам ДАП обозначил это явление в качестве первого импульса к деятельности его группы[155], и подступы к такому взаимодействию наблюдались уже с середины XIX в., а в начале XX в. заявили о себе вполне решительно, особенно в творчестве художников-поэтов авангарда, на традиции которых ДАП со всей очевидностью опирался (достаточно вспомнить «книжки» типа «Игры в аду» Крученых и Хлебникова с иллюстрациями Н. Гончаровой).
Дабы убедиться в том, что эта устремленность к активизации взаимодействия словесного и визуального была, видимо, запросом времени, стоит вспомнить, что, например, и Ремизов, не входивший непосредственно в круг авангардистов, тоже создавал «рукописные книги», подчеркивая «рукописность» своих текстов и называя их «письменно-рисовальными»: «Моя рукопись переходит в рисунок и рисунок в рукопись, все рисунки я подписываю… Исключение: „Демоны и люди“ и „Бестиарий“ — книги без подписей, но это потому только, что я не знаю имена всех демонов, а у меня их триста, и басенных зверей, их тоже порядочно»[156]. Ремизов считал, что «в самом процессе письма есть рисование», и потому «рисунки писателя любопытны как очертания его „невысказавшейся“ мысли»[157]. Под этим утлом зрения он изучал графические рисунки Пушкина, Гоголя, Достоевского и др., утверждая, что они являют собой «продолжение строчек» и «невысказанных слов»[158].
Отправляясь непосредственно от этого наблюдения Ремизова, я предполагаю наметить комплекс проблем, связанных с оформлением образа автора (и его «автопортретов» в прямом, метафорическом и символическом смыслах) в нескольких творениях ДАПа[159]. В конечном итоге важно было бы выявить «эпистемологические», «концептуальные» (пользуясь терминологией самого ДАПа), другими словами — философско-эстетические, культурологические и общеантропологические (за-антропологические, транс-антропологические?) основания, обусловившие его решительный выбор пути «поверх барьеров», все более расширяемого благодаря введению новых и по-иному знаково-оформляемых возможностей. Я предполагаю показать это в форме абсолютно пунктирного пробега, выделив 4 текста, которыми отмечены начало и финал «проекта ДАП».
I
Это стихотворение — одно из ранних, со всей очевидностью не предназначенное для публикации (и, насколько мне известно, не опубликованное)[160]. На страничке, вырванной из блокнота-травелога, именно благодаря ее крайней простоте проявились те качества, которые составили в итоге, на мой взгляд, фундаментальную основу столь широко развернувшегося в конце концов творчества ДАПа.
Что я имею в виду? Стихотворение по-игровому ориентировано на «модель», созданную — конечно же — Пушкиным, на его известнейшее стихотворение «Подъезжая под Ижоры», переложенное на музыку Г. Свиридовым и многими другими композиторами, исполнявшееся бесчисленное количество раз то в числе русских романсов, то как стихотворение (в частности, Смоктуновским), т. е. — что очень важно! — стихотворение ДАПа ориентировано на текст классика Пушкина, абсолютно растиражированного и идеологизированного в русской культуре, особенно советского периода.
Думаю, именно поэтому оно было использовано ДАПом в качестве прототекста своего творения: нечто подобное ДАП проделывал и с растиражированными и приспособленными к нуждам радиопропаганды стихами Ахматовой, Пастернака и т. д., т. е. уже в этом тексте ДАПа очевидна установка на выявление механизмов культуры, функционирующих как процесс идолотворчетва, в котором союзно участвуют (зачастую не осознавая этого) творящие «единицы» и тиражирующие их, «поклоняющиеся» им «массы»[161].
Стихотворение Пушкина было написано в 1829 г., т. е. уже известным всей читающей России поэтом, и представляло собой закрепившийся за Пушкиным жанр «шутливого признания в любви». Литературоведение его относит к типу «альбомно-эпистолярных посланий», поскольку оно было обращено к 17-летней тогда Екатерине Вельяшовой, включенной Пушкиным в его «донжуанский список».
Из архива Л. Силард.
Подъезжая к Будапешту, Я взглянул на небеса И припомнил всего прежде Ваши синие глаза. Аги, милая девица! Мой высокий идеал! Чем смогу я надивиться, Едя в этакую даль. Чем смогу я надивиться В этом мире кроме вас, Аги, милая девица, Компас мой и ватерпас! 28.07.1975 г.Рисунок Н. Гончаровой на обложке
первого издания поэмы А. Крученых и В. Хлебникова
«Игра в аду» (1912).
Профиль Вельяшовой Пушкин нарисовал на полях рукописи (как он это делал не раз, указывая на объект своих чувств изображением профиля, ножки, руки и т. д.).
Ритмической структурой и особенно лексикой первой и третьей строк своего стихотворения ДАП подчеркнуто отсылает к «прототексту», вступая в «игровой диалог» с классиком № 1, другими словами: молодой и еще фактически не известный (во всяком случае, еще нигде, даже за границей, не печатаемый) автор — принимая позу самоумаления, прежде всего благодаря нарочитой неуклюжести своего текста, в частности ошибочному построению словоформ типа «едя» («едя в этакую даль») или нарушающим узус словосочетаниям («компас мой и ватерпас»), но и «авангардным рифмам» (идеал — даль), — начинает игровую, однако по существу очень серьезную полемику с мировидческими установками избранного им прототекста — творения классика (как и в случае с Пастернаком).
В чем это проявляется?
1) Если стихотворение Пушкина — очевидное, хотя и шутливое в концовке, любовное послание, то стихотворение ДАПа обращено к «девице» (на самом деле — к маленькой девочке), рисуемой не как объект любовного ухаживания, а как «высокий идеал», о котором тоже вспоминается при взгляде на небо и говорится тоже с шутливой улыбкой.
2) Если рисунок, которым Пушкин сопровождает свое стихотворение, — традиционная для этого жанра, по крайней мере у Пушкина, «иллюстрация» объекта любовного увлечения (профиль, ножка), то рисунок ДАПа изображает не объект, а автора послания, т. е. представляет своего рода автопортрет, который оказывается переводом словесного автопортрета, запрятанного в тексте стихотворения, в портрет изобразительный: словесное и визуальное изображения поддерживают друг друга, особенно в том, что касается игрового подчеркивания самоумаления автора перед огромностью открывшегося его взору мира. И если словами это выражено как весело разыгрываемое удивление перед дальностью поездки («едя в этакую даль» — хотя всего лишь в Будапешт! — но не забудем, что речь идет о поездке «почти на Запад» во времена, когда это удавалось очень немногим), то на рисунке это представлено как замена ожидаемой по привычке подписи автора — его изображением, «динамизируемым» связанностью с милыми зверушками.
В последнем я вижу специфически приговское перепроигрывание авангардных игр, когда Хлебников, а потом и Хармс, и Введенский, и многие другие (вспомним и Ремизова, и Шагала) увлеченно занимались антропологизацией зооперсонажей (вспомним, например, «Зверинец» Хлебникова), в продолжение чего ДАП, выводя автора текста за пределы антропоморфности, стал сближать его с разного рода «малыми мира сего». Он заявил об этом программно в «Предуведомлении» к «Восемьдесят пятой азбуке (птиц, зайцев, зайчат, клопиков, медведей и меня» и многократно обыграл в шутливых диалогах поэта — но чуть ли не в духе Франциска Ассизского[162] — с «крохотной пташкой» (там же, с. 5), с Котом (там же, с. 168–174), «заенькой» (так! — Л.С.)[163], «конем опавшим» (там же, т. 2, с. 73), «небесной пичужкой» (там же, с. 102) и в обращениях к разного рода живности — вспомним, к примеру, диалоги поэта с мухой и тараканом:
«Мой брат, таракан, и сестра моя, муха Родные, что шепчете мне вы на ухо»[164].Особой интерпретации требует, по-моему, также факт «утроения» визуального образа автора в «подписи», указывающего на движение, что я осмеливаюсь — помимо всего прочего — сопоставлять с умножением, удвоением-раздвоением образа автора в стихотворных текстах Вагинова, на которое обратил внимание Д. Сегал[165]. (Вагинова ДАП хорошо знал и ценил, во всяком случае любил говорить о Вагинове, Введенском, почти никогда — о Хармсе. Забегая вперед, к финалу сообщения, хотелось бы также указать на другую аналогию с Вагиновым: подобно тому как Вагинов основные коллизии своей поэзии обобщил позднее в романе «Труды и дни Свистонова», так и многие исходные мотивы ранней поэзии ДАПа обобщились позднее в его романах.)
Что же касается рассмотренной нами странички из блокнота, то она, будучи мысленно помещенной в контекст более или менее подобных ей, ведет к первым выводам.
Во-первых, напрашивается вывод о тесной связанности и взаимопереводимости словесных и визуально-изобразительных образов в творчестве ДАПа, в данном случае — образа автора, причем очевидно, что рисунок (в отличие от словесного текста с его требованием хотя бы отчасти придерживаться языковых норм) обеспечивает гораздо больший простор для отклонений от кодифицированных требований узуса.
Во-вторых, уже этот простой текст говорит об устойчивости в творчестве ДАПа философски (эпистемологически — если пользоваться его терминологией) акцентируемого вопроса о претензии человека на первое место в универсуме, и — кажется — именно потому мир рисуется у ДАПа как раздвинутый «во все концы света», а авторское Я — как некое возражение против слишком уж гордых притязаний человека на исключительность в ряду населяющих землю существ, да и вообще — творений космоса.
В-третьих, это — роль взгляда-глаза (здесь вверх, затем будет и вниз, а под конец — в «Ренате и Драконе» — роль взгляда будет представлена как проверка реальной значимости господства антропного принципа).
В-четвертых, напластования уровней памяти и воспоминания как актуализация переживания и рассказа о нем, благодаря чему нарратив в стихотворении проявляется как элемент травелога.
II
Продолжая эту тему расширения горизонтов образа автора в направлении выхода за установленные традицией пределы антропологии, прежде всего с помощью перехода от вербального оформления текста к визуальному (как менее кодифицируемому), я хотела бы напомнить о концовке другого стихотворения, которое начинается характерной для ДАПа бытовой сценой:
Килограмм салата рыбного В кулинарьи приобрел… Сам немножечко поел Сына единоутробного Этим делом покормил… —а завершается серьезнейшим философским выводом:
И уселись у окошка Возле самого стекла Словно две мужские кошки, Чтобы жизнь внизу текла[166].Я не знаю, существует ли оформленное средствами визуальных искусств приговское изображение этих замечательных «двух мужских кошек», но с точки зрения моей темы важно обратить внимание на то, что автору пришлось — именно для того, чтобы точно передать мысль о специфичности ситуации, — нарушить языковые нормы и заняться словотворчеством, сотворив тем самым «кошачьих андрогинов» («мужские кошки»), наделенных к тому же сверхъестественной творческой властью: это их взгляд на мир устремлен вниз, «чтобы жизнь внизу текла», другими словами — чтобы антропный принцип преобразовался в универсально животворящий принцип.
III
Отсюда нас ведет вполне прямой путь к анализу приговских Монстров, из которых я выбрала «Автопортрет» (1997), где автор представлен (как и многие другие носители творческой энергии этой серии) в деантропизированном виде, точнее — в виде усложненных и монстрообразующих комбинаций множества элементов. Хотелось бы напомнить, что в латинском языке monstrum означало ‘предзнаменование’ (monstra ac portenta — Цицерон), ‘чудо’, ‘диво’ (Катулл, Вергилий и др.) и только в сочетании с атрибутом это слово приобретало современные значения: monstrum horrendum — ‘чудовище’ (Вергилий), monstrum mulieris — ‘урод’ (Плавт)[167].
В приговской монстрогалерее симптоматично уже само изображение конгломерата элементов: характерно разъятие образов на составляющие их единицы, собирание из них новых образов по принципу «произвольного разрастания», описанному у Эмпедокла в качестве «ошибки природы», а у Дж. Бруно — как вариационность проявлений универсального трансформизма, благодаря чему в зависимости от условий и направления комбинаторики может возникнуть все что угодно, поскольку строительные потенциалы хаоса безграничны[168]. Согласно комментарию Карсавина к идее Бруно о парадигмах самоорганизующихся систем и перегруппировке их составных частей, монстр представляет собой «акцидентальное стечение элементов (potentia compositionis et etherogeneitatis). Эта потенция актуализируется в бесконечном ряде конкретных индивидуальных сложений»[169]. Что же касается суждений нашего времени — биогенетика уже экспериментально различает варианты и виды разрастания «эмбриональных стволовых клеток».
В крайне разнообразной по содержанию галерее монстров ДАПа, которую он строил, по собственному признанию, чтобы создать критическую массу, способную противостоять тому, что модно, можно выявить повторяющиеся приемы организации образов: каждый элемент изображения представляет собой эмблему или метафору какого-то из качеств изображаемого «лица», причем эти элементы комбинаторно сочетаются или подаются «композиторно», во взаимоналожении. По наблюдению Дж. Ди Пьетрантонио, организатора выставки ДАПа в Лекко в 1997 г., зритель призван расшифровывать эти композиции, опираясь на «внутренние цитаты» словно на геральдические знаки и символы, которые с неизбежностью прочитываются по-разному[170], а это — добавим — позволяет изображению стать зеркалом, выявляющим пределы возможностей реципиента. Другими словами: созданный творцом монструозный образ именно благодаря своей анормативности прочитывает и вскрывает качества воспринимающего его сознания, вынося на поверхность и демонстрируя фобии этого сознания по отношению к непривычному, как и управляющие им тривиалии (закрепившиеся в нем «общие места»), в конечном итоге — степень несвободы сознания реципиента. Такое — не устрашающее, а игровое и эпистемологически (в приговском смысле этого термина) провоцирующее — структурирование монстров в галерее ДАПа, в сущности, противостоит ныне вошедшим в моду монстрологиям, восходящим к средневековым бестиариям и ориентированным на поддерживаемое идеей бинарной оппозиции переживание «устрашающе-чужого», анализируемое в юнго-лакано-кристевообразном ключе.
Что же касается монстрологии ДАПа, то хотя многие ее знаки могут прочитываться по-разному, однако их смысловое единство позволяет рассматривать эту серию монстров — несмотря на крайнее разнообразие вовлеченных в нее персонажей — как единый цикл (подобно тому, как можно рассматривать в качестве относительно единых циклов серии «голов» и зверушек Ремизова или же П. Филонова, создаваемых не фобиями, а, напротив, не ведающим о страхе чувством родства всех элементов мира, независимо от удачности или неудачности их комбинаций). Не случайно ДАП вынужден был выдвинуть в качестве пояснения к этой позиции простейший тезис: «Мир делится не на хороших людей и плохих монстров, а на хороших людей и монстров и на плохих людей и монстров»[171].
В монстрологии ДАПа Ди Пьетрантонио отмечает целый ряд символов, восходящих к временам архаики, прежде всего — непременную заключенность «персонажа-монстра» в круг, который он называет магическим, а своеобразное «всевидящее око» в верхней части почти всех изображений — согласно его интерпретации — с древнейших времен представляет нечто высшее и мистическое. В его статье отмечается также ряд других устойчиво повторяющихся деталей, но так как эти пояснения, на мой взгляд, не всегда достаточно развернуты, я на них не останавливаюсь, тем более что они — будучи сами по себе интересными — не создают единой картины. Может быть, несколько ближе к указанию на единство используемых ДАПом символов и эмблем нарочито небрежное высказывание Брускина, который, говоря о своем «портрете» в этой галерее монстров, как бы мимоходом бросил, что он представляет собой изображение «эзотерической зверюги с моими гласными и согласными»[172]. Кажется, с Брускиным можно согласиться, уточнив для нашего случая всего лишь, что речь идет об эзотерических знаках, системно проявляющихся прежде всего как алхимические, как своеобразный ансамбль алхимического театра (teatro alchimico), скрытый за «перформансом». В самом деле: «магический крут», справедливо отмеченный Ди Пьетрантонио, кажется, имеет смысл рассматривать, уточняя его суть, как своего рода «орфическое яйцо», представление о котором, пройдя долгую историю трансформаций, в алхимических трактатах закрепилось как представление о «яйце философов»[173], преобразовавшись со временем в реторту, где происходит трансформация «чернотки» — по мере ее очищения и при полной удаче «Великого дела» — даже в золото.
Уточнить стоит и характеристику «всевидящего глаза» (oculus infinitus), беспредельность взгляда которого охотно описывают и орфическая традиция (occhio del mondo), а вслед за ней — и Марсилио Фичино, и Дж. Бруно[174], и Майстер Экхарт, и Беме, для которых око есть место встречи взгляда Бога на меня с моим взглядом на Него, и, наконец, алхимики, по мнению которых, глаз этот не должен смыкаться, пристально следя за ходом «Великого дела»[175].
Ди Пьетрантонио обращает также внимание на «геометрические знаки» — равнобедренные (или почти равнобедренные) треугольники по углам пространства изображения, — считая, что их использование заимствовано ДАПом из буддизма (как различение мужского и женского принципов). Однако, на мой взгляд, в контексте столь системно акцентированных алхимических знаков эти геометрические формы, восходящие к дельтатону пифагорейцев, могут рассматриваться также (совмещаясь с буддистской традицией, что вполне позволяет многоуровневая структура знаков у ДАПа) в связи с алхимической интерпретацией (унаследованной затем всякого рода эзотерически шифруемыми изображениями, включая колонны Боаз и Иакин в масонских ложах — при том, что на автопортрете ДАПа принцип абсолютной симметрии между левым и правым знаками не соблюдается, и это требовало бы отдельного объяснения)[176].
Наконец, к перечню знаков-образов, отмеченных Ди Пьерантонио, непременно следует добавить образ-символ Чаши, лейтмотивно повторяющийся в творениях ДАПа последних лет (заняв важное место на его Венецианской выставке 2011 г.): в Монстро-Автопортрете она представлена удвоенно и амбивалентно[177], поскольку и влечет к себе, и напоминает о столь значимом в мире ДАПа молении о Чаше («Чашу эту мимо пронеси»).
Эти лексические и визуальные комплексы, во взаимосоответствиях представляя монстров, служат гермами читателю на его пути посвящения в принципы трансформизма, в европейских культурах наиболее отчетливо явленные благодаря наследию, восходящему к алхимии с ее артикулированной знаковой системой, выраженной и в словесно-описываемых образах, и в градации цвета (от нигредо — «чернотки» у ДАПа — к золоту), и в геометрических знаках и т. д., в ознаменование творчески-деятельно регулируемого процесса преобразования хаоса.
При этом, как отмечает Ди Пьетрантонио, исходя со всей очевидностью из пояснений ДАПа, все это должно рассматриваться не само по себе, а в аспекте драматургии отношений между автором-творцом и его творением.
В случае «Автопортрета» ситуация, конечно, усложняется, поскольку в круг «внутренних цитат» неизбежно и акцентированно вовлекается напоминание о словесно-образных эквивалентах изображаемому, тем более что напоминание об этой связи присутствует не только в автопортрете: во всем цикле монстров вербальное интериоризируется в изображении, хотя чаще всего лишь в форме букв (как правило, по углам), указывающих на имя персонажа, однако в случае автопортрета активизируются «различные уровни идентификации (подобно наложению нескольких точек зрения рассказчика и зрителя)»[178].
Своим монструозным автопортретом ДАП дает «визуальный эготекст, наподобие эготекстов литературных, где автор и рассказчик совпадают»[179]. И основой всему этому служит алхимический трансформизм, соответствующий бесконечному космическому «коловращению» элементов, главными агентами которого являются внутренний энергетический источник деятельности творца (фантом)[180], а также вечно мутирующий монстр, который именно благодаря своей склонности к трансформизму противополагается неподвижному, окаменевающему в окончательной оформленности идолу.
IV
Наконец, «Ренат и Дракон». В качестве автора изображения на обложке книги обозначена Т. Ларина, работа которой подошла издательству, судя по устному замечанию главного редактора И. Прохоровой, именно благодаря своей аллегорической общедоступности. В самом деле, достоинством этой работы можно считать то, что она в предельно проясненной форме визуализирует базовый концепт, многоаспектно представленный в Монстро-Автопортрете и еще более усложненно развернутый в тексте «романических отрывков» (как определил жанр «Рената и Дракона» его автор). Собственно, работа Лариной акцентировала тему, которая всплывала и в ранних творениях ДАПа (Илл. 1), но которая оказалась особенно значимой в его поздних работах, — тему выхода за пределы господства идеи антропологизма и роли в этом процессе творца-медиатора.
Целый ряд образов и картин «Рената и Дракона» соответствует отдельным эмблемам изображения монстра-ДАПа — как, например, «водные стихии» (с. 66), будь то река Ока, будь то другие, неведомые воды, которые своими водоворотами обязывают помнить о вихревом круговращении элементов мира, нисходящем и восходящем, создавая, таким образом, вертикальную траекторию движения духа, что вполне соответствует тем равнобедренным треугольникам с вершиной вверх и вершиной вниз, которые расположены по углам «портрета» «Монстра».
Илл. 1.
В изображении то вихревых круговоротов, то раздробленно-фрагментированных элементов мира (сгустков материи-плоти), замедленно плавающих в плазмообразном пространстве, особенно ярко сказывается связь прозы «Рената и Дракона» с наследием техники беспредметного изобразительного искусства, прежде всего, кажется, с его трансформациями в творчестве Филонова.
В качестве основных признаков этой техники можно выделить наложение, полупросвечивание и устранение «пустот», благодаря чему пространство — представленное через взгляд «очевидца незримого» (Крученых о Филонове) — видится не как воздушные пустоты между воспринимаемыми глазом человека элементами предметного мира, а как существование то более, то менее плотных сгустков живой (одушевленной и одухотворенной) материи, связанных между собой ходом непрерывного трансформизма[181].
Как и в творчестве Филонова, в тексте «РиД» поражает (пользуясь словами Е. Ф. Ковтун о Филонове) «размах амплитуды от анализа к синтезу <…>. От элементарных структурных „атомов“, лежащих в фундаменте образа, до космических по характеру макроструктур <…>»[182].
Однако ограничусь комментарием к названию «Ренат и Дракон».
В контексте европейской культуры это словосочетание мгновенно вызывает ассоциацию с «христианизированной мифологемой» поединка св. Георгия с драконом, хотя ее архетипические основы, как известно, сформировались в древнейшие времена в малоазийском — хеттском, затем древнегреческом (мифы о Персее, Геракле), балканском, балтийском, праславянском и др. ареалах, давая о себе знать позднее и в фольклоре (в обрядах, сказках, вплоть до былин — например, о Добрыне Никитиче или Алеше Поповиче — победителях Змея Тугарина или царя Змиулана т. п.)[183]. Особенно устойчив мотив поединка с драконом в христианской традиции: в Апокалипсисе, в повествованиях об Архангеле Михаиле, о Деве Марии, под ногами которой дракон оказывается знаком победы христианства над язычеством, и т. д. и т. п.[184]
В отношении к этому кругу проблем особенно очевидна провоцирующая игра ДАПа с читателем. Целый ряд ассоциаций в тексте напоминает о вариантах этого сказания[185], пока, наконец, проблема не эксплицируется: встреча Рената с одним из Георгичей деревни, где все жители — сплошь Георгичи, завершается схваткой, в конце которой этот Георгич отмечает в облике Рената черты нерусскости и — соответственно — неантропоморфности:
«— Нерусский, что ли? <…> Вот клещи какие отрастил, — кивает на длинные Ренатовы руки. — Да и хребет как у зверя» (с. 42).
Так схватка деревенского Георгича с Ренатом напоминает о связи имени Георгия с преданием о св. Георгии-драконоборце (с. 563, причем в тексте ДАПа фигурирует также иронический пассаж об Ур-Георгии, т. е. Прото-Георгии, с. 45), но работают все эти напоминания как «провокация», обращенная к сознанию читателя. И она в конце концов срабатывает: хотя союз «и» в названии текста и «фронтиспис» на обложке, аллегорически-упрощенно представляющий единение, а не противостояние Рената и Дракона, слитых в одну спокойно расположившуюся фигуру, как бы указывая на необходимость выйти за пределы стереотипа о поединке, — несмотря на эти более чем очевидные знаки, по крайней мере один из нынешних исследователей творчества ДАПа, Дм. Голынко-Вольфсон, посвятил целый раздел своей статьи «Читая Пригова» интерпретации мотива Дракона в аспекте предполагаемого им поединка Рената «с неантропоморфным монстром» (под которым критик подразумевает идеологию!), т. е. объясняя текст в ключе предания о св. Георгии-драконоборце[186]. Судя по всему, критик даже не замечает, что в тексте ДАПа это предание о св. Георгии подвергается провоцирующе-испытательной проверке: в тексте следует целый ряд отчетливейших сигналов против автоматизма восприятия (см. с. 159, 555).
Так, в плоскости «Ъ. Немалый отрывок из какого-либо достаточно длинного повествования» (с. 563–567) дается иронически-развернутое и детально прокомментированное Ренатом сообщение о том, что св. Георгий-драконоборец деканонизирован. Кажется, именно это известие о деканонизации св. Георгия призвано пробудить в читателе хотя бы на минуту сомнение в интерпретации мотива дракона исключительно в связи с драконоборчеством и победой героя св. Георгия, но оно не единственное. Последняя плоскость этого текста иронически освещает концепт драконоборчества как реализацию страхов малых ребятишек, которые, наслушавшись сказок о поединках с драконом и вообразив огнедышащего дракона обитателем подвала для угля в московском доме, где они жили, ненароком устроили пожар. Эта плоскость выразительно помечена названием «Э, Ю, Я. Обычный отрывок из какого-либо обычного повествования».
С другой стороны, драконоборец ли Ренат?
Выбор имени для протагониста этого текста поразительно совпадает с тем, что отметил в нем один из его носителей, современный татарский поэт Ренат Харис:
«Renatus — вновь возвращенный к жизни (лат.), кто миллионы лет назад уже приходил на эту землю в образе птицы, бабочки или динозавра, а теперь получил возможность явиться человеком»[187].
Гармонируя с этим определением, фигура Рената в тексте ДАПа сконструирована как в высшей степени многосоставное, многоликое, многоипостасное явление. В Ренате и его окружении просматриваются и литературные традиции[188], и многочисленные элементы, которые можно причислить к собственно автобиографическим, притом почти все это представлено через разговоры, толки, пересуды, так что сведения — противоречивы, и разноголосица между вариантами рассказов относится главным образом на счет информирующих нас сознаний — «информационных паттернов». Как говорит нарратор: «Другие, естественно, и говорят другое» (с. 52), — а на себя он не берет ответственности, добавляя к пересказам всего лишь «мне и самому это не очень внятно» даже в случае, когда речь идет о протагонисте.
Таким образом, если иметь в виду бытовую и послужную биографию протагониста, то выяснится, что не однозначны сведения ни о его родителях, ни об учебе, ни о его работе, ни о его жене (или женах?), туманны сообщения о его сотрудниках и собеседниках. В общем, как говорится в тексте: «Рассказывали про Рената разное <…> с его же собственных недостоверных слов. Перевирая и переделывая…» (с. 377). Разностильные нарраторские комментарии, в частности, сформулированные на языке, имитирующем сайенс-фикшн, сообщают, что среди уфологов Ренат, созданный «особого рода сперматозоидами», был признан как «гиперконтактер, даже суперченнел-инсайдер» (с. 56). И затем следовало нарраторское обобщение: «Подобное описано в специальной научной литературе <…>. Существа соответственно порождаются от того как бы двойные в одном теле. Двунаправленные. Двуоперенные. Двузаостренные. Двусущные. Двуоткрытые» (с. 408).
Этот комментарий переводит Рената — при всей неопределенности информации о нем или именно благодаря ей — в категорию особых людей, которые в зависимости от стиля эпохи получали именование то героя, то сверхчеловека или же — в наше время — супергероя, супермена, мультивидуума, в аспекте же текстопорождения «двунаправленность и т. д.». Рената можно рассматривать как контаминацию статуса протагониста со статусом одной из многочисленных в этом тексте ипостасей автора.
В противоположность концепту, подсказываемому европейской мифологемой о драконоборце, Ренат ДАПа выступает не как герой-драконоборец, а — напротив! — как принципиальный медиатор, посредник. Это подчеркнуто и его полиэтнической, хотя и неопределенной «родословной», и многосоставностью его однозначно не реконструируемой биографии, и — особенно — тем комплексом архетипических мотивов, которые, прихотливо комбинируясь с некоторыми темами современных фэнтези, делают его носителем устойчивых концептов в сравнительно современном оформлении, выводящем в конечном итоге за пределы антропного принципа. Этот «содержательный» аспект образа поддерживается «мультистилистикой», которая, кажется, вполне целенаправленно подчеркивает поливалентность протагониста (с. 408), т. е. Ренат становится как бы «спектром своих двойников» и медиатором, посредником между мирами персонажей и нарраторов текста, недаром ему поручаются наиболее важные комментарии к событиям (например, к деканонизации св. Георгия). Стилистически эти фрактально сконструированные плоскости текста помечены то как миры архаики, то — современности, а то и — наисовременнейшей фантастики[189]. Не случайно сам автор, характеризуя жанр своего творения в разговоре с М. Эпштейном, определил его так: «Это такая помесь бытового реализма, фэнтези и научной фантастики. Энциклопедия такой непонятной жизни»[190].
К области фэнтези нужно, видимо, отнести и черты драконоподобия Рената, которые на обложке книги, на мой взгляд, представлены как драконоподобие ее автора, а к области научной фантастики — спрятанные в тексте размышления о новой антропологии, которой Ренат, видимо, предвестник[191].
Уплотненные ассоциации Рената с Драконом соблазнительно интерпретировать под углом зрения психоанализа в традиции Юнга и Лакана, т. е. как знак его внутренней борьбы с «тенью», точнее, с «фантазматическим образом Другого», к чему приходит, в частности, и Илья Кукулин, опираясь на Кристеву, в итоге своей вполне справедливой полемики с Голынко-Вольфсоном[192].
Однако все более эксплицитное подчеркивание концовкой текста роли Рената в качестве медиатора-посредника между мирами мультиверсума, а также общий контекст деятельности ДАПа в последние годы побуждает видеть в его герое прежде всего тот слой смыслов, который обусловлен размышлениями автора о будущем культуры и новых принципах ее строения, связанных с выходом в мир новой антропологии и порождаемых этим новых (или же обновляемых, а то и возрождаемых) концептах.
А поскольку в название текста выдвинуто слово «Дракон» не в противопоставлении, а в связи с именем протагониста, это обязывает нас вспомнить о драконологиях, отличных от доминирующей в Европе мифологемы поединка драконоборца с драконом. В таком случае придется припомнить целый ряд восточных мифологических и мифопоэтических традиций, где дракон фигурирует в роли именно посредника-медиатора. Я имею в виду прежде всего юго-восточноазиатские и приволжско-сибирские традиции драконологий, странным образом не замеченные строителями бинарных оппозиций. Обращение к ним вполне мотивировано некоторым смещением акцента в тексте ДАПа на азиатскую архаику[193], подчеркнутым не только элементами родословной протагониста (мать, сестра), но и такими именами его родственников, как Чингиз, и мотивами шаманизма и буддизма (правда, квазиавстрийского, но возглавляемого Йинегве Воопопом, в котором легко узнается Евгений Попов, сибиряк вполне ориентальных прибайкальских корней)[194].
Однако этого недостаточно: следуя излюбленному им методу многократных наложений, ДАП — аккумулируя качества Рената-медиатора в опоре на архаику шаманизма и восточной мифологии — налагает на эту основу узоры, оформляемые из материалов алхимии, унаследованных европейской эзотерикой и представляющих собой подспудную жизнь мифологемы, противостоящей принципу бинарной оппозиции, воплощенному в предании о св. Георгии.
Среди них особенно красноречивы ассоциации с фундаментальным в алхимии утверждением, что «Драконом» именуется materia prima (т. е. первоматерия), которая составляет основу всего сущего и которая — в процессе «Великого дела» (Opus Magnum) — последовательно проходит stato di putrefactio, т. е. стадии (7 или больше) физической дезинтеграции, очищения и восхождения.
Продолжительность этого процесса — согласно разным источникам — различна, и информация о последовательности в перемене цвета в ходе этих трансформаций не всегда одинакова, однако в качестве исходной окраски почти всегда называется nigredo[195], т. е. черный цвет, символизирующий исходную материю, а время для его трансформации определяется приблизительно в 47 дней[196]. Думаю, именно эта стадия, nigredo, у ДАПа поименована черноткой. В алхимических трактатах эта стадия предстает как основа всего процесса трансформации[197], обеспечивающего в итоге приобщение к Золоту (философскому камню или высшей мудрости). Кажется, алхимическая концепция касательно перемены цвета в ходе Великого дела нашла отражение в семантике цвета, как это сказалось в тексте «РиД», где последние три сцены построены на резком переходе от черного цвета, доминирующего в двух предпоследних сценах, к белому — небесно-синему и не названному желтому буддизма[198].
А сам Дракон[199]?
Как мы могли видеть, такого персонажа в тексте нет, это — концепт или, если угодно, метафора концепта, прикрепленного, в первую очередь к протагонисту, но поле драконологических ассоциаций здесь необыкновенно широко, и направлены они на концепт Дракона как в высшей степени активную мыслеформу, причем активную и в разные времена, и в разных пространствах, и с весьма неодинаковым смысловым наполнением. Однако в тексте ДАПа есть доминанта: доминирует аспект, утверждающий выход в направлении новой антропологии, ориентированной на принцип медиации, понимаемой в самом широком смысле[200].
Акцентируя идею медиации в противоположность бинарной оппозиции, ДАП преобразует свой текст в своего рода сеть каналов-туннелей (чуть ли не в гамовском, но обогащенном эвереттикой понимании), выводящую читателя за пределы доминионов антропоса и даже за пределы антропного принципа (особенно если следовать логике жанра фэнтези, акцентированного в предпоследних плоскостях «Рената и Дракона»). И главным направлением здесь остается проблема «новой антропологии», о которой ДАП заговорил особенно в последние годы, непосредственно связывая эту проблему с возможностью выйти из нынешнего кризиса[201]. Выступая против амбиций нарциссической сосредоточенности человека на себе как венце творения, ДАП выдвинул тезис о том, что человечество постепенно, посредством проигрывания различных сюжетов, шаг за шагом привыкает к мысли о возможности преодолеть физиологическую природу человека и «создавать новую антропологию»[202]: «… все мои монстры несут в себе метафору преодоления человеческого не в сторону зооморфного, а в сторону некоего высшего, где, может быть, зооморфные и человеческие черты мало различимы»[203].
Как прозвучало в беседах ДАПа с Парщиковым и с М. Эпштейном, «<…> сломы в телесности, сломы в антропологии, очевидно, обнажают тот край, за которым начинается программа новой культуры и нового человека»[204]. Этим определился вывод касательно роли автора-творца: «Самое интересное — то, чем, собственно, явился концептуализм в своем „протоназначении“: он показал художника как модуль перевода — из одного состояния в другое»[205].
Основа этого «протоназначения» — встроенность антропоса в общеприродный мир, почти не осознаваемая «окультуренным» большинством. Именно потому в творениях ДАПа такое серьезное место занимают всякие «монстры, зверюшки, да и киборги»[206]. И путь к «новой антропологии» намечался ДАПом уже в те давние времена, когда он подчеркивал, что «мелкозверюшечное» для него не ниже человеческого, а вместо подписи помещал «портрет» подходящей «зверюги».
Что же касается исходного источника — не тот ли это фантом, о котором здесь уже шла речь? И не связано ли это с тем уникальным «соличием» (термин Андрея Белого) творческих личностей в одном лице, обращенном к мультиверсуму[207], которое в истории культуры дает о себе знать редко? Однако именно его следует ожидать от культуры будущего, где акцент с потребления продуктов культуры должен будет переместиться на сам процесс творчества как творческого кровообращения внутри социума — в качестве главного фактора, обеспечивающего жизнеспособность культуры[208].
Бригитте Обермайр ЕСТЬ ЛИРИКА БЕЗ ДИАЛОГА: Поэтика события у Пригова
Диалог и событие
Чтобы случился «диалог», необходимо, чтобы состоялась некая встреча, при этом неважно, состоится ли эта встреча на самом деле или же является лишь фиктивной, идеальной, представляемой — предметом желаемого.
Диалог понятен в качестве встречи — это то, что уже словами Дмитрия Пригова можно назвать «пересечением имен и дат». Такое название носит цикл стихов, о котором я буду говорить во второй части моей статьи. В этом смысле в самой встрече уже есть момент событийности, если считать, что «со-бытие» обозначает быть вместе[209] в определенном пункте пересечения временных и географических координат. В таком виде событие занимает особое место, как бы выпадая из простой хронологии.
Литературная диалогичность уравнивается с литературной интертекстуальностью, речь обычно идет о «диалоге текстов»[210]. Диалог текстов играет особую роль в связи с культурной памятью: так, например, в исследовании поэтики акмеизма диалогичность стихов Ахматовой и Мандельштама считается способом сохранения временной непрерывности, несмотря на разные факты разрушения культурных архивов, вплоть до конкретного уничтожения рукописей[211]. В поэтике акмеизма диалог открывает или же, с другой стороны, скрывает в себе возможности доступа к прошедшему, к пропавшему — к вечному даже. А вечность является одним из измерений понятия «событие»: В этом смысле событие — это то, что является пересечением имен и дат, но неземных, метафизических.
Будучи уверен, что событийность поэзии заключается как раз в этой надвременной диалогичности, Мандельштам в статье 1913 г.
«О собеседнике» утверждает, что «нет лирики без диалога». В этой же статье он говорит о событийности стихов:
«В результате стихи Сологуба продолжают жить после того, как они написаны, как события, а не только как знаки переживания. Итак, если отдельные стихотворения (в форме послания или посвящений) и могут обращаться к конкретным лицам — поэзия, как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усомнившись в себе»[212].
Есть, однако, и другое понимание феномена «события»: необязательно, чтобы оно, прерывая хронологию, приводило в вечность. Событие, считает, например, Жиль Делез, может быть также простым взрывом непрерывности[213], неким временным разрывом (нем. Zeitzerwürfnis[214]), производящим опыт промежутка или же тупика.
Я считаю, что это второе понятие события, а именно события как временного разрыва, является крайне существенным для поэтики постмодернизма, т. е. поэтики Пригова с 1970-х до конца 1980-х гг.
При этом нельзя забывать, что в это же время заново открывается акмеизм, исследуется его поэтика. Мы имеем дело с парадоксальной констелляцией, которая, однако, является признаком постмодернизма. Сосуществуют диалогичность акмеизма как символ того, что вопреки событиям 1937 г. он остался торжеством вечного в глубине культурного пространства, с убеждением постмодернизма в наличии событий разрыва, разрушения, потери.
Постмодернизм занимается художественной документацией таких пробелов, которые наблюдаются после событий разрыва. Диалог в этом контексте банализируется.
В дальнейшем я постараюсь показать диалогичность постмодернизма. На этом фоне уже в конце статьи я продемонстрирую возврат к поэтике события в поздней поэзии Пригова. Мой тезис следующий: если диалог в постмодернизме формально отрицает стихотворение, то диалог в 90-е гг. снова обретает поэтическую форму. В обоих случаях можно говорить об определенном виде поэтики события.
Постмодернизм и отрицание диалога
Можно сказать, что Пригова с самого начала его поэтической деятельности значительно занимает диалог. Однако этот диалог всегда банален и вульгарен. Вспомним реплику из известного стихотворения «Когда здесь на посту стоит милицанер…» (1978), когда вечное присутствие представителя поздней советской власти подтверждается в последний момент, когда уже слишком поздно, когда стиха, можно сказать, почти уже и нет, когда уже побеждает прозаичность здравого смысла. Последняя, нерифмованная строчка открывает диалог, отрицая, однако, стихотворение:
Когда здесь на посту стоит Милицанер Ему до Внукова простор весь открывается На Запад и Восток глядит Милицанер И пустота за ними открывается И Центр, где стоит Милицанер — Взгляд на него отвсюду открывается Отвсюду виден Милиционер С Востока виден Милиционер И с Юга виден Милиционер И с моря виден Милиционер И с неба виден Милиционер И с-под земли… Да он и не скрывается.[215]Прозаизация и прозаизмы уже широко представлены в таких стихах, как цикл «40 банальных рассуждений на банальные темы» (1982), где происходит как бы разговор со здравым смыслом или же обращение к кому-нибудь, «неважно кто». Особую роль в этом процессе прозаизации играет междометие «скажем»:
Банальное рассуждение на тему: не хлебом единым жив человек Если, скажем, есть продукты То чего-то нет другого Если же, скажем, есть другое То тогда продуктов нет Если ж нету ничего Ни продуктов, ни другого Все равно чего-то есть — Ведь живем же, рассуждаем[216].Поэтическая «документация» архивных пробелов у Пригова с самого начала его творчества демонстрирует, что бесконечный диалог вопреки ходу времени — невозможен. Это можно наблюдать в таких текстах, где имеет место явный диалог с акмеизмом, как вы увидим в следующем примере, где происходит диалог с Ахматовой.
Начнем с текста Ахматовой, приведя его полностью, так как долгое время первых двух строф не хватало, они были запрещены цензурой. Стихотворение Ахматовой было написано в 1918 г. и опубликовано в книге «Подорожник», но только в начале 90-х широкой публике стало известно, что стихотворение начинается не строчкой «Мне голос был…», а «Когда в тоске самоубийства…». К тому же надо иметь в виду сугубую интертекстуальность стихотворения, его диалог с символизмом, особенно с Блоком[217]:
Когда в тоске самоубийства Народ гостей немецких ждал, И дух суровый византийства От русской церкви отлетал, Когда приневская столица, Забыв величие свое, Как опьяневшая блудница, Не знала, кто берет ее, Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край, глухой и грешный, Оставь Россию навсегда. Я кровь от рук Твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем покрою Боль поражений и обид». Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух. Осень 1917, Петербург[218]Когда Пригов в цикле «Культурные песни» 1974 г. создает его реплику, то пробел в составе текста, т. е. недостающие первые две строфы, явно видно. Реплика Пригова, естественно, начинается с третьей строфы; другими словами, стихотворение Пригова начинается с пробела, со следа потери, с невозможного — в силу простого исторического факта — диалога. Мы имеем дело с событием временного разрыва. К тому еще Пригов изображает диалог Ахматовой в виде допроса и клеветы, формально превращая ахматовское стихотворение в мини-драму. Таким образом, реальность исторических условий как бы материализуется в стихотворной форме:
Мне голос был. Ей голос был. Он звал утешно. Утешали ее! Но он говорил: Иди сюда! А он не говорил, мол, оставь свой край Подлый и грешный? Нет, нет, нет! Что вы! А, мол, оставь Россию навсегда? Да что вы! Я простая советская Женщина, Вот только кровь от рук отмою И брошу всякий стыд. А что он там говорил насчет нового имени, фамилии, паспорта? Каких-то там наших поражений, ваших обид? Нет, нет! Я ничего не слышала! Я заткнула уши руками Чтоб этот голос чужой, не наш Не смущал меня. Так-то будет лучше, красавица[219].На фоне этого постмодернистского «перевода» диалога текстов любопытно, что именно в позднесоветское время Пригова занимают разные гипостазы форм диалога — например, в цикле «241 платонический диалог, 13 эротем и частушки» (1977). Уже в названии цикла сквозит смешение жанров — от платонического диалога, который обещает философское рассуждение, до частушек, намекающих на фольклорную лирику, на самые низкие слои речи. На самом же деле у Пригова этого смешения нет, что показывает «Диалог № 45»:
Платон Гражданин, на вам нытка Я Не на вам, а на вас Платон На мэнэ? Я Не на мэнэ, а на мне Платон Я и говорю: на вам нытка Я Едрить твою мать![220]Пересечение имен и дат: поэтика события в поздней лирике Пригова
Спустя двадцать лет после процитированной выше встречи «Платона» с «Я» Пригова снова начинает занимать диалогическое событие. В 1994 г. он пишет цикл под названием «График пересечения имен и дат»[221]. Как в лирическом дневнике, в цикле идет речь о встречах, состоявшихся в отдельные числа 1994 г. Итак, цикл состоит из примерно 320 отдельных стихотворений[222].
«Пересечение имен и дат» выступает не только как некое остраненно-техническое переименование слова «встречи» — именно это пересечение как структурный принцип и является формальной основой лирических текстов этого цикла. В большинстве случаев стихотворение начинается с частного имени, а кончается конкретной датой 1994 г.
Вот четыре примера из цикла: Как живешь, старушка Тони? — Ты в ответ мне говоришь: Жизнь как маленькая мышь В растянувшемся питоне Времени — Ты права, но все-тки жизнь Неплохая вещь, скажи Взятая мгновенно Вырезанная как стоп-кадр 12 мая 1994 года Совсем юный Даниил Мне по-русски говорил Что он думает о жизни А ведь он уже родил- ся В Америке Хотя и от русских родителей Удивляйся-понимай Вот тринадцатый оф май 1994 года сегодня — Заключает он Лиля смотрит — тусклый взор Устала Пальцами перебирает Что-то Но от поэзьи до сих пор Словно мышка замирает Здравствуй, Лиля, ну как жизнь? — А какое число сегодня, скажи? — 14 мая 1994 года — Ой, сегодня поэтический вечер Утром повстречал Олега Он мне что-то говорит Вобщем, как всегда — телега Впереди лошади стоит У него Ведра кверху коромыслом Правда, даты вот и числа В правильной последовательности Сегодня, например, говорит он: 15 мая 1994 годаПри анализе этих стихов в центре внимания оказывается вопрос, каким образом имена и даты вообще определяют то, что можно назвать поэтикой, формальным принципом этих текстов. Я утверждаю, что именно «пересечение имен и дат» как суть события, как я его определила в начале моего текста, выступает в этих стихах в качестве парадоксального генератора формы.
Что касается роли имен в этом процессе, то можно наблюдать, что имя является ключевой лексемой, так как создает основную рифму, как бы предлагает лирическую тему: «Тони — питоне», «Даниил — говорил — родил», «Олега — телега». Однако «Лиля» в этот ряд, казалось бы, не входит. Она / ее имя отличается неким аутизмом, внутренней рифмой, аллитерацией, которая не находит эквивалентов вне себя. Но именно такая формальная особенность и соответствует отношению Лили к поэзии. Это отношение, очевидно, является отрицательным: «Но от поэзьи до сих пор / Словно мышка замирает». Так что можно заключить, что описанное развертывание имен в лирической структуре приговских стихов оправдывается и в случае такого аутистического минус-приема.
При этом, однако, надо иметь в виду, что имя как рифмующееся слово переживает некую дегенерацию. Когда «Тони» рифмуется с «питоне», имя проходит семасиологизацию, и между «старушкой Тони» и «растянувшемся питоном» появляется отношение некой подобности — а именно «длинной жизни» как tertium comparationis. Таким образом, имя собственное постепенно, выступая как рифмующееся слово, теряет «собственность», как бы переводится в лексикон нарицательных слов. Итак, у Пригова, кажется, происходит прямо противоположенное тому, что предложил для поэтической функции имен собственных Юрий Тынянов[223].
Согласно Тынянову, имена собственные носят знак «экзотичного» — некой иной семантики, таким образом контрастивно влияя на семантику лексического состава стиха. У Пригова мы имеем дело с противоположным процессом: имена собственные нейтрализуются, несмотря на их происхождение и оттенки. Неважно, русская ли у них окраска или же иностранная; неважно, идет ли речь про «Олега», или же «Лилю», или «Юкку» с «Анаидой»[224].
На фоне тезиса о превращении принципа семасиологизации в стихах Пригова замечателен тот факт, что способность имен собственных к рифмовке используется Приговым по максимуму, до такой степени, что в итоге уже можно спорить об убедительности рифмы. Рифмуемый потенциал собственных имен как бы исчерпывается полностью — до такой степени, что от них просто ничего не остается. Обратим внимание на цезуру в связи с истощением семантического потенциала рифмизации имен «Тони» и «Даниил» в приведенных примерах: в строках «времени» и «ся» он достигает нулевой точки. Рифма в этом месте совершенна, но уничтожена:
Как живешь, старушка Тони? — <…> В растянувшемся питоне Времени — <…> Совсем юный Даниил Мне по-русски говорил Что он думает о жизни А ведь он уже родил- ся <…>В этих точках истощения семантики можно было бы говорить о конце стихотворения, если бы в дело не вступал другой фактор, необходимый для возникновения события, а именно дата.
Только указание на дату, необходимое для событийности пересечение имен и дат может оживить и спасти стихотворение. По чисто формальным, техническим соображениям, для этого нужно не больше, чем перенос паратекстуальной индикации даты в единство основного текста стихотворения.
Дата — окончательный ответ в этих диалогах. Без нее вообще не состоялись бы ни диалог, ни встреча, не состоялось бы стихотворение.
В датах заключается некий момент объективности, правды, но не вечной или отвлеченной, а моментальной, заданной конкретным числом. С формальной точки зрения важен тот факт, что эти стихи завершаются датами, которые выступают в качестве реплик в диалоге:
Совсем юный Даниил Мне по-русски говорил Что он думает о жизни А ведь он уже родил- ся В Америке Хотя и от русских родителей Удивляйся-понимай Вот тринадцатый оф май 1994 года сегодня — Заключает он Лиля смотрит — тусклый взор Устала Пальцами перебирает Что-то Но от поэзьи до сих пор Словно мышка замирает Здравствуй, Лиля, ну как жизнь? — А какое число сегодня, скажи? — 14 мая 1994 года — Ой, сегодня поэтический вечер Утром повстречал Олега Он мне что-то говорит Вобщем, как всегда — телега Впереди лошади стоит У него Ведра кверху коромыслом Правда, даты вот и числа В правильной последовательности Сегодня, например, говорит он: 15 мая 1994 годаЕсли именем собственным в этих текстах открывается некий горизонт диалога, который, однако, описанной рифмовой динамикой уничтожается, то дата знаменует ответ и окончание.
По структуре этот принцип не случайно напоминает стихотворение «Август» из цикла стихов из романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.
Четвертая строфа этого стихотворения включает название и дату, и в связи с этим можно наблюдать метрическую цезуру, аналогичную окончанию стихов у Пригова:
Вы шли толпою, врозь и парами, Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня Шестое августа по старому, Преображение Господне[225].В отличие от стихотворения Пастернака, где дата задает метафизическое, надвременное измерение события (преображение лирического «я» в творческую личность[226]), у Пригова текст как бы приземляется датой, стихотворение становится фактом вульгарной календарной хронологии.
Окончание стиха датой находится не столько в конце стихотворного текста, сколько вне стихотворения. Такая концовка задана современным календарем (а не «старым», церковным, как у Пастернака). Такие стихи, можно считать, написаны не поэтом, а календарем. Условием для возникновения такого стихотворения не является ни праздник, ни событие, а простой факт, что и завтрашний день будет иметь число. Мы знаем, что Пригов любил такие числовые, арифметические творческие приемы и принципы: ему хотелось писать по 2 стихотворения в день, у него был проект стать «идеальным поэтом», ради чего он должен был написать хотя бы 24 000 стихов до начала 2000 г. и т. п.
Такая поэзия не ждет своего случая, не ждет события, а сама является событием, а именно — событием пересечения имен и дат.
К этой логике пересечения относится и абсолютная случайность сочетания имен и дат. Каждая отдельная дата в отдельном тексте может быть заменена на любую другую. Даты являются хоть и константными, но органически никак не связанными со структурой стиха элементами. Это становится особенно ясно в таких случаях, где нет (или почти нет) имен:
Забыл написать, но имя, предположительно — Игнатий, а дата точно известна — 25 августа 1994 года Вспомнил, что имя не Игнатий, а Терентий, но число по-прежнему точно — 25 августа 1994 года[227]. А вот и ни с кем не повстречался 27 апреля 1994 года[228].В последних примерах особенно ощущается контекст поэтики московского концептуализма. Вспомним акции группы «Коллективные действия», чьим постоянным участником был Пригов. Для «Коллективных действий» исследование конкретности временного опыта — в том числе событийности — было одной из центральных задач. В их акциях большую роль играло документирование таких отвлеченных опытов и переживаний, как ожидание. Так, например, участники акции «Выход» переживали опыт распада между событием и его осознанием: только после выхода из автобуса они узнавали, что только что принимали участие в событии «Выход». Узнали они об этом благодаря бумаге, врученной им после выхода из автобуса. На этой бумаге было написано: «Выход. 20.3.1983, 12:24»[229].
Если этот листок с доказательством факта состоявшегося события можно сравнивать с автобусным билетом, то стихи Пригова из цикла «График пересечения имен и дат» похожи на календарный лист.
Последнее размышление может подтвердить мой тезис, что после постмодернистского периода формальной деконструкции отношения лирики с диалогичностью в поэтике события начался новый эпизод. Сами факты события, имена и даты, как бы снова развертывают свой формальный поэтический потенциал. Но в отличие от диалогичности, которой присуща насыщенная культурной памятью семантика, внешние факты диалога — имена и даты — являются простыми, но ключевыми: без них не было бы ни диалога, ни стихотворения. Они функционируют в качестве пробелов в лирическом материале. Из этого рождается ощущение банальности как диалога, так и стиха. Это диалогичность без семантической нагрузки.
Юрий Орлицкий О СТИХОСЛОЖЕНИИ ПРИГОВА (К постановке проблемы)
Первый вопрос, с неизбежностью возникающий у каждого, кто собирается всерьез анализировать творчество Дмитрия Александровича Пригова и раскладывает на своем письменном столе (варианты — мониторе, плеере и т. д.) произведения этого автора, — как весь этот значительный и разнообразный массив текстов (в широком понимании этого слова) соотнести с традиционными представлениями о поэзии, стихе и т. д. и в какие классификационные рубрики будут при этом попадать те или иные приговские произведения.
Для того чтобы справиться с этой непростой, но важной и чрезвычайно увлекательной исследовательской задачей, необходимо в первую очередь определиться с терминами и понятиями, а также определить объект научного описания. Мы будем исходить из представления о строгой дихотомии стиха и прозы (т. е. из базового представления, что всякий печатный текст может быть определен или как стихотворный, или как прозаический), а также из понимания того, что названные категории с полным основанием приложимы только к явлениям письменной речи и, с небольшими оговорками, к фиксации этой речи в электронном виде. Относительно других форм бытования текста (например, что особенно актуально именно для Пригова, разнообразных форм устной манифестации текста) речь может идти только о вербальной составляющей этих синтетических по своей природе и сущности явлений. Однако при таком подходе тоже всегда есть возможность с достаточной степенью точности определить, к какому типу организации художественной речи этот компонент возможно и следует относить и, соответственно, в каком историко-литературном контексте его надлежит интерпретировать. При этом необходимо всегда отчетливо понимать, что исчерпывающее описание и тем более интерпретация этих текстов возможны только при комплексном подходе с учетом методик анализа специфики звучащего текста, исполнительского мастерства, режиссуры перформанса, поэтики визуального, в том числе и невербального, текста.
Тем не менее мы должны четко представлять себе и то, что даже сегодня, в эпоху широчайшего распространения медийных технологий, главной формой презентации текста для большинства его реципиентов продолжает оставаться именно книга и / или тот или иной ее экранный аналог. Поэтому в ожидании будущих комплексных технологий филологу следует описывать и исследовать интересующее нас явление в его чисто вербальной форме, осознавая при этом, что получаемые результаты носят заведомо неполный и относительный характер.
Таким образом, ниже мы будем говорить о собственно вербальных текстах Пригова, опубликованных в его книгах и в сети, а также о вербальных компонентах его синтетических перформансов, зафиксированных в печатной форме.
Далее, для нас совершенно очевидно, что для корректной интерпретации произведений новейшей литературы необходимо исходить из уточненного представления о ритмических типах художественной речи, согласно которому наряду с собственно стихом и прозой следует также выделять также прозиметрию (тексты, состоящие из самостоятельных фрагментов стихотворной и прозаической речи), удетерон (сверхкраткий (однострочный) текст, который невозможно корректно интерпретировать как стихотворный или прозаический) и вербальный компонент синтетического текста (который превращается в стихотворный, прозаический и т. д. при письменной фиксации)[230]. Кроме того, следует принять во внимание такой глобальный признак современной литературы, как принципиальная неоднородность текста, наиболее характерным выражением которого является так называемый гетероморфный стих[231].
Очевидно, что для большей части творчества Пригова характерна тотальная разнородность (гетероморфность): большинство его текстов состоит из фрагментов разной природы. Так, многие стихотворения Пригова заканчиваются холостыми строками, что в общем и целом достаточно характерно для русской поэзии[232]. Однако в традиционной лирике холостые финалы, как правило, бывают написаны тем же размером, что и основной рифмованный текст; иногда эти строки усечены на одну или несколько стоп[233]. Приговские же холостые финалы, как правило, вступают с основной частью стихотворения в контрастные отношения. Это может достигаться благодаря смене размера в финальной части:
В снегах ли русских под Рязанью В степях калмыцких под Казанью В горах ли тайного Аленина Или в песках под дикой Яффой Вдруг выплывет могила Ленина И строго скажет: Маранафа! — И произойдетНадо сказать, что приведенное стихотворение носит подчеркнуто гетероморфный характер: хотя все шесть строк основной части написаны одним размером — традиционным для русской лирики четырехстопным ямбом, — первые две строки зарифмованы смежно и имеют одинаковые женские окончания, а четыре следующих образуют катрен с перекрестной рифмовкой и чередующимися дактилическими и женскими окончаниями. Седьмая же строка может быть интерпретирована как трехстопный хорей с мужским окончанием и без рифмопары, что решительно противопоставляет ее остальному тексту.
Холостые строки могут возникать в стихотворении дважды, маркируя границы строфоидов, как в приводимом амфибрахическом частично рифмованном стихотворении:
Какая-то тихость и слабость такая Не бейте! Не бейте меня по глазам Вот черное все из меня вытекает Нечто Я — ведьма! я — ведьма! я знаю и сам Я черная и ядовитая ртуть Но дайте хотя б напоследок взглянуть На мир этот солнечныйТаких условных строфоидов с холостыми финалами может быть и больше — например, три; при этом основной текст прорифмован насквозь:
Вы слышите! слышите — дождик идет! — Да нет — это плачет сторонка восточная Вся Как будто рыдает труба водосточная Гулкая Иль примус небесный на кухне поет Как будто бы кто-то узлы увязал Беззлобный уже и летит на вокзал КазанскийВ ряде случаев потеря метра может происходить и внутри строки (неметрический фрагмент выделен курсивом):
Иные посуду не моют И курам не режут живот И все же им счастье бывает За что же такое им вот За то вот на том белом свете Мы сядем за белым столом Как малые чистые дети Они же с разинутым ртом Плевки наши в воздухе ловить будутОднако значительно чаще финальная часть состоит из нескольких строк, которые можно интерпретировать как верлибр (а не прозу — в силу того, что разбиты автором на строки); в таком случае перед нами так называемые полиметрические композиции[234]:
Разреши мне матушка Дикого медведюшку В гости к нам привесть! — Ох ж ты, моя деточка Глупая кровиночка Он же нас поесть! — Так и есть Съел Права была матушкаИногда верлибрический финал может быть достаточно длинным (в примере выделено курсивом):
Что же это, твою мать Бью их, жгу их неустанно — Объявилися опять Те же самы тараканы Без вниманья, что их губят Господи! — неужто ль любят Меня Господи! В первый раз ведь так Господи! Нету слез!Наконец, в ряде случаев завершающая часть стихотворения может быть прозаической и противопоставляться основной части еще и визуально:
Когда как тучи патриоты Идут с Востока на Москву Кто ж их сильней — сильней их кто-то Кто ту же самую Москву Перенесет так верст на двести Или на верст так тысяч пять Потом вернет, потом опять А коль она стоит на месте Так они и правы — патриота! — преимущество страсти перед неопределенностью стояния.При этом чем длиннее прозаический финал, тем сильнее возникающий контраст; такие тексты можно рассматривать как вполне равноправную прозиметрию, отчетливую грань здесь провести трудно:
Кто выйдет, скажет честно: Я Пушкина убил! — Нет, всякий за Дантеса Всяк прячется: Я, мол Был мал!Или:
Меня вообще не было!
Один я честно выхожу вперед и говорю: Я! я убил его во исполнение предначертания и вящей его славы! а то никто ведь не выйдет и не скажет честно: Я убил Пушкина! — всяк прячется за спину Дантеса — мол, я не убивал! я был мал тогда! или еще вообще не был! — один я выхожу и говорю мужественно: Я! я убил его во исполнение предначертаний и пущей славы его!
Однако нередко Пригов работает и с вполне традиционной силлаботоникой:
Как говорил великий Пифагор, Нет на земле предмета без числа, А это значит: в мире есть числ Заранее без всякого предмета. И если, скажем, дважды два — четыре, То это ведь еще не значит, Что дважды два — действительно четыре, А значит — что, возможно, и четыре.Это, как видим, — белый пятистопный ямб, ритмическая композиция которого осложнена введением одной четырехстопной строки; стихотворение отличает бессистемное чередование мужских и женских окончаний. Другой пример использования автором традиционного стиха — вольный хорей с неупорядоченной каталектикой (обратим внимание, что в двух приведенных примерах поэт использует также традиционные знаки препинания, чего он не делает в своих стихах, ориентированных на модернистские модели):
Вот и ряженка смолистая Вкуса полная и сытости, Полная отсутствья запаха, Полная и цвета розоватого. Уж не ангелы ли кушают ее По воскресным дням и по церковным праздникам И с улыбкой просветленной какают На землю снегами и туманами.Но наряду с традиционным стихом, использующимся Приговым самым активным образом (чаще всего, как мы уже видели, в рамках полиметрических конструкций) в той поэзии, которая, по мнению Айзенберга, «может быть атрибутирована как литературный вариант соцарта»[235] — в первую очередь как раз для изображения иронически и пародийно остраняемого, «чужого» стиха, — автор нередко прибегает также к другим, более сложным и современным типам русской версификации. Например, в стихах, включенных в его последнюю книгу, встречается и свободный, и гетероморфный (принципиально неупорядоченный) стих:
Сумерки. Старики на завалинке Вот подходит к ним странник-Христос И молчит. — Посиди с нами, мил человек, — Говорят ему старики Он рубаху свою поднимает И две раны живых на груди обнажает Кровь бежит от них как две прозрачных реки И молчат старики И совсем смеркается Девки во поле гуляли хоровод Видят: старец по полю идет Дедушка! — бегут к нему девчата — Погадай! — а Он вдруг как взрывчаткой В небеса взнесен, но тих и строг Девки же со страху, кто где мог Вернее, могли ПопадалиВ этом стихотворении в первой части вторая, третья, пятая, шестая и восьмая строки написаны анапестом разной стопности, четвертая, седьмая и восьмая связаны рифмой, парно зарифмованы также пятая и шестая, а остальные лишены метра и рифмы. Во второй части попарно зарифмованы шесть первых строк, написанные вольным хореем с разными типами окончаний; финал строфида — холостой и лишенный метра.
В ряде произведений Пригов обращается и к «чистому», беспримесному свободному стиху; приведем примеры трех разных вариантов приговского верлибра:
Братская помощь Братской Чехословакии Братским августом Братского 1968 года Братским вступлением Братских танков Под братское негодование Братских контрреволюционеров; Под Псковом В чертовом овраге Регулярно пропадают люди Вот сгинула бригада лесорубов В 1988-ом году Со всеми их пилами и топорами Исчезли десять кулаков С детьми и женами В 1931-ом Группа грибников из Ленинграда В 1974-ом И не нашли Бог знает, что такое А, может, врут; Она спокойно И рассудительно объясняет мне Что не следует употреблять мата в художественных произведениях Я почти соглашаюсь с ней Но как же быть с персонажами Изъясняющимися исключительно матом? — Привожу я как бы неотразимый довод А просто не надо интересоваться подобными персонажами! — Я тут же прикидываю Что, практически, ни один из моих знакомых Не имеет шанса попасть в мои произведения Что же, будем искать других По ее советуПрозиметричность целого текста нередко создается в стихах Пригова за счет обрамления основного текста разного рода служебными компонентами: предуведомлениями, предваряющими циклы (например, в книге «Исчисления и установления» и во многих других), развернутыми авторскими заглавиями (например, в цикле «Банальные рассуждения»: «Банальное рассуждение на тему: жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы не жег позор за бесцельно прожитые годы», «Банальное рассуждение на тему: береги честь смолоду» и т. д.), авторскими комментариями в книге «Явления стиха после его смерти»:
Эти строки я долгое время приписывал Пушкину, пока не оказалось, что мои Она летит как пух изящная Вдруг спотыкается о зуб Зверя под сценою сидящего И ужас, ужас! пенье труб! И ужасВ некоторых прозиметрических миниатюрах (которые, как правило, объединяются автором в циклы, дополнительно снабженные прозаическими предуведомлениями, что еще более осложняет их структуру) прозаические «служебные» фрагменты окаймляют стихотворный текст с двух сторон:
Завистники, с некоторым опасением ожидавшие нечто подобное: Из жизни двух тараканов на кухне Один из них был прямой таракан Другой лишь входил — поднимался туман И та же звезда, на Востоке потухнув Зажигалась над этим местом — убеждались, что опасаться решительно нечего; Как бы это замечательно звучало, если бы было написано: Все в ней — энергия живая И ужас грешника в аду Когда она вдруг на ходу Из отходящего трамвая Выпрыгивает Навстречу тебе Единственному — да вот, никто так и не удосужился написатьДалее, ряд произведений Пригова можно рассматривать как циклы удетеронов; таков, например, цикл 1993 г. «Наподобие», многие части которого (тем более напечатанные на отдельных страницах в книге «Явление стиха после его смерти») на равных основаниях могут интерпретироваться и как стихотворные, и как прозаические. Правда, прозаический контекст (примерно половина частей состоит из двух и более строк и записана прозой) делает более вероятным отнесение названных отрывков к прозе. Тут необходимо заметить, что многие прозаические произведения Пригова написаны короткой стихоподобной прозаической строфой — версе[236].
Короткие строфы, более или менее упорядоченные и, как правило, состоящие из одного предложения, встречаются во многих прозаических текстах поэта, особенно небольших по объему; эффект стихоподобия иногда усиливается за счет использования стихотворной пунктуации, а именно отсутствия точек и других знаков препинания в конце строк-строф:
Есть три вида говорения обо всем Прямой — предполагающий себя таковым Иносказательный — предполагающий избегания ошибочности первого И ошибочно принимаемый за таковой со стороны, по сути, являющийся просто самим собой и через то, конечно же, и говорением обо всем Есть три вида убийц Прямой — убивающий взрослых, детей и стариков Иносказательный — как в примере с убийцами всего святого И ошибочно принимаемый за таковой со стороны, что говорит о скудности наших разрешающих способностей, впрямую уподобляющих внешние признаки адекватному выражению внутренней сути (из текста «Три вида всего»)В ряде случаев — например, в «Описаниях предметов», «Азбуках» и других «каталожных» текстах — определение природы текста оказывается несколько затруднено. Мы предлагаем относить такие тексты с сверхкраткой (т. е. не доходящей, как правило, до правого края страницы) строфой к стихоподобной прозе, поскольку в них нет (и, очевидно, не может быть) переносов, являющихся практически обязательной приметой стихотворной речи, подчеркивающей ее искусственный по сравнению с прозой характер.
Такая специфическая проза в «Азбуках» контрастирует с прозой коротких строк (версе) в обычном понимании, которой написаны предуведомления:
АЗБУКА 12 (геройская) Предуведомление Где прописано, к кому, к какому ведомству приписано геройство? А оно разлито везде. В него можно вступить — оно не запрещает. Оно не призывает. Наука о нем — скорее география, чем история. А — это Ашхабад, город-герой Б — это Брест, город-герой В — это Воркута, город не герой Г — это просто герой Д — это Дон, где живет герой-дончанин Е — это Елец, где живет герой-ельчанин Ж — это Жизнь геройская З — это Звезда геройская И — это История жизни геройская К — это история жизни геройская калининградца Л — это история жизни геройская ленинградца М — это Монголия, страна геройская Н — это Норвегия, стана не геройская О — это Орден геройский <…> 1984Особенно сложно решается вопрос о природе стиха в случае, когда одна или несколько строк в стихотворном тексте оказываются заметно длиннее остальных:
Среди задумчивых полей Идет солдат с нехитрой ношей Пылится пыль, парит парей Стоит задумчивая лошадь Бездумьем тянет от земли Как, впрочем, и вчера тянуло Сверкнуло где-то там вдали Опять сверкнуло, и опять сверкнуло! и опять сверкнуло! и опять сверкнуло, и опять! и опять! и опять И опять сверкнулоНам представляется, что и в данном случае мы имеем дело с явлением прозиметрии: вслед за ямбической частью следует прозаическая (версейная) строка-строфа, а завершается текст удетеронной строкой, которая может рассматриваться трояко: и как сверхкраткая версейная, и как удетеронная, и как строка верлибра.
Совершенно иного мнения придерживался по этому поводу М. Шапир, предложивший рассматривать сборник Пригова «Культурные песни» как «эксперимент по удлинению стихотворной строки»[237].
В качестве примера известный ученый взял текст, включающий самые длинные строфы — «обработку» песни Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная…», самая длинная строфа которой включает, по подсчетам Шапира, 429 фонетических слов[238]. Вопрос в том, какая это строфа — стихотворная или прозаическая?
С точки зрения Шапира, перед нами строка верлибра, поскольку этот тип стиха, как справедливо считает ученый, не имеет лимита на длину строки. Однако в приводимых им примерах, так же как в полном тексте произведения, напечатанном в качестве приложения к статье[239] и специально вычитанном для этой цели автором, регулярно встречаются переносы слов на границах типографских строк, что, по нашему мнению, несомненно является отличительным признаком прозаической речи — в отличие от стихотворной, в которой слова (за исключением случаев внутрисловного переноса, встречающихся иногда в современной поэзии[240]), не умещающиеся в строку, печатаются под ней с выравниванием по правому краю без переноса:
Но сурово брови и дула, и ножи, и штыки, и сабли, и рапиры, и секиры, и палицы, и тачанки, <и> бро- невики, и бронепоезда, и пушки, и пулеметы, и автоматы, и писто- леты, и танки, и кавалерию, и Катюши <sic!>, и само- леты, и ракеты, и атомные бомбы<,> и водородные бомбы, и подводные лодки, и крейсера, и линкоры мы насупим<,> Если враг — Германия, Китай, США, Британия, Япония, Изра- иль, Албания, Чили, Греция, Индонезия, Гаити, До- миниканская Республика, Франция, ЮАР, Панама, ОАР, Саудовская Аравия, Индия, Камбоджа, Арген- тина, Куба, Тайвань, Люксембург, Швеция, Дания, Канада, Италия, Эфиопия, Марокко, Алжир и пр. захочет нас сломать <—> Как невесту — незамужнюю женщину — Родину мы любим, Бережем<,> как ласковую, заботящуюся о нашем физическом, ум- ственном<,> моральном, душевном, духовном, общественно- политическом и идейном здоровье, мать<.>Если читать этот текст как стихотворный, мы должны ставить на разрывах слов протяженные паузы, характерные для ритмики стихотворной речи, кардинально меняя тем самым способ произнесения текста. Однако Пригов читал этот текст безусловно как прозаический, и в этом смысле авторское определение «стихотворение» ровным счетом ничего не значит, кроме того, что перед нами — поэтический текст, построенный на радикальном переосмыслении стихотворного прототипа, в котором, как справедливо признавал сам Шапир, «из-за интерполяций от 5-стопного хорея „Песни о Родине“ не остается ничего»[241].
Еще одним свидетельством кардинальной «ритмической трансформации» изначального стихотворного текста в стихоподобный прозаический является, как нам кажется, другое точное замечание Шапира, касающееся приговского исполнения:
«Исполняя стихотворение, Пригов устраняет акцентологическое противоречие, допущенное Лебедевым-Кумачем ради соблюдения метра: Широка[а] страна моя родная <…>, но Всюду жизнь привольна и шир[о]ка <…>. Пригов в обоих случаях произносит это прилагательное с ударением на последнем слоге»[242].
Суммируя сказанное, нам кажется, что перед нами — не стихи, а стихоподобная проза, созданная из стихотворной речи (хорея) с целью пародийного переосмысления прецедентного текста.
Наконец, несколько слов о вербальных в своей основе текстах, отчетливо тяготеющих в то же время к визуальности. Их у Пригова тоже немало. Так, в большом прозаическом тексте 1981 г. «Неодолимая сила слова, или Невозмутимые воды синей прозрачной реки» Пригов регулярно вставляет в повествование «таблички» с текстом, актуализируя в нем визуальное (а тем самым и перформансное) начало:
«Пусть все сядут так, чтобы синяя прозрачная река была у них по левую руку, а светлый густой лес в глубине привольной поляны — по правую. Для этого не надо понукать, ни руководить, ни окликать, надо просто в соответствующем месте, перед глазами людей поставить табличку:
Она должна быть достаточно большого размера, чтобы легко прочитываться издали. Текст должен быть написан алыми сияющими буквами, сверкающими под нестерпимым полуденным солнцем. Пусть потом последует надпись:
Пусть все, посидев немного среди чарующего пейзажа, обратят внимание на замечательные таблички. Кто сидит к ним спиной или боком, пусть развернутся лицом к надписям. Им подскажут соседи.
Посидев, все достают из сумок и сумочек продукты, свежий мягкий хлеб, яйца, приятно пахнущие огурцы, яркие помидоры, лимонад, напитки. Особенно возбуждены при этом, естественно, дети. Они звонко вскликивают, смеются, хватают бутылки с зеленоватым лимонадом, проливают его на ярко-зеленую траву. На них добро покрикивают. Пусть профессор, нахмурив густые серые брови, скажет с притворной строгостью хныкающему краснощекому белокурому бутузу: „Перестань плакать, а то волк в лесу услышит и прибежит“. Очаровательный малыш расширит карие глаза и еле-еле покосится на темнеющий лес. Профессор посмотрит по сторонам и скажет: „И что дальше?“
В это время устроители пусть покажут табличку:
Все оживятся еще больше, показывая на надпись пальцами. Захрустела яичная скорлупа, захлопали пробки, зашелестела провощенная бумага, постелены ослепительные белые салфетки на яркую траву и колени. Пусть все едят.
В это время появляется табличка:
Затем, минуты через две:
Пусть у всех уже хорошее настроение. Все сыты. Все чуть разомлели под горячим солнцем. Посмеиваются, стряхивают с коленей осколки белой матовой яичной скорлупы, свертывают закапанные салфетки, кладут их в сумки. Детишки притулились к родителям.
Появляется надпись:
Все, посмеиваясь, соглашаются, что, мол, да — приятно. Профессор обращает внимание на надпись каких-то двух молодых людей, отвернувшихся и занявшихся шутливыми юношескими играми. Профессор говорит: „А что? — и приятно“».
Наконец, в парижской книге 1985 г. «Стихограммы» поэт представляет нам образцы собственно визуальной поэзии, в которой тот или иной вербальный текст становится основой визуальной авторской интерпретации:
В основе произведения лежат две строки, которые можно интерпретировать и как стихотворное двустишие (вольный хорей), и как сверхкраткий прозаический текст. Однако новое произведение не является ни стихотворным, ни прозаическим: перед нами синтетический текст, основанный на вербальном тексте и включающий его в свой состав, однако мы не имеем точного авторского указания, как мы должны его читать: текст предназначен для рассматривания и интерпретации.
Точно так же вербальный компонент перформансов: от особого авторского чтения-пения до знаменитого крика кикимора (в котором вербально только название). Его некорректно интерпретировать как стихотворный или прозаический текст, даже если в основе лежит вербальный первоисточник, имеющий (на бумаге) вполне определенную ритмическую природу: синтетический текст принципиально не может интерпретироваться по правилам литературного, тут нужны, как говорилось, синтетические же методики описания и фиксации.
ПРАКТИКА
Олеся Туркина РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ ТОГО, как газета переходила из рук в руки, пока не дошла до Д. А. Пригова
В 2002 г. Пригов написал текст, в котором пародировал перевод тела в длительность. Текст назывался «Телесность, переведенная в чистую длительность». В предуведомлении к этому произведению Пригов издевательски писал, что он работает с телом,
«<…> переводя телесность в чистую длительность, использовав для этого темпоральность одной из обычных физиологических функций организма. Естественно, нельзя не обратить внимания на совпадение в русском языке двух телесных проявлений — писания (ударение на втором слоге) и писания-urinate (ударение на первом слоге). В нашем случае ударение преимущественно, то есть практически всегда, да и не практически, просто всегда на первом слоге»[243].
Текст состоит из множества записей примерно такого рода: «5 апреля 2002 года в 16.35 писал длительностью в 62 сек., то есть 1 минута 02 сек.»[244]. Фокус текста состоит не просто в постоянном переводе тела в длительность, измеримую временем излияния струи, превращения формы в жидкость, но главным образом в том, что фиксация этой темпорализации тела происходит с помощью писания, т. е. через действие с ударением на втором слоге. Письмо в такой же степени вводится в этот процесс пластического обращения на себя, как и упомянутая в тексте телесность. Фетиши знаков разжижаются и оживают. Моча, слезы, кровь выполняют в текстах Пригова функцию кайротического самопорождения времени, его пластического воплощения в метаморфозе телесного в идентичное себе неподвижное понятие.
Письмо Дмитрию Александровичу Пригову по поводу газеты, той самой газеты, которая переходила в искусстве XX в. из рук в руки, пока не попала к нему.
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Так уж получилось, что мне не удалось написать Вам ни одного письма, за исключением короткого электронного послания, отчаянной просьбы, которая настигла Вас, кажется, в Хорватии летом 2006 года. Тогда я просила Вас перевести стихотворение Дэвида Леви-Стросса для каталога выставки «Modus R. Russian Formalism Today», которую мы делали в Майами с Женей Кикодзе, делали так, будто это наша последняя выставка в жизни. Впрочем, к этому пора бы и привыкнуть. Ведь так происходит почти всегда, пока какая-то выставка действительно не оказывается последней. Будучи уверена, что перевод невозможен, а Сюзан Зонтаг так и говорила, что перевод — это смерть, я умоляла Вас перевести стихотворение американского поэта и критика, ведь только поэт может оживить умирающие в чужом языке слова другого поэта. И Вы перевели, проложив мостик через реку Стикс, прислали стихотворение с коротенькой запиской: вот что бедная моя муза смогла сделать. Бедная муза, бедная Лиза… Сентиментальная карамзинская героиня пробудилась, чтобы написать Вам письмо.
Здравствуйте, Дмитрий Александрович!
Я бы хотела побеседовать с Вами о том, о чем не получалось раньше, о том, что казалось на первый, то есть, по возможности невинный и, как мы знаем, невозможный в культуре взгляд, слишком очевидным, то есть, буквально оку видным, тому самому Оку, которое смотрит на нас с Ваших работ, и поэтому не хотелось отнимать у Вас бесценные «человеко-часы», которые Вы так кропотливо исчислили. По этим расчетам Вы ведь должны были дожить до 112 лет, дотянуть, как Вы говорили, до 2052 года, чтобы все сошлось по нулям, чтобы возместить утраченные во время войн и катастроф человеко-жизни. Но Вы интенсифицировались, и теперь мы разворачиваем Ваши часы в дни, месяцы и годы, так что стрела времени, можно сказать, поменяла свое направление. То есть причина и следствие поменялись местами, как когда-то объяснил в своей причинно-следственной механике ленинградский астроном Николай Александрович Козырев. Его еще называли визионером, или мечтателем, что звучит гораздо мягче, но и обиднее, потому что сразу вспоминается небезызвестный «кремлевский мечтатель». А ведь он, Козырев, сделал множество своих научных открытий именно тогда, когда вернулся из сталинских лагерей, где отсидел десять лет за вредительство, осуществленное во время астрономических наблюдений, в том числе и Большого Советского затмения в 1937 году.
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Помните, Вы подписали нам маленькую красную книжечку, изданную в Дюссельдорфе в 1993 году Юргеном Хартеном, который настолько проникся российским искусством, что произвел после- или поздне-идеологический западный самиздат, посвященный проектам своих любимых художников (он еще такую же книжечку издал про Тимура Новикова, а Вы ведь написали текст про его «пионеров» из серии «Идеалы утраченного детства», Вам была небезразлична судьба этого бедного забытого мемориала памятников Павликам Морозовым, воскрешенного Тимуром): «уважаемой госпоже Туркиной и господину Мазину»!
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Я хотела побеседовать с Вами о газетах, о том, как попали они к Вам в руки, как поймали Вы сачком эту хрупкую бабочку в конце XX века, когда газета уже тяжело болела, так сказать, еле тянула, но в то же время молодилась. Можно сравнить ее с Лениным, лежащим в Мавзолее, из Вашего романа «Живите в Москве», который выглядел неестественно молодо, когда все вокруг старели. Газета — это слова и слава. Фонетически они различаются только ударением. Слова — это множество, связанное в цепочку, даже если это слова, слова, слова, а слава — единственна и величественно единична. Агамбен говорил, что «слава — это форма, в которой власть переживает саму себя», власти необходимо славословие, которое возможно в форме «слово-словия». Во времена тотальности идеологии, в это время, когда Вы ее подобрали, газета стала таким «славо-слово-словием».
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Вы ведь не читали газет, если это не было перформансом, когда Вы намеренно читали газеты, сначала беззвучно, а затем громко с нарастающим напряжением. Вы никогда не ждали с безумным воодушевлением свежего номера, который тем не менее регулярно опускал в почтовый ящик № 207 невидимый почтальон. Впрочем, этот ангел идеологии, приносящий благие и не очень вести, божественное откровение, в общем, Правду с большой буквы, мог быть вполне обычным бедным человеком, например, студентом, дотягивающим до стипендии, или философом, ценящим свое время больше денег, или многодетной матерью, оставившей малышей на попечение старших, чтобы с утра пораньше подработать на молоко.
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Вы ведь не читали газет для того, чтобы окунуться с головой в этот воображаемый мир прессы, пресс мира, отжимающий выдавливающий выжимающий у читателей как слезу иллюзию сопричастности мировому злу или добру, чаще злу, потому что его больше любят читатели. У Гончарова Обломов задается вопросом, почему человек, например, живущий в Обломовке, должен прочесть в газете о пожаре или урагане, случившихся на другом конце света (кажется, у Гончарова воображаемая газетная катастрофа происходит в Чили, потому что тогда это считалось краем света), и переживать это событие на протяжении нескольких недель и даже месяцев. Не потому ли именно Вы так тщательно и последовательно сохраняли этот вид? Даже тогда, когда Советская газета, присвоившая себе право божественного откровения, этот непрерывный поток идеологической речи, казалось, умерла навсегда, и от этой Большой газеты, от этой фаллической матери, родилось многочисленное потомство, совсем на нее не похожее, где рядом с солидными старо-ново-либеральными газетами, с воскрешенными «Ъ» суетились, захватывая внимание, развязные листки с цветными заголовками, Вы не оставили ее, не бросили в нее камень. Вы прошли «По материалам прессы»
Серийный убийца Два года орудовал В Красноуфимске Перебрался в Екатеринбург Этот вывод сделали дознатели По сходству преступлений Которые убийца совершал Против пенсионеров Убивая их ударами молотка по голове Забирая все сбережения И ценные вещи А какие ценности-то у наших пенсионеров Обделенных жизнью И властью Господи, что дальше-то будетУважаемый Дмитрий Александрович!
Вы ведь прекрасно знали биографию газеты в искусстве XX века, когда она, газета, получила прописку сначала во французском кубизме, а затем и в русском кубо-футуризме. «Передается квартира в Москве» в «Частичном затмении» (1914) Казимира Малевича, это ведь не только сообщение о том, что освобождается квартира для нового искусства. Это подселяется газета, чтобы стать нашим соседом, неприметным и одновременно ужасно навязчивым, от которого уже не избавиться. В общем, как в песне поется: в нашем доме поселился замечательный сосед. Можно попытаться понять, о чем все эти газетные «там-там-тарата-там-там», или воспринимать их как веселый мотив. В веселой квартире № 5 в Академии художеств у Льва Бруни работали под руководством Татлина над материальными подборами. В коллаже Бруни, сделанном в 1917 году, береста и газета — части абстрактной композиции и материального подбора. Газета — материал, в котором важна фактура, цвет, хрупкость. Газета — это кора времени с нечитаемыми отметинами черных знаков. Но если приглядеться к фрагментам перевернутой Бруни газеты, то можно прочесть напечатанный там список депутатов Московской городской думы. Вот такой веселый материал времени, когда шла борьба между партиями и верили в свободу политического выбора.
В 1920-х годах газета уже не оставляет выбора, никакого или / или. «Правда» становится главной газетой, а имя ее — синонимом Истины. В коллаже И. Гурвича «1918», созданном в 1920-х, газета «Правда» вклеена в качестве идеологического артефакта, призывающего рабочих, солдат и крестьян: «Да здравствует революционное…» и обвиняющего мировую буржуазию: «Пайка голодного осьмушка / Сушила груди матерям, / А из Европы по морям / Ввозили варварские пушки!». К 50-летию Великой Октябрьской революции в 1967 году С. Юнович сделал эскиз декорации для спектакля по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», который так и не был осуществлен. Газета — это шум времени, это романтический рев революции, опять призывающий: «К гражданам России. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян».
Газета — это не только славословие власти, моментально превращающееся в мусор, но и обои. Помню, как поразила меня в детстве биография самой известной женщины-математика Софьи Ковалевской, которая изучила интегральные уравнения в возрасте четырех лет, потому что стены ее детской были заклеены газетами. Почему газетами оклеили часть генеральской квартиры в девятнадцатом веке, такой вопрос у меня не возник, потому что это казалось естественным на фоне бедного советского быта.
Газета оказалась долговечнее власти, словословие пережило славословие.
В 1981–85 годах Олег Васильев сделал свои «Подмены» на газетах. В 1991 году в серии литографий по рассказу Чехова «Дом с мезонином» он как бы разделил лист на два слоя — на газету и на фотографию, соединив вместе два несводимых изображения — общественное и личное.
Кто бы спорил — газета удобный материал, который всегда находится под рукой. Газета может быть частью посткубистического натюрморта, как в коллажах Геннадия Зубкова, или читаться как знак репрессивной тоталитарной идеологии, как у Оскара Рабина. Газета — это ежедневный шум бытия, фон нашей жизни, неизбежный, как смена времен года.
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Для Вас газета — это снег. Не «прошлогодний» никому не нужный, а снег, выпавший из более глубоких слоев памяти, из детства, классической литературы, метели. Это не грязно-серый городской, испачканный типографской краской, а мерцающий, легкий, плавно падающий вниз снег.
Как Вы описали в Азбуке, посвященной инсталляции, этот снегопад:
«И, конечно, газеты! газеты, засыпающие все вокруг наподобие русского мерцающего, светящегося, нематериального, ласкового и бесплотного снега, мягкими пластичными наплывами покрывающего все горизонтальные поверхности, ссыпающегося со стен, потолка, неизвестно откуда! бескрайнее, бесконечное, бессловесное, бесполое! только изредка где-то там вдали-вдали мелькнет огонек проносящегося мимо манящего неведомого селенья, да зазвучит отдаленный колокольчик, как память о всем ушедшем, милом, детском, невозвратном и невозвратимом, да спутается это все пронзительным и леденящим посвистом вьюги».
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Вы называли газеты и инсталляции хрупкими и кратко живущими. Вы говорили еще «хрупенькие» и «кратко-живучие». Они напоминали Вам засушенных бабочек. Не потому ли, что и то и другое временно, и не только по причине недолговечности материала, а потому, что и газета и инсталляция связаны со временем или с перформативностью, с тем, что прожито, пережито, отмучилось и осталось лишь в документации, в форме «мощей святых от искусства», по Вашим словам.
Не всегда эти мощи сохраняются в храмах искусства. В 1994 году Вы сделали в Русском музее инсталляцию «Ленинградский буддизм». В этой инсталляции газет, правда, не было. Круглый черный стол, висящий в воздухе, коленопреклоненная фигура перед ним и бокал — вот такой он, «Ленинградский буддизм». Стол, оставшийся от Вашей инсталляции, пришлось выкинуть, бокал удалось отмыть. Я всегда хотела спросить, не чашей ли Грааля были Ваши бокалы, реальные и фантомные, всегда наполненные красной краской. Правда, чаша Грааля из Валенсийского собора оказалась совсем другой, не прозрачной и не красной, а сияющей, излучающей мягкий свет, за счет то ли золотого обрамления, то ли особого освещения, то ли преломления лучей в стеклянной нише, куда она помещена.
Вы называли хрупкость газет трагической, потому что то, что является объектом желания (на какой исторической остановке остались очереди в советские киоски «Союзпечати» за свежей прессой), через минуту беспощадно выбрасывается. Вы ведь подхватили газету, можно сказать, «на лету», тогда, когда она еще была частью тотального идеологического языка, самого что ни на есть повседневного, не бросающегося в глаза, как лозунги на праздниках, но от этого еще более всепроникающего (где все эти кораблики и треуголки, так мастерски свернутые из газеты на пляже). Вы не бросили ее и тогда, когда эта тотальность переродилась из тоталитарной в массмедийную. Мы смотрим на газету. Газета смотрит на нас. На газете появляется глаз. Помните, как Вы описывали этот глаз и взгляд в лекции по поводу инсталляции в Третьяковской галерее «Видение Каспару Давиду Фридриху русского Тибета» (2004):
«Зритель, пришедший поглазеть на подобный пейзаж, вдруг обнаруживает, что сам является предметом пристального наблюдения. Кто смотрит на него? Фантом? Глаз одушевленной природы? Высшего Существа? Он сам ли, трансцендированный, удаленный, отделившийся от себя, взирает на собственный мелкий, оставленный и почти уже чуждый ему телесный организм? И такое бывает».
Уважаемый Дмитрий Александрович!
А может быть, газета для Вас — это икона, в сакральное пространство которой невозможно проникнуть. Флоренский говорил о крепости доски и непроницаемости темперы в иконе, об обратной перспективе, не позволяющей молящемуся перейти из этого мира в тот, попасть из профанного пространства в сакральное. Газета — это стена текста. Газета — это стена плача, которая осталась от разрушенного храма текста. Ровная сероватая поверхность испещрена знаками, которые умрут раньше, чем их прочтут. А кто будет читать наши жалкие записочки, посланные в божественную редакцию? Вы называли газету метафорой человека. Потому что у человека, гремящего костями и обросшего плотью, есть душа, а газета, плоть и кости которой моментально превращаются в мусор, может призывать к революциям, восстаниям, переменам. Когда же это было, в 1917, 1988, 1989, 1991, 1993, когда казалось, что у газеты появилась душа.
Рисовать на газетах — это не палимпсест египетского писца, который тщательно соскабливает с дорогого пергамента предыдущую запись, чтобы оставить новую. Рисовать на газетах — это вам не тайное симптоматическое письмо, вкрапленное молоком между строк. Так Ленин в рассказах Зощенко обманывал бдительных жандармов, слепив из хлебного мякиша чернильницу и налив в нее молоко, чтобы вписать между строк в книгах. Сколько пришлось съесть чернильниц с молоком Владимиру Ильичу, пока жандарм поворачивал ключ, увидев, что Ленин пишет в камере. А сколько хлебного мякиша и молока извели советские дети, не говоря уже об испорченных книгах теми, кто пытался повторить этот подвиг. Рисовать на газетах — это не то, что писать между строк в бедных послевоенных самодельных тетрадках. Нет уж, извините, рисовать на газетах, как Вы это делали, тщательно заштриховывая поверхность текста, — это жест иконоборчества и одновременно иконопочитания. Если бы знали победившие в спорах VII Вселенского собора сторонники иконопочитания, что в XX веке культуру будут обзывать иконократической. Такое вот слово для новой визуальной империи придумала Сьюзан Бак-Морс.
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Не случайно у Вас на газетах (да и не только) встречаются три цвета:
«Черный — цвет укрытости, метафизической тайны и магической непроницаемости. Белый — цвет энергии и источения. Красный — цвет жизни, Vita».
Это три основных цвета русских икон и авангарда — черный, белый и красный. Впрочем, черного цвета в иконах не использовали даже для изображения ада, черное — это небытие. А вот в искусстве авангарда, напротив, много черного цвета. Черный — это не цвет, это признак письма, экрана, зияющей пустоты и бесконечного космоса. Впрочем, в искусстве супрематизма неизмеримое космическое пространство представлено белым. На белом фоне летят из верхнего левого угла в нижний правый супрематические композиции Малевича.
В Русском музее хранится Ваш «Квадрат Малевича» (из коллекции Людвига в Русском музее). Это диптих, сделанный на страницах газеты «Правда» от 5, 7, 9, 16, 29 октября… 1989 года. Можно сказать, что Вы сохранили «Правду». Но на место политического шума поставили «Квадрат Малевича». Малевич считал, что в будущем искусство будет более важным, чем экономика или политика. В «Черном квадрате» он сформулировал и новую экономику, и новую политику искусства. Ваш «Квадрат Малевича» — это и не квадрат вовсе, а расплывающееся черное пятно. Вернее, это два пятна — удвоенная, почти зеркально отражающаяся друг в друге пустота. На одной половине диптиха белым высвечивается слово «kvadrat», а на другой — «malevicha». «Черный квадрат» Малевича многократно пытались символизировать, называя то экраном, то окном, то выходом в космос. У Вас же вместо геометрии — ужас Реального, то, что принципиально не символизируется, не сводится к ясному значению формы. «Квадрат Малевича» для Вас — тайна в искусстве XX века. Слова «ужас», «тайна», «horror», «mystery», «kvadrat», «malevicha» светятся остатками газетного текста, посвященного насущным задачам Перестройки. Это свечение и есть непостижимая тайна и благость искусства.
В 2002 году Вы сделали в Русском музее от «… Малевича», или «п… Малевича», как ее называют в музейных каталогах. Ниспадающие вниз газеты окружили, осыпавшись, как грунт, и образовали пещеру с черным задником. Это пещера, где родился «Черный квадрат»? Перед пещерой установлен бокал. Чем не религиозная композиция?! И не только потому, что «п… Малевича» формально напоминает пещеры, изображенные на иконах. Самое главное, что история вращается по кругу. Тот, кто рождается сейчас (Малевич или Пригов), уже предсуществовал, по крайней мере в пророчествах. То, что происходит у нас перед глазами, когда-то уже происходило и будет происходить вечно. Можно сказать, что из «п… Малевича», из этой вагины фаллической матери рождается Пригов, так же как из вагины Пригова вечно рождается Малевич.
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Можно я расскажу Вам свой сон? Накануне нашей встречи в Венеции мне приснился сон, в котором главное действующее лицо — мышь. А может быть, это была Ваша большая ласковая крыса, которая съела детей Марии. Вот эта мышь возникла на фоне Вашей «п… Малевича», потому что вагина, она же нора, откуда мышь, она же крыса, могла появиться. Мышь — персонаж московского концептуализма, мышь появляется на картинах Виктора Пивоварова. Однажды в процессе подготовки его персональной выставки в Русском музее он готов был даже оживить свою нарисованную мышь. Но мы испугались. Мышь появляется у Эрика Булатова, увидевшего ее в своем сне про коллекционера. Мышь там убивают для того, чтобы она ожила и как драматический актер объяснила разницу между большим и маленьким. Но у Вас ведь не было мыши. В Вашем бестиарии можно увидеть слона (которого Рыклин сравнил со слоном из буддистской притчи), птеродактилей, но не мышь. Мышь — это эвфемизм. Появившись из норы, она сама нора и вагина, откуда рождается все: и Александр Сергеевич Пушкин, и Казимир Северинович Малевич, и Дмитрий Александрович Пригов. У группы «Раммштайн» есть песня «Pussy». Не знаю, понравилась ли бы Вам эта песня. Но они так любят Вагнера. Но как газета — это не литература, так и «Раммштайн» — это не Вагнер, которого Вы так любили. Правда, можно сказать, что поют они о том же, о чем пели и Вы, об ужасе и мощи тотальности, о звонких пустых знаках, порождающих священный трепет, о том, что… Да что тут говорить, Вы и сами знаете, Вы ведь об этом уже написали.
С уважением,
Олеся Туркина Октябрь 2011 г., ВенецияМарина Абашева, Владимир Абашев ПУТЕШЕСТВИЕ Д. А. ПРИГОВА ИЗ МОСКВЫ В ПЕРМЬ: Биографический, географический и семиотический комментарий[245]
Жанр комментария к одному стихотворению используют, как правило, в интерпретации классики. Такой подход по отношению к текстам Д. А. Пригова может показаться неправомерным, ведь принято считать, что отдельные тексты Пригова, говоря его же словами, — «простые отходы деятельности центрального фантома»[246]. Возможно, это так, но хотелось бы избежать другой опасности: при изобилии творческого наследия писателя (проект создания 36 000 текстов) утратить пристальное внимание к конкретному произведению. Ведь время показывает, что каждый текст Пригова — полноценное произведение, результат тщательной работы. Поэтому мы предлагаем набросок комментария к одному тексту Д. А. Пригова — «неканонического классика» — в качестве преддверия к будущей летописи его жизни и творчества.
«Путешествие из Москвы в Пермь» написано в 1997 г., когда по приглашению фонда «Юрятин» Дмитрий Александрович приезжал в Пермь на три дня для выступления в рамках программы творческих вечеров «Литературные среды в Доме Смышляева». Также в Пермь приезжали Лев Рубинштейн, Михаил Айзенберг, Алексей Парщиков, Иван Жданов, Ольга Седакова, Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский и многие другие. Творческий вечер Дмитрия Александровича прошел 22 января в Центральной городской библиотеке имени Пушкина (Доме Смышляева) в центре Перми, назывался он «Жизнь литературы после ее смерти». Пригов читал в переполненном зале напротив портрета Пушкина. С огромным успехом. Благодаря съемкам, проведенным пермской киностудией «Новый курс», все выступление Дмитрия Александровича было снято на видео. Кроме того, Дмитрий Александрович выступил в Перми на пресс-конференции, на квартирной читке, ночами (жил он в доме авторов этого сообщения) привычно рисовал монстров, изготовлял «банку Курицына» из банки из-под «Вискаса», потому что далее направлялся в Екатеринбург на очередные Курицынские чтения. Визит Дмитрия Александровича, его выступление вызвали оживленное обсуждение в местной прессе. В один из дней визита устроители вечера рассказали Дмитрию Александровичу о том, что участники пермских «Литературных сред» пишут, как правило, свои тексты о Перми. Реакция была мгновенной: «А я уже написал». Впрочем, такому ответу не стоило и удивляться в тот «стахановский» период его творчества: ни дня без двух-трех стихотворений.
Через некоторое время Дмитрий Александрович действительно передал нам текст стихотворения о его пермском путешествии[247]. Несколько лет спустя «Путешествие из Москвы в Пермь» Дмитрий Александрович опубликовал в «Новой газете» (22.11.2001), потом в книге «Исчисления и установления»[248]. Согласно аннотации издателя,
«книга Д. А. Пригова представляет собой набор текстов, отличных от стихов и прозы этого автора, занимая как бы промежуточное место между ними. В этих текстах автор делает упор на такие привычные человеку слабости или, если угодно, страсти, как подсчитывание никому не нужных вещей и переведение одного в другое (например, одной валюты в другую)».
Правда, сегодня кажется, что это как раз очень нужные вещи. Пригов провозгласил задачу произвести полную инвентаризацию окружающего мира, и сейчас его намерение видится не шуткой. Он писал, что это труд, понятый как
«планомерное овладение миром, вживание в мир, идентификация с ним, т. е. обнаружение некоего продолжительного, растянутого пространства, либо поля, в пределах которого либо в силовом напряжении которого все может быть сопряжено совсем по новым правилам»[249].
В целом задача вполне онтологическая, отразившая «тоску если не по совершенству, то хотя бы по достаточной полноте <…>, которая преследует человечество на всем протяжении его существования». (Окончательно в этом убеждает текст «Слова, которые я никогда не употреблял в стихах»[250]: он демонстрирует, как даже несистемное (не употребленное, не сказанное) включается в систему, вбирая космос / хаос, слово / молчание, существование / несуществование.) В «Путешествии из Москвы в Пермь», как и во всех текстах книги, происходит конвертация преодоленных сегментов пути в блага социально-статусного или духовного порядка:
«Я выехал из Москвы и доехал до Владимира — за это мне полагается поощрение от Министерства путей сообщения.
Я доехал до Нижнего Новгорода — за это мне полагается бы денежная премия.
Я доехал до Шахуньи — полагалась бы еще надбавочка.
Доехал до Котельничев — думаю, что заработал звание заслуженного деятеля этого пространства.
Доехал до Генгасово — ой, ой, ой не дай Бог, обнаружат.
Доехал до Глазово — ой, ой, обнаружили, бегут с колами и уключинами страшными, дикие, безжалостные.
Доехал до Балезино — воочью явлено некое странное видение с провалами, дыханием смрадным, простирающимся во все стороны. — Ты о Балезино? — Да при чем тут Балезино? Тут ужас, страсти мертвые!
Доехал до Кеза — полегчало, полегчало, заслужил чайка с сахаром.
Доехал до Верещагино — думаю, заслужил уважение.
Доехал до Менделеево — думаю, что вполне заслужил какого-либо влиятельного поста, положения, во всяком случае
Доехал до Курьи — заслужил всего, ну, буквально всего, что ни на есть и в мировом масштабе.
Доехал до Перми — Господи, спасения заслужил!»[251]
Сразу, в «Предуведомлении», давая ключ к прочтению текста — «уподобление жизни путешествию», Пригов отсылает и к «метафоре, которой мы живем», — «телеге жизни», и к жанровой традиции — прецедентным текстам путешествия.
Прежде всего, конечно, считывается отсылка к радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву» — не только в названии, но и в частотном у Радищева слове «смрадный»: «воочию явлено некое странное видение с провалами, дыханием смрадным <…>». Возможны аналогии с поэмой «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева: у него поездка на пригородном поезде связана с идеей спасения.
В литературе сложился уже и жанр железнодорожного путешествия, описанный, в частности, Александром Флакером[252]. Правда, в путешествии Пригова нет ничего, для этого жанра характерного: нет обозначенных Флакером элементов движения, миметического подобия, достигаемого посредством ритма, разделения внутреннего / внешнего пространства. Тут нет даже описания пути (впрочем, его нет и в путевой прозе Пригова — травелоге «Только моя Япония», например). Есть, правда, психологически точная интуиция поездки в поезде как особого состояния, за какое полагается награда. Здесь Пригов совпал, например, с Пастернаком; тот писал Зинаиде Нейгауз в 1931 г.:
«Как чудесны эти первые часы пути, когда так облагораживающе сказывается усталость и вдруг получаешь право молчать, сидеть на мягком диване и засматриваться на быстро сменяющиеся картины — право, как бы заслуженное суматохой сборов и волненьями большого, рано начавшегося дня. Природа в дороге кажется наградой, которой тебя признали достойной, это возвышает и трогает — почти что подымаешься в собственном мненьи, — ты замечала?» (подчеркнуто нами. — М.А., В.А.).[253]
Пригов заметил: движение к награде и спасенью и составляет сюжет текста. В нем представлена конкретная топография: маршрут поезда «Москва — Пермь», реальные названия станций Московско-Свердловской железной дороги. Но не все, какие есть в действительности, и не всегда они правильно названы[254]. Следствие ли это невнимательности или намерения? По какому принципу они выбраны? Принципов несколько.
Фактический. Прежде всего, большинство выделенных топографических пунктов приговского путешествия — это названные в порядке следования по маршруту станции, где поезд делает остановку. Такова композиция или фабула. Сюжет же образуется отступлением от принципа. Пригов отбирает не все названия железнодорожных станций. И в отборе, кажется, работает принцип семантико-фонетический.
За терпение в пути до понятных Владимира или Нижнего Новгорода полагается поощрение, премия, потом надбавочка — вполне обывательские блага маленького человека… Но далее текст вдруг проваливается, как бывает у Пригова, в зону хаоса и экзистенциальной тревоги: в Генгасово — «ой, ой, ой не дай Бог, обнаружат». Генгасово в железнодорожной схеме нет вовсе, есть Лянгасово — это пригород Кирова, большой сортировочный узел, где пассажирские поезда не останавливаются. Примечательно: в перечень пунктов путешествия Пригов не включил Киров, где поезд делает большую остановку, заменив его кировским пригородом Лянгасово. Лянгасово — видно, воспринятое на слух — в тексте превратилось в столь же семантически темное Генгасово. Скорее всего, Лянгасово было предпочтено Кирову по причинам стилистического и семантического свойства. В имени «Киров» есть семантическая однозначность, в нем слишком густы советские коннотации, что несколько разрушает свойственный всему тексту ретро- и отчасти архаический колорит. Лянгасово же, как раз в силу своей семантической непрозрачности, легко допускает ассоциации этимологического свойства.
Этимологически «Лянгасово» производно от бытующего, согласно Далю, в вятских говорах слова лянгас. Это использующийся в быту берестяной сосуд: «долгий бурак, высокий туес»[255]. Ничего похожего на «генгасово» в словарях нет. Близко по звучанию слово гангас. Так называют промысловые петли, силки, употребляемые на севере России для ловли дичи[256]. Улавливается и созвучие с общеизвестным геенна. В общем, в приговском топониме «Генгасово» для русского слуха есть что-то определенно опасное или предостерегающее об опасности.
И не случайно именно с этого пункта путешествия заканчивается эскалация возрастающих земных благ и возникает чувство грозящей опасности. В Глазово (тут работает корневая семантика — «глаз») путешественника увидели, «обнаружили, бегут с колами и уключинами страшными, дикие, безжалостные». (Уключины на суше появляются исключительно по фонетическим, полагаем, мотивам, да и формой уключины именно на петли-силки похожи.) В Глазово — Балезино как раз пройдена половина пути, это 6-я и 7-я станции из 12 — по условию уподобления жизни путешествию, пора «заблудиться в сумрачном лесу». Тут вспоминаются и дантовские видения. «Доехал до Балезино — воочью явлено некое странное видение с провалами, дыханием смрадным, простирающимся во все стороны. — Ты о Балезино? — Да при чем тут Балезино? Тут ужас, страсти мертвые!» «Мертвых» в окончательном варианте в книге «Исчисления и установления» нет. Это понятно: без эпитета у слова страсти актуализируется значение ‘страдания’, а не ‘страхи’.
Вообще, видения свойственны жанру хождений и путешествий. В древнерусской культуре, по известному замечанию Ю. М. Лотмана, «движение в географическом пространстве становится перемещением по вертикальной шкале религиозно-нравственных ценностей, верхняя ступень которой находится на небе, а нижняя — в аду»[257]. При этом ад и рай также мыслились в пределах географического пространства: их в принципе можно было посетить.
Впрочем, и отвергнутое, зачеркнутое в машинописи «мертвецкие» имеет подходящие коннотации. Вообще путешествие от Москвы до Перми имеет семантику перемещения на край света (Пермь — географически край Европы, этимологически восходит к вепсскому пера маа — «дальняя земля, край»). В романе одного из создателей геопоэтики Перми Алексея Иванова о средневековом Прикамье русский воин объясняет другому:
«Здесь, мужики, самый край божьего мира, а дальше — одни демоны творенья, которым ни наша, ни божья воля не указ. Ангелы-то над нами небо еще держат, а демоны всю землю пещерами изрыли, лезут наружу, прорастают болванами. И люди здешние — югорские, пелымские, пермские — тоже по пояс из земли торчат. Души у них демонские каменные»[258].
Третий принцип отбора станций — нумерологический. Заметим, что ни один из железнодорожных маршрутов не дает именно такого, как у Пригова, перечня станций. В тексте их ровно 12 — значительно больше, чем остановок на скором поезде «Кама», каким ехал автор. Эта особенность не акцентирована в книжной публикации: в книге исчезла одна из особенностей авторской графики текста, бросающаяся в глаза в первоначальном машинописном варианте.
Надо сказать, что первоначальный текст в машинописной книжечке существенно отличается от опубликованного в книге (см. приложение). К нему теперь и обратимся. Во-первых, в книжной публикации утрачена иконичность авторской графики текста. В авторской машинописи текст «Путешествия…» графически горизонтален: «строфы», описывающие станции по ходу следования поезда, расположены по горизонтали страницы. Тем самым текст выглядит как схема движения поезда, карта маршрута.
Во-вторых, в машинописи текст отчетливо разбит на 4 сегмента, каждый из которых содержит по 3 пункта. Известна страсть Пригова к нумерологии, к определению всевозможных чисел («генерального немецкого числа», «блоковского числа», «генерального числа русской литературы»), об этом писали И. Смирнов, Б. Гройс, И. Прохорова, А. Скидан и др. В символической традиции 12 считалось сверхсовершенным числом, символом «философского камня», законченности и божественного круга, вращающего вселенную. Двенадцатеричная структура мироздания, 12 знаков зодиака, 12 часов дня и ночи, 12 главных олимпийских богов, 12 библейских колен, 12 апостолов. Х. Э. Керлот пишет: «Двенадцать символизирует космический порядок и спасение. С ним связаны понятия пространства и времени, а также колеса и круга»[259]. С этим числом связана идея жертвы как единственно возможного условия восхождения человека к Богу. В оккультных традициях число 12 представляет собой как раз произведение 3 и 4, вмещающее в себе все проявления материи и духа, разнообразные ритмы Вселенной, миропорядок проявленного космоса. В 12-м пункте приговского путешествия, в Перми, замыкается круг жизни-путешествия: «Господи, спасения заслужил!»
Так, работая даже не с жанрами, а с воспоминаниями о жанрах, всплывающими осколками словаря, интонациями, Пригов дирижирует смыслами, создает нечто большее, чем случайная железнодорожная зарисовка. «Путешествие из Москвы в Пермь» применительно к месту — это одна из проницательных репрезентаций локальной геопоэтики. Но прежде всего это визионерский набросок, мистико-антропологический эскиз жизненного пути, наглядно выражающий метафизическую доминанту творчества Пригова в целом.
Сергей Оробий «ПАМЯТНИКИ» Д. А. ПРИГОВА и форматы их (само)описания
16 июля 2007 г. умер Дмитрий Александрович Пригов, но дело его живет. Как бы ни относились к разнообразной художественной продукции человека, предпочитавшего называть себя «работник культуры», как бы ни оспаривали его поэтический статус, но по прошествии времени выявилась любопытная закономерность: разные этапы творчества Пригова последовательно соотносятся с соответствующими периодами истории. Истоки приговской художественности — в брежневской эпохе, отсюда невероятная мегаломания («В Японии я б был Катулл…»), а также незабвенный образ Милицанера, символа «застойной» власти. В переломные 90-е Пригов становится популярен и как представитель андеграунда, и как зачинатель постмодерна — типичная для 1990-х смесь пассеизма с новаторством. Наконец, в 2000-е с Приговым происходит главная метаморфоза — он наделяется оксюморонным статусом «неканонического классика», но это также в духе консервативно-охранительных «нулевых». Изучение этой своеобразной логики российского культурного дискурса, особенно в области нравов литературного сообщества, представляет специальный интерес.
1
Мегаломанские претензии поэта, который объявил о намерении написать 35 000 стихотворений и, кажется, перевыполнил этот план, столь обширны, что отечественный философ Вадим Руднев даже посвятил данной проблеме особую психоаналитическую статью, охарактеризовав Пригова как «поэта-парафреника»[260] (что, однако, не противоречит рудневской же оценке Пригова как «солнца русской поэзии»). Михаил Берг в «Литературократии» обозначил социальные корни этого явления, заметив, что приговская мания величия «не просто соответствует уровню притязаний автора, в противном случае его практика не получила бы распространения, она соответствует массовому ожиданию перераспределения власти»[261].
Между тем эта практика не была бы столь совершенной, если бы Пригов как истинный поэт не обыгрывал собственную манию величия самыми разнообразными способами:
В Японии я б был Катулл А в Риме был бы Хокусаем А вот в России я тот самый Что вот в Японии — Катулл А в Риме — чистым Хокусаем Был быЧитателя не должно смущать сослагательное наклонение, поскольку в этом и заключается главная риторическая уловка: лукаво отрицая свои художественные претензии, поэт утверждает их самим фактом стихотворения. Поэзия вообще любит говорить о том, чего нет, — вспомним мандельштамовские «Я не…» (увижу / слыхал / войду; Федры / Оссиана / в стеклянные дворцы), — что не мешает ей, поэзии, оставаться в высшей степени претенциозным и эгоцентрическим занятием. Не забудем и того, что стиль «как бы» является важным признаком отечественного интеллигента конца XX в.[262]
Аналогичным образом — «от противного» — поэтическая витальность Пригова утверждается в следующем тексте:
При мне умерли Сталин, Хрущев, Брежнев И Георгий Димитров, Вылко Червенков тоже умерли при мне и Клемент Готвальд, Антонин Запотоцкий, Густав Гусак и Людвиг Свобода при мне умерли и Болеслав Берут при мне умер и Иосип Броз Тито при мне умер <…>В данном случае одерживается не только риторическая, но и более убедительная — экзистенциальная победа, поскольку речь идет о самодовольной констатации неотвратимого положения вещей, в которой, конечно, особенно важно нарциссическое «при мне»[263].
Помимо собственно риторических и экзистенциальных, поэзия Пригова обнаруживает многообразные сюжетные способы художественного самоутверждения. Так, например, в следующем тексте горацианско-пушкинский принцип поэтического бессмертия получает явные архаико-мифологические коннотации:
Вот пирогов напек, пришли — всё съели Ну хорошо бы — честно, до конца А то объедков… только насорили Когда бы знал — так с одного конца И пек бы Вот так всегда бежишь: я ваш, браточки, Вот ешьте меня, пейте — пропадай Душа! — а от тебя кусочек Отломят лишь, а прочее — гуляй Во полеВадим Руднев справедливо усматривает в этих строчках представление о теле поэта как о жертвенном теле умирающего и воскресающего бога с его диалектикой смерти и воскресения[264]. Вообще, по замечанию Руднева, макабрические стихи Пригова удивительно жизнеутверждающи и остроумны:
«Разве не оптимистически звучат строки из знаменитого стихотворения: „В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди недвижим я лежал. Я, я лежал, Пригов Дмитрий Александрович!..“ Лежал-то он лежал, но ровно до тех пор, пока глас Бога не воззвал к нему, превратив смерть поэта в рождение пророка»[265].
Актуализация этих представлений дает основание усмотреть мифологическую мотивировку во многих художественных экспериментах Пригова, которые на первый взгляд кажутся бессмысленными. Таковы, к примеру, «Исчисления и установления», включающие разнообразные абстракции и их процентные соотношения, которые Пригов вычислял с той же скрупулезностью (и с тем же успехом), как Велимир Хлебников — даты исторических катаклизмов:
Говорят, что за всю историю человечества жило на земле не более 10 млрд. человек Это не я говорю, это наука говорит И если взять среднюю продолжительность жизни, с учетом чрезвычайно короткой жизни раньше — 30 лет То получим 30 млрд. человеко-лет И соответственно — 10,095 триллиона человеко-дней И соответственно — 65,7 триллиона человеко-часов И соответственно — 394,2 триллиона человеко-минутТакой мегаломанически-подробный и вместе с тем масштабный подсчет — не что иное, как «взгляд с высоты птичьего полета», высшая демиургическая точка наблюдения[266]. Здесь, конечно, вспоминается и «Поле Куликово», одно из лучших стихотворений Пригова, с его специфической повествовательной точкой зрения: «Вот всех я по местам расставил. Вот этих справа я поставил. Вот этих слева я поставил. Всех прочих на потом оставил…»[267].
Конечно, сколько-нибудь успешная автоканонизация не может обойтись без апелляции к главному отечественному поэту. Пригов и эту тему решает в неожиданном ключе:
Внимательно коль приглядеться сегодня Увидишь, что Пушкин, который певец Пожалуй, скорее что бог плодородья И стад охранитель, и народа отец Во всех деревнях, уголках бы ничтожных Я бюсты везде бы поставил его А вот бы стихи я его уничтожил — Ведь образ они принижают егоА. К. Жолковский, разбирая этот текст Пригова, обратил внимание на то, что автор не сбрасывает вслед за футуристами Пушкина с парохода современности, а обнажает тотальность претензий Поэта на все мыслимые культурные роли и одновременно обозначает реальную смерть традиционной, канонической поэзии. По Жолковскому, смерть традиционной поэзии является не столько результатом эстетической автоматизации сознания, сколько следствием возведения поэта в ранг культурного героя наряду с вождями партии и правительства[268].
Позднее в эссе «Памяти Пригова» Жолковский вновь останавливается на феномене популярности поэта, причем рассматривает его, во-первых, в категориях средневекового схоластического диспута, а во-вторых, на примере образа Пушкина:
«Вопрос это, в сущности, философский, напоминающий соотношение номинализма и реализма. Почему мы любим стихи Пушкина? Потому ли, что почитали и, почитав, полюбили именно их из массы других? Или потому, что мы уже знали, что это Пушкин, что мы читаем Пушкина, а Пушкин это наше всё, и т. д., и мы должны любить его»[269].
Здесь вспоминается старый анекдот и его разбор в замечательной книге Славоя Жижека «Возвышенный объект идеологии». Это знаменитый анекдот времен застоя «Ленин в Польше». На картине под названием «Ленин в Польше» изображена Крупская в постели с комсомольцем. Недоуменный посетитель музея спрашивает: «А где же Ленин?» — «Ленин в Польше», — невозмутимо отвечает экскурсовод. По Жижеку, суть этой диалектики в том, что, во-первых, истину нельзя понимать как результат соответствия высказывания фактам. Отсюда делается следующий шаг: в идеологическом опыте важна не истина (она зачастую неотличима от вымысла), важно соблюдение ритуала поддержания видимости истины. Это ситуация андерсеновской сказки: все поддерживают видимость того, что у короля новое платье, зная, что он голый. В приведенной выше интерпретации Жолковского это аргумент «реализма»: «большую роль играло то соображение, что это пишет сам Пригов».
2
Вхождение в нарциссический образ гения всегда сопровождалось декларативными утверждениями, охватывавшими как литературную, так и внелитературную сферы деятельности. Поэтическая, художественная, философская и пр. формы мегаломании — лишь составляющие элементы того целого, что именуется «проектом Пригова». Этот проект предполагал преимущественно экстенсивную направленность: если творческие планы — то непременно создать 35 000 стихотворений, если исполнение поэтического произведения — то непременно переходящее в крик кикиморы. В результате, по замечанию Александра Кобринского, Пригов «потерял возможность состояться как поэт, творящий новую эстетическую реальность (а значит, — и вообще как поэт в понимании XIX века), но зато он открыл новый подход к работе с существующей реальностью второго порядка (если так определять искусство)»[270].
Этот «эго-проект» в первую очередь ориентирован на прагматику: поэтическая масштабность создателя «милицанера» проявилась в том, насколько обширные аудитории оказались охвачены его эстетической деятельностью и сколь специфические художественные запросы имела эта аудитория. В результате особенность нынешнего формата изучения многочисленнейших приговских «памятников» — в том, что они исследуются не на общих основаниях, а на особенных. Это касается как концептуальных аспектов («уникальность» Пригова, пропагандировавшаяся им самим, принята за данность; его творчество, понимаемое как явление, преодолевающее литературу как таковую, встраивается в другие области человеческой деятельности: лингвистику, философию, логику, — приобретая подлинно всечеловеческое звучание), так и собственно организационных моментов (выделяются гранты, предоставляются музейные и конференционные залы, издательские мощности).
Иначе говоря, было бы наивно полагаться на некий метаязык, с помощью которого творчеству Пригова можно будет придать законченный характер или обнаружить скрытые доныне закономерности. Изучение приговского творчества и определение его места под авангардным солнцем располагается, как кажется, между двумя аналитическими крайностями: так называемыми «солидарным» и «несолидарным» чтением. Эти понятия рассмотрены в работах А. К. Жолковского о Маяковском, Хлебникове и Лимонове, Л. Г. Пановой о Хлебникове и Хармсе, С. В. Поляковой о Хлебникове. Примечательно, что данные разборы построены преимущественно на материале русского авангарда и рассматривают случаи, когда исследователи этого художественного направления наделяют его подлинно универсальными качествами, превознося «заумь» обэриутов, математические изыскания Хлебникова или философские экзерсисы Хармса.
Проблема «солидарного чтения» имеет к самому Пригову ровно такое же отношение, какое сам Пригов имеет к авангарду. Он одновременно и похож, и не похож на него, во многом представляя пример антидискурсивного мышления, пародирующего литературу как totum. Пригов не только расточительно обесценил поэтическое слово, но и постарался предвосхитить почти все возможные трактовки своих поэтических экспериментов. Здесь мы намеренно не затрагиваем сакраментальный вопрос о качестве стихов Пригова и не намерены пускаться в рассуждения о том, в какой степени ему было присуще самоощущение графомана, в чем природа его «плохописи». В конце концов, в истории отечественной литературы дурной стиль зачастую наделен идейной сверхзадачей (вспомним позднего Толстого или Платонова). Не в этом дело. Парадоксальная бытийственность приговских текстов — в их конкурентоспособности, персонификации желаний и потребностей значительной (и влиятельной) референтной группы, передающей поэту свои полномочия. Можно предположить, что в случае с Приговым это культурная трансляция сугубо психоаналитического комплекса (интеллектуальной) неполноценности довольно широкой аудитории — то, что Михаил Эпштейн назвал «лирикой сорванного сознания».
Всякий автор должен приготовиться к символической смерти, когда отдает готовый текст на откуп «безжалостному» читателю. Чем более полного, телесного (фольклорного в своей основе) присутствия в своих текстах добивался Пригов, крича кикиморой или планируя чтение частушек в общежитии МГУ, тем более текстуализированным оказывалось его «поэтическое тело» posthumously. Создатель «милицанера» постарался предвосхитить почти все возможные трактовки его поэтических экспериментов, но не предусмотрел одной, самой парадоксальной — канонического понимания его творчества. Объяснение этого упущения может заключаться в том, что оборотной стороной невероятной приговской претенциозности всегда была способность к пародийной дистанции, непредумышленному умалению собственной значимости:
Моего тела тварь невидная Тихонько плачет в уголке Вот я беру ее невинную Держу в карающей руке И с доброй говорю улыбкой: Живи, мой маленький сурок Вот я тебе всевышний Бог На время этой жизни краткой Смирись!История в лице современников распорядилась, однако, иначе и постаралась придать его веселому «фарсу» черты сомнительной «трагедии» посредством сакраментального статуса «неканонического классика».
Карнавал не может быть канонизирован, это противоречит его природе, однако может приобретать необычные и даже зловещие формы. Заканчивая разговор о современном солнце русской поэзии, уместно снова вспомнить Пушкина, а точнее — один факт из истории его посмертной торжественной канонизации. Описание Шкловским празднования 1937 года:
«<…> шли люди, одетые в костюмы героев Пушкина. <…> В кибитке ехала капитанская дочка, рядом с ней Пугачев — румяный, довольный, в синей ленте, пересекающей нагольный тулуп.
За кибиткой Маши Мироновой в санях ехал Чапаев с пулеметом.
Я спросил: — А Чапаев как?
— По-нашему, — ответил мне один из устроителей, — Чапаев при Пугачеве как раз»[271].
* * *
Все сказанное следует понимать с учетом неоднозначной природы жизнетворческого перформанса, запутывающего отношения между риторикой и реальностью, осложненного как неизбежным отечественным литературоцентризмом, так и настойчивым биографизмом канонизаторов[272]. В плюралистичные, но все более консервативные нулевые литературные годы устойчиво-репрессивное действие всех трех факторов по отношению к последовательному в своем (пост) авангардизме поэту-графоману выглядит особенно занимательным.
Впрочем, у культуры есть одна неоднозначная особенность — она все осмысливает. Культура гораздо более живуча, чем не-культура, поскольку в культуре время движется в сторону накопления информации, тогда как в реальности — в сторону накопления энтропии. Культуру поэтому в принципе невозможно уничтожить, поскольку в этом случае некому будет свидетельствовать, что она уничтожена. Но пока живы беспристрастные свидетели и благодарные потомки, их предпочтения и интенции могут быть самыми различными, и зачастую они ориентированы на достижение вполне прагматических и насущных для мира живых целей.
Марио Карамитти «ЖИВИТЕ В МОСКВЕ»: ТЕЛО И ПЛАМЯ ПАМЯТИ
Воспоминания
Какой суровый, статно-горбатый, страшный отец, какая хорошая, сисястая мама, какой я великий и как подлы все вокруг. Веками так писались воспоминания. Какими бы ни были многочисленные и разнообразные договоры с читателями, с которыми столь детально и уважительно Пригов здесь игриво «выясняет отношения».
Потом двадцатый век, Celine и французский autofiction, которые превратили мемуары в роман, с огромным успехом на русский лад — эгороманистика, или самовыдумывание, Венички Ерофеева, Синявского, Соколова, Евгения Попова и различных подражателей. Антидоговор — автор, главный герой и рассказчик суть одно и то же, жизнь на улицах и в лесах — это только предпосылка для жизни на бумаге, и автор беспощадно, еретично и феерично выдумывает себя и свою биографию.
И вот «Живите в Москве». В такие годы, в такой атмосфере. Впервые в большой прозе. А это никак, ни в коей степени не эгороманистика. Может, даже еще не совсем проза, таким же образом, как и приговские стихи не совсем стихи[273]. «Живите в Москве» — это всеобщее, интегральное применение концептуального метода к жанру воспоминаний. Стопроцентную прозу, лучше и хуже, — лучшую, наверно, «Ренат и Дракон» — он напишет потом.
Получается, что «Живите в Москве» — книга воспоминаний в узком даже смысле. Тут придуманного, как уверяет Пригов, нет ничего.
Концептуальный метод
Предмет — Пригов. Вокруг него — концептуальное пространство — Москва, которое заряжается самонарастающим, сверхнапряженным и концентрированным смыслом — откуда, от которого, все течет, да как течет, да куда еще не течет.
Можно и по-другому. В центре пять-шесть основополагающих воспоминаний (а может, всего одно — паралич). Вокруг своей, но исключительно из предыдущих исходящей жизни ответвляются, пересекаются, контаминируются воспоминания целых поколений и самого города-великана, города-страны.
Пригов, фамилия Пригов, «поэт Пригов» упоминается только однажды, в самом-самом центре книги[274] (конец четвертой главы — из семи — но симметрия, конечно, восточная, по Пелевину, 4 и 3, 3 и 4). Отчество вытекает из многочисленных, всегда вокативных повторений уменьшительного (не иначе реализованного) имени отца «Саня! Саня!» или, по-стилягски и по материнскому настоянию, «Сэнди». Имя открывается только однажды, и только кошке: «Я — Дима»[275].
Таким же образом воспоминания — глыба, некое единство, из которого в нужный момент в нужном направлении стягиваются муфты, рукава, все соединяющие и разъединяющие.
Связь предметная и интертекстуальная. Исходя, например, из горьковского «был ли мальчик?» и из старого театрального бинокля, который вертит в руках пожилая женщина[276], «слышим», «слышит она» детский голос сына, который распластывает нас между временными слоями чтения и написания книги, воспоминания и реального переживания события, а она уже на пол — инфарктом, или, как тогда говорилось, разрывом сердца (нити проходят через сам язык).
Или: в день похорон Сталина Колонный зал Дома союзов становится центром мистико-гравитационного тяготения, засасывающим своим коллапсом все городское население. Реальное событие, почти буквально совпадающее с апокалипсическим духом книги, освещается очень сдержанно, почти утаивается, но после него Ничто, образовавшееся в центре Москвы, обеспечивает чистейшее обнажение композиционного принципа: «Собственно, непонятно, что наблюдалось, так как не наблюдалось ничего. Подрагивало только нечто вторично, третично соприкасавшееся даже не с ним самим, а с его реальным отсутствием»[277].
Спасла героя от смертельной воронки, кроме провербиальной цепкости его рук (всегда противопоставляемой слабости ног), обыденность, холодность, нормальность матери, единственной не поддающейся всеобщему радению. И вот между этими полюсами (обыденность, повседневность, рутинность и неземная / надземная метафизика власти) растягивается смысловое поле голого зияющего напряжения.
Основная черта первого полюса и явнейший отпечаток концептуального метода в книге — серийность. Разделенная со всеми и эпистемологически фракционированная память не может не порождать серийность, нелитературность событий и их восприятия. Москва и ее население исчезают неизмеримое количество раз, и каждый раз «все заново начиналось, населялось» — фразочка, способная, разумеется, беспредельно раздражать бедного читателя, случайно сюда попавшего со страниц романа-фэнтези.
Еще больше серийность проявляется во всепоглощающем употреблении несовершенного вида глаголов прошедшего времени. Нет ничего в книге (кроме, конечно, последнего предложения, вокруг которого все строится), что происходит единожды, что венчается каким-нибудь окончательным результатом.
Пламя памяти
Самое «литературное», прозаическое, структурированное в книге — это, конечно, нанизывание повествования, вроде простыни, штандарта, на ничего не вершащие верхние точки постоянной дигрессии, евгение-онегинской вкривь-и-вкосины, которая в каждой главе группируется вокруг одного, чуть ли не прустовского (карнавально-прустовского) эпифанического воспоминания.
Возьмем, также в виде метанарративного образа, пламя в первой главе. Ну, сгорел абажур. Трогательный, несомненно, не малоценный и характерный предмет советского быта. Но вспыхнувшее на с. 29 пламя, возобновляясь на с. 39, образует два верхних язычка много раз начавшегося и остановившегося катастрофического повествования о наваждении ползучих растений, смертельной засухе, последствиях ашхабадского землетрясения, обрамленного четырьмя фальстартами похоронной процессии Алексея Толстого, наконец достигшей на с. 39 окна нашего, скажем, пятилетнего героя и явившейся, из-за рассеянности удивленных взрослых, причиной внезапного возгорания. Но это далеко не все. Потому что процессия одновременно проходит через язык, временно (на 43 года) меняя название все время шепеляво искаженной Спиридониевой, Спиридоневской, Спиридониевской улицы (только не Спиридоновки — как на карте). И предвестник пламени — зажигание огня в старой печке на с. 24 — связывается метафорически с огнеподобной энергией узловатых вреднейших растений, и интертекстуально — с еще совсем смутно нарисованным домиком бабушки Лены в Сокольниках, пламя из печки которого охватывает[278] все пространство книги; в нем же и произойдет последняя, основополагающая сцена романа.
Или, еще более виртуозно, запах гари лесных пожаров вокруг Москвы в главе «Москва-5» ассоциируется с воспоминаниями о двух разных товарищах детства, об их поражающих воображение некоммунальных квартирах и об их же возможных воспоминаниях о встречах с Пастернаком. Все вышевспомненное вдруг, вопреки любому ожиданию читателя, скрещивается в одно ошеломляющим коротким нарративным замыканием, когда «на случай же ночевок поэта пса выпроваживали в достаточно большую ванную комнату»[279], с позорным исходом скидывания Пастернака с диванчика собакой, о котором, разумеется, нам может быть известно только через воспоминания хамского животного. Точно такой же нечеловеческий запах гари переплетает сюжетно-синестетически два из важнейших текстуальных мест пастернаковской «Повести» (прозаическая часть «Спекторского»[280]).
Телесное пространство
Основное концептуальное воплощение Москвы — сплошной телесный полужидкий конгломерат. Хоть просто старинно-аллегорически (по-дантовски), это образ впечатляющий и убедительный. В нем Пригов использует истинный концентрат своей максимально скрипуче-приговской и опять-таки дантовской лексики: сонмище, скопище, жижа, жижица, склизь, слизь, сковывать, распластать, или просто куча-мала, как в самом начале текста, когда дети, разлученные войной, и известные, малоизвестные и абсолютно неизвестные и не родственные родственники бросаются друг другу на шею в огромную, именно, кучу-малу[281], разрывающую всякую возможность правдоподобного восприятия текста в еще недоумевавшем читателе. Оттуда куча все увеличивается и онтологизируется, составляет общее коммунальное тело жителей города, монструозно объединяет трупы затоптанных детей и потом еще жестче и жиже затоптанных крыс, включает в себя как огромные здания и сооружения, так и, виртуально, ампутированные члены, о которых память. Ожидание читателя настолько окучено, что после всего этого никому не придет в голову, что «что-то мягкое, распластанное»[282] может быть только говном, а не человеческим телом (хотя все-таки и там две субстанции немало консубстанциальны).
В двух из самых страшных и впечатляющих скоплений (решетчатая конструкция лезвиеподобных по гиперболической худости замороженных тел[283] и цветущий, мерцающий гной миллионов взаиморазлагающихся копателей непомерного котлована[284]) явно ощущается другое измерение книги — перекрестная стратификация, многократно создаваемая самыми разнообразными горизонтальными и вертикальными поверхностями, достигающими крайних пропорций в вышеупомянутом не менее дантовском, чем платоновском котловане. Он, т. е. стройка Лужников, лучше всего показывает концептуальную односущность вертикальных и горизонтальных, внутренних и внешних поверхностей, каким образом провалы, естественно, вываливаются.
А когда вертикально-горизонтальная стратификация и животно-человеческая кучность соединились и совпали, мы дошли до последней и основной страницы книги. В последней, собирательной и каким-то образом более традиционно-мемуарной главе «Москва-6» недавно назвавшийся маленький Дима выливает с высоты второго этажа огромный таз воды, его самого отражающей, на скопище им же приманенных кошек. Моментально вертикальное расслоение восстанавливается ужасающим обратным ходом до уровня «висячей угрозы», уже много раз появлявшейся в книге после материализации лица дегенерата над неподвижным героем на больничной койке[285]. «Снизу <…> объявились <…> три огромные мохнатые морды <…>. Они нависли прямо над моим лицом <…>»[286].
Дальше воспоминания останавливаются, уже пошли вспять своим вечным ходом.
«Наутро меня разбил паралич».
Лена Силард БЫТ И СОБЫТИЕ БЫТИЯ: «Ренат и Дракон» Д. А. Пригова
Они живут не тронутые естества обжитком Ни в твердом, и ни в мягком, и ни в жидком А в третьем, собственном их состояньи вещества На самой грани существования Д. А. Пригов[287]1. К проблеме жанра и макроструктуры текста
В интервью, данном Кириллу Решетникову, Дмитрий Александрович Пригов (в дальнейшем — ДАП), отвечая на вопрос о том, что побудило его обратиться к большой прозе, и характеризуя создаваемый им цикл романов, о тексте «Ренат и Дракон» сказал следующее:
«Это возникло несколько отдельно, как испытание нынешнего типа письма: фэнтези, якобы сайенс-фикшн, якобы чернуха — была идея все модное впихнуть в один роман, но с интонацией искреннего, серьезного классического повествования. По принципу энциклопедия русской жизни»[288].
К сказанному автором хотелось бы добавить, что текст этот представляет собой также и энциклопедическое собрание мнений, концептов, идей, воспоминаний, легенд, пересказов, пересудов, разговоров и сплетен, которыми обмениваются персонажи, рассуждая друг о друге, о событиях прошлого, настоящего, будущего, словом, читатель получает энциклопедический набор «паттернов информации» (по выражению нарратора) во всем их противоречивом и разноречивом многообразии.
Сопоставляя их, автор не вмешивает своих оценок и, добавляя часто: «Все это мне самому не очень внятно», следует избранному им, по его определению, эпистемологическому методу, задача которого — испытание этих паттернов на прочность (т. е. на истинность), а не изложение собственного мнения.
И хотя на первый взгляд представленное в романе множество противоречивых, не сводимых к единству информационных сведений погружает читателя в хаос, — хаос этот укрощен порядком — благодаря возможностям строгой макроструктуры текста.
Каковы же эти возможности?
В подзаголовке жанр текста обозначен как «романическое[289] собрание отдельных прозаических отрывков». Что это значит?
Так как каждый «прозаический отрывок», входящий в состав этого «романического собрания», помечен буквой кириллицы (хотя принадлежность буквы С также и латинскому алфавиту может вызывать по этому поводу сомнение, что, кажется, входит в авторский замысел[290]), а то и двумя (X или Ч — на выбор), и тремя («А, Б и С», как обозначен фрагмент, открывающий «Необходимое предуведомление», и Э, Ю, Я, замыкающее книгу), некоторые критики (например, Н. Александров) поспешили определить этот текст как очередную приговскую азбуку: «Разрозненные части повествования, разбросанные в произвольном (с точки зрения романного целого) порядке, но в книге имеющие порядок алфавитный (фрагменты обозначаются буквами от А до Я — чем Вам не „Кысь“, кстати сказать) <…>»[291].
Однако уважаемый критик не совсем точен: азбука эта модифицирована — порядок букв, помечающих фрагменты, далеко не алфавитный, текст начинается фрагментом, озаглавленным буквой В, за ним следуют фрагменты В-2, Г, а общее число фрагментов тоже не соответствует алфавиту кириллицы: их 44, а букв (повторяющихся и сгруппированных) — 49.
Обратить внимание на все это следует уже хотя бы потому, что «нарратор и составитель текста» в разделе «Необходимое предуведомление», помеченном литерами «А, Б и С» и помещенном как раз в середине текста, сообщает, что это он «составил рукопись отдельными кусками, главками в произвольном порядке. В той именно заданной последовательности, в которой все здесь как бы перепутано»[292] (курсив мой. — Л.C.).
На мой вопрос, касающийся не порядка, но числа фрагментов, ДАП ответил в трех письмах-email:
1 июня 2007 г.: «44 части, так как это 4x11, и к тому же Алфавит с некоторыми повторными буквами»;
2 июня: «4 — число земли, 11 — сумма всех простых сакральных чисел (1, 3, 7)»;
3 июня: «Горизонталь земли и вертикаль трех сакральных чисел значит, что событие свершилось в полноте».
Описание сакральной символики всех названных в письмах ДАПа чисел выходит за пределы данной работы[293]. Тем не менее ее, как и соотношение горизонтали с вертикалью, как и сам процесс «выращивания из буквонтологемм стройного растения смысла»[294], следует иметь в виду, зная, насколько весомы все эти «параметры» в смысловом поле деятельности ДАПа.
Однако обратим внимание на общее число фрагментов, которые я в дальнейшем предпочитаю именовать «плоскостями слова», следуя в этом Хлебникову, назвавшему так фрагменты, составившие его сверхповесть «Зангези» (ее он, в свою очередь, охарактеризовал как «колоду плоскостей слова»).
Общее число «прозаических отрывков», составляющих «романическое собрание отдельных прозаических отрывков», — 44. Т. е. 22x2.
Число 22 в мире ДАПа весьма значимо.
В подтверждение этого сошлюсь на, по-моему, самый выразительный пример: по свидетельству друзей-сотрудников, дату последнего задуманного им перформанса — «вознесения» в шкафу (откуда доносился бы голос ДАПа в «диалоге» с его прежней магнитофонной записью) на 22-й этаж МГУ — ДАП назначил сам, и это было бы 7 июля (т. е. в 7-й месяц) 2007 года (т. е. 777), но, как известно, 5 июля руководство МГУ запретило «проведение акции» в стенах университета, а 6 июля ДАП попал в госпиталь. Обратим внимание и на анонс, написанный рукой ДАПа:
«Вознесение. Образ сидящего в шкафу, в скорлупе, в футляре, в шинели давно известен. Некий укрытый, ушедший из мира сего человек подвала и андерграунда тайного подвижничества — укрытый от внешних взглядов труд души и духа. Как тот же Св. Иероним в пещере, куда, наконец, проглядывает возносящий его к небесам луч высшего произволения. Так же, наконец, дождался и своего часа вознесения на 22-й этаж человек в шкафу за все свои страдания, муки, потерпленные от мира, как награда за необъявленные духовные подвиги… Соответственно, поручить это вознесение высшие силы не могли простым работникам подъема и перемещения простых физических и плотских тяжестей на разные высоты и расстояния. Для них это был бы рутинный нефиксированный скудно или щедро оплачиваемый физический труд. Нет, высшим силам на то потребны непрофессиональные руки тех, для кого это, в свою очередь, стало бы подвигом и трудом не мышц, но души и духа»[295].
Итак, в этом тексте, насыщенном символикой, должно обратить на себя внимание число 22, которое наделено специфическими смыслами в весьма различных традициях: как известно, у Вишны — 22 аватары, «Авеста» содержит 22 молитвы, несколько из алфавитных псалмов «Псалтыря» следуют числу букв еврейского алфавита, т. е. 22 (25 (24), 119 (118)).
Но в случае ДАПа, на мой взгляд, мы имеем дело с характерной для него игрой, которая — особенно в начале, а затем в конце XX в. — оказалась необычайно широко распространенной в европейских литературах и в изобразительном искусстве, — игрой традицией связывать символику числа 22 с числом старших арканов Таро (21+1), которое эзотерическая традиция тоже соотносит с числом букв финикийского, а затем и еврейского алфавита, нашедшим свое объяснение в каббалистике.
Перечень творений XX в., так или иначе ориентированных на карты Таро, может оказаться обширнейшим. Но если выбрать из него только те, которые связаны с традицией Таро не тематически, а структурно, т. е. установкой на выход за пределы «книги в переплете» (обуславливающей в конечном итоге линейное повествование, несмотря на самые разнообразные отклонения от временной последовательности) — к структуре колоды карт, то придется назвать значительно меньшее число произведений.
Среди них мне хотелось бы особенно выделить два, разделенные временным интервалом приблизительно в четверть века и как бы очерчивающие временные горизонты постмодернизма. Одно из них — роман Итало Кальвино «Замок скрещенных судеб», который приобрел свою финальную форму в октябре 1973 г., но первые подступы к этой структуре можно заметить уже в произведениях Кальвино, относящихся к 1967 г. Другое — «Последняя любовь в Константинополе»[296] (1994) Милорада Павича, хотя, расширяя рамки строгого жанрового отбора и не соблюдая хронологии, сюда можно было бы подключить отдельные тексты Вальтера Беньямина, Л. Кэрролла, Борхеса («Сад расходящихся тропок»), Фолкнера («Шум и ярость»), Набокова («Бледное пламя», а также оставшийся «колодой карт(очек)» текст «Лаура и ее оригинал», получивший в конце концов жанровое определение «фрагменты романа»), а выходя за пределы словесных жанров — и «Волшебную флейту» Моцарта, и множество произведений изобразительного искусства, вплоть до «карточных колод» лианозовца Владимира Немухина, старшего современника ДАПа.
Как известно, Кальвино назвал жанр своего творения «гиперроманом» (в статье «Машина литературы»), тем самым давая право применить к нему слишком модный сейчас и слишком расплывшийся в многократном и не всегда четко формулируемом словоупотреблении термин «гипертекст». Именно потому я предпочту им не оперировать, оставаясь все время как можно ближе к предложенной самим Кальвино характеристике возможностей искомого им и в конце концов найденного варианта романического жанра (я намеренно использую слово «романического» — уже сейчас прокладывая дорогу к приговскому определению жанра «Рената и Дракона»).
В примечании к своему гиперроману (не воспроизведенном полностью в русскоязычном издании 1997 г., которым я пользовалась) Кальвино отметил, что идея использовать структуру карт Таро (причем с ориентацией не только на старшие арканы, значит, общим числом — не на 22, а на 78 плоскостей, при этом в двух вариантах: Таро Бембо — для первой части и Таро Марселя — для второй) в качестве «комбинаторной машины наррации»[297] для построения нарративной системы своего текста пришла ему в голову благодаря докладу Паоло Фаббри «Il racconto della cartomanzia е il linguaggio degli emblemi» на международном семинаре, посвященном проблемам структуры повествования (Urbino, 1968), а затем и благодаря книге «I sistemi di segni e lo strutturalismo sovietico» (1969), подготовленной Ремо Факкани и Умберто Эко и включавшей работы семиотиков Тартуской школы.
Правда, по признанию Кальвино, его интересовала не семиотика, а комбинаторика, но сам факт интереса литературоведов к картам подбодрил его в собственных поисках структурных возможностей нелинейного повествования. А обусловлены эти поиски были, видимо, острым ощущением смены основных парадигм нашего сознания, т. е. формированием новых представлений о структуре времени и пространства и необходимостью отразить их в романистике.
Показательно: уже в 1967 г. Кальвино писал, и не раз, что мир в разных своих проявлениях видится более дискретным, чем непрерывным.
Кажется, он позволил себе сделать столь обобщающий вывод благодаря опыту участия в парижской группе OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle), занимавшейся математико-литературными экспериментами, устремляясь к открытию «потенциальной литературы», появление которой предопределялось, кстати, не только радикальным изменением физико-математических представлений о структуре пространства и времени, но и наступлением медиальных форм[298], и — соответственно — так сказать, «смертью романа».
Уже творения серии «Космикомики» («Le cosmicomiche»: «Un segno nello spazio», «Tutto in un punto», «La forma dello spazio», «La spirale», «Ti con zero»), созданные до «Незримых городов» и «Замка скрещенных судеб», свидетельствуют о стремлении хотя бы по-игровому утвердить в строении литературного произведения новые представления о пространстве и времени, а также выйти за пределы антропного принципа (особенно в таких вещах, как «Спираль» и «Динозавр»).
В «Незримых городах» (как и прежде, в тексте «Форма пространства») Кальвино как бы испытывает возможность остановить течение времени. И, наконец, в «Замке скрещенных судеб» параметры времени отступают на задний план под натиском разнопространственных синхронизаций, создаваемых благодаря структуре колоды карт Таро, которую Кальвино оценил, по его словам, в качестве «машины для конструирования историй», подумывая «о создании чего-то вроде кроссворда, составленного из карт таро вместо букв, пиктографических историй вместо слов»[299].
Вместе с тем своей установкой на фактор случайности этот «тарообразный жанр» (если можно так выразиться) редуцировал фактор детерминизма, так или иначе доминирующий в структуре книги (заключенной в переплет!), и тем самым активизировал роль читателя. Любопытно, что эта ориентированность сказалась уже в словах Марко Поло в «Незримых городах»: «В рассказе главное не голос говорящего, а ухо слушающего» (с. 174).
Структура колоды карт Таро позволяет (по мнению Кальвино) читателю — вслед за персонажами — нисходить «в хаотическую гущу вещей, центр карточного квадрата и мира, точку пересечения всех порядков» (с. 257).
Но самой важной особенностью тарообразного способа повествования оказался, по слову Кальвино, тот факт, что каждая рассказываемая история
«перетекала в иную историю, и когда кто-либо из гостей (безмолвно повествующих. — Л.С.) выстраивал свой ряд, другой рассказчик, с иного конца, продвигался в противоположном направлении, так как истории, рассказанные слева направо или сверху вниз, равным образом могли быть прочитаны справа налево или же снизу вверх, ибо одни и те же карты, составленные в ином порядке, зачастую меняли свои значения, и та же карта использовалась разными рассказчиками, отправившимися из четырех противоположных точек» (с. 268–269).
И, наконец, опора на структуру Таро позволила Кальвино подвести к выводу о гераклитиански-переменчивой относительности всего происходящего в мире, причем вывод этот преподносился как результат поединка в диалоге между Фаустом и Парсифалем:
«Мир не существует, — заключил Фауст, когда маятник достиг противоположной крайности, — нет общности, одновременно данной: есть лишь конечное количество элементов, чьи комбинации умножаются до миллиардов и миллиардов, и лишь некоторые из них обретают форму и смысл, и их удается ощутить, несмотря на бессмысленность, бесформенность пылевого облака, подобно 78-ми картам колоды таро, в комбинациях (совпадениях) которых появляется вереница историй, чтобы затем немедленно исчезнуть».
Заключение Парсифаля (все еще не окончательное) было таково:
«Сердцевина мира пуста, начало всего движущегося во вселенной есть ничто, вокруг отсутствия построено все сущее, на дне Грааля находится Дао, — и он указал на пустой прямоугольник, окруженный картами таро» (с. 345–346).
Забегая вперед, хотелось бы подчеркнуть: кажется, не будет ошибкой утверждать, что к подобному выводу (даже с опорой на те же прототексты, правда, менее эксплицитной) приводит и анализируемый текст ДАПа.
Вместе с тем Кальвино играючи переносит свою технику комбинаторики Таро на соответствующее манипулирование архетипическими структурами, закрепленными в литературе (см. периферию «ковра Кальвино»), и известными творениями живописи:
«Трюк составления карт таро в ряд и толкования возникающих при этом историй есть фокус, который я мог бы производить с картинами в музеях, подставляя, к примеру, Святого Иеронима на место Отшельника, а Святого Георгия на место Рыцаря Мечей, чтобы посмотреть, что из этого выйдет» (с. 356).
В отличие от Кальвино, ДАП не вовлекает столь откровенно в свой эксперимент сюжеты известнейших картин, но опора на язык изобразительных искусств и даже обращение к фигурам тех же святых в его творении очевидна.
Наряду с творением Кальвино хотелось бы напомнить и о хронологически ближайшем к нам опыте использования тарообразной структуры в романистике — о романе Милорада Павича, который в поисках путей к антилинеарности повествования тоже пришел к структуре Таро, после того как испробовал возможности ряда других антилинеарных форм («словарь» в «Хазарской хронике», 1984, кроссворд в «Пейзаже, нарисованном чаем», 1988). Я имею в виду его «пособие по гаданию», как обозначено в подзаголовке романа «Последняя любовь в [Константинополе] Царьграде» (1994).
Следует, однако, отметить, что структура творения Павича, в отличие от творений Кальвино и ДАПа, совсем не столь свободна, поскольку связана той последовательностью расположения старших арканов Таро, которая (если верить объяснениям еще времен П. Д. Успенского и В. Шмакова) детерминирована законами «пути посвящения», т. е. инициации.
В русской литературе XX в. эта структура была акцентирована сверхповестью В. Хлебникова «Зангези», о которой мне приходилось писать 10 лет назад. Согласно «предуведомлению» Хлебникова, его сверхповесть представляет собой «колоду плоскостей слова»[300]. Их число — 22, как и эмблематика смысла каждой из плоскостей, воспроизводит символику старших арканов Таро[301], обусловленную, в свою очередь, по-разному представленной эзотерической, но спущенной в субкультуру традицией, на которую указывалось, в частности, в многочисленных работах начала XX в.
Так, в книгах В. Шмакова, посвященных интерпретации карт Таро и хорошо известных и Хлебникову, и Пригову, говорилось о связи Таро с каббалистикой и о соответствующей мотивировке числа старших арканов: 22 (точнее, 21+1):
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и комбинируя различными способами, Бог сотворил все то, что есть, что имеет форму, и все, что будет ее иметь <…>»[302]; «<…> эти буквы служат как бы каналами, через которые деяния Божества изливаются в разум»[303].
Пересказы Шмакова вполне соответствуют англоязычному переложению фрагмента из «Midrash Tanhuma» в известнейшей монографии Г. Шолема, посвященной каббале: «The Holy One, Blessed be He, said: „I request laborers.“ The Torah told Him: „I put at Your disposal 22 laborers, namely the 22 letters which are in the Torah, and give to each one his own“»[304]. При этом Шолем решительнейше возражал против предположений о генетическом родстве Таро с традициями каббалистики, называя «эзотериков», настаивавших на этом родстве (Элифаса Леви, Папюса и др.), элементарными вульгаризаторами известий о предании. Как бы то ни было, но независимо от этих полемик и, скорей всего, в связи с общим преобразованием представлений о строении мира, отчетливее всего сказавшимся в оформлении новых математических идей, ориентация на структуру колоды карт при размышлении о мире и роли в нем факторов случайности и вероятности становилась все более определяющей, особенно в эпоху авангарда.
Как известно, в период барокко преобладал образ мира, представляемого в качестве Книги, т. е. собранной в переплет последовательности страниц как детерминированного Творцом единства, знаки которого человек должен был учиться читать. Эта модель господствовала вплоть до эпохи символизма (ср. хрестоматийно усвоенное символизмом «природа — раскрытая книга идей», унаследованное и Пастернаком, при том что у Блока есть намеки на проявления индивидуальной противоборствующей воли как охваченности стихией, кажется, не вполне одобряемые самим автором: «Смотри, я спутал все страницы, пока глаза твои цвели…»). Но для авангарда с его установками на волевые устремления личности, противопоставляемые детерминации, на игру-поединок с роком, на вероятность и случайность, оказалась более приемлемой в качестве модели мира колода игральных карт, фигурировавшая в этой роли, впрочем, уже у романтиков байронического типа — вспомним слова Казарина у Лермонтова:
Что ни толкуй Вольтер или Декарт — Мир для меня — колода карт, Жизнь — банк: рок мечет, я играю, И правила игры я к людям применяю[305].Однако когда Хлебников от образов «Единой книги» пришел к «решению» макроструктуры «Зангези»[306], ориентировав ее на старшие арканы Таро, он эксплицировал в этой модели установку не столько даже на игру, сколько на футурологию, т. е. на предсказательство, учитывающее роль вероятности, фортуны и соответствующей этому стратегии максимина. Вместе с тем для него был, видимо, важен и предполагаемый генезис Таро, утверждающий роль буквенных каналов и их числа в построении мира и управлении им; вспомним его формулу: «Пространство звучит через азбуку».
И, как было уже отмечено, при всей своей внутренней свободе текст Хлебникова прочно детерминирован строением старших арканов Таро, — не только в том, что касается числа карт, но и в том, что касается символики плоскостей и порядка их следования — именно потому, что этот порядок воспроизводит путь инициации[307].
Не исключено, что по той же причине зависимости некоторых своих текстов от символики Таро (очевидной для знающих), в сущности, не скрывали ни Заболоцкий, ни Хармс[308], не говоря уже о многих европейских писателях XX в.
На фоне решений Хлебникова и Павича решения ДАПа представляются экспликацией стремительного движения по пути к раскрепощению грамматического пространства от всякого рода детерминированностей (характерного, в сущности, для всей литературы андеграунда его эпохи и особенно для деятельности группы ЕПС).
Особую роль в этом раскрепощении играла, разумеется, постмодернистская реализация мечтаний о «синтезе искусств» (спровоцированная еще Ницше), контекст которой поддерживал ДАПа — особенно подготовленного для этой деятельности — в его стремлении перенести в вербально-грамматическое пространство технику мультимедийных, аудиовизуальных и кинетических искусств, вплоть до перформанса.
На уровне макроструктуры романа «Ренат и Дракон» это проявилось в первую очередь как:
1) Удвоение числа «плоскостей слова» — сравнительно со старшими арканами Таро, по всей видимости, намекающее на удвоенность усилий творца текста сравнительно с усилиями Творца мира. Это удвоение, полагаю, свидетельствует о характерной для ДАПа амбивалентной игре самоумалением, сочетаемой с игровой претензией на соперничество с Демиургом (для сравнения вспомним его «Куликовскую битву»), и в то же время акцентирует творческую свободу создателя «Рената и Дракона», который, в отличие от многих других авторов, использовавших тарообразную структуру, подчеркнуто играет числом «карт» — «плоскостей слова», а кроме того, не соблюдает их последовательности от 1 до 21, обусловленной, если верить традиции описания символики Таро, ориентацией на путь посвящения.
2) Отличает строение «Рената и Дракона» также гибридизация полярностей, т. е. структуры Азбуки, отражающей, согласно Хлебникову, ориентацию человека в пространстве и детерминированной своей последовательностью (в принципе, еще более жесткой, чем структура книги), сравнительно со структурой Таро, которая утверждает акты случайности, свободы и вероятности — не в своей заданной очерченности, лимитированной числом и семантикой карт, но, как уже подчеркивалось, в акте оперативного применения, т. е. гадания, основанного именно на роли фортуны, случая, «предпочитающего» ту или иную карту.
Сказывается в выборе этой структуры и своеобразный диалог с Львом Рубинштейном, который, по его словам, начиная с 1975 г. стал располагать фрагменты своего текста на «карточках», усматривая в этом «предметную метафору» «понимания текста как объекта, а чтения как серьезного труда» и противопоставляя свою «карточную систему» — книге: «Пачка карточек — это предмет, объем, это — НЕ-книга, это детище „внегутенберговского“ существования словесной культуры»[309]. Как видно из приведенных цитат, для Рубинштейна важно прежде всего противостояние его текстов как явлений «словесной культуры» книжной культуре эпохи Гутенберга, и в этом устремлении он — кажется, незаметно для себя — выступает в качестве продолжателя «противогутенберговых» установок А. Ремизова и В. Розанова (ср. особенно «Опавшие листья»), тоже ориентированных на устность и обусловленную «природной жизнью» хаотичность (не случайно Л. Рубинштейну так важно указать на «предельно осознанную неофициальность» своего и своих друзей «бытования в местной культуре»[310]).
В предуведомлении к 82-й азбуке ДАП, по-игровому отталкиваясь от каббалистической традиции, заявил:
«Обычно азбука (ну, обычно в моей практике) используется как набор позиций, или как индикатор испытательных процессов по проверке семантической, либо синтаксической прочности прокатываемого по ней материала. Либо буквам приписывали некие метафорические или метафизические значения и проводились при помощи их мистификационные или квазистратификационные операции»[311].
В сравнении с Азбуками задача, решаемая макроструктурой текста «Ренат и Дракон», несравненно более «философична». Она ориентирована на выявление не столько культурологических (устное vs. письменное, официальное vs. неофициальное), сколько фундаментальных в своей связанности — в конечном итоге — с прагматикой жизни, особенно XX в., философских проблем, прежде всего таких, как тотальная детерминация vs. вероятностная свобода.
Смешав в построении своего романа структуру азбуки, ориентированной на строгую последовательность, с колодой «плоскостей слова» так, что предуведомления и начала его оказались в середине текста, а целый ряд букв повторился несколько раз, и даже кириллица «подменялась» латиницей, создатель «Рената и Дракона» подчеркнул роль свободы, предоставляемой этой гибридной структурой. С другой стороны, такое свободное, однако не хаотичное расположение фрагментов намекало, кажется, и на возможность возвести повествование к древнейшей форме рассказывания —
«к семантике Логоса, светила, скрытого в глубине земли и появлявшегося „здесь“ (туман раздвигался, показывался рассказ-видение). Рассказ, воплощавший Логос, нужно было обнаружить, „открыть“. Как бог находился в середине храма, внутри, между передней и задней его частями, так в середине словесного произведения находился и Логос. Но его место одновременно пребывало в двух плоскостных пространствах: в подземной смерти (умирающий Логос) и в „зримой“ жизни (оживающий Логос)»[312].
Не эту ли функцию выполняет «Необходимое предуведомление А, Б и С», помещенное практически в середине текста и как бы приглашающее читать его «сферически», создавая эффект «трансцендирующей геометрии» (если воспользоваться выражением ДАПа)?
Напротив, финал романа, озаглавленный как «Э, Ю, Я», призван, видимо, выразить покорность азбучной детерминированности и тем самым помочь читателю, который прошел все стадии трансформаций, обуславливаемых сменой плоскостей слова, собрать «на выходе» мир, опираясь на не смущающую его сознание «азбучную истину» и совмещая ее с многажды обыгранной ДАПом возможностью использовать смыслы финально расположенной в русском алфавите буквы «Я».
Какие сверхвозможности открывает такая фрагментированная и гибридная структура?
Прежде всего, ею принципиально преобразуется хронотоп романа, рассмотрение которого неизбежно сводится к исходному рассмотрению его составляющих.
2. Проблема времени
Построение текста как «романического собрания отдельных прозаических отрывков» абсолютно трансформирует соотношение времен событий, как и времен рассказывания, в значительной мере соответствующее «парадоксу Джона Мак-Таггарта»[313]. Другими словами, в «романическом собрании прозаических отрывков» ДАПа взорван временной континуум, призванный, согласно классической романной традиции, последовательно связывать события, соотнося прошлое, настоящее и будущее, т. е. вчера, сегодня, завтра (будь то однонаправленное движение времени, как то предполагает традиционная романная структура; структура фрагментированная или многослойная, т. е. включающая слои времени сна, фантазий, размышлений, измененных состояний сознания, вставных текстов типа писем и дневников, ретроспективных комментариев нарратора и т. д.; или же обращенное движение времени, от старости к детству, чем играют некоторые тексты Хлебникова или обэриутов, как и некоторые новейшие фильмы). В тексте ДАПа каждая плоскость «колоды плоскостей слова» (пользуясь терминологией Хлебникова), другими словами, каждый фрагмент представляет собой осколок, как бы «случайно» занявший место, которое ему выпало. Таким образом, достигается радикальное разрушение ориентированности текста на временное движение. Само понятие времени как поступательного движения теряет смысл[314]. Создается впечатление времени фрагментированно-раздробленно-разнонаправленного, когда не просто «времена сияли через времена»[315], но когда воспринимающее сознание (персонажа ли, нарратора ли, читателя ли), сталкиваясь с очередным событием, устанавливает лишь приблизительно (по привычке?) его временные параметры, если вообще устанавливает.
Это «парадоксальное Мак-Таггартово» обращение с временем побуждает вспомнить о давнем романе Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (1969), где, кстати, один из пассажей наррации представляет собой очень близкий к источнику пересказ «парадокса Мак-Таггарта»[316]. При этом вполне очевидны и различия между временными установками двух «романических собраний». Основа несходства между ними коренится в том факте, что Воннегут дает два вполне определенных ориентира, благодаря которым читатель находит мотивировку фрагментированного построения времени, представленного в романе странно калейдоскопичным.
Один из них — это «анормальное» сознание протагониста (с говорящим именем Билли Пилигрим), потрясенного зрелищем бомбардировки и тотального уничтожения Дрездена во времена Второй мировой войны, а затем и авиакатастрофой, отчего «его перебрасывает во времени рывками»[317] и отчего весь текст написан, как объявляется подзаголовком романа, «в слегка телеграфически-шизофреническом стиле, как пишут на планете Тральфамадор, откуда появляются летающие блюдца. Мир»[318].
Другой ориентир — это сама «информация» с названной выше планеты Тральфамадор, куда нашего Пилигрима «переносило», по его словам, НЛО, вызывая «искривление времени», что обусловило присутствие в романе элементов жанра фэнтези.
В отличие от романа Воннегута, текст ДАПа создает — при всей своей раздробленности с разно- и противонаправленностью движений времени — более или менее единый, хотя и подвергнутый мутации, мозаикообразный и многослойный континуум деперсонифицированного времени, которое хотелось бы назвать временем = надвременем самого бытия, не просто над- или до-исторического, но как бы вневременного бытия, в котором, говоря словами романа, «так сказать, рефлектирующего и самосознающего субъекта не наличествовало» (с. 38)[319].
Следует подчеркнуть и то, что в этом романе слово «бытие» фигурирует с небывалыми у ДАПа частотой и многозначностью, напоминающей как о «незаметной грани перехода из, если можно так торжественно и высокопарно выразиться, расслабленного бытия в скованное почти что и небытие даже» (с. 128), так и о «ровно звучащем фоне всеобщего бытия» (с. 205).
Особенно примечательна своей многозначной ироничностью игровая вариация на тему Пастернака: «Как говорил поэт: Простор Вселенной был необитаем, и только сад был местом бытия» (с. 219). Нарочитая игра приемом, который И. Смирнов удачно назвал «интертекстуальной афазией»[320], использованная ДАПом применительно к стихотворению Юрия Живаго «Гефсиманский сад» с его строкой «И только сад был местом для житья», эксплицирует довольно демонстративную полемику с Пастернаком (которая ДАПом ведется не только в этом романе, вспомним хотя бы одно из «Банальных рассуждений»): полемика касается именно характеристик и атрибутов, которыми определяется соотносимость житья и бытия. Подчеркнуть это уже сейчас представляется особенно важным, потому что этими двумя понятиями-концептами очерчиваются основные «жизненные» пределы, охватываемые семантическим пространством романа Пригова: житье (не житие, а быт с его жизненной рутиной) и бытие — именно эти концепты в их соотношении составляют смысловые пределы (в математическом смысле) рассказываемого в романе: «Девяносто процентов жизни любого из нас, собственно, и состоит из подобной жизненной рутины. Без этого балласта нас попросту перевернула бы титаническая пучина бытия» (с. 425). Хотелось бы сказать, что все творчество ДАПа, на мой взгляд, представляет собой не столько игру стилистикой и имиджами (за разговором о чем он все время «прячется» и что составляет опорный аспект его ранних текстов), сколько — прежде всего — выяснение отношений между элементами «жизненной рутины» (милицанер, счета, таракан, кухня с грязной посудой и т. п.) и «титанической пучиной бытия»: в любую бытовую ситуацию у него вклинивается осмысление бытийственного, насыщая собою простейшие проявления жизни и тем самым подвергая сомнению традиционное для культурологической мысли противопоставление этих концептов, во многом определяющее взгляд человека (тем более носителя окультуренной мысли) на устройство мира[321].
Итак, два полюса: «жизненная рутина» и «титаническая пучина бытия».
3. Проблема пространства
Уже в романе «Только моя Япония» ДАП играючи повествует о ситуациях, в которых человек начинает
«мучиться проблемами возможности телепортации. Или же и того пущими изощреннейшими проблемами одновременного присутствия в различных, весьма удаленных друг от друга географических точках земной поверхности одной и той же, сполна и нисколько не умаляющейся ни энергетически, ни в осмысленности, двоящейся, троящейся и даже четверящейся личности»[322].
Эта пока что только «медитативно» оформленная проблема в следующем творении — «романическом собрании отдельных прозаических отрывков» — превращается в опорный принцип конструирования текста. Не знаю, можно ли это назвать механизмом компенсации, но соответственно убыванию роли движения во времени в тексте «Рената и Дракона» возникает «динамика стягиваемых и растягиваемых пространств» и — соответственно этому — возрастает число локусов, разграничиваемых преимущественно благодаря «паузам» между фрагментами-плоскостями слова и тем не менее связываемых — чуть ли не на основе гамовского эффекта тоннеля или же эвереттики.
Одни из этих плоскостей демонстративно «реальны» и помечаются указаниями: «у нас в Москве», «по ихнему знаменитому Невскому» (с. 14), «фантомный город Петра», дачные места на Оке (с. 20), «где-то около Иркутска» (с. 590) и т. п.
Другие названием своим воспроизводят и обыгрывают «романтизирующую традицию» известных именований «дачных мест», как, например, не раз упоминаемая в тексте Долина Грез (первый раз — на с. 17).
Есть и локусы, обозначенные нарочито неопределенно, однако географически идентифицируемые, как, например: «Места здесь пустынные, нелюдимые. Страшноватые даже» (с. 38). Нигде в дальнейшем не уточняется, что это за места, но тем не менее благодаря отдельным деталям описания («изображение Параскевы в несколько странной для местной северной стилистики <…> манере») можно догадаться, что в данном случае речь идет о северной России, в другом случае — о Тибете и т. д.
И, наконец, есть локусы, которые можно обозначить как пространства многообразных квазиреальных или же фантомных состояний, описание которых составляет, на мой взгляд, особый интерес. Эта множественность локусов предельно акцентирована. При этом они не просто параллельны или взаимоотражены благодаря вариативной зеркальности, но и взаимоналагаемы и взаимопроницаемы, зачастую как бы «фрактализованы» (если можно так выразиться, имея в виду, что фрактал представляет собой фигуру со свойствами самоподобия, т. е. в ней часть подобна целому, как это часто проявляется в структуре растений, например цветной капусты, или же текстов, подобных венкам сонетов)[323].
Имея в виду принципы построения структурных подобий между отдельными «плоскостями слова» и приемы их связывания в сопоставляемых здесь творениях, осмелюсь предложить аналогии, которые, надеюсь, не покажутся слишком смелыми, а именно:
— если пространственное строение текста в «Замке скрещенных судеб» Кальвино можно уподобить «ковру Серпинского», — то для пространства «Рената и Дракона» мне кажется допустимым уподобление его «Дракону Хартера — Хейтуэя»[324].
Вместе с тем пространство текста «Рената и Дракона», будучи «фрактальным» (квазифрактальным?)[325], допускает мысль об игре квазитопологическими преобразованиями, благодаря которой устанавливается связь между элементами локусов, не связываемых согласно «жизненно-прагматическому» взгляду.
Иногда этот факт эксплицируется с помощью простой игры словами-названиями. Например, несколько раз в романе идет речь о тибетско-австрийском буддистском монастыре, имя настоятеля которого (что выясняется не сразу) — Йинегве Воопоп, в котором читатель моментально узнает анаграмму имени ближайшего собеседника ДАПа, его крестного отца и спутника в «траурных блужданиях» по Москве: Евгений Попов[326]. Узнает моментально прежде всего потому, что в этом случае ДАП воспроизводит ставший уже хрестоматийным тип анаграммирования, с помощью которого еще Андрей Белый в романе «Петербург» указывал на переход из пространства бытовой реальности в симметрично ему опрокинутое. (Читатель помнит и о продемонстрированном Андреем Белым преобразовании русской фамилии Иванов в японскую фамилию Вонави, и о превращении Шишнарфне в Енфраншиш, соответствующие переходам из одного пространства в другое. Несколько иные, но явно связанные с решениями Андрея Белого игры криптоанаграммированием мы найдем и у М. Булгакова[327].)
Но подхватив эту простую игру преобразованиями имен, нарратор ДАПа называет и австрийское местечко, где расположен тибетско-австрийский монастырь, настоятель которого — Йинегве Воопоп. В плоскости «И. Ближе к началу повествования» это местечко названо — Кирхендорф (с. 135), а в плоскости «А, Б и С. Необходимое предуведомление» — Фельдкирхе (с. 258). Для метода приговской игры афазией как одной из многообразных манифестаций возникновения мыслительных фантомов показательно, что у этих «чисто произвольных словесных порождений» есть и реальная географическая основа. С точки зрения нашего сюжета, кажется, достоин внимания городок с таким названием, находящийся неподалеку от Зальцбурга, поскольку поблизости от него расположен известнейший бенедиктинский монастырь. Однако, имея в виду приговское обыгрывание скоплений-гнезд типичнейших названий, стоит припомнить, пожалуй, и то, что несколько местечек и в Австрии, и в Германии носят названия Feldkirch(e), Feldkirchen (включая другие варианты, к примеру — Kirchdorf, Kleinkirchenheim). Для нашего анализа приговской игры переходами от чисто словесных уровней текста к структурно-символико-тематическим особенно любопытен тот факт, что из упомянутых здесь по крайней мере два австрийских городка носят подходящие для освещаемой ситуации названия: Feldkirch(e)[328] и Feldkirchen — прежде всего потому, что первый из них расположен на границе Лихтенштейна, т. е. «на западе» (Feldkirche, Vorarlberg), а второй — городок и аэропорт Граца (Feldkirche bei Graz, Kärnten)[329] — «на востоке» этой не самой большой в Европе страны. Так создаются дополнительные возможности для игры идеей союза Востока с Западом, заключенной в тибетско-австрийском именовании этого монастыря, который, не забудем, находится в пространстве опрокинутом (что подтверждается опрокинутостью в нем имени и фамилии его настоятеля Евгения Попова) — опрокинутом по отношению к (со всей определенностью не поименованному) квазиреальному и все-таки наверняка русскому пространству, где находился заброшенный монастырь «с полдесятком неведомых и неведомо к чему приставленных обитателей», с «парой тамошних одетых во все оранжевое личностей» (с. 10). По слухам, после войны «там дом инвалидов располагался», и там, видимо, стремясь добыть энергию путем битья, «будто из людей электричество пытались получать» (с. 11–12)[330].
К проблеме слухов, как и вообще «паттернов информации» в романе, мы еще обратимся. Здесь же, в заключение данного раздела, отметим, что путем вышеописанных преобразований как бы создается «треугольник монастырей», нагружаемый дополнительными символическими смыслами, один из которых: Запад — Восток, Альпы — Тибет, Европа — буддизм.
4. Приемы умножения пространств и локусов
Уже из вышеприведенного примера видно, что ДАП не ограничивается простым удвоением локусов, хотя и с подчеркиваемой очевидностью обращается к технике построения образов и соответствующих им концептов, широко известных, особенно начиная с экспериментов литературы Серебряного века, а затем и авангарда. Как мы помним, особую роль среди них играли зеркальность и прозрачность.
Критика не раз обращала внимание на повышенную значимость мотивов зеркала (с его вариантами) и окна / стекла (с его вариантами) в литературе и в искусстве первой четверти XX в., в эпоху символизма и последовавших за ним течений, а тема «человек у зеркала», по определению М. Бахтина, в 1910–1920-е гг. стала «узловой проблемой всей философии»[331].
В развернутом комментарии к статьям Бахтина приведен перечень философских работ, касающихся этого вопроса, с отсылкой как к философской традиции от Парацельса до Кассирера, так и к литературной (Достоевский) и к литературоведческой[332].
Однако к этому не воспроизводимому здесь перечню следует добавить и творения символистов, по-разному оперирующие образами зеркальности (Андрея Белого и М. Волошина прежде всего), и акмеистов (О. Мандельштама, А. Ахматовой), и многих других, шедших или не шедших по их стопам (ср., например, творения Заболоцкого, Чаянова, Олеши, М. Булгакова, Набокова). В качестве активного контекста должно быть также упомянуто присутствие образа зеркала и в изобразительном искусстве, в частности у Н. Гончаровой, Д. Бурлюка, М. Шагала и др., а также в кино: вспомним хотя бы «Зеркало» А. Тарковского, в котором подытоживается долгая традиция использования этого образа как в изобразительных искусствах, так и в искусстве слова[333]. И хотя смысловое наполнение его у разных авторов, тем более в разных сферах искусства (которые нам необходимо учитывать, имея в виду многообразие художественно-артистической деятельности ДАПа) оказалось весьма различным, доминантные аспекты смыслов всегда заявляли о себе с достаточной определенностью.
Если не ошибаюсь, основополагающими в этом процессе выявления доминантных смыслов оказались творения и теоретические труды Вяч. Иванова, который, как никто другой в русской культуре, отчетливо выразил проблему соотношения между зеркальностью и прозрачностью, опираясь при этом на широчайшую традицию европейской мысли — от Платона и Дионисия Ареопагита через цистерцианскую мистику, Данте (разумеется!), Фому Аквинского и томистику к идеям о сущности света в эзотерике. Для Вяч. Иванова они ассоциировались с четко очерченными и различаемыми, хотя и взаимосвязанными понятиями: зеркало явилось образом отражения (а следовательно, и порождения множественности, и умножения, и присвоения, и усвоения, и диалогизма, и построения границы), как это сказалось прежде всего в Speculum speculorum, в то время как другая группа образов послужила основой фундаментального в мире Вяч. Иванова и феноменологически окрашенного понятия «прозрачность». Согласно определению Ольги Дешарт, верность которого установкам Вяч. Иванова не подлежит сомнению, понятие «прозрачность» в мире Вяч. Иванова было призвано передать
«природу той духовной среды, в которой происходят воплощения мистической реальности (Res). Природа эта антиномична: среда должна быть прозрачной, чтобы не препятствовать прохождению солнечного луча, который ею, непрозрачной, будет либо задержан, либо затемнен и невидим, но она не должна быть абсолютно прозрачной, должна преломлять луч, иначе Res не будет видна, ибо не видима она сама по себе»[334].
Как убедительно поясняет Дешарт, согласно Вяч. Иванову, «милостивые преломления» прозрачности дают о себе знать не только в царстве самоцветных камней, но и в «блеске озер», и в «душах дремных безропотных дерев», и, добавим, в «кристалле эфироносных граней», и в «свечах глаз во мгле лесной» — словом, в самых разных планах бытия, явленных сквозь призму множественности[335].
Однако, предостерегает Дешарт, «для человека такая призматичность опасна: разлагая тот плотный, непроницаемый, нерасчлененный сгусток жизненной энергии, который зовется я и „цельная личность“, он рискует стать спектром своих двойников»[336]. В подтверждение этого Дешарт ссылается на следующие (к сожалению, теперь слишком часто и бездумно цитируемые) строки из стихотворения «Fio, ergo non sum»:
Где я? Где я? По себе я Возалкал! Я — на дне своих зеркал[337].Не потому ли в поэзии Вяч. Иванова прозрачность (т. е. явление Res) призывается преодолеть как дробление несметного мира под действием principium individuationis, так и сокрытие его сущности покрывалом Майи:
Прозрачность! Улыбчивой сказкой Соделай видения жизни, Сквозным — покрывало Майи![338]В статье «Вячеслав Иванов», написанной для «Русской литературы XX века. 1890–1910 гг.»[339], Андрей Белый посвятил специальный раздел (15-й) анализу трактовки Res. Восторженно характеризуя мир Вяч. Иванова как «крутейший» экстракт культуры, явленный «в утонченных, сложных формах»[340], Андрей Белый находит необходимым вместе с тем подвергнуть представленную Вяч. Ивановым трактовку учения Блаженного Августина о «мистической res» «убийственной гносеологической критике», поскольку автор «Прозрачности», на взгляд Андрея Белого, субъективен при построении своей онтологии, так как не видит, что «объективное», по его мнению, «„Res“ есть идея». В полемике с этой традицией, а также с гносеологией неокантианства Андрей Белый пробует построить свою концепцию познавательного процесса, возводя ее к учению R Штейнера[341], однако трансформируя его в направлении, близком идее Н. Гартмана (сформулированной позднее) о четырехуровневом строении бытия[342], и более непосредственно, чем Штейнер, совмещая свои выводы с информацией о восточных (прежде всего йоги, но и буддизма, и таоизма) практиках медитаций. В эксплицитной форме Андрей Белый изложил эту концепцию в до сих пор мало известном трактате «О смысле познания» (1916–1922)[343]. Нахожу уместным напомнить об этом, так как ДАП, как известно, интересовался этими практиками, а в тексте анализируемого романа есть непосредственные игровые отсылки к идеям Штейнера («Ренат и Дракон», с. 222, 328–329), не говоря уже о буддизме, по-игровому конфронтируемом с шаманизмом.
С точки зрения нашего сюжета важно отметить, что зеркало у Вяч. Иванова указывает на состояние сознания субъекта («…я на дне своих зеркал»), в то время как прозрачность свидетельствует об универсальной деятельности Res в нашем мире. Смею полагать, что это закрепленное Вяч. Ивановым различение будет отчасти унаследовано Пастернаком (как и во многих других случаях, не всегда улавливаемых критикой). Зеркало у Пастернака (как мы знаем из первого варианта названия соответствующего стихотворения) — это «Я сам», а через окно «поэт устанавливает связь с миром и Богом»[344]. Для Пастернака характерно соприсутствие обоих образов в зачине «Зеркала», где за строкой:
В трюмо испаряется чашка какао,следует замечательная метонимия:
Качается тюль[345].Это соприсутствие зеркала и окна (вместе с намеком на ветер) отражает специфически пастернаковское чувство раздельности, но вместе с тем взаимной сопричастности предметных манифестаций бытия, ср.:
«Высшее удовлетворение получаешь тогда, когда удается почувствовать смысл и вкус реальности, когда удается передать саму атмосферу бытия, то обобщающее целое, охватывающее обрамление, в котором погружены и плавают все описанные предметы»[346].
ДАП следует дальше в этом направлении, размывая пределы между «Я» и «не-Я» (не без внутренней полемики с Пастернаком), и превращает окно в, по существу, затуманенное зеркало, т. е. в по-разному амальгамированное стекло алхимиков: vetro bianco, vetro d’antimonio, vetro di musteri, di piombo, di xenix, di zezimil, rosso, vetro madreperlato, где его персонажи как бы подвергаются клонированию или же, напротив, разъятию, а то и плазмированию или же видят отражения разнообразнейших фантомов своих собственных сознаний.
Так ДАП усугубляет традицию, унаследованную Ходасевичем, который иронически преодолевал границы индивидуальных существований, устанавливая «интерсубъектные» связи и аналогии, ср. его «Берлинское»:
И там, скользя в ночную гнилость, На толще чуждого стекла В вагонных окнах отразилась Поверхность моего стола, — И проникая в жизнь чужую, Вдруг с отвращеньем узнаю Отрубленную, неживую, Ночную голову мою[347].Разумеется, между Ходасевичем и ДАПом посредничают также не только «аналитическое искусство» Филонова или же органика Матюшина, но и «взгляд аналитика», зафиксированный, в частности, в «Исследовании ужаса» Липавского:
«Жизнь всегда, в самой основе своей есть вязкость и муть. Живым веществом является то, о котором нельзя сказать, одно ли это вещество или несколько. Сейчас в плазме как будто один узел, а сейчас уже два. Она колеблется между индивидуальностью и индивидуализацией. В этом ее суть»[348].
И тем не менее даже в плазмообразном мире взаимоотражающихся измененных сознаний «Рената и Дракона» могут быть выявлены полюса отмеченных различений: окно — это знак выхода (перехода) в (из) другое пространство. А зеркало — знак его освоения, попыток присвоения или же дублирования. Такова основа вариативного умножения сознаний и фантомов культуры «по горизонтали», давшая о себе знать уже в романе «Живите в Москве».
(В связи с этим по некоторой аналогии, распространяемой и на «клонирование городов», припоминаются слова Марко Поло в «Незримых городах» Итало Кальвино: «Всякое другое место — это зеркало в негативе. Путешественник видит в нем то малое, что ему принадлежит, и обнаруживает то, что он не получил и никогда не получит» (с. 38).)
Но в тексте «Рената и Дракона» не менее активно и вариативное умножение пространств по вертикали, главные агенты которого — вода и облака.
С трансформирующей полупрозрачностью мы уже встречались не раз и особенно, в сходной роли, — в творениях Андрея Белого. Однако у автора «Третьей симфонии» зеркальность вод представлена гладью озера (в которое опрокидывается Хандриков, переходя таким образом в другое, исходное измерение) или — в «Котике Летаеве» — пруда (который «кишит головастиком, а сребреет — изливами»[349], отражая малюсенького мальчика, и лишь изредка нарушается рябью, гонимой легким ветром), в то время как «водные стихии» (с. 66) «Рената и Дракона», будь то река Ока или другие, неведомые воды, своими водоворотами обязывают помнить о вихревом движении мира, нисходящем, ведущем в глубины, и восходящем «вплоть до облака ходячего», и создающем вертикальную траекторию движения духа.
В этих вихревых воронках, «искривлением привычно заданного пространства» (с. 9) уподобляющихся конусам, а в проекции являющих равнобедренные треугольники с разнонаправленными вершинами, временами можно рассмотреть нечто, представляющее «явные черты антропоморфной женоподобности» (с. 93) и утверждающее память воды[350], в которой на правах великого безличия и равенства всплывают — если верить «очевидцам» — то ли останки девичьих тел, то ли козы, то ли коровы, носящих имена то ли Зинки, то ли Машки…
В таком изображении то вихревого движения, то как бы замедленно плавающих в плазмообразно представленном пространстве раздробленно-фрагментированных элементов мира (сгустков материи-плоти) с особой выразительностью сказывается связь прозы «Рената и Дракона» с наследием техники беспредметного изобразительного искусства, особенно, на мой взгляд, с его трансформациями в творчестве Филонова и Матюшина. В качестве основных признаков этой техники можно выделить (опираясь на терминологию Н. Злыдневой применительно к творчеству Филонова) такие характеристики, как наложение, полупросвечивание, но особенно, по-моему, снятие «пустот», благодаря чему пространство, представленное через взгляд «очевидца незримого» (Крученых о Филонове), видится (и понимается) не как воздушные пустоты между воспринимаемыми глазом человека элементами предметного мира, а как существование то более, то менее плотных сгустков живой (одушевленной и одухотворенной?) материи, связанных между собой ходом непрерывного трансформизма. Не в этом ли смысл филоновского противопоставления «глаза знающего» «глазу видящему», о существе которого свидетельствуют со всей очевидностью «Цветы мирового расцвета» из цикла «Ввод в мировой расцвет» (Филонов, 1915 г.), «Формула Космоса» (он же, 1918–1919 гг.), «Многофигурная композиция» (он же, 1920-е гг.)…
Как и в творчестве Филонова и Матюшина, в тексте «Рената и Дракона» поражает (пользуясь словами Е. Ф. Ковтун о Филонове) «размах амплитуды от анализа к синтезу… От элементарных структурных „атомов“, лежащих в фундаменте образа, до космических по характеру макроструктур произведений»[351].
А плавающие в плазме фрагменты разнообразных тел (то сестер, то коровы, то козы) указывают на вполне очевидный бунт против нарциссической сосредоточенности европейского сознания на индивидуальной выделенности тела и его эстетизации, сосредоточенности почти маниакальной и проявляющейся на всех уровнях культуры (от поведения глав правительства до телепередач) и субкультуры (включая рекламы пластических операций и выкрики продавцов дешевой косметики на рынке). В противоположность крайностям этих установок ДАП предвещает появление новой антропологии, предполагающей очищение человека от телесности и ее «перекодирование» в модус транзитности, как бы откликаясь на новейшие традиции давних идей В. И. Вернадского, с одной стороны, и Н. Винера, с другой.
С этим же, думаю, соотносимо и возражение ДАПа против господства антропного принципа, утверждающего доминантное положение человека не только на Земле, но и в космосе, как мерила всего бытия, как творца всех его эталонов. В противоположность столь разросшейся претензии человека ДАП настаивает на равноценности всего живущего, на плюралистичности Вселенной и роли «звучания бытия» «где-то в глубинах вселенной», «что раньше по-пифагоровски называлось пением небесных сфер»[352], которое давало о себе знать и тогда, когда, говоря словами отклика на споры среди современных физиков[353], «воспринимающего сознания еще и не существовало». В последние годы эта мысль выразилась у ДАПа во все более определенном ожидании новоантропологических сдвигов, выраженном, в частности, в одном из интервью:
«<…> проблемы новой антропологии выходят за узкие рамки проблем искусства, покрывая все пространство человеческого бытия и культуры в целом. <…> Единство всего предыдущего человеческого опыта в области культурно-эстетических проявлений зиждилось, и до сих пор пока зиждется, на общности антропологических оснований — последней актуальной утопии человечества <…>. Однако же все-таки человечество постепенно, посредством проигрывания различных сюжетов, шаг за шагом примиряется, привыкает к мысли о возможности существования жизни в неантропоморфном образе (курсив мой. — Л.С.). И надо заметить, что именно кинематограф и именно Голливуд, переняв многие функции[354] высокого искусства в проигрывании высоких интеллектуально-технократических мифов (попутно связав их с „низкой“ народной природно-фантазийной утопией), наиболее ярко и убедительно в последовательности производимых ими продуктов (от, скажем, Alien-1 до Alien-4) прошел путь от утверждения, что все неантропоморфное принципиально и неотвратимо враждебно человеку, до утверждения, что мир делится не на хороших людей и плохих монстров, а на хороших людей и монстров и на плохих людей и монстров»[355].
Эта идея сформировала скрытую основу текста «Ренат и Дракон», как бы испытывая критику на верность и превентивно отвергая соблазны поспешных выводов о том, что «расплывчатый Ренат <…> занят бесконечной борьбой с многоликим Драконом» и что «в приговском тексте беспрерывно варьируется некая изначальная, первичная матрица мифологической темы драконоборчества и змееборчества»[356].
5. Дракон и нейтрализация бинера[357]
В освещении этого круга тем особенно очевидна игра ДАПа с читателем, которая была характерна и для ценимого им больше всех иных А. Блока, и для некоторых других символистов (и для «преодолевших» их!), а именно: игра конфронтацией всякого рода полярностей и, в частности, полюсами хрестоматийно-известного и раритетного.
К общеизвестной протоформе ДАП отсылает сознание читателя, когда в плоскости «В-2. Второе начало какого-нибудь повествования» (действительно второе по счету) упоминает об изображении «драконоборца», подвергая его разглядыванию персонажем по имени Георгий, а в плоскости «Г. Середина какого-либо повествования, недалеко от начала какого-либо рассказа» русский «собеседник» (с. 40) отмечает в Ренате черты нерусскости и неантропоморфности — «драконоподобия» (см. с. 42 и 44, а также 122–123, 248, 291 и особенно 415, 436, 568, 573). Устами этого собеседника произносится: «Ты, милый, с Георгичами-то поосторожнее» (с. 40). Так — провокативно! — эксплицируется негативная связь мотива дракона в романе с преданием о св. Георгии-драконоборце (с. 563), однако теперь уже деканонизированном, как иронически заявлено в плоскости «ГЦ» (с. 565, 566). И именно это заявление нарратора о деканонизации св. Георгия по-игровому подвергает сомнению шаблонно напрашивающееся в контексте христианской культуры понимание мотива дракона исключительно как драконоборчества, дающее о себе знать в некоторых интерпретациях творчества ДАПа[358]. А поскольку в тексте не раз отчетливо намекается на родство самого Рената с драконом, которое соблазнительно проинтерпретировать и под утлом зрения психоанализа, сам Ренат в таком случае может рассматриваться как «мифологически обоснованный» антигерой, а вместе с тем и как неомифологически сконструированный персонаж, объединяющий собой архаическое наследие мифопоэтики с «неомифологизирующими драконологическими» играми искусства XX–XXI вв., восходящими к эпохе Р. Вагнера (в частности, к мотиву поединка Зигфрида с Фафнером) и символизма, унаследованными позднее самыми различными слоями искусств, вплоть до нынешних поп-жанров. Недаром в этом тексте ДАПа сливаются приемы квази-«сайенс-фикшн» с жанром «фэнтези».
Однако по ходу романа мало-помалу проясняется, что скрытое под этими намеками поле символических ассоциаций несравненно более широко. Оно охватывает чуть ли не все варианты современных драконологий как наиболее агрессивных фантомов нынешнего сознания — как претендующего на элитарность, так и упрощающе-массового[359]. Но сверх того оно — благодаря контекстуально мотивированной опоре на азиатские (китайские, японские, юго-восточно-азиатские, а также южно-сибирские) традиции — вводит в поле зрения европейского читателя мало известные ему смыслы, особенно активные в китайском ареале, где, по словам крупнейшего синолога Л. С. Васильева,
«на протяжении тысячелетий дракон всегда был первым в ряду обожествлявшихся китайцами животных (включая мифических монстров, что, добавлю, в нашем случае особенно важно. — Л.С.) и растений. Начиная с ханьского Лю Вана, дракон в Китае всегда был символом императора. Только сам император и ближайшие его родственники имели право на эмблему с изображением дракона с пятью когтями на конечностях. Родственники более далекие имели право лишь на четыре когтя, остальная родня и сановники — лишь на эмблему с изображением змееобразного существа (так сказать эрзац-дракона). Дракон в китайской мифологии имел определенный канонический облик, сущность которого по традиции сводилась к композиции из 9 черт… Обычно в Китае всегда выделяли несколько категорий драконов: небесных, земных, подземных. Кроме того, их делили на белых, голубых, красных, желтых и черных. Категория и цвет дракона в какой-то мере свидетельствовали о его основных функциях <…>. Хотя среди китайских драконов изредка встречались драконы-чудовища, символизировавшие зло, <…> в целом дракон в китайской мифологии, в отличие от европейской, всегда воспринимался как символ добра, мира и процветания <…> Этому в немалой степени способствовал культ дракона — подателя дождя»[360].
И не только: 4 дракона Лу Вана, божества 4 морей, окружавших со всех сторон четырехугольную землю, были покровителями водных стихий, и к ним обращались в случае засухи или наводнения[361]. Не менее значимо и распространенное также в более широком ареале восточных религий и шаманизма понимание дракона как главного агента связи неба и земли, воды и огня.
Васильев напоминает также, что «дракон был первым из четырех священных животных, издревле особо почитавшихся китайцами»[362], к чему следует добавить, что особо почитался он и в качестве отца другого священного животного — черепахи, драконова сына, который любит носить тяжести и панцирь которого слывет надежным материалом для гадания, т. е. для связи с верхними мирами. Следствием этого можно считать, видимо, и такие факты, как слияние главного праздника дракона с днем памяти Цюй Юаня, одного из крупнейших древнекитайских поэтов (III в. до н. э.), как и предание о том, что Конфуций, восхищаясь мудростью Лао-цзы, сравнивал его с драконом[363]. Значимость всей этой символики в тексте ДАПа не вызывает сомнений, требуя специального анализа как в аспекте нумерологии, так и в аспекте роли стихий. Очевидно также и то, что драконология ДАПа бесконфликтно объединяет перечисленные здесь значения, известные из восточных религий и шаманизма, с теософскими (Дракон как Страж Порога), гностическими, утверждающими дракона как путь сквозь все миры, и, наконец, алхимическими, унаследованными отчасти эзотерикой XX в., требующей оседлания дракона магом[364]. Особенно активны в тексте ДАПа намеки на дракона как на «сырую материю, рождаемую землей»[365] и предстоящую первой фазе трансформации — stato di putrefactio, т. е. физической дезинтеграции и очищения, сопровождаемого шаг за шагом процессом нейтрализации бинера и постепенным выявлением полного андрогина — в целях финального завершения «Великого дела» (Opus Magnum). Все это дает о себе знать в мотивах почернения рук Рената, а затем и Машеньки (мимоходом сближаемой с Манон Леско тем же мотивом почернения, с. 509), «чернотки» его брата Чингиза (что намекает на nigredo[366], т. е. первую фазу алхимической трансмутации), а затем и союзного восхождения Рената и Машеньки[367], в связи с которой — как бы попутно — обыгрывается идея вечной женственности в ее русско-символистском воплощении (эта тема со все большей настойчивостью развертывается по мере приближения к концовке текста, см. особенно с. 194, 509, 554–559, 562–568, 571–572, 575–576, где фигурируют вполне очевидные отсылки к Вл. Соловьеву, Блоку, идее вечной женственности[368], и с. 591–598, где мотив женственного преподносится в формах фэнтези).
Итак, среди всех фантомных созданий в романе Дракон фигурирует как наиболее агрессивная мыслеформа, охватывая чуть ли не все варианты и полюса как архаических, западных и восточных (выводящих за пределы антропного принципа), так и современных «драконологий», от драконьей серии романов Энн Маккефри и ее последователей в области паракультуры вплоть до ребячьих вымыслов, выдвинутых на первый план началом финальной плоскости «Э, Ю, Я. Обычный отрывок из какого-либо обычного повествования». Так или иначе, «драконья» мыслеформа дает о себе знать в тексте повсюду, почти во всех «информационных паттернах» (с. 48).
6. «Информационные паттерны»
Анализ «информационных паттернов» заслуживает специального внимания, так как их многообразием обеспечивается мутация роли нарратора и дополнительное умножение «плоскостей слова» как калейдоскопа «точек зрения». Многие плоскости перелагают мнения молвы: рассказы о городских и деревенских легендах, толках, кривотолках, слухах, болтовне и пересудах, выступления с трибуны и сплетни дачных писательских жен, которые весьма напоминают гоголевские диалоги дамы просто приятной и дамы, приятной во всех отношениях, но которые оказываются тоже источниками информации, так что, несмотря на множество «искривляющих линз неведения и непонимания» (с. 261), а также пересказов «недостоверных слов. Перевирая и переделывая» (с. 377), их приходится учитывать: ведь это ими создается огромнейший коллаж «фантомов культуры». Так и варианты сведений о протагонисте создают фантастически многогранную фигуру (ср.: «информации» о его родителях, братьях, сестре, об учебе, специальностях, коллегах и т. д.). Важно отметить, что рассказчик в тексте занимает как бы «некритическую» позицию по поводу этих сведений (функционирующих как виртуальная реальность), комментируя их попросту накладываемыми, завершающими плоскости финальными мазками: «Честно признаться, мне самому не очень-то все это внятно» (с. 36), «Да, много всего» (с. 127), «Вот сколько всего» (с. 150), «Вот что достоверного на данный момент» (с. 194), «Вот и понимай их» (с. 245), «Воздержимся от каких-либо комментариев» (с. 261), «Такое вот сообщение» (с. 606). Так многочисленнейшие варианты «высказываний», охватываемых текстом ДАПа, не отменяют друг друга, а создают многогранники сосуществующих мнений как «фантомов», калейдоскопом которых организуется поле культуры[369].
7. Житье / бытье и бытие
В нескольких интервью ДАП категорически утверждал, что он не имеет дела с жизнью, подвергая испытанию лишь фантомы культуры. Но что понимается в этом случае под жизнью? Разумеется, в романе доминируют всякого рода альтернативные пространства, большую часть которых можно отнести к вариантам фантазии и измененных состояний сознания, по традиции противопоставляемых проявлениям «реальной жизни». Но как рассматривать гибридизацию вихревого движения созданных фантазией существ с самой что ни на есть элементарной реальностью известного читателю быта, к тому же традицией не всегда включаемого в поле культуры? Как быть с альтернативными пространствами, создаваемыми «паттернами информации»? И каково место элементарных фактов советского / российского быта, которые читатель охотнее всего узнает? И что такое, наконец, эти дотошно детализированные сведения о родном Беляеве и улице Волгина, о которых зачастую то же самое сообщается и в других творениях ДАПа (в том числе в коллажах и в инсталляциях), и в интервью и простейшую фактическую достоверность которых могут подтвердить все те, кто бывал в тех краях? Как отметил А. Зорин чуть ли не 20 лет тому назад: «Пригов идет на небывалый эксперимент — он отдает своему детищу собственное имя и собственную жизнь: жену, сына, друзей, квартиру в Беляево, привычки и вкусы»[370].
Отдает? Но ведь процесс этот двунаправлен, поскольку ДАП дает всему перечисленному здесь Зориным вторую жизнь — в грамматическом пространстве. И осуществляется этот процесс на основе детально разработанной стратегии, опирающейся на вполне определенные этические и культуротворящие основания, благодаря которым, в частности, имена одних прототипов переходят в текст без изменения (например, Чингиз), имена других заменяются (например, Панночка), третьих — умалчиваются, но легко реконструируются благодаря точно воспроизводимым деталям (например, сестра Рената). Наконец, детали собственной биографии, щедро отдаваемые протагонистам романа, прихотливо контаминируются с деталями, почерпнутыми из других источников (но тоже легко идентифицируемыми), а кроме того, складываются в параллельный образ, скажем, Димки. Все это заставляет непосредственно взятые из реальной жизни элементы как бы двоиться, мерцать, создавая по-сологубовски (имея в виду «Творимую легенду») протеическую ситуацию сопряжений: «то» и «не то». В результате оказывается, что противопоставление фактов «реальной жизни» и «пространства культуры», молчаливо предполагаемое традициями создавания «эстетических объектов», «артефактов» и т. п., в мире ДАПа (как и в мире его спутника в «траурных блужданиях Дмитрия Александровича и Евгения Анатольевича» по Москве) теряет смысл. Если не ошибаюсь, специфичность творческого акта в мире ДАПа состоит именно в установлении прямой, самой что ни на есть непосредственной связи между элементарными фактами житья-бытья и пространствами культуры, обычно противопоставляемыми субкультуре и по традиции освящаемыми понятиями эстетики, которые создают необходимую дистанцию даже в творениях постмодерна. Но творчество ДАПа по самой своей сути направлено на снятие всех дистанций и всех барьеров, вплоть до полюсов «житья-бытья» и бытия. И особенно очевидно это в приговской «колоде плоскостей слова», которая держится на свободном сосуществовании самых различных (и даже взаимопротивоположных) «интерпретативных перспектив».
8. Ренат
Построение многосоставной фигуры «мутанта-медиатора» (с. 587) Рената в этом смысле особенно знаменательно. Наряду с мифопоэтической основой, восходящей не только к символике дракона, но и, в частности, к архетипу восстановления андрогина, в нем просматриваются и общекультурные (Зигфрид), и собственно литературные традиции (например, Ф. Сологуба с его Триродовым)[371], и многочисленные элементы, которые можно причислить к автобиографическим или «контекстуальным», «околобиографическим», а то и «квазибиографическим», представленным так, что противоречивость вариантов относится главным образом на счет информирующих нас сознаний: вспомним, например, разноголосицу «сведений» об отцах Рената, согласно которым это мог быть то ли еврей, то ли немец, то ли татарин; о его матери, сестре, братьях — то Чингизе, то Димке. Но примечательно и то, что на полигенетику протагониста намекает и нарратор, шутливо относя его к классу существ, рожденных «особого рода сперматозоидами» (с. 408), называемых «как бы двойными в одном теле» (там же): это существа «Двунаправленные. Двуоперенные. Двузаостренные. Двусущностные. Двуоткрытые» (там же).
Показательно также в построении этой фигуры сосуществование и игровое противоборство архетипических элементов, восходящих, с одной стороны, к концепциям широко понимаемого буддизма, а с другой стороны, к шаманизму. Причем элементарные характеристики, связываемые с расхожим представлением о буддизме, мало-помалу перераспределяются, группируясь преимущественно вокруг фигуры давнего и — в случае анализирумого нами текста — «опрокинутого» приятеля и собеседника Пригова, представленного здесь под именем Воопоп[372]. Вследствие чего фигура Рената, шаг за шагом освобождаясь от «передаваемых собеседнику» напластований, все более определенно оснащается знаками шаманских традиций[373]. Сначала это только неявные, как бы мимолетно-случайные (однако пролагающие пути к Зигфриду) намеки на странную связь Рената с птицами, которые реагируют на его взгляд, что удивляет и его самого (с. 123), потом — упоминания о болезни, затем — лейтмотивно повторяемые сестрой рассказы о шаманских предках семьи и, наконец, повторные напоминания наррации о стоящей перед Ренатом задаче восхождения, описание которого, начатое уподоблением шаманскому, постепенно трансформируется в сайенс-фикшн. Такая «разностильность», кажется, намеренно подчеркивает полигенетику (и поливалентность?) протагониста (с. 408), благодаря чему он становится своего рода «спектром своих двойников» (если следовать мысли О. Дешарт, приведенной в данной статье[374]), но вместе с тем и «мультиличностью» — как в связи наследия архаики с полуфантастическим будущим «квантовой телепортации» (термин Н. Винера из книги «Кибернетика и общество»), так и в сопряжении в этой фигуре драконологий, в их разнообразнейших мифопоэтических традициях, с ныне формируемыми традициями фэнтези. Последнее преобразует этот персонаж в «транспонирующую структуру» (с. 587), своего рода канал-туннель (в чуть ли не гамовском смысле), выводящий читателя за пределы антропного принципа в миры «мультиверсума».
9. Расширение горизонтов памяти культуры и ее предполагаемых пространств
Введение биографического элемента — в качестве «увековечения» — у ДАПа выношено и продумано. Указания на необходимость этого процесса можно найти уже в «лирическом обращении» сборника «Советских текстов», где автор призывает собратьев по перу, смягчая пафос своего призыва неуклюжестью формулировок: «<…> сделаемся же героями произведений друг друга», и поясняет сразу же: «<…> нет, не о себе стараться будем… Нет, я совсем о другом», после чего, перечислив несколько выразительных событий из жизни друзей и собратьев по перу, вносит основное уточнение: «Все это не должно пропасть втуне для потомков»[375]. Такое обращение предвещает перспективу, свободно реализованную в предпоследнем романе ДАПа как «увековечение» в памяти культуры простейших жизненных деталей и событий благодаря их возведению в грамматическое пространство. Именно это заявлено — и иронически-пародийно, и серьезно — в «лирическом отступлении», обращенном к «соседке по московской квартире», описанной в полном соответствии с бытом, но вместе с тем, конечно, и гротескно, и фантастично:
«Мир тебе и с тобой, милая Панночка! Я помню тебя. А теперь вот благодаря сим строчкам небольшое количество из числа необъятного человечества тоже узнает про тебя. И, может, какой будущий ученый-академик по этим крохам в своих серьезных кропотливых исследованиях восстановит твой исчезнувший бесподобный телесно-магический феномен. Мир тебе!» (с. 290).
Такими простыми средствами демонстрируется у ДАПа важнейшая задача владеющих словом — задача переводить явления простого житья-бытья если не в вечность, то хотя бы в большое время памяти, которым располагает грамматическое пространство.
Так текст ДАПа становится голосом Демиурга, который наделяет второй жизнью — жизнью в грамматическом пространстве — даже тех, кто, подобно Панночке или «брату Рената» Чингизу, прошел по жизни, оставив в ней след всего лишь как напоминание о храпе (Панночка) и странном недуге (Чингиз), который автор, окрестив его «черноткой», оценил как начальную фазу восхождения! Но особенно примечательно, что эти не самые привлекательные атрибуты бытового существования в тексте романа ДАПа оформились лейтмотивно, приобретая бытийственный смысл и отсылая к иным измерениям бытия. Вырастая в лейтмотивы, они преобразуются то в «фольклорные рассказы» о богатырском храпе, охраняющем родные земли, то в повествования, в стиле фэнтези, об участии Рената, трансмонстра «вроде гуманоида» (с. 56), в «научных» экспериментах по трансформированию чернеющей плоти, необходимому для гармонизации космоса и прохождению через ряды его уровней ради выхода в иные миры «мультиверсума». Но даже в этом сверхъобъемном контексте грамматического пространства, которое свободно позволяет намекать на существование зон за пределами антропного принципа[376], ДАП находит место для простейших событий бытия — именно потому, что «все это не должно пропасть втуне»[377].
Показательно, как, следуя этой с самого начала избранной им установке, ДАП вводит едва заметную, но необыкновенно важную для его мира коррекцию в широко известный автокомментарий Ахматовой к закономерностям рождения поэтического слова:
Когда 6 вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда…Эпистемология ДАПа[378], размывая границы между телами, событиями и их интерпретациями и почти по-джайнистски[379] утверждая в любом проявлении жизни мира «событие бытия»[380], не позволяет ни считать сором храп Панночки или странную болезнь Чингиза, ни «ведать стыд», говоря о «низших сферах» нашего существования. «Романическое собрание отдельных прозаических отрывков», играя возможностью совместить полюса рассказов-россказней Е. Блаватской и философии М. Бахтина, утверждавшего, что «каждое частное явление погружено в стихию первоначал бытия»[381], продолжает путь, намеченный когда-то в «предуведомлении» к «Восемьдесят пятой азбуке (птиц, зайцев, зайчат, клопиков, медведей и меня)»:
«Это азбука всяких милых существ, пытающихся постичь азбуку, но и сама азбука, умаляющаяся, смиряющаяся до их размера, чтобы в их произношении, артикуляции заново возникнуть, статься, будучи им соприродной, как она соприродна любому явлению в его статике, динамике, предзаданности и в вечности»[382].
Таким образом, «романическое собрание прозаических отрывков» выводит читателя в иные измерения, побуждая прислушиваться к «осям звучания» «где-то в глубинах вселенной»[383]. А благодаря мерцающей многосоставности протагониста и расширенным возможностям фрактализованного хронотопа ДАП позволяет читателю ощутить связь между элементарнейшими явлениями его, читательского, быта и стихиями тех первоначал бытия, о которых антропный принцип вряд ли может давать знать, так как там, в глубинах первоначал бытия, говоря словами анализируемого романа, «рефлектирующего и самосознающего субъекта не наличествовало».
КОНТЕКСТЫ
Марко Саббатини Д. А. ПРИГОВ И КОНЦЕПТУАЛИЗМ в самиздате Ленинграда
Для восприятия московского концептуализма в ленинградском андеграунде необходимо понять сущность независимой действительности в северной столице, в которой развивался самиздат 1970–1980-х гг. Как известно, самиздат — это один из наиболее показательных признаков позднесоветской неофициальной культуры, связанный с восприятием и распространением разнообразных литературных вкусов и эстетических импульсов к творчеству. Для реализации условий независимого культурного движения в Ленинграде проводились квартирные чтения и выставки, работали семинары и студии, все более широкое распространение получали самиздатские публикации[384]. Приближение неофициальной Москвы ко «второй» культурной действительности Ленинграда происходило именно в середине 1970-х гг., когда сформировалось единое ленинградское независимое движение.
Подобно Москве, в те годы в Ленинграде в квартирах и в мастерских художников[385] проводились неофициальные выставки[386], но здесь, в отличие от московского андеграунда, очень активно проходили также поэтические чтения, религиозно-философские и филологические семинары, которые способствовали возникновению самиздатских журналов и укреплению неофициального движения как независимого, самодостаточного культурного явления. Особенно в 1975 г., после неудачного опыта с публикацией антологии ленинградских неофициальных поэтов «Лепта», стало ясно антитетическое положение официальной и неофициальной действительности и довольно четко проявилась борьба свободного слова с властью. Поэтому с 1976 г. в Ленинграде начинают издаваться независимые толстые периодические издания, из них самые известные — литературно-художественный и религиозно-философский журнал Виктора Кривулина «37» (редакторы В. Кривулин, Т. Горичева и Л. Рудкевич) и альманах Бориса Иванова «Часы»[387]. Сам факт существования журналов «37» и «Часы», отражающих культурное ленинградское движение, указывал на демократизацию и внутренний плюрализм, которые были невозможны в контексте официальной культуры. Благодаря распространению самиздатских журналов неофициальное движение в Ленинграде приобрело свой «текст» и «язык», которые также способствовали постоянному диалогу с неофициальными московскими писателями и художниками.
В том же 1976 г. из Ленинграда в Москву переехал Борис Гройс, который вместе с философом Татьяной Горичевой (в то время женой Виктора Кривулина) являлся одним из наиболее активных участников квартирных философских семинаров Ленинграда. Будучи тогда студентом-математиком, Борис Гройс посещал различные семинары, был знаком со многими деятелями неофициального движения и разделял интеллектуальные запросы этой культурной среды. После приезда в Москву он продолжал поддерживать сотрудничество с ленинградским самиздатом. Доклады и статьи Бориса Гройса свидетельствуют о его активном и довольно влиятельном участии в журналах «37» и «Часы». Особенно большой резонанс в неофициальной культуре Ленинграда имел журнал «37», его копии распространялись также во многих городах Советского Союза и на Западе. В течение своего пятилетнего существования (1976–1981) журнал развивался под руководством В. Кривулина и под влиянием Бориса Гройса. Почти в каждом номере журнала «37» Б. Гройс публиковал свои работы о философии, литературе и современном искусстве, часто под псевдонимом (Глебов, Иноземцев, Суицидов)[388]. Структура журнала отражала в основном две темы — религиозно-философскую и поэтическую (появлялись также литературоведческие и публицистические работы, а художественная проза публиковалась редко). В первых номерах журнала «37» преобладали произведения таких ленинградских поэтов, как Александр Миронов, Олег Охапкин, Сергей Стратановский и Елена Шварц[389]. Со временем направление журнала «37» несколько меняется, и с конца 1977 г. почти в каждом номере публикуются статьи, рецензии и дискуссии о творчестве самых выдающихся русских поэтов того времени — от Бродского до Пригова. Вместе с поэтическими произведениями ленинградцев появляются достаточно представительные подборки стихов московских неофициальных поэтов нового поколения. В № 10 журнала «37» за 1977 г. был полностью опубликован сборник стихов Ольги Седаковой, в № 15 появились впервые стихи концептуалиста Льва Рубинштейна и лианозовца Всеволода Некрасова[390]. Импульсом к восприятию московских поэтов является оригинальное развитие литературной критики в поэтическом разделе «37» и публикация знаменитых «Сонетов на рубашках» Генриха Сапгира, стихов Всеволода Некрасова, Ивана Жданова, Дмитрия Александровича Пригова, Льва Рубинштейна вместе с акциями «Коллективных действий» Андрея Монастырского и перформансами Франциско Инфантэ[391], что свидетельствует о возрастающем интересе в Ленинграде к московским поэтам, особенно к лианозовцам и концептуалистам.
В последние три года существования журнала «37» все большее место в нем занимают переводы философских и поэтических произведений зарубежных авторов. Здесь обращает на себя особое внимание статья Бориса Гройса «Экзистенциальные предпосылки концептуального искусства», написанная на основе изучения творчества Хорхе Луиса Борхеса. Работа Гройса была опубликована в 1977 г., в № 12 журнала «37» под псевдонимом И. Суицидов и послужила поводом к знакомству автора с московскими неофициальными художниками — Виктором Пивоваровым, Эдуардом Штейнбергом, Ильей Кабаковым и др. В результате данной публикации происходит окончательное сближение Б. Гройса с концептуальной идеей неофициального искусства и написание знаменитой работы «Московский романтический концептуализм», давшей имя всему московскому авангардному направлению. Благодаря Виктору Кривулину[392] текст данной статьи был впервые опубликован в № 15 журнала «37» за 1978 г. и распространен в самиздате[393].
«Сочетание слов „романтический концептуализм“ звучит, разумеется, чудовищно. И все же я не знаю лучшего способа обозначить то, что происходит сейчас в Москве. Слово „концептуализм“ можно понимать и достаточно узко, как название определенного художественного направления, ограниченного временем и местом появления и числом участников, и можно понимать его более широко. При широком понимании „концептуализм“ будет обозначать любую попытку отойти от делания предметов искусства как материальных объектов, предназначенных для созерцания и эстетической оценки, и перейти к выявлению и формированию тех условий, которые диктуют восприятие произведений искусства, процедуру их порождения художником, их соотношение с элементами окружающей среды, их временной статус, и т. д.»[394]
В статье Б. Гройс рассматривает творчество нескольких художников и поэтов, которых, по словам самого автора, «довольно искусственно можно отнести к романтическим концептуалистам»[395]. В кратком заключении (с. 64–65) он сопоставляет московский романтический концептуализм с западным концептуализмом и выделяет магическую, почти духовную сущность русского явления:
«Художники, о которых говорилось выше, не религиозны, но насквозь проникнуты пониманием искусства как веры. Как чистая возможность существования, как чистая представленность (откровение, несокрытость) или как знак, подаваемый свыше и требующий толкования, — в любом случае, искусство есть для них вторжение мира иного в наш мир, подлежащее осмыслению»[396].
Кроме статьи Б. Гройса, раздел «Московский концептуализм: (Теория и практика)» включает подборку стихов Льва Рубинштейна («Из программы работ» (1974–1976))[397] и краткое к ней предисловие Михаила Шейнкера[398]. А вышеупомянутые стихи Всеволода Некрасова («Ленинградские стихи», «Пушкин и Пушкин», «Картинки с выставки Ильи Глазунова») опубликованы в отдельном разделе журнала под названием «Поэзия»[399].
В следующем, 16-м номере журнала «37» за тот же 1978 г. в разделе «Философия» под названием «Московский концептуализм: (Теория и практика)» появляются новые материалы, манифесты и программы изобразительного искусства концептуалистов. В полунасмешливом заключении последнего текста читаем следующие слова: «Возможно, что этот документальный материал раскрывает иное содержание для постороннего комментатора» (А. Монастырский, Н. Алексеев, Н. Панитков, Г. Кизевальтер. Москва, май 1978 г.). Здесь представляет особый интерес и дополнительный комментарий Александра Монастырского с некоторыми уточнениями и размышлениями над статьей Бориса Гройса о московском романтическом концептуализме[400]. Этот текст является первой публичной реакцией со стороны концептуалистов на работу критика и философа. Как подчеркнуто в интервью с Эриком Булатовым «Экзистенциальное пространство картины» («37». 1979. № 18), в концепции Б. Гройса показана тесная связь между философскими экзистенциальными размышлениями и восприятием их как в изобразительном искусстве, так и в поэтическом творчестве. В этом плане обращает на себя особое внимание вступительная статья Бориса Гройса «Поэзия, культура и смерть в городе Москва» о творчестве Д. А. Пригова и Всеволода Некрасова, опубликованная в № 17 журнала «37»[401] и перепечатанная в парижском журнале «Ковчег» (1980. № 5)[402]. Как вспоминает сам автор: «Я тогда уже какое-то время жил в Москве, и мне хотелось познакомить моих ленинградских друзей с московскими поэтами, которые казались мне особенно интересными»[403]. В этой статье 1979 г. Борис Гройс сопоставляет поэзию московского концептуализма с поэзией ленинградского андеграунда:
«Условное деление современной поэзии на московскую и ленинградскую отмечает присутствие этого разделения в умах читателей. Московская поэзия не желает сообщить миру особых поэтических истин и стремится освоить язык повседневности, а ленинградская поэзия — как говорится — наоборот»[404].
Гройс очень четко выделяет особенности московской поэзии, которая, по его мнению, отличается от ленинградской традиции целостного, коллективного явления. Поэзия в Москве
«не развивается в русле единой школы, она раздроблена на относительно замкнутые кружки, и имена в ней значат больше, чем даты и этапы общего движения. Всех нынешних московских поэтов, однако, объединяет напряженный интерес к тому, что лежит за пределами традиционно русской поэзии»[405].
В центре внимания Бориса Гройса особо выделяется фигура Дмитрия Александровича Пригова — поэта, который «совершил настоящую революцию в русской поэзии <…> поместил поэзию в новое пространство культуры, нашел для нее новую социальную роль»[406]. Эти слова еще раз свидетельствуют о роли Б. Гройса-критика в успешном распространении концептуального искусства, в том числе творчества Д. А. Пригова.
Работы Б. Гройса и тексты московских концептуалистов частично были опубликованы в самиздатском журнале «Часы», основанном Борисом Ивановым в 1976 г. В отличие от кривулинского журнала «37», ведущим разделом «Часов» являлась проза[407]. Интерес к концептуализму проявился в № 15 «Часов» за 1978 г., в котором Борис Иванов в своей статье «Экспериментальная поэма Льва Рубинштейна» рассказывает о выступлении в Ленинграде московского концептуалиста[408].
«В ноябре московский поэт Лев Рубинштейн выступил в Ленинграде с чтением „Программы работ“, — произведение, которое невозможно назвать ни поэмой, ни собранием афоризмов, ни вариантом ритмической прозы, — это именно „программа“, система последовательных высказываний, подразумевающая свои собственные определения и нарушающая их по правилам <…>»[409].
Иванов высказывает свою положительную оценку и пытается описывать реакцию публики на необычную манеру чтения Рубинштейном своих текстов: «Тот, кто присутствовал на чтениях Рубинштейна, чувствовал себя „уловленным текстом“, зафиксированным в некоей своей интеллектуальной или психологической точке <…>»[410].
В том же № 15 за 1978 г. были опубликованы материалы о первом вручении премии Андрея Белого. По инициативе редакции журнала «Часы», где вместе с Б. Ивановым сотрудничали Борис Останин и Юрий Новиков, родилась идея вручения первой независимой литературной премии в Советском Союзе[411]. Наличие этой инициативы говорит о роли редакции журнала «Часы» в плане объединения отдельных литературных течений Ленинграда и Москвы. Несмотря на то что неофициальная литература была основана на личном общении писателей разного эстетического направления, премия Андрея Белого вручалась независимо от места их проживания и от того, являются они авторами журнала или нет[412]. Как отметила редакция журнала «Часы» 13 декабря 1978 г., премия — диплом и символический рубль — были вручены поэту В. Кривулину, стихи которого «получили широкое признание и являются наиболее классическим развитием петербургско-ленинградской поэтической традиции»[413], прозаику А. Драгомощенко за роман «Расположение в домах и деревьях», Б. Гройсу — автору статей о московских живописцах, о концептуальном искусстве. По словам редакции, эти статьи выдвинули Б. Гройса «в число наиболее глубоких и проницательных исследователей современного отечественного авангарда»[414]. Свою речь при получении премии Борис Гройс начинает следующими словами:
«Все мои последние статьи были посвящены художникам и поэтам Москвы и Ленинграда, вообще — современному искусству. Но я хочу сказать о вещах, о которых вряд ли буду когда-нибудь писать. До знакомства с неофициальным искусством я был воспитан на образцах европейской культуры. Жить в европейской культуре — это значит разделять ее общий контекст и быть свободным в жизненных проявлениях. Это значит — жить в пространстве, большая часть которого освоена. Неофициальная культура развивается не так — здесь связи между людьми на высших уровнях смысла отсутствуют, но люди сохраняют общее в своих личных проявлениях <…>»[415].
Эти слова еще раз свидетельствуют о необыкновенном внимании литературного критика и философа к неофициальной культуре. В конце семидесятых годов направление деятельности Бориса Гройса указывает на особое отношение между ленинградским и московским андеграундом. Это подчеркнуто в последних выпусках журнала «37». В 1979 г. Виктор Кривулин все больше привлекал к сотрудничеству в журнале авторов из Москвы. После отъезда Татьяны Горичевой в 1980 г. в Париж в составе редакции произошли изменения, и, как указано на обложке № 20, журнал стал издаваться уже в двух столицах — в Москве и Ленинграде. Редакцию возглавили Виктор Кривулин, Борис Гройс, Леонид Жмудь и Сурен Тахтаджян. Если вначале у этого ленинградского машинописного издания было преимущественно литературное и философское направление, то теперь последние номера, собранные в Москве Борисом Гройсом, стали иметь также социологическое и культурологическое направление[416]. В 1981 г. вышел в свет № 21, но после ряда обысков на квартирах редакторов и отъезда Бориса Гройса в Германию журнал «37» был окончательно закрыт одновременно с журналом «Северная почта»[417].
Возбудив глубокий интерес и достигнув успеха в Ленинграде, творчество московских концептуалистов, особенно Д. А. Пригова и Л. Рубинштейна, находит свое особое место также в ленинградских машинописных изданиях 1980-х гг., в основном в журналах «Обводный канал», «Транспонанс» и «Митин журнал»[418]. Особенно обращает на себя внимание литературно-критический журнал «Обводный канал» (1981–1993), созданный по инициативе Кирилла Бутырина и поэта Сергея Стратановского. Это произошло в 1981 г. как альтернатива журналу «Часы», почти одновременно с закрытием журнала «37» и возникновением «Ленинградского профессионального творческого объединения литераторов — Клуб-81»[419]. Журнал «Обводный канал» отличался от остальных самиздатских изданий более строгим отбором художественных произведений и более четкой эстетической позицией. Наряду с прозой, социологическими и религиозно-философскими текстами в нем выделяется раздел поэзии под редакцией Сергея Стратановского. В № 2 журнала за 1982 г. раздел поэзии был полностью посвящен московским поэтам Ю. Кублановскому, О. Седаковой, Б. Кенжееву и Дмитрию Александровичу Пригову с его стихами из книг «Весьма нищенские утешения» (с. 21–26); «Преуведомительная беседа» (с. 27–29); «Кровь и слезы и все прочее» (с. 30–37); «Из стихов 1981 г.» (с. 39–48)[420]. Эта публикация в № 2 «Обводного канала» основана на материалах поэтического вечера московских поэтов 11 мая 1982 г. в ленинградском «Клубе-81», где выступили Л. Рубинштейн, В. Лён и вышеуказанные авторы.
Еще одна важная публикация Д. А. Пригова была напечатана в № 4 «Обводного канала» за 1983 г. В разделе поэзии данного номера отдельное место занимают «Тексты московских концептуалистов» — Д. Пригова («Стихи и проза») и Л. Рубинштейна («Тридцать пять новых стихов» (декабрь 1981 г.), с. 47–82; «Алфавитный указатель поэзии», с. 82–84)[421]. В частности, выделяются известные стихотворения Д. А. Пригова 1981 г. из сборника «Терроризм с человеческим лицом», таких как «Милицанер вот террориста встретил…» (с. 20), «Чем больше родину мы любим…» (с. 29), а также «Что есть поэт? Он есть таковский…» (с. 36), «С Пушкиным тут дело сложно…» (с. 37). Здесь находит свое место и проза Д. А. Пригова с рассказом «Неодолимая сила слова или невозмутимые воды синей реки» (с. 40–46). В этих произведениях даются характерные особенности приговского поэтического героя — как рядового советского гражданина, так и почти еретического блаженного поэта, носителя профетического слова[422]. Это последняя публикация произведений Пригова в журнале «Обводный канал». В № 9 за 1986 г. обращает на себя особое внимание литературная анкета «Велимир Хлебников сегодня», в ответах на которую принял участие и Д. А. Пригов, в качестве поэта-художника и единственного представителя московских концептуалистов, с текстом «Осмелюсь сказать о Хлебникове»[423]. Жанр литературной анкеты, который пользовался успехом в самиздате тех лет[424], выделяет напряженный интеллектуальный поиск многих забытых или запрещенных тенденций русской литературы прошлого в неофициальной культуре. Загадочная и привлекательная фигура Велимира Хлебникова могла только послужить причиной ряда интересных, хотя и противоречивых и иногда спорных отношений представителей новых авангардных течений в андеграунде, в том числе и Д. А. Пригова[425].
Несмотря на то что Д. А. Пригов «никогда не принимал» утопические проекты футуристов и Хлебникова, в своей статье «Осмелюсь сказать о Хлебникове» он их подробно обсуждает и понимает «как некий эзотерический опыт эстетической эйфории». Статья Д. А. Пригова также свидетельствует об остроумном поэтическом и художественном поведении автора-концептуалиста, благодаря чему он обеспечил себе дополнительный резонанс и особое положение среди неофициальных авторов Ленинграда того времени[426].
В заключение можно подчеркнуть, что с конца семидесятых годов Д. А. Пригов завоевал заслуженную известность как в литературном, так и в художественном андеграунде не только Москвы, но и Ленинграда. Это произошло благодаря самиздату и деятельности Бориса Гройса[427]. Пересмотр неофициальной культуры Москвы сквозь призму ленинградского андеграунда более полно отражает настоящее лицо концептуалистов. Процесс проникновения альтернативного творчества Д. А. Пригова в неофициальную среду Ленинграда помог восприятию его как особого явления современной русской литературы, и в конечном счете через ленинградский самиздат укрепилась самоидентификация всех московских концептуалистов.
Приложение
В приложении — вопросы литературной анкеты «Велимир Хлебников сегодня» (с. 113) и текст Д. А. Пригова «Осмелюсь сказать о Хлебникове» («Обводный канал». 1986. № 9. С. 133–135. Из личного архива Сергея Стратановского). Составитель Марко Саббатини.
ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ СЕГОДНЯ
(литературная анкета)
В преддверии столетия со дня рождения Велимира Хлебникова редакция «Обводного канала» решила обратиться к поэтам, художникам и критикам с рядом вопросов. Не хотелось, чтобы эти вопросы воспринимались в качестве юбилейной анкеты, т. е. приглашения принять участие в определенной торжественной церемонии. Поэзия Хлебникова кому-то может нравиться, кому-то нет. В данном случае столетний юбилей Хлебникова — хороший повод просто поговорить на живую, еще не ставшую академической тему, разобраться в собственном эстетическом опыте.
1. Как Вы относитесь к творчеству Хлебникова? К его личности? Не находите ли Вы, что «образ» поэта-гения, поэта-дервиша, легенда о поэте в какой-то мере определяют отношение к его текстам?
2. Какая область творческого наследия Хлебникова: стихи, проза, теория, проекты — Вам наиболее близка, интересна?
3. Какие реформы, или, скажем так, — сдвиги, осуществленные Хлебниковым в сфере поэтического языка, Вы считаете наиболее важными?
4. Согласны ли Вы с мнением, что Хлебников это поэт для поэтов, а его творчество это своего рода лаборатория, склад поэтических идей, заготовок (или все обстоит наоборот)?
5. Насколько тесно связана для Вас судьба наследия Хлебникова с судьбой русского художественного авангарда, включая и современный нам авангард?
6. Вообще, независимо от тех или иных эстетических установок, насколько современен для нас сегодня Хлебников?
7. Как Вы относитесь к социально-утопическому аспекту творчества Хлебникова? «Вопреки» или «благодаря» вовлеченности в Утопию поэзия Хлебникова сохраняет для Вас значение и ценность?
8. Когда Вы по-настоящему открыли для себя Хлебникова (если это, конечно, вообще произошло)? Какую роль в понимании Вами Хлебникова сыграла литература о нем? Не могли бы Вы назвать лучшее из прочитанного?
9. Чего Вы ждете от Хлебниковского юбилея? И как его следовало бы отметить, на Ваш взгляд?
Д. Пригов
Осмелюсь сказать о Хлебникове
Как собственно, как и должно быть личности на сломе стиля, Хлебников — личность кентаврическая. Это, пожалуй, и отражается в неуклюжем слове, определяющем для меня его стилевую принадлежность — пост-символизм. Переходный период от одного большого стиля к другому — от модерна к конструктивизму — породил титанов, которые неимоверными личностными усилиями завоевывали то, что потом стало скучной нормой обыденного сознания. Пожалуй, почти все представители кубо- и эго-футуризма (за редким исключением, как Крученых, Матюшин и некоторые другие), а также раннего акмеизма и есть пост-символисты, с рудиментами символистических аппеляций (sic!) к надчеловеческому, сверхчеловеческому, подчеловеческому, правда помещаемые пост-символистами в весьма экзотических (для канонической культуры 19 века) местах и пространствах. И вообще, весь стиль, манера поведения, поэтическая поза их, т. е. основной способ объявления, манифестации поэзии в мире через пост-символистов можно назвать экзотизация всех привычных до того параметров как поэтической речи, так и поэтического поведения. Это принципиально отличает пост-символизм от футуризма (конструктивизма), весьма мало у нас известного, ну, разве по отдельным произведениям Чичерина, Зданевича, Крученых, Гнедова, Труфанова, Терентьева. Пафосом зрелого футуризма стало отыскание предельных онтологических единиц текста и предельных истинных законов оперирования этими единицами с целью конструирования единственно истинных предметов как искусства, так и быта, и еще дальше — истинных пространств жизни, смерти и мироздания. Совпадая с символизмом и пост-символизмом в глобальности своих претензий, футуризм отличался от первых позой, выправкой кадрового рабочего, холодным и прицельным взглядом инженера, аккуратной прической и строгостью манер руководителя крупного предприятия и непреклонностью, даже жестокостью провозглашателя новой, не терпящей никаких возражений и отступлений, программы перестройки всего, чего только можно найти в этом мире, во всем, чего еще нельзя найти нигде, но скоро можно будет найти везде, собственно, только это и можно будет найти. А где-то там, уже вдали, бродили затянутые в черные сюртуки-сутаны экстатические старцы-юноши символисты, а рядышком, между ног, шаловливые Северянины, обряженные индейцами Гумилевы, хулиганы маяковские и лохматые безумцы-визионеры Хлебниковы.
Но нет, нет, не подумайте, что я идентифицирую себя с этими инженерами человеческого счастья. Они для меня такие же персонажи в вековечной драме культуры.
Надо сказать, что все утопические проекты футуристов, во всяком случае, их пафос переустройства культуры и искусства и мира целиком на основе экономных законов геометрии и мысли как породительницы чистых геометрий всех сфер бытия, я никогда не принимал, но понимал как некий эзотерический опыт эстетической эйфории. Точно так же отношусь я и к научным изысканиям Хлебникова, в большинство которых я никогда не вчитывался, хотя, в отличие от футуристов, аппеляция (sic!) к надмирным, высшим, тайным силам, с неким штейнеровским прищуром и дрожью Блаватской, оставляли меня в недоумении, заставляя предполагать род мистификации, но уже выходящей за пределы поэтического образа, т. е. аналогично тому (не буквально, а типологически), как футуристы надели кожанки и взялись за пистолеты. И, как мне представляется, этот внепоэтический утопизм сыграл существенную роль в том, что Хлебников обрел статус «поэта для поэтов». То есть, в его поэзии отсутствует пласт, который условно, беря в пример «Евгения Онегина», можно назвать «Таня полюбила Женю». То есть, у Хлебникова отсутствует поп-пласт (не словечки, не цитаты, не тропы, а именно пласт поп-сознания с его определенными константами взаимоотношения жизни-искусства, требующий появления самых жизненно-важных идей в кринолинах и фижмах, а не в безжалостной обнаженности). Надо сказать, что высокомерное отношение к этому пласту в поэтическом языке, или просто игнорирование его, весьма плачевно сказывается на поэте и его творчестве, во-первых, отсекая от него громадную часть читающего населения, во-вторых, мешает культуре пластифицировать поэзию, т. е. сделать ее языком жизни, способом языкового мышления, в-третьих, лишает саму поэзию одного из героев драматургического действа <—> самого стиха. (Надо заметить, что, скажем, у Есенина отсутствует, например, пласт высокоумственных красот и духовных прозрений). Но являемый Хлебниковым образ безумца и пророка как бы отрицательным способом несколько компенсирует этот недостаток — «что взять с безумца!»
Еще могу сказать, что, читая Хлебникова (как и Лермонтова), я испытываю безумный восторг и чувство собственной ничтожности, но, отложив книгу, тут же забываю все, не будучи способен даже припоминать, о чем там говорится. В этом отношении я предпочитаю Блока.
Из всего, что я читал о Хлебникове, наибольшее впечатление на меня произвели воспоминания Митурича.
А вообще-то, что и говорить, Хлебников — гений!
Илья Кукулин Д. А. ПРИГОВ И ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ: Два варианта эстетической утопии[428]
1
Одна из важнейших фигур, необходимых для понимания генезиса поэтики Д. А. Пригова, — поэт и теоретик искусства Всеволод Некрасов (1934–2009). Однако изучение литературного взаимодействия Пригова и Некрасова наталкивается на серьезные этические препятствия. В последние два десятилетия жизни — в 1990-е, а особенно в 2000-е годы — Некрасов отзывался о Пригове резко негативно и регулярно обвинял его в «плагиате», «захвате чужого места», в реализации властных установок, якобы продолжавших функцию советской власти по вытеснению неподцензурных писателей из публичного поля[429].
ну вы и новые новые борзые новые новые но и не новые <…> ничего орава в систему живо выровняется было бы криво в Пригова поиграв поиграв Пригова тут Пригова там Пригова Пригова Пригова Вс. Некрасов, «ну вы и новые…»[430]В своих критических эссе и полемических стихотворениях-эпиграммах Некрасов ввел в употребление слово «пригота», обозначающее мафиозные, по его мнению, методы культурного поведения поэтов и художников-авангардистов, получивших известность в неофициальном искусстве 1970-х гг. и занявших центральные позиции в постмодернистской культуре 1990-х.
деррида для приготы пригота для деррида пригота пур ле деррида деррида пур ля пригота а ворья-то тут курля и мурля ворья Вс. Некрасов, «деррида для приготы…»Обвинения в плагиате и «захвате места» были, на мой взгляд, совершенно несправедливыми. Степень же их резкости была такова, что и сегодня они ретроспективно затрудняют анализ интенсивного взаимодействия между творчеством двух этих авторов, которое шло и на уровне поэтики, и на уровне художественных установок на протяжении 1970–2000-х гг.
Конечно, для этой многолетней «разоблачительной» кампании легко подобрать простые психологические объяснения. Например, счесть высказывания Некрасова следствием элементарной зависти к успеху Пригова, или результатом мании преследования, или заподозрить, что их основа — стремление Некрасова доказать свое первенство в разработке эстетики концептуализма. Впрочем, в литературе были предложены более изощренные объяснения, одновременно психологические и историко-культурные. Владимир Губайловский предположил, что для Некрасова имел первостепенное значение авангардистский принцип «абсолютной новизны», предполагающий, что именно приоритет эстетического открытия определяет существенную часть значимости того или иного произведения[431], но эта идея наталкивается на противоречие, отмеченное еще в 1990 г. Вл. Кулаковым: поэтика Некрасова является постмодернистской по своей природе, поэтому любое отождествление ее с классическим авангардом требует как минимум дополнительной аргументации[432]. Александр Житенев интерпретировал «этос нетерпимости» Некрасова как культивирование характерного для ранней стадии неофициального искусства деления на «своих» и «чужих»[433]. Георг Витте предположил, что некрасовские диатрибы — следствие установки поэта на поиск тех сфер повседневного языка, в которых возможны неотчужденный пафос и личная, максимально контекстуализированная в пространстве и во времени эмоция[434]. Михаил Павловец выдвинул гипотезу, согласно которой отстаивание своего «места» — «это отстаивание права искусства на эстетическое пространство, отграниченное от пространства внеэстетического», куда, по мнению Некрасова, затаскивали Пригов и Рубинштейн, тем самым оспаривая право и искусства, и Некрасова на собственное «место»[435].
Эти объяснения вполне вероятны, однако, как мне представляется, не исчерпывают всей сложности причин, породивших «анти-приговскую» кампанию со стороны Некрасова. Прежде всего следует обратить внимание на позицию самого Пригова, который не только не отвечал на некрасовские выпады, но и на протяжении многих лет неизменно включал Некрасова в список любимых авторов. В одном из первых интернет-интервью Пригова конца 1990-х гг. можно видеть такой обмен репликами:
«<Vedushij> Братья Дивановы: Ваше отношение к другим поэтам-концептуалистам, если они еще живы. Спасибо!
<DAPrigov> Поэтов-концептуалистов очень немного, это была всегда одна компания. Мое отношение к ним самое нежнейшее, смесь зависти, обожания и нежности.
<…>
<redeye> Вы можете назвать их имена?
<DAPrigov> Могу. Я. Рубинштейн. Некрасов. И не поэт, но концептуалист, литератор, прозаик Сорокин. Это список не всех, кого я люблю, но концептуалистов, которых я люблю»[436].
В 1984 г. Пригов включал Некрасова в канон московских концептуалистов, перечисленных в работе «Азбука 11 сакральных вопросов и ответов», где он выступает как один из пародийных собеседников — наряду с иными близкими Пригову художниками (Эриком Булатовым, Ильей Кабаковым, Борисом Орловым) и писателями (Львом Рубинштейном), а также персонажами внешнего мира — «женщиной», «зверем», Рональдом Рейганом и абиссинским негусом Хайле Селассие. При этом Некрасов упомянут в самом начале этого стихотворения, сразу после Рубинштейна.
В 1990–2000-е гг. Некрасов клеймил в своих статьях и стихах все большее и большее количество людей из своего прежнего окружения, но два человека, которые явно вызывали у него наибольшую ярость, — это Д. А. Пригов и И. Кабаков. Можно предположить, что причин для такого выбора было несколько. В частности потому, что Пригов избрал в конце 1980-х гг. экспансионистскую политику в публичном пространстве, став (во многом по собственной воле, но отчасти просто благодаря своим психофизическим свойствам и особенностям своего таланта) своего рода олицетворением авангардной поэзии в перестроечных и постсоветских либеральных медиа. Насколько можно судить, в конце 1980-х Пригова увлекла перспектива превращения в карнавализированную публичную фигуру, легко меняющую маски — то саксофониста пародийной рок-группы «Среднерусская возвышенность», то поэта-ироника в фуражке «милицанера», то защитника современного искусства в медийном пространстве — таким он выступил в телевизионном диспуте со скульптором-почвенником Вячеславом Клыковым. Но уже во второй половине 1990-х этот соблазн, насколько можно судить, постепенно становился для Пригова все менее действенным, о чем свидетельствует мрачновато-стоический тон тогдашней приговской эссеистики.
До начала 2000-х еще можно было считать, что главной целью поэта является экспансия в другие сферы искусств и стремление к публичному успеху. Более того, Пригов сознательно культивировал имидж востребованного автора. Однако Михаил Айзенберг уже в 1994 г. осторожно усомнился в безусловности этой приговской амбиции:
«Пригов — автор <…> нового типа. Он принимает необходимость успеха без всяких оговорок. И может быть, именно эта безоговорочная капитуляция перед требованиями общества постепенно выворачивает наизнанку тему свободы.
Впрочем, протеизм Пригова абсолютен, и со временем не может не обнаружиться некий эзотерический род авторства, не доступный капитуляции. Где-то в конце восьмидесятых годов, то есть в период полного и очевидного успеха, стало ощущаться это эстетическое раздваивание. В „Алмазной азбуке“ внезапно возник новый голос — надсадный и звонкий, с отголоском безумия.
О чем это? О чем это? — спрашивает Георгий, Григорий, Влк! —
Влк! — тихо! Глафира, Генрих, Волк выходят к струям прозрачным
воды бегущей! — О чем это? О чем это? — вскрикивает Гуннар,
Гвидо, Голландия, Гибралтар, Галина, Гудруна,
Я хочу Ааанннууу! Я хочууу Аааанннууу!»[437]
В годы перестройки Пригов воспринимался как своего рода популист от современного искусства. Это восприятие по инерции действовало и в 1990-е, хотя и в это десятилетие, и в предыдущее Пригов писал и публиковал тексты совсем не популистского характера — например, поздние «Азбуки» или «Тема Штирлица в балете „Лебединое озеро“». Но уже в конце 1990-х и особенно в 2000-е Пригов все больше отказывается от популизма как художественной и социальной стратегии: он создает романы, насыщенные культурными аллюзиями, участвует в визуально-музыкальных перформансах Ираиды Юсуповой и Александра Долгина, сложных по своей поэтике и рассчитанных на подготовленного слушателя / зрителя[438], начинает писать политическую публицистику и все чаще предстает в медиа не как автор постсоветского мейнстрима, а как оппозиционер, отстаивающий либеральные ценности в политике и культуре и противостоящий новому популизму[439].
Этот отход от, казалось бы, раз навсегда взятых на себя обязательств искажал в 1990–2000-е гг. восприятие приговской позиции и создавал когнитивный диссонанс — по крайней мере у тех авторов и аналитиков, кто привык считать поэта пародистом особого, утонченного рода: им было непонятно, «зачем теперь Пригов все это делает»[440]. У Некрасова же никакого диссонанса не было: постсоветской эволюции Пригова он не замечал принципиально. Начиная с середины 1990-х гг. Пригов для него неизменно оставался автором, получившим незаслуженную известность во времена перестройки.
В нападках Некрасова были свои резоны, но обусловленные, как теперь видно из исторической перспективы, не столько творчеством и публичными стратегиями Пригова, сколько его критической и медийной рецепцией в конце 1980-х и в 1990-х гг. Некрасов в самом деле был одним из основателей российской версии концептуализма[441]. Но почти ничего не знавшие о неподцензурной литературе советские критики во времена перестройки обращали внимание в первую очередь на тех поэтов, которые тогда проявляли публичную активность — в спектаклях поэтической группы «Альманах», на «сборных» поэтических вечерах или в разного рода перформансах. А Некрасов уже тогда тщательно дозировал свое проникновение в печать. В частности, в 1990 г. он отказался от моего предложения передать его тексты для публикации в рижский журнал «Родник», который тогда был одним из главных журналов, печатавших произведения неофициальной культуры. Некрасов объяснял это тем, что в «Роднике» к тому времени уже успели напечататься авторы, вульгаризировавшие открытия, сделанные в рамках этой культуры. Поэтому и Некрасов, и многие другие поэты, живые и умершие, не были оценены по достоинству теми, кто во времена перестройки не следил за относительно малотиражными публикациями — например, за статьями Михаила Айзенберга — или не знал «тамиздатских» работ Бориса Гройса советского времени.
Призывы Некрасова реконструировать историю неподцензурной литературы были обоснованными и методологически продуктивными — такие реконструкции помогали лучше понять и контекст творчества тех поэтов и прозаиков, которые во время перестройки оказались «на виду», в том числе и Пригова. Поэтому нападки Некрасова на филологов, обращавших внимание только на поэтов, присутствовавших в медиа и на эстраде, в 1990-е гг. были фактически призывами бороться с энтропийным разрушением знания о прошлом (несмотря на резкий тон). Функционально эти призывы были очень похожи на полемические замечания поздней А. Ахматовой: в своей эссеистике конца 1950-х и 1960-х гг. она постоянно требовала от исследователей воздерживаться от спекуляций при обсуждении истории Серебряного века и биографий его важнейших деятелей, с которыми она была большей частью знакома лично[442]. Несмотря на известную склонность Ахматовой к мифологизации собственной биографии, ее упреки имели важное значение: благодаря им филологи могли понять, насколько искаженной и требовавшей реконструкции была в ту пору история русской культуры пореволюционного времени.
Но в 2000-е диатрибы Некрасова потеряли свою конструктивную функцию — когда Некрасов стал обрушиваться уже не на неосведомленных журналистов и филологов, а на тех, кто изучал его творчество, и в целом на людей, в чьей добросовестности прежде не сомневался — например, на Михаила Айзенберга.
2
Если мы присмотримся повнимательнее к жалобам Некрасова на «захват» Приговым его места, эти выпады покажутся тем более удивительными, что поэтические интенции Некрасова и Пригова выглядят совершенно противоположными. Некрасов — это автор, который стремится организовать пространство «речи как она хочет»:
речь ночью можно так сказать иначе говоря речь речь как она есть чего она хочетПо-видимому, его идеалом было «поэтическое высказывание, раздвигающее окружающую его рутину и знающее эту рутину» (из выступления Вс. Некрасова на вечере памяти Яна Сатуновского в Библиотеке иностранной литературы в 1994 г.).
Машинообразным, с точки зрения Некрасова, является не личное, а властное идеологическое высказывание, которое превращается в своего рода овеществленный невроз навязчивых действий:
Рост Всемерного дальнейшего скорейшего развертывания мероприятий По Всемерному скорейшему дальнейшему развертыванию мероприятий По Скорейшему дальнейшему всемерному развертыванию мероприятий По Дальнейшему скорейшему всемерному развертыванию мероприятий «Стихи», 1959Идеологическое высказывание может превратиться в поэтическое, если изменить правила, по которым оно функционирует, например включить его в ряд паронимической аттракции или переосмыслить, включив в контекст совершенно иного языка и стиля:
слава слава это не совсем то слово а право слова в этом все дело свои слова вот у них свои бывают права мои и думаете они нисколько не ваши? граждане «слава…»Эту интенцию Некрасова — по сути, утопическую — анализировал Владислав Кулаков в речи по случаю присуждению Некрасову премии Андрея Белого:
«Функциональные модусы языка — обиходные разговорные клише, журналистские штампы, идеологическая риторика, политические лозунги и т. п. — преобразуются в концептуальных коллажах и ассамбляжах Некрасова в живую, интонированную прямую авторскую речь, актуализирующую выразительные средства речи обиходной, устной, которая, как выяснилось, обладает мощным потенциалом стихийной поэтичности. Некрасов выводит поэзию из речи, и речь ведет его поэзию. Стихотворение развивается как цепная реакция речи, квантово-речевых превращений. <…> Цепная реакция речи, конечно, управляемая. Но никакого насилия над природой речи, ее естественным ходом не допускается. Автор формирует лишь интенцию, общее направление, а речь сама выбирает себе русло»[443].
Напротив, для Пригова машинообразным и идеологизированным выглядит потенциально любое высказывание. Пригов — автор, постоянно демонстрирующий искусственность, сделанность любого стиля, с годами все больше переносивший акцент с пустотности готовых дискурсов — прежде всего советского — на эстетические перспективы оформления и превращения в такой пустотный дискурс любых воображаемых, еще даже не сложившихся в русской литературе стилистик: от гей-поэзии («Запредельные любовники», 1995) до анализа приятных переживаний через поиски их числовых эквивалентов («Расчеты с жизнью», 1995). Эволюция Пригова в 1990-е гг. шла по линии эстетического осмысления любого дискурса как возможного (а не необходимого) и отчужденного[444]. Поэтому к Некрасову можно было бы обратить вопрос: как может апологет искусственности «отбивать хлеб» у апологета естественности?
В интересе к подчеркиванию отчужденности любых форм речи предшественником Пригова был не Всеволод Некрасов, а скорее другой автор «лианозовской школы» — Эдуард Лимонов[445]. В своих стихотворениях конца 1960-х — начала 1970-х гг. он разработал утрированную гротескную интонацию, соединявшую грамматические и лексические элементы «высокой» поэзии XIX в., советских клише и позднесоветской повседневной речи, которые взаимно остраняли друг друга:
И что же баба ныне вижу я Печальное разрушенное ты строение Все в тебе баба валится все рушится Скоро баба ты очистишь свое место Скоро ты на тот свет отправишься Да товарищ — годы смутные несловимые Разрушают мое тело прежде первоклассное Да гражданин — они меня бабу скрючили петушком загнули тело мне Но товарищ и ты не избежишь того — Да баба и я не избегну того «Баба старая кожа дряхлая одежда неопрятная…», ок. 1967–1968(Последнюю строчку этого стихотворения я всегда слышу произносимой голосом Пригова.)
3
Для того чтобы объяснить смысл нападок Некрасова на Пригова, можно предположить, что они были парадоксальным выражением историко-культурной преемственности от Некрасова к Пригову. Необходимо, однако, выяснить, что именно было здесь предметом наследования: как уже было показано, поэтики этих двух авторов в некоторых отношениях не только не близки, но полярно противоположны.
Самая заметная перекличка между Некрасовым и Приговым — свойственное обоим внимание к пространственным аспектам поэзии и понимание стихотворения как особого рода пространственного объекта. В целом поэтика пространства в московском концептуализме очень важна. Пространство предстает как самостоятельное «действующее лицо» и в картинах Рабина — одного из художников, повлиявших на становление концептуалистской эстетики, и в работах безусловно принадлежащих к концептуализму Эрика Булатова и особенно Олега Васильева. У Некрасова выражением пространственности становятся пробелы внутри стихотворения, между строфами и строками, разделение стихотворения на параллельные «рукава». Все эти особенности поэтики описываются в его статьях в пространственных метафорах.
«По-моему, простые пары двустиший, скажем, могут выглядеть куда как выразительно: так и видишь, как слово рождается не из инерции стихового потока, а из молчания, паузы, того, что за речью (курсив[446] мой. — И.К.)[447]. И все-таки где начинается визуальность как принцип? Очевидно, там, где плоскость листа не просто привычный способ развертки текста-линии, а именно плоскость со всеми ее возможностями… Где возникает идея преодолеть косную временную последовательность, принудительность порядка в ряде — идея одновременного текста („сказать все сразу“) и множественности, плюралистичности. Здесь застаем сам момент перехода временного явления в пространственное…
<…> часть текста норовит отделиться и всплыть, стать наряду с другой частью — и ничего с этим не поделаешь. Вот так же, говорят, устроены и работают и две половины человеческого мозга[448]. Иногда это двойственность, а иногда парность. Тут и начинается не текст-вещь, а текст-ситуация. И возникает пространство возможностей и отношений, диалога…
<…>
Характерное пространственное мышление у Мандельштама с теми же „тройчатками“…», —
писал Вс. Некрасов в своем манифесте «Объяснительная записка» (1979–1980)[449].
Эта пространственность поэтики Некрасова редко становилась предметом осмысления. Среди тех немногих, кто о ней говорил подробно, — философ Владимир Библер в своем докладе, прочитанном на семинаре «Архэ» в 1994 г.:
«Первое, что я хотел бы подчеркнуть, говоря о поэтике Некрасова, об этом типе поэтики, это — значение пустот… <…> Молчание для любой поэзии существенно, но синтаксически непрерывный поток сбивает это молчание; в поэзии Всеволода Некрасова молчание вводится как необходимый, специальный компонент речи, причем расталкивающий остальные и особенно сосредотачивающий внимание на том слове, которое предшествовало молчанию, которое потребовало молчания, и на том слове, которое вновь возникло тогда, когда молчание невозможно и оно кончается.
С этим же связан следующий момент, опять же характеризующий пустоты. Это — подчеркнутая вариативность текста»[450].
Это воображаемое пространство — не трансцендентное, а только невербальное. Само представление о таком пространстве основано на эстетической концепции, согласно которой слова в каждом стихотворении не выражают — потенциально — всю окружающую человека реальность, а лишь указывают на ее отдельные фрагменты, остальное же находится в пространстве невысказываемого. Трансцендентное же находится по ту сторону и слов, и стоящей за ними «пустоты».
* * *
Только это не Бог
Вот-вот
А Бог
Больше
У Пригова тоже стихи организованы не только синтагматически, но и парадигматически: во многих сборниках они начинаются с близких или эквивалентных фраз или имеют аналогичную грамматическую структуру и поэтому словно бы размещены в едином пространстве. Эти стихи, как и многие другие сочинения концептуалистов, имеют характер не только синтагматически развертывающегося текста, но и реализации воображаемой смысловой парадигмы, имеющей симультанный, пространственный характер[451]:
Его не трогали и все не могли до конца игнорировать! —
А вы апофатику не пробовали? — спрашивали самые опасливые
Нет, не пробовали, но, кстати, — это был бы чересчур радикальный выход
Его прославляли и все не могли по-настоящему прославить! —
А вы смертью не пробовали? — спрашивали забегающие вперед
Пробовали, пробовали, и, кстати, — это вполне может быть паллиативом
истинного выхода
Его заменяли на другого и все не могли до конца заменить! —
А вы новую антропологию не пробовали? — спрашивали забегающие вперед
Нет, не пробовали и, кстати, — это был бы выход,
если бы кто-то имел о ней хоть какое-то понятие
Его понимали, понимали и все не могли до конца понять!
А вы разумным способом не пробовали? — спрашивали разумные
Нет, не пробовали, кстати — это неплохой, хотя, конечно, и не местный выход
«Всё никак», 1999Пригов вообще очень интересовался структурами, которые объединяют в себе парадигматические и синтагматические свойства — например, алфавитом, порядок которого породил его многочисленные «Азбуки»; на Пригова в этом смысле явно повлиял тот факт, что именно русская азбука заканчивается шифтером, указывающим на говорящего субъекта — буквой / местоимением «я».
Несуществующий общий исток каждой группы стихотворений Пригова, объединенных в цикл-сборник (вспомним, что говорил о мифологизации истока Ж. Деррида в книге «О грамматологии»), обычно бывал иронически «помечен» предуведомлением к сборнику.
Пространственность была свойственна и другим концептуалистам в поэзии: все они вводили в текст дополнительное членение на фрагменты (в случае Л. Рубинштейна — визуально «разнесенные» по карточкам), которое, в соответствии со стиховедческой концепцией М. Шапира, может быть описано как введение в текст дополнительного квазипространственного измерения[452]. О пространственности у Льва Рубинштейна в сопоставлении с этим же аспектом поэтики Некрасова писал Михаил Павловец в недавней работе[453]. Но и сам Некрасов в одном из мемуарных эссе проанализировал переклички между своими стихотворениями конца 1960–1970-х гг. и творчеством Рубинштейна.
«<…> тексты фрагментами пошли у меня года с 67–68. Иногда — довольно похоже на будущего Рубинштейна, сериями — только короткими — в несколько единиц. Иногда с деформацией, редукцией — до минимума: хвостик слова на отдельной табличке. Эти мини-тексты рассаживались по ячейкам таблиц, таблицы могли разрезаться на совсем маленькие странички — величину определял шрифт пишущей машинки. <…> мне хотелось предела фрагментарности, чтоб на перепаде-перескоке между этими живыми по краям, на изломе текстами-фрагментами искрило бы то самое затекстовое поле. Из-за материи текста выглядывала бы энергия <…>»[454].
С точки зрения Некрасова, современная поэзия должна радикально обновлять восприятие языка, прежде искаженного тоталитарными режимами и «большими идеологиями», и опосредованно — восприятие физического мира.
Веточка Ты чего Чего вы веточки это А Водички «Веточка…», до 1968Понимание «пространственности» стихотворения у Некрасова, таким образом, существенно отличалось от приговского (хотя бы и не выраженного эксплицитно): для Некрасова «пространственность» означала проблематизацию материальности текста, для Пригова — онтологическую неполноту любого высказывания в искусстве («Нет последних истин — все истины предпоследние / И в смысле истинности и в смысле порядка следования…» — из стихотворения «Нет последних истин…», до 1989). Такое отношение к пространственности текста и к процессу творчества Некрасов воспринимал как механизацию приема и отказ от желания прорваться от «материи» к «энергии», т. е. как сдачу эстетических позиций.
Однако с другой позиции подход Пригова может быть понят как обновление, а не отказ. Отношение к языку в его творчестве было гораздо более отчужденным, чем у Некрасова. Это давало Пригову гораздо большую гибкость в моделировании уже существующих и новых языков и в исследовании их границ. В произведениях Некрасова язык по степени чуждости его авторскому «я» может быть разделен в целом всего на три уровня: личный язык — язык общества — язык власти: групп, которые претендуют на власть или уже находятся у власти (для Некрасова между ними было мало разницы). Для стихотворений Пригова такая классификация была бы гораздо более гибкой — именно потому, что в зрелый период для него личного языка не было, или, точнее, язык, который Пригов мог бы воспринимать как «личный», оказывался для него столь же отчужденным, как и все остальные.
4
Выше уже кратко было сказано о том, что поэтика Некрасова была утопична по своим задачам. Утопизм Некрасова очевиден из его поэзии и публицистики, но сложен по своему составу. Прежде всего, это утопизм «естественного» языка, надежда на полное понимание «негромкого» художественного жеста со стороны читателя, требование совершенно равноправных, основанных только на «гамбургском счете» отношений в литературно-художественной среде. В этом утопизме Некрасов — шестидесятник (что и признавал в последние годы жизни[455]), только неподцензурный и даже на фоне других шестидесятников выделявшийся последовательностью своего утопизма, который был чертой не идеологии, а поэтики.
Однако в эстетике Некрасова присутствовал еще один утопический элемент — стремление создать, выработать, вообразить нового автора, чье творчество могло бы изменить отношения в обществе. В московском концептуализме именно Некрасов и Пригов больше всех остальных стремились осмыслить, как может измениться позиция «автора стихотворений» в современной художественной ситуации. Именно эта общность интересов и стала причиной ревнивого и, в последние два десятилетия жизни, неприязненного отношения Некрасова к Пригову.
Некрасов постоянно возвращался в своих статьях к идее о том, что постмодернизм — это не только течение в искусстве, а «состояние умов», которое «нажить нужно, наработать»[456]. Пригов, начиная с еще относительно ранних теоретических сочинений[457], неоднократно писал, что в культуре происходит радикальный антропологический переход, вызванный завершением всех великих проектов Нового времени — в том числе и «человека» как проекта. В этой постановке вопроса можно усмотреть перекличку со знаменитым финалом трактата Мишеля Фуко «Слова и вещи» — о том, что нововременная концепция человека «исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке»[458]; недаром в 2000-е гг. Пригов все чаще употреблял для обозначения своих задач словосочетание «новая антропология». В этих условиях художник должен «пойти на опережение» и отрефлексировать задачи, которые встанут перед обществом завтра.
В своем интервью «Отходы деятельности центрального фантома» Пригов предполагал, что центральным в его деятельности является сотворение нового типа авторства:
«<…> для меня все [мои] виды деятельности являются частью большого проекта под названием ДАП — Дмитрий Александрович Пригов. Внутри же этого цельного проекта все виды деятельности играют чуть-чуть иную роль. То есть они есть некоторые указатели на ту центральную зону, откуда они все исходят. И в этом смысле они суть простые отходы деятельности этого центрального фантома. В будущем, может быть, возникнет специальная оптика для отслеживания данного фантома. Пока же она отсутствует, посему почти невозможно следить и запечатлевать эту центральную — фантомную, поведенческую, стратегическую — зону деятельности. Современное литературоведение обладает оптикой слежения только за текстами. А когда оно смотрит в эту самую обозначенную центральную зону, перед ним просто несфокусированное мутное пятно. Литературоведы не могут ничего разобрать. Посему они и занимаются отдельными окаменевшими текстами. Но если со временем наука или исследователи изобретут оптику, которая могла бы считывать вот эту центральную зону, тогда все остальное, как и было сказано, предстанет им как пусть порой и привлекательные и даже кажущиеся самоотдельными, но все-таки случайные отходы деятельности вот этой центральной зоны, где происходят основные поведенческие события»[459].
Приговская поэтика тоже была утопичной: она предполагала свободу «я», «парящего» между различными самоидентификациями. Такая свобода давала возможность остранять любой авторский стиль. Из беседы Д. А. Пригова с А. Парщиковым 1997 г.:
«Есть некоторые, кто говорит, что поэт — это тот, кто тонко чувствует, поэт — это тот, кто пробуждает светлые чувства, каждый по-своему. Поэт — это тот… а ты что делаешь? Мне [в таких случаях] всегда приходит [в голову] такой анекдот: приехал портной и написал, что он лучший портной в городе, потом другой о себе написал: лучший портной Европы, приехал следующий и написал: лучший портной в мире… А еще один написал, что он лучший портной на этой улице. Я, в отличие от всех поэтов, [определяю себя иначе: поэт — ] это тот, кто ведет себя поэтически. [Понимание поэта как] поведенческой модели ставит в положение частного случая все остальные образы поэта в обществе.
Искусство пришло к ситуации, когда оно уперлось в идентификацию творческой личности; [искусство — ] это только твое личное поведение, которое может быть сформировано как поэтическое [поведение], как художническое, как [поведение] музыканта, как угодно. Предельный уровень явлен наконец — но и уровни теряют смысл, есть только смысл некой конвенции. Вот кто-то приехал и претендовал на [место] лучшего в городе, лучшего в Европе, во всем мире, а [потом] приехал последний [портной] и сказал: я лучший только потому, что в наших пределах принята такая конвенция. Я себя осмысленно веду, и мои амбиции в этом отношении выше не потому, что я территориальный претендент, а потому, что я претендую на вас на всех. Я являю вас всех! Вот так этот анекдот как-то отражает картину в современном искусстве»[460].
Необходимым условием такой свободы был утопически понимаемый профессионализм — способность Пригова, владея техникой наивного письма, все же строить тексты последовательно выдерживаемого стиля и размера. Характерно, что Пригов, используя приемы наивного письма, чаще «подрубает» слово под заданный ритм («милицанер»), чем расшатывает уже имеющийся. Если же ритм расшатан, то это всегда выглядит как очень нарочитый жест.
Эта утопия профессионализма бросается в глаза при сравнении с одним из литературных «детей» и оппонентов Пригова — Германом Лукомниковым, который в начале 2000-х публично спросил у него на литературном вечере: «Вы говорите, Дмитрий Александрович, что вы каждый день пишете по три стихотворения. Прочтите, пожалуйста, стихотворение, написанное сегодня». Пригов замялся и ответил, что предъявить такое произведение не может, так как написанное им в этот день еще не отредактировано. Лукомников сказал: «А вот я могу», — и прочитал несколько стихотворений. На своих выступлениях первой половины 2000-х после этого диалога Лукомников читал сначала новые стихи, а потом черновые записи и варианты. Такая организация литературного вечера напоминала оглавление тома из воображаемого академического собрания сочинений и в то же время призвана была показать, что между автором и слушателями нет никаких опосредующих культурных преград[461]. Впрочем, тут нет противоречия: публикация черновиков и вариантов в академических изданиях в сегодняшнем их понимании как раз и необходима для более точного понимания генезиса текста, а через него — самосознания публикуемого автора, т. е. — для большей проницаемости культурных барьеров[462].
Пригов, вероятно, в самом деле писал каждый день (подобно тому как он, по свидетельству сразу нескольких мемуаристов, каждую ночь рисовал), хотя вряд ли каждый день именно по три стихотворения. Но потом он дорабатывал тексты и строил из них циклы. Ему скорее был важен образ художника, который пишет каждый день, чем образ человека, который находится в процессе непрерывного сотворения текстов в режиме «потока сознания».
Постоянные энергичные рассуждения Пригова о крахе всех утопий и проектов Нового времени уравновешивались его собственным утопизмом, пусть и постмодернистским по своему происхождению, — надеждой на самосозидание, которое остраняет любые инкарнации и любые возможности редукции творчества к национальной культуре и физической телесности. Усилие самостроения не могло быть сведено ни к каким коллективным проектам и конвенциям, которые казались Пригову гносеологически недостаточными, «предпоследними».
Уместно сравнить Пригова с другой центральной фигурой московского концептуализма (и в то же время — другим «главным раздражителем» Некрасова) — Ильей Кабаковым. В центре поэтики Кабакова и его теории искусства — понятие тотальной инсталляции, т. е. нового вида произведения, а не нового типа автора, что для этого художника является вторичным. Автор в творчестве Кабакова — демиург, абсолютно трансцендентный произведению, как каббалистический Эн Соф по отношению к сотворенному миру. Для своих тотальных инсталляций Кабаков изобретает персонажей, которые уже потом будут творить это пространство[463], что, опять же, напоминает гностико-каббалистическую модель мира: «подставные» авторы Кабакова соответствуют сфиротам — эманациям Высшего начала.
Ни у Пригова, ни у Некрасова этого нет. Пригову важны не только «подставные» авторы его стихотворений, но и тот, кто за ними стоит, тот «режиссер», который их держит за невидимые ниточки. Пригов настаивал на том, что для адекватного восприятия его творчества необходимо восприятие «центрального фантома» — субъекта жизнетворчества, который стоит за каждым его произведением — текстом, или перформансом, или инсталляцией.
Однако в понимании авторства визуальные и текстуальные работы Пригова несколько отличаются друг от друга. Идея литературной работы Пригова — максимальное разнообразие и быстрое эксплицитное реагирование на то, что автор считал новейшими эстетическими проблемами эпохи (не общественными, а именно эстетическими: его интересовала деформированная телесность, связь тела и идентичности «я» в произведениях искусства, «серийность» и коммерциализация эмоциональной жизни, которую изучает модная сегодня «экономика впечатлений»[464], — Пригов первым освоил ее проблематику в российском искусстве…). Визуальные же работы Пригова в гораздо большей степени, чем его стихи и романы, были основаны на сознательном варьировании одних и тех же образов и мотивов, чтобы, как он сам постоянно говорил, с одного взгляда сразу становилось бы понятно: «Это — Пригов», — использование газет в качестве основы произведения, возвращающиеся образы глаза, занавеса, уборщицы с ведром, квазисакрального пространства[465].
В целом различие между трактовками авторства у Некрасова и Пригова связано с их представлением о единстве / расподоблении автора и произведения. Некрасов придерживался романтического по своему происхождению представления о том, что автор (в терминологии М. М. Бахтина — «первичный автор», т. е. инстанция, порождающая текст) составляет единое целое со своим произведением, и на этом единстве основана ответственность эстетического высказывания. Пригов полагал, что автор всегда отчужден от собственного произведения и что ответственность высказывания всегда проблематична. (Эта проблематизация породила в следующем литературном поколении сложную рефлексию о том, каким образом в современных условиях — после концептуализма — может быть переосмыслена и «переизобретена» этическая связь литератора с собственными произведениями[466].)
Можно построить следующую шкалу отношения к авторству в пространстве московского концептуализма:
Акцент на авторстве // Акцент на произведении
Д. А. Пригов как Вс. Некрасов // Д. А. Пригов как И. Кабаков поэт-художник
Пригов и Некрасов реализуют две интенции постмодернистской культуры, которые можно метафорически назвать «экологической» и «киберпанковской». Напомню, что один из манифестов Некрасова назывался «Экология искусства»[467]. Под «киберпанком» я подразумеваю представление о «киборге» как о гибридном существе, которое преобразует себя через совмещение организма с компьютером или иными, внечеловеческими сущностями — в духе манифеста киберфеминизма Донны Харауэй[468]. Пригов очень интересовался кинематографом, который исследует границы человеческого, — такими фильмами, как «Чужой» или «Face/Off»[469].
Именно эта разница в типах утопизма была, как мне кажется, глубинным нервом странной и агрессивной полемики Некрасова с Приговым и Кабаковым. Некрасова возмущало не покушение на его место в литературе, а замена утопизма. В его представлении, утопизмов могло быть только два: властный и его контрвластный (это анализировал Александр Житенев в своей статье об этосе нетерпимости у Некрасова). Пригов, создавший в русской культуре новый, ранее не предусмотренный тип утопизма — абсолютно свободного автора, — казался ему в этой ситуации лишним, как и Кабаков, создавший утопию тотальной инсталляции. Однако ретроспективно позиция этих художников не выглядит взаимоисключающей. Они просто ориентируются на разные тенденции, сосуществующие внутри постмодернистской культуры. Были ли они взаимодополнительными, возможно, станет ясно со временем.
Джейкоб Эдмонд ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Д. А. ПРИГОВА в контексте глобального концептуализма
Работы Дмитрия Александровича Пригова в основном читаются в контексте русской литературы и культуры, каждодневной советской и постсоветской жизни и советского и постсоветского русского национализма. Тем не менее с самого начала подход Пригова к этому национальному контексту был тесно связан с его отношением к остальному миру. Например, в своей практике самиздатских публикаций он совмещает две тенденции: присущую русским интеллигентам фетишизацию универсальной ценности, содержащейся в этих хрупких, тщательно воспроизведенных текстах, и практику дублирования и копирования, широко распространенную среди зарубежных представителей концептуализма. Вместо того чтобы просто противопоставить местную культуру и глобальный язык современного искусства, Пригов соединяет различные местные и транснациональные языки и культурные системы в своем «глобальном проекте»[470]. Связывая разнообразные дискурсы, жанры и медиаискусства, он позволяет им выражаться по-новому — это он неоднократно называет «пересечением»[471]. Он разрушает претензии каждой системы на абсолютную полноту, сталкивая с другой такой же системой. Расширяя представления Михаила Бахтина о том, что владение и манипуляции жанрами являются формой свободы, Пригов подчеркивает как ограниченность бесконечного повторения, так и свободу каждого жеста среди бесконечных возможностей пересекающихся систем и языков[472]. Он настаивает на том, что, по его собственным словам, «ни один язык не может овладеть человеком полностью»[473].
1. Милицанер
Любимый многими поэтический персонаж Пригова, Милицанер, показывает, что даже в 1970-е гг. его работа имела глобальную перспективу. Его персонаж милиционера, тесно связанный с национальными традициями и с советской идеологией и мифологией, позволяет Пригову исследовать глобальные амбиции этих местных дискурсивных систем. Один из его самых известных стихов про Милицанера подчеркивает этот глобальный охват:
Когда здесь на посту стоит Милицанер Ему до Внуково простор весь открывается На Запад и Восток глядит Милицанер И пустота за ними открывается И центр, где стоит Милицанер — Взгляд на него отвсюду открывается Отвсюду виден Милиционер С Востока виден Милиционер И с Юга виден Милиционер И с моря виден Милиционер И с неба виден Милиционер И с-под земли… Да он и не скрываетсяЗдесь «Милицанер» становится архетипической фигурой власти и силы, которая охватывает весь земной шар: «Запад и Восток», «с неба» и «с моря». Упоминание в стихотворении Внуково, в котором находится один из международных аэропортов Москвы, усиливает впечатление взаимодействия между русской местностью и остальным миром. Пригов объясняет позже, что в главном художественном проекте он стремился создать «идеального поэта», который «охватывает весь мир его словами»[474].
В это время Пригов исследовал мифологию русской литературной традиции, повторяя ее дословно. В «Продолговатый сборник» (1978) он включил полное пословное повторение первых строчек «Евгения Онегина» Пушкина — метод, который станет особенностью его творчества, повторяющийся в сотнях или даже тысячах его работ в различных жанрах на протяжении всей его жизни. Освоение данного подхода Приговым совпало в 1977 г. с публикацией многовлиятельной статьи Бориса Гройса «Экзистенциальные предпосылки концептуального искусства» в самиздатском журнале «37». Статья Гройса знакомила читателя с западным концептуальным искусством на примере борхесовского Пьера Менара, который стремился воспроизвести Дон Кихота «слово в слово и строка в строку»[475]. Фактически Гройс описал подход Пригова и предугадал его будущие более радикальные дословные репродукции[476].
В своей следующей статье «Московский романтический концептуализм» Гройс впервые применил термин концептуалист для описания писателей и художников из среды Пригова. В этой статье, отметив, что концептуальная практика возникла на Западе, Гройс выделяет особые элементы в русском концептуализме: «сохраняющее единство русской души» и «мистический опыт». Эта статья, однако, не упоминает Пригова, чей концептуальный «милицанер» и репродукция Онегина акцентирует те же клише русскости, что сформировали русскую культурную мифологию поэта и художника, к которому обращается Гройс[477]. Для обоих, Гройса и Пригова, то, что приходит после публикации этой статьи и становится известным как московский концептуализм, зависит от советской и русской культурной мифологии и текстов, которые рассматриваются с точки зрения связи с Западом. Несмотря на это, Пригов отказался ограничиться культурными представлениями о России и Западе, присутствовавшими в анализе Гройса. Там, где Гройс хочет сохранить границы между русским и западным концептуализмом, Пригов гораздо больше заинтересован исследованием клише о силе русской литературы и советского государства вместе с другими путями национального самосознания. Он является динамической фигурой посредника, который стоит между Востоком и Западом на перекрестке многих языков, культур и традиций.
Картина Пригова 1982 г. «Небо и море» является почти прямым ответом на попытку Гройса охватить московский концептуализм в рамках одной теории и определить его отличие от Запада. Пригов использовал термин «концептуализм» в первый раз в 1982 г., отвечая на критику своих работ как якобы не достающих до международного масштаба, как чего-то «робкого, недостаточного и доморощенного». Он ответил на эту критику тем, что «концептуализм берет готовые стилевые конструкции, пользуя их как знаки языка», что «если раньше художник был — „Стиль“, являлся полностью в пределах созданной им по особым законам изобразительной или текстовой реальности, то теперь художник прочитывается на метауровне как некое пространство, на котором сходятся языки»[478]. С учетом этого понимания концептуализма, «Небо и море» объединяет конкретный контекст России с более широким, в большинстве своем западным миром, пользуясь соединением русского и английского языков. Так же и «милицанер» Пригова находится в центре мира, определенного и осью холодной войны Востока с Западом, и пределами природного мира, как в стихах Пригова: «И с моря виден Милиционер / И с неба». Мир изобразительной работы определяется естественными пределами своего названия и повторения слов «небо» и «море», сополагая Восток и Запад с помощью противопоставления английского и русского языков, латинского и кириллического алфавитов. В отличие от английского «sky» и «sea», большое русское «море», центральное «небо» и в особенности единственный красный «дух» выходят из четко ограниченного участка изображения и его различения между Востоком и Западом, небом и морем, черным и белым, русским и английским языками. Производя пересечения между этими предполагаемыми противоположностями, эта работа одновременно ставит под вопрос знакомое понятие коллективной русской души и предполагаемые высшие духовные ценности Запада. То же само понятие, которым Гройс пользовался на три года раньше, сравнивая западный и русский концептуализм.
2. Загробная жизнь
В 1989 г. Пригов принял участие в конференции «Язык — Сознание — Общество». На этой конференции были многие американские писатели. Один из этих писателей, Майкл Дэвидсон, описывает получение «небольшого скрепленного со всех сторон пакета, содержащего, [как Пригов] говорит, фрагменты его стихотворений, разорванные в мелкое конфетти». Для Дэвидсона этот пакет был метафорой разорванного города, заполненного «окопами и выбоинами», и «изменения погоды». Эти изменения в политическом климате позволили писателям, ранее разделенным железным занавесом, встретиться. В это же время наряду с Дэвидсоном в книге «Ленинград» другая американская поэтесса, Лин Хеджинян, интерпретирует подарок Пригова в двух контекстах — советской цензуры и социальной вражды к поэзии. Интерпретации Хеджинян подсказывают, что работа эта нравилась определенному кругу диссидентских советских литераторов за рубежом и также могла рассматриваться в прото-постсоветском контексте[479].
В то же время приговские «Гробики отринутых стихов» оказались вновь актуальны в постсоветское время, когда Пригов стал одновременно пародировать и восхвалять культуру советского самиздата. Они выступили за ее сохранение во время либерализации издательской деятельности. Они также отразили собственное восстановление (перестройку) Пригова и повторение этой культуры в его работах, которые обращаются не к обменной цене слов на листе бумаги, а к современному искусству, работающему в глобализированной рыночной системе. Как иронично отметил Дэвидсон, визитная карточка, которую Пригов дал ему, была «написана латинскими буквами, как будто для западного экспорта». В этом смысле «Гробики» являются единственно возможным экспортным продуктом для местного поэта, чья работа в другом случае была бы ограничена русскими слушателями. Их никто не может и, по сути, не должен читать. «Гробики» находятся на пересечении нескольких систем между советской культурой самиздата и международным рынком искусства и, таким образом, дают возможность загробной жизни, так же как предложенные ответы этих американских поэтов. Самой загробной формой и паразитарной связью с «умершими» стихами «Гробики» соотносятся с концепцией Беньямина о «загробной жизни», или «Nachleben». В соответствии с этой идеей, постсоветская загробная жизнь «Гробиков» прерывает данное, подчеркивая непрерывную переработку исторического понимания в момент исторических, социальных и геополитических перемен[480]. «Гробики» сейчас читаются в контексте глобализации, в виде переосмысления фетишизированного текста самиздата, как показатели хрупкости «человеческой жизни», увлечения каждым словом поэта или художника, образной и буквальной смерти поэта в русской литературной традиции[481]. Это похороненное стихотворение самиздата пережило сам текст самиздата во время постсоветской эпохи, став своего рода визитной карточкой позиции Пригова на стыке между поздним советским диссидентством, советской идеологией, постсоветским русским национализмом и глобальным рынком искусства.
Когда я интервьюировал Пригова в Москве в 2006 г., всего за год до его смерти, он настаивал, что поэзия сама была частью прошлого, что он писал не стихи, a «contemporary art» (современное искусство), переходя на английский, чтобы выразить это правильными словами[482]. Позже в своей видеоопере «Россия» Пригов возвращается к своей связи с западным концептуализмом, чтобы подчеркнуть этот отказ от поэзии (который он, конечно, никогда не осуществил полностью). Он опять отмечает столкновение национальных традиций и мирового искусства. В сопровождении романтической медленной фортепианной музыки, короткометражный фильм включает в себя попытки Пригова научить кошку говорить слово «Россия» для комического эффекта. Фильм заканчивается, когда к Пригову присоединяется его сын, и они оба тогда поют «Россия». Этот фильм ссылается на «Интервью с кошкой» (1970) Марселя Бротарса, который, так же как «Гробики» Пригова, описывает переход от поэта к художнику, сменившему свои книги на скульптурные работы, которые делают эти книги нечитаемыми. Но в отличие от Бротарса, который разговаривает со своей кошкой о концептуальном искусстве, Пригов связывает концептуальную практику Запада с без конца повторяющейся националистической идеологией[483].
Возвращение Пригова к предмету его интереса — русскому национализму и западному концептуальному искусству — совпадает с возрождением концептуализма не как художественной, а как литературной практики в Соединенных Штатах. Концептуальное письменное искусство, которое ввели такие писатели, как Кеннет Голдсмит (так же как и Пригов, скульптор, ставший поэтом), и которое отмечалось такими влиятельными критиками, как Марджори Перлофф, в качестве новой поэзии XXI века, стало самым влиятельным авангардом англоязычной поэзии в первое десятилетие нового века. Несмотря на то что Голдсмит и Перлофф настаивают, что концептуальная поэзия основывается на исторических прецедентах из разных стран и принимает принципиальный «неоригинальный» или «нетворческий» подход, никто не ссылается на прецедент Пригова[484]. То, что Перлофф не упоминает Пригова, возможно, отражает ее убеждение в начале девяностых годов, что концептуализм Пригова зависит от романтической концепции «психологической глубины» и является «почти антитезисом концептуализма наших (т. е. американских. — Дж. Э.) шестидесятых и семидесятых годов, которые полностью отвергли понятие скрытого смысла». Эта разница происходит от противопоставления, которое зародилось в статье Гройса, написанной более чем за два десятилетия до возникновения американской концептуальной письменной формы[485]. Когда в предисловии к новой американской антологии концептуальной поэзии «Против выражения» Крейг Дворкин упоминает пример Пригова, это неудивительно, потому что он делает это, только чтобы предупредить, что Пригов «не должен быть запутанным» в концептуальной письменной форме[486]. И это несмотря на то, что Дворкин, как и Гройс за тридцать четыре года до того, цитирует акт копирования Менара «слово в слово и строка в строку» как образец предтечи концептуальной практики[487].
Эта разница между русским и западным концептуализмом продолжает резонировать сегодня, хотя сама игриво пародируется во многих работах Пригова. Несмотря на претензии Перлофф, что концептуальное письменное искусство отражает новую «неопределенность <…> места размещения объекта» в век интернета, противопоставление демонстрирует сохранение национальных различий и противоположностей, рожденных холодной войной между Востоком и Западом, в дискурсе глобализации[488]. Отвергая эти противоположности, Пригов предлагает сложную зарисовку разных традиций и дискурсивных систем, каждую со своими местными ассоциациями и глобальными амбициями. Он подчеркивает, по его выражению, «абсурдность общей амбиции, свойственной каждому желанию <…>, захватить и описать весь мир»[489]. Он отказывается от любой национальной позиции или от глобального зрения, создавая много языков медиаискусства, экономики, идеологии и истории, чьи особые точки пересечения в конечном счете не определены.
Александр Житенев ДВЕ МОДЕЛИ КОНЦЕПТУАЛИЗМА: Всеволод Некрасов и Борис Гройс[490]
Среди многочисленных публикаций, посвященных московскому концептуализму, сравнительно немного работ, исследующих его теорию. По умолчанию предполагается, что концептуалистский дискурс непротиворечив и полностью «прозрачен» для интерпретации. Между тем обращение к материалам, ставшим доступными благодаря публикации архивов, заставляет в этом сомневаться. Не будет преувеличением сказать, что круг устоявшихся представлений о содержании концептуалистской работы далеко не всегда соотносим с реальностью.
Так, одним из исследовательских априори является тезис о тотальности самоописания, делающего невозможной любую метапозицию, поскольку «абсолютная рефлексивность концептуализма не оставляет места рефлексии, идущей из другого источника»[491]. Между тем концептуалистская рефлексивность не предполагает создания какого-либо понятийного аппарата, кроме «инструментального», поскольку нацеленность на «получение духовного опыта, по существу своему не знакового»[492], допускает лишь феноменологическое описание.
Не менее очевидной, как правило, представляется и мысль о том, что для концептуализма решающее значение имеет деструкция предметности и завершенности: «Московский концептуализм отрицает вещную природу объекта. Ось субъект — объект воспринимается как несправедливая, неполиткорректная»; «искусства нет, есть непрерывное производство идей, род проектирования»[493]. Однако на уровне деклараций можно найти высказывания, прямо отрицающие бытие концепта вне воплощения: «О концептуализме часто говорят, что это искусство не создания форм, а искусство понятий», однако «существует пластика текста — дескрипций, дискурса и нарратива <…>, сочетания контекстов имеют определенную форму, которая и становится, в конце концов, произведением искусства»[494].
Весьма расхожим в кругах исследователей является и тезис о том, что концептуализм — это искусство, абсолютизирующее негативистскую, критическую функцию рефлексии: «Концептуализм — новая форма условности, <…> разлагающая всякую целостность как ложную. <…> Концептуализм — это поэтика голых понятий, <…> поэтика схем и стереотипов»[495]. Радикализм подобного вывода, однако, во многом корректируется указанием на то, что концептуализм не столько отрицает эстетическое, сколько переопределяет его границы, исследуя область взаимоперехода «культурного, исторического и социального» и «„живой среды“, ждущей все втянуть в себя, все поглотить и растворить»[496].
Закономерно, что в последние годы предпринимаются попытки историзации прошлого, ориентированные на уточнение представлений, сложившихся в пору ограниченного доступа к источникам. Вместе с тем далеко не все значимые материалы по истории московского концептуализма введены сегодня в оборот[497], а из тех, что введены, — отрефлексированы, в сущности, очень немногие. В этой связи может представлять интерес попытка выявить конфронтационные, оппозитивно противопоставленные линии в концептуализме. В рамках данной работы мы охарактеризуем только одну линию такого рода: оппозицию «Б. Гройс / Вс. Некрасов».
Принципиальные различия обнаруживаются уже в интерпретации художественного произведения. Гройс исходит из предпосылки о «двуслойности» «поэтических произведений», так как они «являются прообразом тех ситуаций, которые люди узнают в окружающей жизни» (что позволяет видеть в них «сакральные первообразы» бытия) и в то же время «присутствуют как определенные сущие в мире» («профанная» роль явлений среди явлений)[498]. Существенно, что «в качестве сакрального первообраза мира поэтическое произведение предшествует всем видам деятельности», а качестве «профанического» «может быть изготовлено по определенному рецепту». Эта двойственность задает возможность «фальсифицирования» высказывания.
Как следствие, «поэтические произведения» характеризуются также двойственным характером функционирования: им сопутствует или «спонтанное узнавание», или «профаническая» процедура «сличения» с образцами[499]. В этом смысле «искусство не может быть ложным, но оно может быть лживым»: первое предопределено логикой творчества, утверждающей «новое» высказывание, второе — антипсихологическим характером «фальсификации»[500]. «Подделка» в искусстве связана не с авторским намерением, а с особым модусом диалога с традицией, при котором, как отмечает Гройс, на первый план выходит нерефлексивное воспроизведение шаблона: «Творческий акт состоит в преодолении лицемерия, но новая форма осваивается человеческой практикой и ситуация лицемерия восстанавливается»[501].
Искусство, как полагает Гройс, «инструментально»: оно «служит устранению лицемерия» — создание всякого «нового произведения искусства есть создание нового орудия, гарантирующего искренность человеческой речи»[502]. Эта процедура, создавая ситуацию конфронтации с традицией, заведомо «кенотична»: «Творческий акт, — констатирует философ, — есть низведение искусства из сферы ясного и раскрытого смысла до непонятного». Это жертва, и жертва, напрямую связанная с экзистенциальным выбором художника. Философия, решая проблему, «искренности», противопоставляет этому пути «нисхождения» путь «восхождения»: «воспитание и дисциплину»[503].
Вс. Некрасов расставляет акценты совершенно иным образом. Для него определяющее значение имеет оппозиция «язык» / «речь», которой он придает внесемиотическую трактовку. «Язык» — поле заданного, предшествующего творческому акту, набор жанрово-стилевых норм; «речь» — ситуативно-определенная связь выражения и выражаемого. По Некрасову, это весьма жесткий критерий различения «подлинного»: «язык выучить можно, речью надо овладеть»[504].
Эта базовая оппозиция варьируется в противопоставлениях искусства-«суммы сведений» и искусства-«умения» (априорно-теоретического знания о том, что такое искусство, и подсказанного творческой практикой понимания его границ)[505], искусства — «рода занятий» и искусства — «качества» (формального набора признаков художественности — интуитивно ощущаемого открытия)[506]. В эссе-истине Вс. Некрасова момент выхода к «подлинному» связан с категорией «точного». «Точное», в интерпретации поэта, — это то, что наиболее остро выражает оппозицию литературы / литературности. «Точность» — это «не оценка, а качественная характеристика», выражающая исполнение жестко заданных ситуацией требований к оформлению. «Точность» — критерий восприимчивости, эквивалент «вкуса»: для современного поэта, «для его фразы найти единственную точную линию поведения — вопрос жизни, вопрос выживания»[507].
Очевидно, что, в отличие от Гройса, Некрасов акцентирует не обязательную двухуровневость («сакральное» / «профанное») каждого текста, а два модуса художественности («язык» / «речь»), которые в одном тексте пересекаться не могут. Это различие усилится еще больше, если сопоставить трактовки художественного акта, которые предлагают два теоретика.
Для Б. Гройса основной проблемой современного искусства оказывается изменение режима художественной рецепции, из которой исчезает непосредственность. Смысловой плюрализм контемпорариарта связан с конфронтацией разных представлений об искусстве как деятельности. Современный зритель растерян, поскольку опыт искусства перестает быть «беспредпосылочным». Понимание предшествует эстетическому переживанию, в восприятии искусства на первый план выходит проблема «понимания», связанная с потребностью зрителя «увидеть произведение в правильном свете», погрузить его в тот контекст, в котором оно имеет смысл[508].
Закономерно, что с этой точки зрения творчество — это прежде всего объяснение:
«Давая объяснение, объясняющий творит новый язык. Акт объяснения тождествен акту творчества. Новый язык не объясняет по-новому уже имеющийся мир, но проектирует новый мир. Всякое объяснение есть технический проект и открывает дорогу технической реализации»[509].
В этом смысле авангард — «дело теоретиков, а не художников»[510]. «Искусство, — пишет Б. Гройс, — никогда не воспринимается по его собственным законам. Оно всегда понимается по законам другого произведения искусства, созданного для того, чтобы сделать понятным первое»[511]. Очевидно, что деятельность интерпретатора нацелена как раз на создание искусства «второго порядка». Именно в этой связи концептуалистская практика получает соотнесенность с рефлексивностью, с продуцированием проблем, а не решений, концептов, а не форм, а художественная практика — устойчивую связь с философской работой.
Художника и философа, полагает Гройс, более всего роднит метафорический характер мышления. Основанием для интерпретации философской позиции как «метафорической» оказывается тот факт, что «каждый философ начинает с того, что придает словам новый смысл и начинает его описывать, благодаря чему философия оказывается в состоянии сформировать новую ситуацию»[512]. Метафора, в отличие от любого «внутритеоретического» высказывания, носит «продуктивный характер», поскольку позволяет оказаться там, где «до метафоры было только молчание»[513].
Логика рассуждений Вс. Некрасова движется в противоположном направлении. Развитием противопоставления «язык» / «речь» оказывается в его концепции противопоставление «вещи» и «ситуации». Новое, концептуалистское искусство — это искусство «ситуации», а не «предмета», а «ситуацию не прочитывают, в нее входят»[514]. Неизбежность искусства «ситуации» предопределена пониманием того, что «автоматически к поэзии ничто не приводит»[515], и только опыт радикального пересоздания эстетических рамок, «переизобретения» искусства способен порождать художественный эффект. Некрасов акцентирует «точку нарушения», момент «осознания»[516] эстетического потенциала материала, взятого из обыденности, из сферы «профанного».
«Концепт» демократизирует искусство, противопоставляет жреческому «поэтическому языку» живую поэтическую речь; освобождая текст от искусственности, требуя непрерывной проверки на живую реакцию: «Чтобы не было блата, чтобы искусство было нашим, общим, творческим делом. И пока искусство в опыте, в общении — т. е. в реальности, тревожиться нечего»[517]. Некрасов особенно настаивает на том, что в «ситуативном» прочтении искусства концептуализма нет и не может быть места никакому априоризму: «Кто может положить границу искусству — до сих пор и не дальше? Граница кладется практически делом, для себя»[518]. Из этой констатации проистекают два следствия: запрет на абсолютизацию рефлексии и запрет на исключительное доверие к непосредственному. «Невозможно всерьез прилагать обязательный анализ к рисунку или стихотворению на манер технической характеристики изделия. <…> Искусство — факт сознания, а сознание себя исчерпать не может», — замечает Некрасов и предостерегает от противоположной крайности: «Чувственное замыкание на предмет — самое короткое. Непосредственней некуда», но такие «игры» «напоминают радение»[519].
Зыбкость «рамки», смещение акцента с произведения на реакцию реципиента чреваты возможностью впасть в «экзальтацию» (и игровую профанацию «концепта») или «конвенциональность» (теоретизирование по поводу художественной акции). Но
«в том-то и специфика, и интерес концепта, что раз его материал — кусок действительности, то рамка становится невидима, налицо тенденция к бесконечному размыванию и экспансии. Рамка словно и впрямь захватывает в свое поле все окружающее. Но исчезать на самом деле — никогда»[520].
Очевидно, что в этом аспекте различия Б. Гройса и Вс. Некрасова наиболее заметны. Для Гройса концептуализм — это крайний случай авангардной тяги к замене воплощения — идеей, а потому — всецело интеллектуальное, «головное» искусство. Некрасов убежден в обратном, прямо декларируя запрет на овеществление и конечную смысловую определенность «концепта», воспринимаемого им скорее «сенсуалистически», чувственно, как «рамка» переживания. Антагонистический характер двух моделей концептуализма оказывается не менее очевиден при обращении к еще одному значимому аспекту — интерпретации «нового» в искусстве.
Для Гройса, как было сказано, проблема истины редуцируется к проблеме искренности, понимаемой не «традиционно эмпирически, как соответствие слов говорящего его мыслям», а как некая «вынужденность», «невольность» высказывания. Эта «вынужденность» с наибольшей наглядностью реализуется в опыте искусства, где «предикат „искренний“ употребляется без особых затруднений»: «здесь критерий искренности вполне объективен: истинно то, что по-истине ново»[521]. При этом художник, выстраивая «собственную сферу суждения и выражения», оказывается в парадоксальной позиции: он одновременно «в традиции и вне ее», что может быть интерпретировано и как «лицемерие», и как апелляция к более «глубокому» опыту, нежели уже освоенный культурой. Критерием разделения полярных интерпретаций оказывается возможность признать, что автор «нашел конечную форму для выражения своих душевных движений»[522].
У искусства концептуализма, доводящего до предела авангардный посыл к рефлексивному опосредованию, есть своя специфика. В нем — в силу изъятия произведения из универсальных жанрово-стилевых конвенций — «акт искусства превращается в событие внутренней жизни человека»[523]. Одновременно с этим происходит и еще одна значимая трансформация. Традиционно художник указывает на «просто вещи», которые изымаются из орудийного, прикладного контекста и наполняются эстетическим смыслом. Однако, замечает Гройс, «в мире нет „просто вещи“», а «есть лишь определенные вещи»[524]. В этом смысле художник всегда создает не столько «просто вещь», сколько ракурс, позволяющий увидеть предмет в этом качестве. Нюанс, связанный с советским контекстом, состоит в том, что в нем нет места для «просто вещей», как и вообще нет места для вещей, не «съеденных» идеологией. Любой контакт с реальностью идеологически опосредован, поэтому «поиск элементарного „всего“ оказывается иллюзорным»; оттого в современном контексте «сама идеология становится предметом искусства»[525].
Уравнивая образ и слово, художник-концептуалист проверяет «денотативную обеспеченность» идеологического высказывания, делает явной его «иллюзионистскую природу». «Все» может стать предметом искусства только через соотнесение иллюзии и реальности, а это, как полагает Гройс, «точка смерти», «ничто мыслительной деятельности». В этом смысле современное искусство ищет «не формы связи, а формы разрыва», оно стремится выстроить «уравнение с нулевым решением»[526].
Рассуждения Вс. Некрасова на тему «нового» носят более частный характер. В поэзии, с его точки зрения, воплощением «точности» оказывается способность создать поэзию минимальными средствами, сделав точкой отсчета «речевую абсолютность»[527], «подслушанность» поэтической фразы. Зерно современной поэтической речи — это «обрывки, словечки»[528] — будничное слово, изъятое из контекста бытования и наделенное вторым ассоциативным планом. Опыт повседневности, взятый как «художественная величина», видится Вс. Некрасову неисчерпаемым ресурсом художественности, а вместе с тем — гарантом успешного диалога с читателем, поскольку является общим «common sense»[529], универсальной сферой здравого смысла. Очевидно, что Некрасов, в отличие от Гройса, отнюдь не стремится к тому, чтобы свести концептуализм к деструкции «идеологического»; концептуализм противопоставлен клишированности сознания, но из этого не следует, что сфера «советского» является его материалом. Закономерно, что и «новое» трактуется несхожим образом: как выхолощенное идеологическое (Гройс) и остраненное бытовое (Некрасов). Эти различия получают продолжение, когда речь заходит о спецификации концептуалистской практики.
Стремясь к «новой гарантированности смысла», художник, полагает Гройс, «делает наглядным тот язык», на котором формулировалась предшествующая гарантия, «схватывает логическую структуру языка, на котором мы говорим о прекрасном, и предъявляет ее нам как прекрасное произведение искусства»[530]. В этом смысле «концептуалистское» начало всегда присутствует в искусстве, выступая условием перехода от одного «стандарта прекрасного» к другому. Специфика «овнешнения» «языка ограничений» демонстрируется Гройсом на примере героев Х.-Л. Борхеса.
Опыт Борхеса интересен для Гройса тем, что представляет собой последовательную ревизию романтической эстетики, рудиментарно присутствующей в современном искусстве. Персонажи Борхеса — это художники, сумевшие стать «экзистенциальными героями», т. е. отказаться и от «игровой смены масок», и от «пассивного воспроизведения „зова бытия“».
Эстетик более не «хозяин» в собственной творческой практике; стремясь «выйти к предельным ситуациям и понять свое подлинное место в мире», он «подчиняет себя определенной форме», демонстрирует «решимость» следовать раз и навсегда сделанному выбору[531]. Борхесовские герои ничего не создают, да и не могут создать «в материале». Избираемые ими поведенческие программы «не могут быть реализованы в пределах конечного земного времени»; «они не объективируются, не овеществляются, требуя отношение не созерцания, а участия».
При этом именно в силу «необъективируемости» и «тотальности» эти программы сводятся к презентации «концепта» или «алгоритма» творческой деятельности. Тем самым концептуализм, в интерпретации Гройса, оказывается мотивирован экзистенциалистским видением мира, стремлением последовательно реализовать некий «принцип, организующий человеческую жизнь», безотносительно к тому, как — в том числе самим художником — воспринимается его содержание. Художники-концептуалисты — это «появившиеся во плоти герои Борхеса».
Концептуалист предлагает «некий принцип, следуя которому, порождается произведение искусства». Принцип этот «прозрачен для зрителя (читателя)»; «его понимание не требует герменевтических усилий»[532]. Сдвиг от непредсказуемости к заданности радикально меняет и содержание произведения искусства, и рецептивные правила, которые оно диктует. «Господство концепта сделало труд художника механистичным», более того, ориентированным на то, чтобы «вызвать скуку и у творца, и у зрителя»[533]. Это искусство, которое «держится лишь экзистенциальной решимостью». Объект его интереса — «онтологическая дифференция» между сущим и бытием, фундаментальная несамотождественность человека как «вот-бытия». Невозможность ясно и четко разделить «подлинное» и «неподлинное» тематизируется в интересе к повседневности, при этом «повседневность, прожитая „еще раз“», трактуется как «повседневность, понятая как смысл».
Запечатлевая самые обыденные, «профанические» черты существования, художник-концептуалист открывает в нем возможность «иного», эстетически наполненного и предельно осмысленного бытия. В этом отношении «отрешенная скука или состояние „ненастроенности“, — полагает Гройс, — есть свидетельство прекрасного, ибо благодаря ему зритель изымается из сферы надежды и озабоченности и оказывается лицом к лицу с чистым смыслом»[534]. То, что различает здесь «удачу и неудачу, есть не некая норма, но переживание прекрасного».
Тем самым теория концептуализма парадоксально сочетает устремленность к закрытому для обозрения и анализа переживанию и тягу к максимально рефлексивной организации творческого процесса, стремление к уходу от «объективации» и «овеществления» замысла и едва ли не полное погружение в «профанный» и обесцененный вещный мир, установку на преодоление стереотипов и клише и «алгоритмическую» заданность творческого процесса.
«Язык искусства отличается тем, что говорит о мире ином, о котором может сказать только он один»[535], — полагает Гройс. Отечественные концептуалисты «нерелигиозны, но насквозь проникнуты пониманием искусства как веры». Именно это позволяет им дешифровать искаженную социальную реальность, открывая в ней отблеск «иного», это же делает современное искусство выражением «нашей собственной историчности, открытой здесь и сейчас»[536].
Некрасов, в противоположность Гройсу, акцентирует не раз и навсегда выбранную «форму», которой следует себя подчинить, но невоспроизводимость художественности. В его эссе на первом плане находится не декларация «намерений», но пафос «осуществленности», пафос контекста, в который можно попасть, а можно и не попасть: «Автоматически к поэзии, к искусству ничто не приводит — ни реквизит, ни темы, ни намерения»; «тут либо пан, либо пропал»[537].
Вхождение в новый опыт связывается с двумя процедурами: «изживания материала» (преодоления внеэстетической косности) и «овладения материалом»[538] (обнаружения в нем ассоциативного потенциала). Осуществление этих процедур неотделимо от нескольких творческих установок. Первая — отказ от «сотворения» в пользу «открытия»[539] (акцентирование минимальности авторского вмешательства в материал). Вторая — отказ от «нажима» в пользу «расслабленности» (от волевого художественного поиска в пользу озарения): «Избегаю форсировать метод, лучше понимаю усилие, нераздельное с расслаблением»[540]. Третья — замена «усилия» «умением»[541] (рефлексивностью, неотделимой от творческого акта, — «рефлексия мешает импульсу стать идолом»).
Конкретные модели, позволяющие достичь желаемого, — «репетитивная техника», техника нюансов и смысловых оттенков, визуализация поэтического текста:
«Где начинается визуальность как принцип? Очевидно, там, где плоскость листа не просто привычный способ развертки текста-линии, а именно плоскость со всеми ее возможностями. <…> Где возникает потребность преодолеть косную временную последовательность, принудительность порядка в ряде»[542].
Реализация этих принципов, с точки зрения Вс. Некрасова, помогает достичь новой формы художественной речи, соединяющей «свободу» и «ответственность».
Таким образом, осмысление концептуализма на уровне перехода от эстетики к поэтике у Гройса и Некрасова тоже радикально разнится. Если первый подчеркивает проективную сторону художественного движения, нацеленность на реализацию заведомо известного «концепта», то второй, напротив, обращает внимание на заключение в скобки любых попыток найти «готовый» ответ, «готовую» форму, «готовый» оценочный ракурс. Закономерно, что и финальные выводы о характерных опознаваемых признаках концептуализма у двух теоретиков разнятся. Для Гройса концептуализм — это «прозрачное» для интерпретации искусство с предъявленной зрителю «моделью для сборки». Для Некрасова скорее — искусство «непрозрачное», исключающее любой априоризм, любую самоочевидность.
Дарья Барышникова ПОЭТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ П. П. УЛИТИНА в контексте литературы московского концептуализма 1960–1970-е гг
«Всякая случайная ерунда, короче, обретает символическое значение…»
З. Зиник, предисловие к «Путешествию без Надежды»Контексты отечественной неофициальной литературы 1970-х гг. традиционно связываются с концептуализмом, который сегодня часто выглядит как если не главное, то основное направление в художественной культуре того времени. При этом неисследованным пока остается ряд маргинальных направлений, что связано, конечно, и с небольшой временной дистанцией, отделяющей исследователя от текстов, и с отсутствием систематизации (а часто и публикации) материала.
Я бы хотела схематично рассмотреть и кратко сопоставить поэтику и художественные стратегии писателя Павла Павловича Улитина (1918–1986) с принципами концептуальной литературы, с тем чтобы показать другие возможные способы существования постмодернистского дискурса в литературе. Поэтика Улитина анализируется здесь на материале трех опубликованных книг, созданных в 1960–1970-е гг.: «Разговор о рыбе» (1967)[543], «Макаров чешет затылок» (1967)[544] и «Путешествие без Надежды» (1975)[545].
Предложенное сопоставление может, как мне представляется, несколько расширить контексты указанной эпохи (и не только во временном плане — рассматриваемые тексты Улитина относятся к чуть более раннему периоду, — но и в концептуальном). Для этого мне представляется продуктивным обратить внимание, с одной стороны, на специфику концептуализма как литературного течения (выделяемого очень условно), а с другой — на ключевые характеристики текстуальных художественных практик и «стилистику скрытого сюжета» Павла Улитина как новый принцип организации прозы. Не ставя пока вопрос о влияниях и взаимодействиях, я бы хотела попытаться очертить некий, если угодно, фрагмент интеллектуального ландшафта литературного процесса 1970-х.
Литературу указанного периода можно относить к постмодернизму в том смысле, как трактует это направление Марк Липовецкий[546], считая, что постмодернистский дискурс формируется в русской культуре конца 1960-х — 1970-х гг. на пересечении двух тенденций: критики советских метанарративов и попыток возродить прерванные (в официальной культуре) дискурсы исторического авангарда. Постмодернизм рассматривается здесь как одна из фаз в развитии модернизма, не завершенного и поныне, возникшего внутри тоталитарной культуры и развивавшегося в диалоге с ней. Итак, в постмодернистской литературе выделяются следующие специфические черты: подрыв формальной организации, алеаторная структура повествования, иллюзия хаоса, спонтанная игра дискурсов и обломков былых символических порядков. Это ситуация, когда связность текста становится невозможной или фиктивной. С другой стороны, обособленные замкнутые эстетические объекты «приходят в движение», размыкаясь в пространство неэстетического, внехудожественного[547]. Параллельно происходит сдвиг от практик создания самодостаточных эстетических объектов к исследованию условий их существования, функционирования, системы отношений с контекстом и восприятия. Это связано и с включением в художественное произведение рефлексивной позиции — по отношению к языку и материалу, к собственным художественным стратегиям.
Концептуализм в рамках постмодернизма может рассматриваться не столько как стилистическое направление (термин использовался сначала применительно к визуальным художественным практикам, затем распространился на литературу[548]), сколько как идеология, центром которой была проблематизация самого понятия «искусство». Для концептуалистской литературы важной задачей становится работа с пустыми формами языка: клише, устаревшие средства выражения, потерявшие способность к выражению чего-то нового.
Павел Улитин[549] не был особенно широко известным писателем, его тексты при жизни публиковались в зарубежной периодике, ранние сочинения практически не сохранились (изъяты при обыске 1962 г.), значительная часть до сих пор не опубликована. Его проза описывается как «стенограмма общего разговора, в котором участвуют товарищи по учебе в ИФЛИ и случайные собеседники в московском кафе, соседи по бутырской камере и герои западной литературы»[550].
Если говорить о характере прозы Улитина, то тут на первый взгляд проблематизируется сама возможность коммуникации, сообщения и обнажается механизм художественного творчества:
«Я копировал. Я переводил с языка радости на язык чужих слов. Нужен совершенно другой язык. Тебе приходилось замечать. В другом месте на большом формате два слова для другого человека. Как мало от нас осталось. Тебя там нет. Меня там нет. Там нет ни слова о нас с тобой. Я ехал на этом трамвае. Эти имена ничего не значат. Какой-то другой язык. Неужели самое интересное — цитаты из чужой книги? Странное впечатление. Я не сижу, я не порчу, я не размахиваю. Чем дальше сегодня, тем хуже будет завтра. Пустое место на первый взгляд»[551].
Тексты строятся / выстраиваются фрагментарно. Улитин называл свою технику «уклейкой» — это принцип монтажа, сводящий в один, но дискретный поток сознания («наш русский Джеймс Джойс») воспоминания, фрагменты монологов, диалогов, цитаты разного рода и на разных языках. Текст отказывается от рамок сюжета и организуется лейтмотивами, соединяемыми ассоциативной логикой:
«Как, ничего не сказал? Два часа проговорил и ничего не сказал. А по его мнению, он все сказал. Это вы ничего не услышали. Что именно я хочу извлечь из чужой радости, ЧТО? Я понять его не хочу, смысла в нем не ищу. Странная жадность. Вот эту одну страницу и надо найти. Он хотел твоих усилий на алтарь освободительного движения. В каком смысле вышел из игры? В смысле вина? Нет, пить я буду. <…> Так много наговорили, что уже ничего не хочется. Just the time to come back. Свирепость апостолов из-за неуверенности в своей силе»[552].
Повествователь в этом тексте рассказывает истории, которые не столь важны сами по себе — это даже и не истории, а обрывки и фрагменты. Важно, кто рассказывает историю, хотя где кончается оригинал и начинается копия, не всегда понятно. Вероятно, еще важнее само обстоятельство, что история рассказывается, фрагменты речи упорядочиваются произвольно. В определенном смысле это не «литература», а запечатленный процесс ее становления, в котором внехудожественное трансформируется в произведение. Зиновий Зиник отмечает это «<…> открытие, сделанное П. Улитиным в прозе: те реплики, которые остаются невысказанными в момент разговора, они — переводные картинки услышанного и собранные вместе, встраиваются в новый разговор — литературу»[553]. При этом происходит не размыкание замкнутого эстетического объекта в область, искусству не принадлежащую, как это происходит (будет происходить) в концептуализме, но сам этот художественный объект (оформленная книга) заключает в себе не повествование, не сюжет, не историю, но само ее становление, это и не разговор о чем-то, но разговор как таковой. Не записанный монолог, но слова, полные, как пишет Михаил Айзенберг, «внутренней значительности и странного напряжения»[554].
Один из главных «предметов» прозы Улитина — чужой язык и его стереотипы. Как пишет в предисловии к «Разговору о рыбе» Зиник[555], Улитин предпочитал говорить о собственном опыте чужими словами, потому что «у него отняли и его интимные слова и его интимную жизнь». Это фиксация опыта, о котором невозможно рассказывать. Причины этой невозможности лежат за пределами текста, и здесь я не буду вдаваться в их подробности. В тексте же получается культ необязательности, случайности, культ черновика.
Из разговоров извлекаются ключевые фразы, а такой фразой может стать любая, значение не важно, важны скорее ритм и интонации. Драматургия повествования («повествование», конечно же, условно: никаких событий как историй, т. е. изменений состояния — как определяется событие в смысле ключевой характеристики повествования в классической нарратологии — тут не происходит) организуется паузами и лакунами, логическими пропусками и смысловыми провалами:
«Что это? Каталог непрочитанных книг. Выписки из каталога. Шутка старика-читателя. Меньше всего там было продолжение Книги с большой буквы. Заглянув в сборник цитат, увидишь: два шага назад. Сделал свои выводы, ничего не скажешь. Это немножко похоже на указатель.
He’s het up, but I’d say Tom Betterton’s as sane as you or I (p. 186 Destination Unknown by Agatha Christie).
Verbotene Liebe. Verlorenes Leben. Was sagst du dazu? Да, это из каталога. Вот какие были волнующие впечатления. Непосредственно после этого я прошел мимо „Иллюзиона“, чтобы остановиться и прочитать названия кинофильмов[556]».
В прозе Улитина язык используется не для описания и даже не для преобразования мира. Этот язык (языки?) как бы и есть мир невозможной прямой речи, в котором существует писатель, чья речевая позиция декларируется так: «Я хочу найти слова, которые не имеют прибавочной стоимости». Эти стратегии, изначально маргинальные, и в дальнейшем не получили широкого распространения в «литературном процессе». Практика концептуальной литературы предполагала несколько иные принципы работы с текстом, словом, языком.
Однако можно обнаружить некие если не параллели, то параллельные места в этих двух достаточно разных подходах. Д. А. Пригов, рассуждая о концептуализме, выделяет следующие его характеристики: сведение в одном произведении разных языковых пластов (по сути — различных дискурсов), «высветляя и ограничивая абсурдность претензий каждого на тотальное описание мира»; существенным становится использование неконвенциональных текстов не в качестве цитат, а в качестве структурной основы нового произведения. Подчеркивается ключевое значение жеста — определяющего, назначающего. И, наконец, режиссерское отношение к тексту: «герои этих спектаклей — не персонажи, но языковые пласты как персонажи, однако не отчужденные, а как бы отслаивающиеся пласты языкового сознания самого автора»[557].
Таким образом, в текстах Улитина язык используется в практически «нулевой степени письма» — по крайней мере, декларируется такое намерение. Все эти «чужие слова», цитаты и пересказы используются не для демистификации или десакрализации доминирующих в культуре дискурсов (советского или антисоветского), но скорее, как представляется, для фиксации того опыта, который невозможно передать «своими словами»: не отстраняясь от языка, разрушая его, но пребывая в языке, распространяя дискретность мышления на связность текста, замещая и вытесняя эту связность в пространство до произведения, фиксируя на бумаге не столько его создание, но представляя сознание в процессе подготовки мысли. В декларируемо-художественные тексты Улитиным вводится нехудожественное для того, чтобы стала возможной фиксация такого опыта (переживания), для которого недостаточно языка как упорядочивающего логоса. В этих текстах важна не семантика — смысл может быть вполне произвольным, — но ритмическая организация текста. Этот «условно пригодный» разговор, не выстраиваемый линейно во времени, а как бы рассеиваемый вокруг, становится пространством существования не смысловых единиц, но определенной возможной (невозможной?) общности переживания.
Ада Раев ПОД ЗНАКОМ ГЛАЗА: Дмитрий Пригов и Карлфридрих Клаус
Статья посвящена двум художникам, которые, каждый по-своему, внесли важный вклад в концептуальное искусство — один в России, другой в Германии. Не случайно и Дмитрия Александровича Пригова (1940–2007), и Карлфридриха Клауса (1930–1998) считают важными фигурами искусства позднего XX в., сравнивают с Йозефом Бойсом. Лично они не были знакомы, хотя теоретически могли бы встретиться во время пребывания Дмитрия Пригова в Берлине в 1990–1991 гг., когда он был стипендиатом организации DAAD (Германская служба академических обменов). Пригов тогда выставлялся в Берлине и в Кельне, а выставка «Carlfriedrich Claus. Erwachen am Augenblick. Sprachblätter» («Карлфридрих Клаус. Просыпание у мгновения. Языковые листы») именно в это время шла по очереди в разных городах Германии.
Если бы они встретились, то обнаружили бы неожиданные параллели и точки соприкосновения как в своих биографиях, так и в творческих интересах. Вероятно, они заметили бы прежде всего, что их объединяет постоянное увлечение, даже страсть к мотиву глаза. Об этом уже писали в Германии: Герхард Вольф и Аннетте Гильберт — о Клаусе[558], Клаус Бах и Катрин Мундт — о Пригове[559]. Меня же интересует вопрос о степени сопоставимости или же различия обращения Клауса (Илл. 1) и Пригова (Илл. 2) к мотиву глаза.
Илл. 1.
Илл. 2.
В этой связи полезно припомнить некоторые схожие факты их биографий и моменты самоопределения[560]. Оба они родились до начала Второй мировой войны — Клаус в 1930 г. в городе Аннаберг в Тюрингии, Пригов в 1940 г. в Москве. Соответственно, их творчество в немалой степени развивалось в условиях тоталитарных режимов — нацистской Германии и ГДР и, с другой стороны, Советского Союза. Кроме того, их объединяет то, что они сознательно держались в стороне от официально востребованного искусства соцреализма. Оба они рано занялись одновременно и литературой, и изобразительным искусством и вообще чувствовали себя свободными от каких-либо эстетических и жанровых ограничений. Устно или письменно они общались с людьми, разделяющими их незаурядные интересы относительно истории, науки и философии. Интересно к тому же отметить, что каждый из них интересовался явлениями культуры другой страны. Клаус еще мальчиком, в период нацизма в Германии, дома тайком выучил кириллический алфавит и позже многое черпал из поэтических опытов русских футуристов Алексея Крученых и Велимира Хлебникова[561]. Пригов, кстати с немецкими корнями, в свою очередь, ценил немецких романтиков и в ряде работ тематизировал немецкую историю. К примерам его обращения к немецкой культурной традиции относятся, например, его перформанс-опера «Мой Вагнер» (2000) и первая его инсталляция в Третьяковской галерее под названием «Видение Каспару Давиду Фридриху русского Тибета» (2004). Обоим не были чужды идеи мистиков разных эпох и народов, которые позволяли им отодвинуть границы сфер своего познавательного и эстетического опыта далеко за пределы собственного времени и привычного культурного пространства. В целом оба склонялись к тому, чтобы на первое место ставить свое литературное творчество, работу с текстами. Но это не мешало им помимо языковых образов искать способы выражения непосредственно изобразительным путем. Конечно, каждый из них прошел свой индивидуальный путь развития в искусстве.
Карлфридрих Клаус вырос в культурной семье в немецкой провинции. У его родителей был магазин художественных репродукций и канцелярских изделий, который сыграл важную роль в его художественном развитии. Именно здесь он еще ребенком учился печатать на пишущей машинке и видел репродукции запрещенных тогда художников авангарда. Профессионального художественного образования он впоследствии не получил, но рано начал интересоваться искусством и поэзией. Он писал художественные и театральные рецензии для местной прессы, сочинял стихи и в начале 1950-х гг. увлекался фотографией[562]. Его тексты не всегда печатали из-за слишком независимой точки зрения их автора[563]. Он переписывался с поэтом Францем Моном, философом Эрнстом Блохом, художниками Паулем Клее, Раулем Хаусманном и Фернаном Леже, маршаном Даниэлем-Анри Канвейлером и многими другими; сохранилось около 20 000 писем. Позже он начал увлекаться звуковыми экспериментами на основе собственного голоса и дыхания. От этих занятий сохранились аудио- и видеозаписи. После смерти матери в 1969 г. и без того сложная личная ситуация Клауса — он жил как бы отшельником — становилась все хуже. Лишь в 1974 г. друзья-художники добились того, что его приняли в Союз художников ГДР. Год спустя в Восточном Берлине в галерее «Galerie Arkade» состоялась его первая персональная выставка. Власти хотели заставить его покинуть ГДР. Клаус, однако, остался в родном Аннаберге, прекрасно понимая, что изначальное место создания любого произведения искусства — это голова художника[564].
В его изобразительном наследии важное место занимают графические циклы. Особенность некоторых из них (Илл. 3) состоит в том, что они напечатаны и нарисованы на прозрачной бумаге с двух сторон, соединяя шрифтовые и знаково-иконические элементы. Позже он их переносил на плитки из оргстекла (плексигласа). Из этих плиток он строил пространственные композиции, внутри которых зритель может двигаться. Именно эти работы, а также более поздние живописные работы и являются носителями многочисленных глаз, которые начали появляться у Клауса в начале 1960-х гг.
Илл. 3.
Пригов, будучи на десять лет моложе своего немецкого коллеги, также рано, с 1963 г., писал стихи[565], но в отличие от Клауса получил и профессиональное художественное образование, закончив скульптурное отделение Московского высшего художественно-промышленного училища (бывш. Строгановского). Уже здесь он проявил свое свободолюбие, когда вступился за несправедливо отчисленную студентку, вследствие чего и сам был на год исключен из училища. Подобно многим представителям московского концептуализма, он много лет состоял на службе — в Главном архитектурном управлении Москвы, где курировал окраску фасадов. Когда Пригова в 1975 г. приняли в Союз художников как скульптора, за этим формальным актом, однако, не последовала большая карьера в этой сфере художественной деятельности, столь выгодной при социализме в финансовом плане. Вместо того чтобы лепить монументальные скульптурные памятники, он усиленно работал в области малых форм, используя хрупкие материалы и повседневные предметы. Памятники же в его текстах — например, в стихотворении «Вот вижу: памятник Ленину в Ташкенте стоит…»[566] — указывают на абсурдность советской идеологии[567]. Кроме того, именно с этого времени Пригов начал приобретать нарастающую известность перформансами-чтениями собственных текстов, например, в мастерских Бориса Орлова и Ильи Кабакова, а также в своей квартире, куда приглашал многих ныне известных единомышленников. Десять лет спустя он начал сотрудничать с музыкантами — с Сергеем Летовым и особенно с Владимиром Тарасовым. В период перестройки и в последующие годы появились такие важные графические серии, как «Газеты», «Бестиариум» и другие[568]. В них, в многочисленных проектах инсталляций (Илл. 4) и в более поздних работах, основанных на фотографиях и репродукциях, непременно присутствует мотив глаза.
Илл. 4.
Если сравнить изображения глаза в работах Клауса и Пригова, то, несмотря на постоянное их присутствие и на присущую им общую знаковую упрощенность, быстро обнаруживаются и их различия. Многообразию, динамизму и экспрессивной манере изображения глаз у Клауса противостоят программная схожесть и статичность тщательно нарисованных глаз у Пригова. Дело тут не в разных темпераментах или в индивидуальном почерке этих двух художников. Их обращение к мотиву глаза и его истолкование коренятся, как мне кажется, в разных, в чем-то противоположных культурных традициях, в которых они выросли и действовали.
Еще в начале творческого пути, в 1956 г., мысли Клауса вращались вокруг чудесного и драгоценного органа чувств человека, который в состоянии воспринять лучи света:
Landschaft Ganz zart zieht der Strahl die Rundung des Auges nach Zwischen Schrägen und Steilen geteilten Geraden die zitternde Linie Ganz leicht umläuft sie das Auge[569]При этом его интересовал познавательный потенциал глаза, и он задумывался о принципиально разных, но равноценных способах восприятия мира — рациональном и иррациональном:
Ein Auge ist klar Das andere schwimmt in den Nebeln Die immer dichter es tragen Das eine ist klar Das andere auch Nur ganz anders[570]Тогда же его волновало и соотношение внешнего и внутреннего мира человека, существующих и взаимодействующих перед и за закрытыми веками:
In das Dunkel geschlossener Lider spiegelt das Blut pulsierend Licht In dem Dunkel geschlossener Lider bildet Licht Kristallenen Strom[571]Поэтому неудивительно, что начиная с 1962 г. глаз в изобразительном наследии Клауса встречается в самых разных ипостасях и состояниях: есть единичные и парные глаза, есть правые и левые глаза, глаза с ресницами и без них, глаза со зрачками или без них, есть прямо смотрящие, и косые, и даже закрытые глаза; есть глаза сияющие и есть взирающие внутрь, встречаются глаз циклопа и глаз шамана. Иногда они находятся на «естественном» месте — на лице человекоподобных фигур или животных; порою скопления глаз покрывают тело или спину (Илл. 5), а в других случаях они парят в бесконечном пространстве неясной глубины или вырастают из сети штрихов и шрифта. При этом различные знаки глаза для Клауса, как он подчеркивал, всегда имели точную функцию.
Илл. 5.
Например, на листе «Отчуждение» 1992 г., исполненном черной тушью и графитным карандашом на прозрачной бумаге с двух сторон и акриловыми красками с одной стороны, глаз намекает на состояние человека в ситуации бегства, равной положению вне закона, когда требуется постоянное внимание в состоянии между бодрствованием и сном[572].
В целом глаз у него фигурирует как самый важный орган мировосприятия и самопознания человека на разных уровнях, будь то ясновидение, страх, боль или смутные ощущения. Он его понимает как орган коммуникации между внутренним и внешним человеком, как свидетельство фрагментирования сознания в процессе мышления и особенно в процессе написания[573], как орган общения между людьми (Илл. 6) и между человеком и миром в целом.
Илл. 6.
Многократное обращение Клауса к мотиву глаза в немалой степени связано с чтением как Парацельса (Теофраста фон Гогенгейма), так и Валентина Вейгеля (1533–1588). Последний — саксонский мистик XVI в., лютеранский пастор из города Чопау — утверждал в своей книге «Erkenne dich selbst» («Познай самого себя»), «что человек сам является глазом, и через него видятся и познаются все видимые и невидимые явления»[574]. По представлению Вейгеля, человек обладает тремя глазами: «oculus carnis», т. е. глаз плоти, «с которым смотрят на мир и на все, что относится к кухне», «oculus rationis», т. е. «глаз разума», «с которым смотрят и делают или изобретают искусства и исполняют все разумные работы и ремесла», и «третий и высший глаз», «oculus mentus seu intellectus», т. е. «глаз рассуждения, с которым смотрят на Бога»[575]. Идеи Вейгеля привлекали Клауса в особенности тем, что тот воспринимал человека, мир и Бога как единое целое, как «ein und alles». Подобно этому и Клаус ощущал себя и человека вообще как часть мироздания и исторического процесса, как взирающего и действующего одновременно. Поэтому глаза в его листах то появлялись, то исчезали в процессе работы и иногда перекликались с мотивами руки и рта.
В этой связи небезынтересно, что его отец был членом масонской ложи в Гамбурге, а у масонов, как известно, глаз является одним из главных символов[576]. Появившееся в эпоху барокко Всевидящее око в ореоле из лучей репрезентирует истину, которая требует мудрости и перед которой совесть обязана отчитываться. Правда, ярко выраженное Всевидящее око, вписанное в треугольник с венцом или полувенцом световых лучей, на листах Клауса не встречается, но это не означает, что присущий масонскому духу нравственный момент его не интересовал. Он внимательно следил за социальными движениями и политическими событиями во всем мире — от Вьетнама до Южной Америки, от США до Африки и Польши — и фиксировал свои размышления на листах, покрытых большими глазами, как бы парящими в небе и носящими названия «Политпсихологическое эссе: Африканское сознание» или «Политпсихологическое эссе: Афроамериканское сосредоточие сил» (оба — 1971).
Илл. 7.
В целом творчество Клауса посвящено процессу самосознания человека (Илл. 7) и поиску его места в бесконечности мира и в истории, впрочем, с точки зрения коммунистической утопии, которую Клаус связывал с разнообразными метафизическими учениями.
У Дмитрия Пригова дела обстоят по-другому:
«Речь идет, за некоторыми исключениями, об огромном, изолированном, то есть бестелесном левом глазе, смотрящем прямо на зрителя. Большей частью он тщательно написан тушью или нарисован фломастером в типичной для Пригова манере и выделяется из заштрихованного черным „облака“; в некоторых поздних инсталляциях он представлен только в виде контура — черной краской на белом фоне»[577].
Илл. 8.
Прямота взгляда исключает дистанцированное восприятие. Нередко на нижнем веке висит красно-кровавая слеза[578], своего рода опознавательный знак приговского глаза (Илл. 8). В отличие от Клауса, у которого глаза блуждают в беспокойном движении по поверхности листа, глаз у Пригова в большинстве случаев занимает устойчивое и весьма проминентное место: на главной оси и в верхней половине композиции, будь то плоскость листа или инсталляционное пространство. Иногда по сторонам его висит занавес. Всем этим подчеркивается его особое значение. Можно даже говорить о намеренной сакральности этого мотива у Пригова. Такое прочтение тем более уместно, что глаз в его работах порою находится в красном углу, т. е. на традиционном месте иконы в жилых помещениях в России.
К традиции размещения икон обратился в свое время и Казимир Малевич, когда на выставке «Последняя футуристическая выставка 0,10» он поместил свой «Черный квадрат» в одном из верхних углов выставочного помещения[579]. Не случайно Дмитрий Пригов не раз ссылался на основоположника супрематизма, который видел себя в роли Пророка, т. е. зрящего. Малевич много писал о природе и смысле супрематической живописи и связанных с ней метафизическом видении и мировосприятием, как, например, в письме Михаилу Гершензону в 1920 г.:
«Я уже супрематизм не рассматриваю как живописец или как форму, мною вынесенную из темного черепа, я стою перед ним как посторонний, созерцающий явление. Много лет я был занят движением своим в красках, оставив в сторону религию духа, и прошло двадцать пять лет, и теперь я вернулся или вошел в Мир религиозный, не знаю, почему так совершилось, я посещаю церкви, смотрю на святых и на весь действующий духовный Мир, и вот вижу в себе, а может быть в целом мире, что наступает момент смены религии, я увидел, что как Живопись шла к своей чистой форме действа, так и Мир религий идет к религии Чистого действа <…>»[580].
Александра Шатских обратила внимание на двойственность обращения Малевича к иконной традиции:
«Общеизвестное вознесение „Черного квадрата“ в „красный угол“, имевшее место на „0,10“, — оно, скорее всего, было импровизационным, импульсивным, родившимся во время развески картин. Однако вся экспозиция супрематических работ мгновенно была перекодирована этим амбивалентным жестом, сакральным и в то же время святотатственным»[581].
Подобную двойственность можно обнаружить и в употреблении мотива глаза со стороны Пригова по отношению к советской идеологии.
Клаус Бах подчеркнул возможность политического прочтения глаза у Пригова:
«Взгляд уже в дохристианскую эпоху является символом божества, в христианстве же он — символ Бога-отца или Бога триединого. Но если исходить из репрессивных отношений, существовавших в России, напрашивается ассоциация с вездесущим контролем, и западному зрителю приходится подумать о „большом брате“ Оруэлла. Пригов часто рисует глаз с красными слезами, так что он превращается в знак боли и печали»[582].
Илл. 9.
Этому слою значений глаза у Пригова соответствует выбор художником именно левого глаза, который по традиции является воплощением пассивности и прошлого[583]. В нашем случае приходит на ум испытанное или причиненное страдание, которым так полна и русская, и особенно советская история. Примечательны в этом смысле интерьеры с каплями и потоками крови из цикла «Рисунки на репродукциях», созданные в 1994 г. (Илл. 9): в углу дворцовых интерьеров, по всей вероятности, отреставрированных тогда интерьеров Большого Кремлевского дворца, с псевдобарочной мебелью и с роскошными, позолоченными сводами, под карнизом или в глубине анфилад присутствует глаз с кровавой слезой. Недобрый его смысл еще усиливается окружающим его облаком из черных штрихов и помещенной над ним, как знак кармы, красной точкой[584]. Если в этих цветных листах просвечивает кровавая история Российской империи, то в черно-белых листах — как, например, «Закат», в котором черное облако с красной точкой поднимается над видом Красной площади с высотным зданием на горизонте, — дана пессимистическая оценка советской истории. То же самое можно сказать и о серии «Сталин-кошмар», тематизирующей длинную тень сталинской эпохи[585]. Дело не в том, что художник использовал страницы газеты «Правда» 1980-х гг., напечатанных спустя 30 лет после конца сталинского террора. Введением божьего глаза он удлинил последствия сталинизма как бы в бесконечность. В этом смысле Пригов другими средствами совершил такое же святотатство, как Малевич почти век тому назад, но с очевидной политической направленностью, как это полагается концептуалисту.
Илл. 10.
Пригов прекрасно разбирался в истории, что не мешало ему остро воспринимать и настоящее, сущее. Но на какие бы конкретные исторические моменты или социокультурные явления он ни реагировал, делал он это преимущественно из эсхатологической перспективы, столь характерной для русской культурной традиции с конца XIX в. Он ее ощущал, в частности, и в русской пейзажной живописи (Илл. 10), включив в известные пейзажи Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Архипа Куинджи и Казимира Малевича божий глаз[586]. Таким образом он определил и естественное, и культурное пространства России как сферы, находящиеся под воздействием знака божей воли. И именно на то далекое время, когда совершится божья воля, намекает приговский глаз независимо от ситуации и места его появления.
В этом истолковании мотива глаза Пригов существенно отличается от немецкого художника. Для Клауса человеческое бытие представлялось, как мы видели, открытым процессом, в котором появляются все новые, неожиданные точки зрения, возможности и перспективы, и светлые и мрачные. Поэтому на его листах такое количество разнообразных глаз. Они так же, как и бесконечные ленты трудно читаемых мельчайших букв и слов, свидетельствуют о постоянных изменениях, которые отдельный, могущий рассчитывать только на себя человек — протагонист западной цивилизации нового времени — старается постигнуть.
Пригов был не менее чувствительным к явлениям жизни; может быть, он даже больше интересовался конкретными явлениями и артефактами прошлого и настоящего и их комментировал. Примером этого является и знаменитая серия рисунков «Бестиариум», над которой он работал начиная с 1970-х гг. На фоне этих своеобразных портретов знаменитых людей прошлого и современников, в которых портретируемые личности имеют одновременно и человеческие и животные черты, а также и мужские и женские половые органы, непременно как бы дежурит божий глаз. Для Пригова, вышедшего из православной традиции, масштабом оценки служило абсолютное, представленное в виде божьего глаза. Часто этот глаз и исходящий от него взгляд в работах Пригова оказываются роковыми — в смысле беспощадными. На человеческом лице третий глаз не только является таинственным знаком, а фатальным образом прямо-таки врезается в череп и деформирует его, как можно увидеть на обработанных фотопортретах из серии «Третий глаз» 1997 г.[587] Именно мотив глаза был для Пригова действенным универсальным и одновременно очень русским средством, позволяющим ему исполнить миссию концептуализма в смысле создания искусства соотношений. От утопии он был далек.
ПЕРЕВОДЫ
Алессандро Ниеро ПЕРЕВОДИТЬ Пригова(-поэта), ПЕРЕВЕДЕННЫЙ Пригов(-поэт)
1
Данных для того, чтобы говорить о представленности в Италии такого не слишком доступного разностороннего деятеля культуры, как Дмитрий Александрович Пригов, — сравнительно много. Главное, что по их разнообразию можно составить представление о нем почти во всех аспектах его художественной деятельности: как о прозаике (переведены один роман и четыре рассказа[588]), критике (переведены две статьи[589]), поэте (по журналам и антологиям разбросано примерно восемьдесят стихотворений, некоторые из которых переведены два раза[590]), художнике[591] (вышло два каталога его выставок[592]). Кроме того, важнейшая выставка Пригова состоялась совсем недавно именно в Италии[593].
Я отдаю себе отчет в том, что Пригова «разделить на части» невозможно. Он един, и, особенно когда речь идет о чтении его стихов, читаемый текст трудно отделить от того, как он исполнялся таким блестящим артистом, каким являлся Пригов. Несмотря на это, книга, которая вышла в прошлом году[594], — книга стихов; по крайней мере, таковой она выглядит в глазах итальянского читателя и так им воспринимается. Правда, на обложке (по моей настоятельной просьбе) напечатано слово «тексты» — Trentatré testi (Тридцать три текста)[595], и поэтому название книги значительно депоэтизируется или, по крайней мере, становится более нейтральным, чем традиционные названия типа Poesie или Liriche (Стихотворения). Желательно, чтобы создавалась аллюзия на перечень, на ряд примеров (каковым данная книга на самом деле и является).
В этой работе я буду говорить о Пригове как поэте[596]; точнее — о том, как я считал уместным обращаться с его стихотворениями при переводе их на итальянский. Я понимаю, что теперь, т. е. post factum, мои соображения могут звучать как благие намерения переводчика или как объяснение с оттенком оправдания, но в некотором смысле сам Пригов подтолкнул меня к тому, чтобы разъяснить — сначала самому себе, а потом и другим, — как я понимал работу над его стихами. Мне даже думается, что возможна параллель между манерой Пригова писать и работой переводчика: у Пригова — скрытая режиссура, некий умозрительный подход к письму, разочарование по отношению к стихотворному писанию, демонстративный контроль; у переводчика — необходимость разобрать стихотворение и собрать его на другом языке. Оба, если можно так выразиться, работают в пространстве «трезвости», вдохновение (в романтическом смысле этого слова) отходит на задний план. Оно не исчезает, конечно, но как бы искусственно спровоцировано, деланно, сознательно порождено.
Вопроса о том, возможен ли перевод поэзии, я ни в коей мере не буду касаться (даже если он невозможен, для меня это — не конец дела, а как раз наоборот — начало, отправной пункт). Меня интересует то, что входит, конечно, в сферу переводимости Пригова, а также и выходит за ее рамки, а именно — как Пригов должен преподноситься по-итальянски; т. е. мне важно сформулировать представление об «итальянском Пригове», которое у меня постепенно создавалось в течение времени и которое я намерен был передать читателю. Из чего складывалось это представление?
2
Я исходил из, наверное, очевидного для русского переводчика факта: Пригова надо переводить стихами, а не верлибром; точнее, его не надо переводить тем, что у нас в Италии считается верлибром, а в России — ритмизованной прозой или, хуже, подстрочником[597]. Для того чтобы это стремление приблизилось как можно больше к желаемому результату (а стремление к результату для меня уже и является частично результатом), я заставил читателя обратить внимание на следующие показатели стихов: метр и рифмы. Что касается первого, я воспользовался размерами, вписывающимися в итальянскую классическую традицию, в основном settenario («семисложником») и endecasillabo («одиннадцатисложником»). Вторые чаще всего у меня были неточные, иначе Пригов мог бы стать слишком похожим на поэта XIX в. (хотя за последние десятилетия, после шестидесятилетнего доминирования свободного стиха, в итальянской поэзии наблюдается возвращение к традиционным формам): elevate: rampollato; svetta: invecchia; alimenti: premurosamente; brutta: Russia; quatto: scellerato; vicini: vicino; tapina: divino; femmina: termine.
Для усиления подобного впечатления старомодности я работал также над лексикой, включая: устаревшие слова (laverommi, acché, inquantoché, pel, rampollato, tapina, possanza, gemebonda, pugnare, rinomanza, niuno); заглавные буквы в начале каждой строки (крайне редкие в современной итальянской поэзии); нелепые (на сегодняшний день) усечения: spiattelleran, cuor, nazion, compir, fior, primaveril (почти рифмуется со словом Il’íč); мало употребляемые сегодня инверсии (‘dello spirito io mostri il parossismo’).
Все это создавало для меня некий фон, на котором можно было действовать так, чтобы стихи звучали мнимо лирически, мнимо серьезно, мнимо приподнято. Надо было предупредить читателя, что перед ним не стилизация поэта XIX века, а поэт ему современный, т. е. пишущий на современном итальянском языке. Для достижения этой цели я включил в переводы такие словечки, которые не позволяют воспринимать текст как абсолютно серьезный. Таким образом, рядом со словами с оттенком устарелости или старомодной поэтичности в переводах сосуществуют, создавая эффект некоего косноязычия: разговорные и просторечные формы — c’hai c’avrà, ’sto (в смысле questо), fare (в значении dire), gli в смысле [a] loro, smammo; безвкусицы (attimino); полудетские, полурекламные прилагательные (tenerone); орфоэпические ошибки, намекающие на говор центрально-южной Италии (internazzionale, ammericano — все итальянцы, однако, легко догадываются о значении этих слов); итальянизированные формы, еще не привившиеся в нашем языке (sciampo); полудиалектные существительные (pulotto — своего рода эквивалент «милицанера»); неприличные слова (cazzo, eccheccazzo); синтаксические обороты, нарушающие то, чему испокон веков нас учили в школе, т. е. пресловутую variatio (‘non fai in tempo afare’, ‘come fai a farla’); макароническая латынь (ars longa politiottum brevis); банальные или просто некрасивые рифмы: austeramente: probabilmente, perdonerà: convocherà, lavare: lavare[598].
Кроме того, иногда стих у меня был специально необработанным, нарочито неотесанным, грубо прозаичным. Я очень надеялся на контраст между приподнятостью форм и прозаичностью тем или между приподнятостью тем и прозаичностью форм и на немного неуклюжую стилистическую смесь, при помощи которой эти темы доводятся до читателя.
Иными словами, мне хотелось бы, чтобы у читателя создалось впечатление, будто бы перед ним поэт, прекрасно знающий, как делать стихи, но одновременно играющий роль того, кто не до конца владеет стихотворной техникой и невольно сочиняет стихи с примесью графоманства. Хотелось бы, чтобы такой поэт то и дело даже слишком входил в свою роль, очень верил в нее. Хотелось бы, чтобы маска этого поэта, «несостоявшегося» или претендующего на то, чтобы его за поэта и принимали, срослась с лицом. Хотелось бы также, чтобы читатель находился в некоем недоумении, колебался на зыбкой черте, которая отделяет стихи от стишков, поэзию от версификаторства, естественность вдохновения от неестественности искусства. Короче, условность в стихах должна не бросаться в глаза, а как бы проникать незаметно в ухо и сознание читателя (может, я только мечтал о существовании такого читателя; может, этот читатель — я).
В силу вышесказанного легко догадаться, что в некоторых местах я слишком свободно обращался с оригиналом, двигаясь в сторону вольностей, которыми кишит любой — по Эткинду — Traduction-Recréation (перевод-переделка)[599].
3
Книга «Trentatré testi» вышла почти одновременно с открытием выставки «Дмитрий Пригов: Dmitri Prigov». Она сочеталась с выставкой, а может, и воспринималась на фоне выставки, являлась неким ее продолжением. С каталогом выставки книга перекликается и своим оформлением: каталог имеет самиздатский вид, у книги на обложке изображены самиздатские книги Пригова. Кроме того, в книгу вошли репродукции четырех произведений Пригова: «Стакан» (1978–1979); «Pushkin» («Пушкин», 1995–1997, проект для инсталляции: огражденная заборчиком скамейка, на которой изображено слово «Пушкин»); «Бржнв» («Брежнев», конец 70-х, один из всем известных приговских «монстров»); «God» («Бог», 2006, проект для инсталляции: слово «God», написанное белым на фоне черного пятна на стене, внизу столик, на котором бокал с красной жидкостью). Репродукции помещены не просто для украшения, они так или иначе тематически связаны со стихотворениями, вошедшими в сборник, хотя, разумеется, они ничего не иллюстрируют и не объясняют в прямом смысле. Расположены они ритмически: иллюстрация — 11 текстов — иллюстрация — 11 текстов — иллюстрация — 11 текстов — иллюстрация.
Название книги продумано: у русских оно, возможно, ассоциируется с азбукой (а может, и с Азбуками Пригова), у итальянцев должно вызывать в памяти популярную скороговорку («Trentatré trentini entrarono in Trento tutti e trentatré trotterellando…» [ «Вбегают в Тренто тридцать три трентинца, все тридцать три вбегают в него вприпрыжку»]) или то, что врач просит нас сказать при осмотре, прижав свое ухо к нашей спине. В общем-то ассоциации не литературные, а народные, повседневные и игровые.
В переводе, однако, необходимый для понимания Пригова «политический» и культурный контекст остается непередаваемым и непереводимым. Для разъяснения контекста понадобилось послесловие, название которого («D.A.P.: modalità d’uso» [ «Д.А.П.: правила применения / инструкция по употреблению»]) специально воспроизводит слова из инструкций, прилагаемых к лекарству. В моем понимании оно должно выполнять функцию маленького введения в поэтический мир Пригова. В послесловие я внес как можно больше того драгоценного «советского» контекста, который неизбежно остается вне стихов, выпадает из них в новом, итальянском контексте. В него, между прочим, вошли и примечания, касающиеся всех цитат, реминисценций и т. п., которые удалось найти. Желательно, чтобы стихи и послесловие стали одним целым, как бы двумя сторонами одной медали.
На книгу уже появилось несколько отзывов, и в печатном виде, и в виде электронных писем или в устной форме. Их авторов можно разделить на тех, кто знает русский, и тех, кто русского не знает.
Отзывы знающих русский ценны потому, что авторы судят о переводах, сравнивая их с оригиналом. Большинство рецензентов Пригова вполне принимает или нормально относится к нему[600], но один его не принимает совсем и об этом заявляет во всеуслышание[601].
Отзывы тех, кто не знает русского языка, для меня в некотором смысле ценнее, по понятной причине: мир Пригова доходит до них только через мой перевод. Я позволю себе привести цитату из одного из них, Роберто Галаверни, итальянского литературоведа, специалиста по современной итальянской поэзии:
«Да, твой Пригов мне понравился, такой бесцеремонный, все развенчивающий и все же — не скажу, нацеленный на высокое, но интенсивный. Он хулиганит, не признавая ничего святого, одновременно он устремлен ввысь как прирожденный певец высокого и абсолютного, для которого, однако, это невозможный путь в поэзии (неважно, что тому виной: время или он сам, или жизнь у нас такая). А раз так, то он залетает высоко (позволяет себе залететь) только затем, чтобы тут же спикировать и кому-то врезать, первым делом себе (самопревозношение вместе с самоиронией), и тут идут в ход сарказм, смех, концептуалистские игры, и все это, особенно в первых текстах[602], в рамках быта: мытье посуды, магазин („быт“ рискованное слово, потому что Пригов совсем не минималист, у него есть пафос, в том числе интеллектуальный, по отношению к быту)»[603].
Утешительно то, что все откликнулись положительно на изобретательность моего перевода и никто (пока еще) меня не упрекнул за использование рифм и т. д., сказав, что это неуместно или невозможно. Может быть, для русского читателя рифма — это само собой разумеющаяся вещь, но в Италии это не так. Если обратиться к другим переводам Пригова, можно заметить, что все они сделаны верлибром[604].
4
Имея дело с Приговым, не только задумываешься над поэзией вообще, но также и над итальянской поэтической традицией XX в. Невольно начинаешь рыться в памяти в поисках чего-либо подобного, своего рода аналога Пригову. Ведь переводчик не работает в вакууме, на него давят его предпочтения (а если он поэт — его собственная поэтика). Кроме того, его как магнит притягивают стилистические особенности поэтов недавнего прошлого.
В связи с этим особенно интересна статья М. Л. Гаспарова «Стилистическая перспектива в переводах художественной литературы», где он замечает, что упомянутое давление может обратиться в нечто положительное и даже в некоторой степени удобное:
«[Переводчик] должен выбрать из огромного запаса реально существующих стилей русской (в моей ситуации — итальянской. — А.Н.) литературы тот, который, по его ощущению, лучше всего подходит для переводимого произведения, и по нему стилизовать свой перевод, заранее представляя тем самым, какие ассоциации он вызовет у читателя. <…> Стилизация по романтическим предрассудкам еще считается у нас чем-то предосудительным, — так сказать, уклонением от нормального самовыражения. Но к переводчику это относиться не может; переводчик вообще не имеет права на самовыражение, права быть самим собой: если он на таком праве настаивает, то у него могут получиться хорошие стихи, но не хорошие переводы. Более того, переводчик обязан быть стилизатором превыше всего — т. е. выбрать свои художественные средства обдуманно, там, где оригинальный писатель выбирает их стихийно»[605].
Думается, что при переводе Пригова, скорее всего, важен не столько идиостиль того или иного итальянского автора, сколько его отношение к поэзии вообще. На этом же уровне нужен и аналог.
Как ни странно, найти подобный аналог относительно легче, если речь идет о Рубинштейне. У поэта Ламберто Пиньотти (1926), например, есть «стихи», которые состоят из перечня предложений, взятых из повседневного языка и восходящих к более или менее узнаваемым жизненным контекстам (ситуациям)[606]. Правда, нет специфики Рубинштейна, т. е. карточек и картотек, но все равно нечто общее между этими двумя авторами найти можно.
С Приговым дело обстоит по-другому. Прямой аналог Пригову в Италии найти гораздо труднее, но если бы он жил в Италии и писал по-итальянски, он вписался бы — хотя с большими оговорками, о которых ниже, — в рамки так называемого «неоавангарда» 60-х гг. и «Группы 63», вокруг которой собирались главные представители этого литературного направления: Элио Пальярани, Альфредо Джулиани, Эдоардо Сангвинети, Антонио Порта, Нанни Балестрини.
Я здесь хочу только намекнуть на возможность провести параллель между целью, к которой стремился итальянский неоавангард, и целью, к которой стремился концептуализм (даже при всех разительных различиях между итальянским и советским контекстами). С одной стороны, это очень интересная тема, с другой стороны, она требует дальнейшего изучения, поэтому я тут ограничусь одной цитатой, в которой, в общих чертах, излагается суть отношения неоавангардистов к литературному миру:
«Им было важно покончить с социальной ангажированностью в текстах и с неореализмом <…>, они хотели экспериментировать с языком, смести традиционные преграды, естественные условности общения, уйти от надоевшего литературного языка и заезженной бытовой речи, от реализма и герметизма. Они искали новые подходы к смыслу и к формам отношения литературы с читателем, вне системы потребления в культуре. Ради этого они стремились усложнить язык, разложить на составные части повествование, затемнить и зашифровать содержание <…>, они отказались от „высоких форм“, от сентиментальности и пафоса в пользу сниженности, деформации, пародии, они доходили до отрицания литературы как ценности и как реального опыта»[607].
К этому добавлю небезынтересную, может быть, информацию о том, каково было отношение советского литературного истеблишмента к подобным экспериментам в Италии, хотя легко догадаться, что оно было весьма отрицательным. Тексты «неоавангардистов», например, приведены в разгромных статьях Г. С. Брейтбурда, известного советского итальяниста. По мнению Брейтбурда, «художественная продукция [авангарда] далеко не всегда рассчитана на восприятие ее читающим человеком»[608]. Его особенно раздражает то, что неоавангардисты «отрицают роль литературы как формы человеческого общения»[609] и утверждают, что «поэзия должна отдаться языку обнаженной, без идеологических одежд»[610]. Приведу еще слова Брейтбурда:
«Литература, замкнутая в пределах лингвистического эксперимента, в пределах опытов над языком, литература, лежащая вне мировоззрения, „антиидеологическая“ по своей сущности, естественно, думает о читателе в самую последнюю очередь»[611].
Тон ясен. Продолжать, думаю, излишне[612].
5
Перевод Пригова заставил меня задуматься над тремя дополнительными моментами. Во-первых, над трудностями, связанными с переводом; во-вторых, над тем, что понятие перевода иногда расширяется почти до невозможности; в-третьих, над тем, что есть риск выйти за пределы перевода.
1. Может быть, самое непреодолимое препятствие, с которым я столкнулся, переводя Пригова, касается другой стороны медали его (псевдо)доступности, а именно его «(псевдо)народности». Как-никак за спиной у Пригова — целая традиция народной поэзии, уже вошедшая в сокровищницу русской литературы с большой буквы. Эта традиция создает некий фон, который можно пародировать, на который можно намекать и опираться.
В итальянской традиции, наоборот, до сих пор наблюдаются слабое присутствие «народного начала» и очень ограниченное обращение к нему. Эта сторона итальянской поэзии особенно заметна, когда имеешь дело с поэтическими традициями, где такая «народность» развита. Разница традиций в высшей степени ощущается при переводе. Об этом чрезвычайно точно пишет Пьер Винченцо Менгальдо в одной статье, где старается выявить закономерности работы итальянских переводчиков на протяжении XX в. Слова выдающегося итальяниста о том, что, как правило, как бы бессознательно устраняется итальянскими переводчиками, до сих пор актуальны. Их работы характеризуются
«устранением или приглушением параллелизмов, особенно если они настойчиво повторяются, сближаясь с припевом, с частушкой, и поэтому воспринимаются как чересчур песенные, „народные“: в этом, как in vitro, отражается разрыв между „высокой“ и „народной“ поэзией, особенно ощутимый в Италии <…>»[613].
Таким образом, мнимая народность стихов Пригова все равно по-итальянски будет звучать более литературно, чем в оригинале, даже при любом снижении регистра и лексическом разнообразии. Я бы сказал, что создание «итальянского Пригова» начинается как раз с работы над этим моментом, т. е. воспроизведением на другой культурной почве «сложной банальности»[614] и «трудной простоты» его стихотворений. В этом заключается то новое, что Пригов может ввести в современную итальянскую поэзию.
2. Я позволю себе упомянуть свою статью, в которой я попытался перевести два стихотворения Пригова — хрестоматийные «Когда здесь на посту стоит милицанер…» и «Второе банальное рассуждение на тему: быть знаменитым некрасиво…» — и сопроводил работу над переводом автокомментарием. Иными словами, я анализировал разные этапы, которые я прошел и на которых задерживался во время перевода с целью достижения достойного результата (это было как бы своего рода сеансом у психоаналитика, но с одной оговоркой: я был одновременно и пациентом, и психоаналитиком). Оба вышеупомянутых стихотворения я перевел несколько раз, переходя от дословного перевода к переводу, я бы сказал, в русском смысле этого слова, т. е. к тексту, где сохранены размер и рифма.
Третий итальянский вариант «Второго банального рассуждения на тему: быть знаменитым некрасиво…» представлял собой эксперимент. На самом деле это был не столько перевод, сколько попытка воспроизвести на итальянском материале механизм создания оригинала, который, как известно, строится на обыгрывании двух цитат: первой — из Пастернака (incipit стихотворения «Быть знаменитым некрасиво…»), второй — из романа «Идиот» Достоевского («красота спасет мир»). Я их заменил на всем известные в Италии полстиха, взятые из начала стихотворения «L’amica di nonna Speranza» («Подруга бабушки Сперанцы») итальянского поэта Гвидо Гоццано (1883–1916), — он звучит так: «le buone cose di pessimo gusto» [милые вещи дурного вкуса] («Loreto impagliato е il busto d’Alfieri, di Napoleone, / i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto!)» — и латинское устойчивое выражение «de gustibus non disputandum est» («о вкусах не спорят», «на вкус и цвет товарищей нет»), которое хорошо сочеталось со стихом Гоццано:
SECONDA RIFLESSIONE BANALE SUL TEMA: LE BUONE COSE DI PESSIMO GUSTO Le buone cose di pessimo gusto: saranno anche di pessimo gusto però son cose buone, e non avendole il desiderio d’averle non solo non è per niente pessimo bensì pure legittimo, non son le cose che in fondo sono pessime ma chi si picca di distinguere, — de gustibus non disputandum est — di conseguenza si ha un bel cattivo gusto a giudicare pessime cose di gusto anche pessimo buone[615].To, что получилось, — это нечто совершенно новое, целиком итальянское; в этом «словесном продукте» «приговское» сведено к изначальному импульсу и некой центонности. Такой переводческий опыт можно считать примером Traduction-Imitation [перевода-имитации][616].
3. Работа над Приговым сопровождается сильным искушением писать «под него» или под его воздействием (например, о том, что происходит в Италии в связи с настоящим экономическим кризисом и как наша политика встречает подобную ситуацию). Может быть, у меня получился грубо политический стишок. В заключение, хотя бы в качестве курьеза, мне хочется привести его:
* * *
Lassù quelli là improwisan la manovra Quiggiù noialtri a guardare come gonzi E ti vien proprio da sbottare: st… onzi! Che mi sfilate il grano ancora e ancora Che potevate dirlo prima che stavamo Sull’orlo di un vasone spuzzolente Che in crisi risultiamo globalmente — E ci vorrebbe il commissario Montalbano О Cattani… Manovra da piovra![617]Хольт Майер ПЕРЕВОДИМОСТЬ АЗБУК: «Янки гоу хоум» и концептуальный шибболет[618]
Но пасаран
Д. А. Пригов, 3-я АзбукаПеревод как о-писание
О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о О-о-о-о-о-о-о-о — ООНГлавным объектом исследования в этой статье являются «Азбуки» Дмитрия Александровича Пригова, а основной методологический интерес заключается в возможностях их переводимости. Слово «шибболет» фигурирует в этом контексте. Фраза «Янки гоу хоум» («Yahnki gou khoum») из третьей «Азбуки», в свою очередь, находится в центре внимания, так как симптоматически относится к проблеме переводимости «Азбук». Она и является шибболетом. Эта фраза симптоматическая, потому что не может быть переведена, а может быть лишь дословно отображена или воспроизведена в виде «о-писания». Под о-писанием подразумевается не только изображение или изложение сведений (descriptio, relatio), но и вид письма, который буквально обходит предмет, т. е. дает сведения о его (дискурсивном) окружении. «Перевод» в этом случае превращается в воспроизведение прагматики коммуникативной ситуации.
Такого рода воспроизведение характерно и для шибболета. Из-за того, что такая прагматическая маркировка касается сущности концепт-арта и международного концептуализма (как и искусства инсталляции), речь тут может идти и о «концептуальном шибболете».
Необходимость перевода как «о-писания» и, таким образом, как не-перевода не только вызвана практической работой над переводами «Азбук», но и затрагивает и коммуникативный уровень концептуализма — уровень дискурса (по которому концептуализм Пригова можно отнести к категории последовательного поставангарда). О-писание действует также и в сфере медиальности и метамедиальности «Азбук» в случае их перевода на иностранный язык. Это немаловажно в случае тех «Азбук», которые автор называет[619] визуальными (например, 15, 18–19, 21–25). Но все «Азбуки» в определенной степени визуальные. Это касается не только их орфографического вида, но и культурно-медиального окружения. Здесь мы имеем дело с «описанием» в геометрическом, визуальном смысле — с совершением криволинейного движения[620].
И в переводе фраза «Янки гоу хоум» («Yahnki gou khoum») подлежит не столько переводу — тем более на английский, — сколько переписыванию как о-писанию.
Третья «Азбука»
Фраза «Янки гоу хоум» («Yahnki gou khoum») неоднократно встречается в третьей «Азбуке» (1983). После первых двух «Азбук» (1980), положивших начало непрерывному созданию азбук, началась комплексная работа над текстами схожего типа, выстроенными в алфавитном порядке, из-за чего задача их перевода значительно усложнилась.
Первая «Азбука» — пародия на политические буквари в стиле Маяковского и Маршака, вторая «Азбука» — своего рода «военный алфавит». Начиная с третьей «Азбуки» Пригов работает с последовательно выстроенными буквами, но не с их положением в языковом коде, а с буквами как некоторым <обратным индексом> (практик) официальной советской филологии[621]. Таким образом, в третьей «Азбуке» происходит игра между собственно дискурсивным уровнем и мета-дискурсивными практиками. Момент культурно-прагматического позиционирования усиливается в последующих «Азбуках», начиная с четвертой, где азбуки связаны с литературой и филологией как концептуализмом. Позже, в 7-й и 8-й «Азбуках», при работе с первой строкой из «Евгения Онегина» (в 7-й — «по методу Пригова — Монастырского») в качестве дискурсивного окружения изображается русско-советская филология в «алфавитном порядке».
В третьей «Азбуке» каждый раздел начинается с грандиозного повтора определенной буквы. Этот повтор колеблется между сильным подчеркиванием и беспомощным заиканием. Такое свойство, ставшее неотъемлемой частью всех следующих азбук, делает невозможным их перевод близко к тексту. Именно первая серия «Азбук» (с третьей по восьмую, 1983–1984), которая заканчивается второй онегинской «Азбукой» и образует своего рода концептуалистский аналог к комментарию Лотмана о романе в стихах «Евгений Онегин» (1983), порождает автофилологическую тенденцию, проникающую в большинство последующих азбук. При этом повтор соответствующей буквы с подчеркиванием и заиканием в третьей «Азбуке» — это идеальное вступление: изображенный алфавит балансирует между абсолютным авторитетом и полным бессилием и безвластием.
«Субъект азбуки» находится точно на границе между «преступником» и «потерпевшим» — между тем, кто при помощи материала, обыгрываемого в «Азбуках», — использует советский кодекс поведения, и тем, кому вредят принуждения советской политической филологии, делающей из него заикающегося дебила. Здесь мы можем наблюдать яркий пример дестабилизации посредством буквального перевыполнения плана крайнего уполномочивания Азбуки. Теперь подробнее рассмотрим проблематичность перевода в подобных случаях.
Образование «Азбук»
Когда мы с Сабиной Хэнсген, Бригитте Обермайр и Георгом Витте планировали конференцию с участием Дмитрия Александровича, которая должна была состояться в ноябре 2007 г.[622], у нас возникла идея перевода всех азбук либо на английский, либо на немецкий язык. В случае перевода на немецкий мы планировали дополнить те азбуки, которые не перевели Хэнсген и Витте в 80-е и 90-е гг.[623]
Я взялся за перевод некоторых азбук на английский язык и провел несколько разговоров с Дмитрием Александровичем по этому поводу. Переводы второй и третьей «Азбук», являющиеся результатом этих разговоров и вообще этой переводческой деятельности, находятся в приложении к статье. При переводе подлинник был частично воспроизведен в чужом алфавите. После смерти Дмитрия Александровича вся ситуация изменилась. У меня не только возникла идея перевести все азбуки, но и встал вопрос об их переводимости. И его решение зависит от того, считаем ли мы азбуки читабельными. Читабельность, или удобочитаемость, азбук сложна и парадоксальна. Переводимость зависит частично от читабельности, но также и от самого простого факта — от того, что азбуки имитируют обучение. Они предполагают концептуалистское участие читателя в художественном процессе и в то же время могут быть рассмотрены как пародия на образцовое русско-советское образование. Всю эту структуру нужно обязательно воспроизвести в переводе. Отчасти это находится в русле всеобщей концептуалистской инсценировки восприятия искусства.
Другая особенность — это очень специфичная работа с азбукой, каким-то образом повторяющая русско-советское образование. Точнее, эта работа перевыполняет образовательный план. Третья особенность объединяет первые две: это называние тех имен, которые таким образом перевыполняют план. В первую очередь перед нами возникает имя самого Пригова. С одной стороны, переводить имена не обязательно; с другой стороны, этими именами воспроизводится весь советский концептуалистский контекст. Имя = след.
Т-Т-Третья азбука
Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т Т-т-т-т-т-т-т-т-т — то-то-ТоварищВ четвертой «Азбуке» буквы исчезают, а на их месте появляются имена (фамилия «Пригов» всплывает 19 раз в одном ряду, в целом же в тексте азбуки это имя встречается 297 раз; нельзя не отметить, что в ней можно повстречать и фамилии Рубинштейна, Некрасова, Сорокина, Кабакова и, конечно же, великого концептуалиста Пушкина). При переводе всех «Азбук» надо обязательно перевести и эту, но как?
Во всяком случае, материал нужно воспроизвести как можно ближе к оригиналу. В то же время надо иметь в виду, что возникает эквивалентность между именами и буквами.
Для воспроизведения материала существуют три возможности: кириллицей, латиницей или же в смешанном виде, т. е. исчезающая азбука может быть отображена кириллицей, а имена — точнее, фамилии — латиницей. На это можно возразить, что это совсем не перевод. Но концептуалистский жест не поддается переводу просто с одного языка на другой. А может быть, он переводится именно за счет того, что не переводится.
Есть еще аргумент за не-перевод как перевод без скобок. Основной элемент чтения азбук — это повторное обучение самой азбуке, что можно сравнить с повторным обучением чтению главной героини пушкинской «Барышни-крестьянки».
Очевидно, что седьмую и восьмую «Азбуки» тоже можно перевести одним только не-переводом, т. е. воспроизведением русского языкового материала с примечаниями, которые объясняют семантический жест этих текстов. Без понимания этого жеста азбуки теряют не только значение, но и смысл. Повтор социальных, политических и образовательных практик является существенным элементом при чтении азбук или при восприятии их нечитабельности, неудобочитаемости. Это значит, что каждый читатель «Азбук» должен снова познакомиться с азбукой, т. е. поступить как пушкинская Лиза в «Барышне-крестьянке», которая снова учится читать.
Можно, конечно, представить себе и аналогичные образовательные процессы в других культурах, например в американской: хорошим примером могут послужить американские словарные статьи из «Art as Idea as Idea». Но по такой аналогии, на мой взгляд, здесь работать нельзя. Русскость обязательно должна остаться, ибо игра и работа с русскостью, с русской буквенностью (и кстати, с буквальностью) — это суть всех приговских «Азбук». Может быть, в таком случае они становятся непереводимыми. С другой стороны, воспроизведение материала с объяснениями и ссылками можно также посчитать за перевод. В принципе, сойдет и без объяснений, хотя бы для того, чтобы в книге, изданной в Америке или Англии, они воспринимались как часть американско- или англо-славянской филологии.
Как мы уже писали в статье, опубликованной в сборнике «Неканонический классик», перевод касается отнюдь не только языкового кода в конвенциональном смысле. «Азбуки» Пригова являются примерами поставангардной автофилологичности, т. е. они провоцируют и проводят на самих себе филологические операции. Как мы уже сказали, они, кроме того, повторяют филологические практики Советского Союза. Это обстоятельство делает Пригова особенным среди русских концептуалистов; оно и обуславливает (не)переводимость его текстов.
И Рубинштейн, и ранний Сорокин также проводят филологические операции. Роман «Роман» Сорокина очевидно автофилологичен, и это также обуславливает его перевод и переводимость. У Пригова уникальны консеквентность этой тенденции и количество классов текста, в которых эта филологическая работа проходит. Переводима ли эта работа? И да, и нет! Она переводима не столько в смысле транспозиции текста из одной грамматической системы в другую, сколько наподобие пространственного перемещения инсталляции Кабакова из одного места в другое; когда зритель в музейном или каком-либо другом пространстве смотрит на инсталляцию «Человек, который улетел в космос из своей квартиры», он не ожидает, чтобы кто-то это помещение «перевел» в какую-то другую квартиру в Сан-Франциско или в Филадельфии. Он также не ожидает, что кто-то переведет все газеты и плакаты на стенах (хотя это была бы полезная работа и интересная задача). Зритель должен принимать пространство так, как оно есть, и в нем жить. Так и с «Азбуками» Пригова — они являются таким же культурным (теперь и историческим, как у Кабакова) простором. Кто-то должен объяснить зрителю, в каком пространстве он находится, когда смотрит на «Азбуку».
Шибболет
Щ-щ-щ-щщщщ-щ-щщщщщщ-щ-щ-щ Щ-щ-щщ-щщщщщ-щ-щщщщ-щ-щ-щ — ЩаВ случае «Азбук» жить в пространстве — значит повторять усвоение букв этих азбук. Таким образом, эти буквы, слова и фразы, которые так или иначе из них формируются, работают как концептуалистский шибболет, как работа с элементами языка, которые маркируют того, кто с ними работает, как участника или неучастника определенной дискурсивной ситуации. А маркируется это участие, между прочим, в том числе и кириллицей и ее транскрипцией. Пример такой транскрипции вы видите в названии моей статьи («Yahnki Gou Khoum»). Эта транскрипция действует как подражание устному варианту лозунга, а именно как шибболет.
Подлинный шибболет маркирует принадлежность посредством правильности или неправильности его собственного произношения. В третьей «Азбуке» Пригова «шибболетами» являются уже процитированные фразы: «Янки гоу хоум», которая встречается трижды (под буквами «г», «х» и «я»), и «Но пасаран» (под буквой «н»). Оба лозунга имеют двоякое значение, выступая в виде и открытой политической программатики, и секретных знаков для идентификации посвященных (или для опознания и выделения непосвященных).
Оба эти значения встречаются в использовании Приговым фраз «Янки гоу хоум» и «Но пасаран»: основой игры здесь становится принадлежность к определенному «политическому» обществу, и эта принадлежность связана также с (постсталинско-советской) государственностью. Именно это свойство лозунга нужно воспроизвести в переводе.
Характерные черты шибболета в этих фразах можно распознать по отличительным признакам, маркирующим границу между принадлежностью и непринадлежностью. В случае Пригова орфография следует за произношением как отличительный признак. Письменность доминирует над устным словом.
Список, точнее, алфавит в «Азбуках» Пригова, как и в букварях или энциклопедиях, которые вводят в «национальную культуру», составляет «филологическое сообщество». Такое сообщество формулирует условия для этого составления или производит его постфактум. Таким образом, посредством знака (шибболета!) или серии знаков не только оформляется принадлежность к какому-то языковому обществу, но и выполняется как минимум косвенная адресация к учреждениям, которые упорядочивают подобную принадлежность. Если обратиться к следующему слою значений политической принадлежности («Янки гоу хоум!», «Но пасаран!»), то знаки-шибболеты этого слоя будут ассоциироваться с «политической грамматикой».
В обоих случаях появление шибболетов в кириллице, т. е. в виде азбучного алфавита (букваря, Большой советской энциклопедии), делает правописание соединительным звеном между слоями и переводит шибболет в письменный вид. Причем на перевод «Yankee go home» в «Yahnki Gou Khoum» также влияет и (неправильное, но русское и, таким образом, все-таки правильное) произношение этой фразы. Именно на это нужно обратить внимание при переводе.
Можно допустить и предположение, что шрифт как шибболет в азбуках Пригова соответствует дате как шибболету в дерридеанском анализе произведений Делана. Анализируя оба «стиха-шибболета» Поля Делана («Шибболет», «In Eins»), Деррида показывает, что саму дату — точнее, день года (в данном случае 13 февраля) — и называние этой даты можно сравнить с кодированием, похожим на шибболет: речь идет о воспоминании об этой дате, которое поддерживается определенным обществом и делает ее похожей на наречие.
Цитата по-немецки и по-русски
Эти первые строки стихотворения «In Eins» Деррида комментирует следующим образом:
«С самого названия и первых слов цифра, как и дата, оказывается включенной в стихотворение. Они предоставляют доступ к стихотворению, которым они являются, но доступ зашифрованный.
Эти первые строки зашифрованы и в другом смысле: они непереводимы более, чем остальные»[624].
Не языковые трудности, а дата как шибболет, как воспоминание, которое принадлежит определенному обществу и может быть извлечено этим обществом из стихотворения, делает строки Целана «непереводимыми».
Когда мы говорим о шибболете, т. е. о засекреченном или числовом шифре, мы говорим об уникальной власти, которая уникальным образом уплотняет дату. Это открывает доступ к памяти, к будущему даты, к ее собственному будущему, но также и к самому стиху. Шибболет — это шибболет, по праву находящийся в стихотворении, которое само для себя является шибболетом и произносит в какой-то миг свой собственный шибболет, который, таким образом, будут вспоминать другие.
И Пригов, и Целан используют слова «но пасаран». Деррида читает и «переводит» «но пасаран» Целана как «шибболет для республиканского народа» Испании во время гражданской войны 1930-х гг. Деррида пишет, что слова «но пасаран» написаны курсивом. Если Пригов пишет свой «но пасаран» кириллицей, а точнее, в качестве разработки кириллической буквы «Н», то его действия в каком-то смысле противоположны тому, что делает Целан, когда записывает «но пасаран» курсивом, маркируя, таким образом, эти слова как язык оригинала. Пригов русифицирует и советизирует «но пасаран», в то время как Целан при помощи курсива оставляет эту фразу эмфатически в оригинале. Пригов делает эти слова частью собственности русской культуры (так же как и те свыше 500 тонн золота, которыми испанские республиканцы заплатили за оружие Сталину). И если этим высказыванием, этим заикающимся высказыванием можно освободить мысли, то перед нами удивительное возвращение этих слов в Москву.
Но здесь инсценируется именно та правильность, которая лежит не столько в языковой, сколько в дискурсивной области. С точки зрения дискурса выражение «Yahnki Gou Khoum» надо произносить именно по-русски, но не на русском, который подражает американскому, т. е. делает именно то, что он требует: «The Yankee Goes Ноте».
Эта фраза особенно важна, ибо она приводится и цитируется трижды в трех разных инверсиях. Но таким же шибболетом является и другая фраза из третьей «Азбуки», «Но пасаран», — она не повторяется, но зато находится в середине азбуки. Семантически «но пасаран» — в каком-то смысле случай, аналогичный «Yahnki Gou Khoum»: и там, и здесь объект речи должен отойти, исключиться из сообщества, которое правильно владеет шибболетом. А эта фраза переводима? И да, и нет. В этом случае мы бы порекомендовали совершенный не-перевод, т. е. воспроизведение этой фразы кириллицей (как и в стихотворении «In Eins» Поля Целана, где эта же фраза пишется в подлиннике по-испански, и ее так и следует «переводить», т. е. не переводить, в переводах с немецкого, например, на русский).
Выводы: Пригов среди концептуалистов
Анализируя азбуки Пригова с точки зрения возможности их перевода с русского языка, мы не случайно обратились именно к элементам третьей «Азбуки». Специфичность переводимости азбук и других азбучных произведений — это часть языка и дискурса, в которых происходят филологические и автофилологические операции. Вместе с общими признаками это — буквальная произносимость концептуалистского шибболета.
Эти мысли можно закончить маленьким замечанием о возможных переводах картотек Рубинштейна. Такие строки, как «У первого вагона в семь» в «Появлении героя», как «Мама мыла раму» или как «К кому Николай обратился на ты и что из этого вышло» из картотеки «Вопросы литературы», также имеют сильный филологический и автофилологический подтекст.
Переводимость «Картотек» Рубинштейна также связана с переводом основного концептуального жеста в связи с повтором обучения языка и азбуки. По сравнению с «Азбуками» и читатель, и зритель, и слушатель «Картотек» по-иному входят в культуру. Это делает картотеки не более и не менее переводимыми, но перевод как не-перевод в этом случае оказывается менее необходимым. Ни азбучный порядок, ни материальность букв не принуждают нас к воспроизведению подлинника в устной версии или в письменном виде. Рубинштейн вообще не работает и не играет с тем, что у Пригова я называю «unreadability».
На примере фраз «Yahnki Gou Khoum» и «Но пасаран» мы познакомились с феноменом перевода как не-перевода, который является важной частью переводов как «Азбук» Пригова, так и других концептуалистских текстов. Мы это говорим не столько в качестве пособия по переводческой работе с Приговым, сколько в виде эпистемологических и аналитических размышлений о возможности перевода по принципу концептуалистского шибболета. «Yahnki Gou Khoum» не переводится, но в качестве не-перевода говорит нам, как нужно читать и — парадоксальным образом — как переводить азбуки.
Приложение
Azbuka 2
The science of conquest is a science. But also an art. In my line of work, I am quite far from all types of scientific phenomena and scientific communication, particularly as concerns such specific branches of science (I would even say: esoteric branches) as military science. Considering this, could there be any source of knowledge within my reach which might I draw on if I wanted to treat such a topic? When I, despite all this, treated the topic, I did so making use of testimony accessible to me and my understanding, i.e. of those predecessors preoccupied with poetry who had some experience in this matter (experience in this matter, but not only in this one). When I did this, I felt a surge of enthusiasm which differed in many ways from purely poetic enthusiasm. It gave testimony to the presence of a powerful and deep level of passion which, in tragic and great moments of human life, gives every mortal the possibility and the right to become a participant in military activities with full rights and powers, And I understood that I was dealing here with an artistic activity which I could take part in, not only potentially but also most manifestly, since I took part in the other kind, that is in artistic activity as a whole. And I not only understood this, but also felt it when the surge of poetic inspiration transported me directly, authentically and irreversibly onto the swift and magnificent waves of battles ecstasy.
This surge was so powerful and took hold of me so totally that, when it had subsided, I only then noticed serious violations of the clear and stringent structure of the Alphabet. Observing the demands of this structure was just as obligatory and unavoidable in the science of conquest as a science as it was obligatory and unavoidable in the science of conquest as an art. Nonetheless, I decided not to correct those significant deviations, so that the sincere enthusiasm I addressed above, valued in all forms of art, would not disappear under the influence of a coldly reasoning pen.
A
Artilleristy, Artillerists, Stalin issued commands!
Aviation is for us most precious use of our hands
Б/В
Budionnyi, Chapaev, Napoleon
Batalion armored, breaks lines one by one
B/V
Very high forces, wonderous dimensions of heaven’s warders
Vostorg! Enthusiasm! vivat! Gentlemen officers, give orders!
Г/G
Gentlemen officers, shoulders adorned with bars!
Gori, Greatly burn, burn bright, my stars!
Д/D
Do svidan’ia, farewell, home’s fields dearly costing!
Drang, gospoda, gentlemen, nach Osten!
E/Ye
Esli zavtra voina, if tomorrow will be war and marching and
Enemies do not surrender, do not cede the breadth of a hand.
Ж/Zh
Zhelezom, with iron we will teach them, and with fire make them understand:
Zheneva and Zurich, Vienna, Austria, Switzerland
З/Z
Zapad, west, east, eternally (starting now)
Znamia, our flag, gentlemen it is holy and how.
И/I
It’s a science, the art of victory
Instructive stuff, this history.
К
Kill! Thrust your sword! Give chase!
Ko mne, come to me grenadiers, all of them we’ll erase.
Л/L
Leib-gusary, husars, mounted infantry, helots,
Let them fly, warplanes with pilots.
M
Maneuvers of brilliance, excitement of masses
Met’, aim to center, you’ll strike eyes and glasses.
H/N
Na etom, on this the Rus’ stands and stood
Not one step back, you Russian hide not in the woods.
О
Oh, mass heroism all have noted!
Officers, gospoda, excitement to the heavens has floated.
П/Р
Pobeda! Victory! Let its thunder resound!
From all directions death and hell dreadfully pound.
P/R
Run and chase them down! Chop them!
Rally and hit them, press on and drown them!
C/S
Svistai, smack them and whistle! Sound trumpets, play the tune!
Sadi! Dash along, press on, catch them soon!
T
Trumpets! Let them resound while you cut! Play tunes! The enemy chop!
Tug and drag them! Press on! Smack them and don’t stop!
У/U
Under gravestones they go! Slug them! Beat!
Usbeks! Georgians! Tadzhiks!
Ф/F
Frenchman! China! Iran!
Explosions! Bombs! Tararam!
Claps of thunder! Clouds of smoke! Water! Heat!
Corpses! Trenches! Go on, perform the heroic feat!
Forward march! To the walls, to the towers!
To the flanks! To the embrasures!
Bording attack! For our beliefs and good offices!
Enthusiasm, gentlemen officers!
Move in by companies, by battalions!
One by one! By the millions!
By land! By sea! By dust!
Smash! Cut! Burn!
Э/Е
Ey, hey, to victory, to victory
Hey, stifle them, stifle them!
Ю/Yu
Yucatan! Zvartnots Tszura!
Yutk! Vztrutsber! Krtsvatkhok — hurra!
Я/Ya
Yanychary, Janissaries fled
Yadra, the cores, flew to the chase!
Azbuka 3
Letter * * * Translation Explanations A A-A-A-A-A-A-A-And fuck it lit. na khuj = on the penis (vulg.) Б/В B-B-B-B-B-B-B-B-B-Borodino! The place of a decisive battle in Napoleon’s Russian campaign B/V V–V-V–V-V–V-V–V-V–Vo pole — in the field stood a little birch! Г/G G-G-G-G-G-G-G-Gou khoum yahnki! Go home Yankee Д/D D-D-D-D-D-D-D-De-u-shka — girlie (coll.) E/Ye Ye-Ye-Ye-Ye-Ye-Ye-vgeni Onegin Ё/Yo Yo-Yo-Yo-Yo-Yo-Yo-Yo-Yoklmn «уо» plus the letters of the alphabet starting with «k» Ж/Zh Zh-Zh-Zh-Zh-Zh-Zh-Zh-opa — Ass (vulg.) З/Z Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Zambezi, Kongo, Niger, Nil Zambezi, Congo, Niger, Nile И/I I–I-I–I-I–I-I–I-Iklmn as in «уо» K K-K-K-K-K-K-ategorija — Category of quality Л/L L–L-L–L-L–L-L–L-L… Soul in pain starts with «d» («dusha» = soul) instead of «1» M M-M-M-M-M-M-M-M-M-Moo-Moo H/N N-N-N-N-N-N-N-Ho пасаран No pasaran О O-O-O-O-O-O-O-OON — UN United Nations П/P P-P-P-P-P-P-Pushkin P/R R-R-R-R-R-R-R-R-Rabinovich C/S S-S-S-S-S-S-Community T T-T-T-T-Tovarishch = comrade У/U U-U-U-U-U-U-U-U-Uchreditelnoye — Constituent Constituent Assembly of 1917 Ф/F F-F-F-F-F-F-F-F-Freundschaft Friendship (Germ.) X/Kh Kh-Kh-Kh-Kh-Kh-Kh-Khoum yahnki gou! Home Yankee go Ц/Ts Ts-Ts-Ts-Ts-Ts-Ts-Tsintsadze Georgian composer Ч/Ch Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Cha-Cha-Cha just the letter «ch» itself Ш/Sh Sh-Sh-Sh-Sh-Sh-Scha as in «ch» Щ/Shch Shch-Shch-Shch-Shch-Shch as in «ch» Ы/Y Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y as in «ch» Э/Е Еу-Еу-Еу-Еу-Еу-Еу-Еу-Еу as in «ch» Ю/Yu Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu as in «ch» Я/Ya Ya-Ya-Ya-Ya-Ya-Ya-Yahnki gou khoum! Yankee go homeПримечания
1
Дмитрий Александрович Пригов. Сборник предуведомлений к разнообразным вещам. М.: Ad Marginem, 1996. С. 236. Далее — СПКРВ.
(обратно)2
Пригов Д., Шаповал С. Портретная галерея Д.А.П. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 12. Далее — ПГ.
(обратно)3
Он не любил этот термин, хотя и использовал его с некоторым нежеланием. Главку о постмодернизме в разговорах с Шаповалом он озаглавил: «Постмодернизм! Хоть имя дико…»
(обратно)4
Lyotard J.-F. Postmodern Fables. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. P. 24.
(обратно)5
Дмитрий Александрович Пригов. Собрание стихов, т. 3. Wiener Slawistischer Almanach. 1999. Sond. 48. S. 155–156. Далее — ССЗ.
(обратно)6
Mendelssohn M. Jerusalem. Hanover: Brandeis University Press, 1983. P. 113.
(обратно)7
Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. М.: Искусство, 1968. Т. 1. С. 127.
(обратно)8
Austin J. L. The Meaning of a Word // Austin J. L. Philosophical Papers. Oxford: Oxford University Press, 1970. P. 60.
(обратно)9
Austin J. L. The Meaning of a Word. P. 61.
(обратно)10
Дионисий Ареопагит. О Божественных именах // Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006. С. 145.
(обратно)11
Von Balthasar H. U. Christian Meditation. San Francisco: Ignatus, 1989. P. 41.
(обратно)12
Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. С. 296–297.
(обратно)13
De Vries H. Minimal Theologies: Critiques of Secular Reason in Adorno and Levinas. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2005. P. 50.
(обратно)14
Дмитрий Александрович Пригов. Написанное с 1990 по 1994. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 170.
(обратно)15
Дмитрий Александрович Пригов. Собрание стихов, т. 4. Wiener Slawistischer Almanach. 2003. Sond. 58. S. 152. Далее — CC4.
(обратно)16
Bunym C. W. Metamorphosis and Identity. New York: Zone Books, 2001. P. 20.
(обратно)17
Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 424.
(обратно)18
Там же. С. 423.
(обратно)19
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. Т. 2: Философия природы. М.: Мысль, 1975. С. 51. § 257.
(обратно)20
Там же. С. 52.
(обратно)21
Хайдеггер М. Бытие и время. С. 434.
(обратно)22
Пригов Д. Пятьдесят капелек крови. М.: Текст, 1993. С. 7. Далее — ПКК.
(обратно)23
Granet M. La pensée chinoise. Paris: Albin Michel, 1968. P. 77.
(обратно)24
Jullien F. Du «temps». Paris: Grasset, 2001. P. 56.
(обратно)25
Роули Дж. Принципы китайской живописи. М.: Наука, 1989. С. 65.
(обратно)26
Mai mai Sze. The Way of Chinese Painting. New York: Vintage, 1959. P. 47.
(обратно)27
Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975. С. 350–351.
(обратно)28
Басё. Стихи / Пер. В. Марковой. М.: Художественная литература, 1985. С. 58.
(обратно)29
Там же. С. 37.
(обратно)30
Там же. С. 47.
(обратно)31
Там же. С. 56.
(обратно)32
Там же. С. 150.
(обратно)33
Там же. С. 156.
(обратно)34
Dumézil G. Archaic Roman Religion. Vol. 1. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996. R 179.
(обратно)35
Ouaknin М.-A. Zeugma. Paris: Seuil, 2008. P. 92.
(обратно)36
Этимологически зевгма означает «ярмо», «связь».
(обратно)37
Dumézil G. «…Le moyne noir en gris dedans Varennes». Paris, Gallimard, 1984. P. 124–126.
(обратно)38
Leoni E. Nostradamus and his Prophecies. New York: Bell Publishing, 1982. P. 174.
(обратно)39
Жан Сезнек описывал астрологическую ренессансную роспись в Ватикане, где Лебедь (Cygnus) летит между Рыбой и Скорпионом. По бокам изображены Марс и Юпитер (Seznec J. The Survival of the Pagan Gods. Princeton: Princeton University Press, 1972. P. 77).
(обратно)40
Удивительное использование этого латинизма можно наблюдать в катрене IV 90, первая строка которого звучит так: «Les deux copies aux murs ne pourront joindre» (Ibidem. P. 246). В прямом переводе это значит: «Две копии на стене не могут соединиться», что, по-видимому, должно значить «две армии не могут соединиться у стены». Но возможно, «стена» — mur — тут просто ошибка и речь в действительности идет о «море» (mer).
(обратно)41
Garin Е. Astrology in the Renaissance: The Zodiac of Life. London: Arkana, 1990. P. 15.
(обратно)42
Leoni E. Nostradamus and his Prophecies. P. 268.
(обратно)43
Illing R. The Art of Japanese Prints. New York: Gallery Books, 1980. P. 170.
(обратно)44
«Выйдя из Санта-Кроче, я испытывал сердцебиение, то, что в Берлине называют нервным приступом: жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть» (Стендаль. Собрание сочинений: В 15 т. М.: Правда, 1959. Т. 9. С. 239). Этот истерический приступ от созерцания искусства с легкой руки итальянского психиатра Грациеллы Магерини стал известен как «Синдром Стендаля», или «гиперкультуремия» (Hyperkulturemia).
(обратно)45
Там же. С. 239–240.
(обратно)46
Этой экстатике посвящена книга Джеймса Элкинса: Elkins J. Pictures and Tears: A History of People Who Cried in Front of Pictures. New York; London: Routledge, 2001.
(обратно)47
Русский перевод С. В. Шервинского не очень внятно передает существо этой метаморфозы: «Стыд потеряли они, и уже их чело не краснело: / Камнями стали потом, но не много притом изменились» (Публий Овидий Назон. Метаморфозы. М.: Эксмо-Пресс, 2000. С. 320).
(обратно)48
Там же. С. 323.
(обратно)49
Stoichita V. I. The Pygmalion Effect. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. P. 20.
(обратно)50
Camporesi P. Juice of Life: The Symbolic and Magic Significance of Blood. New York: Continuum, 1995. P. 77–100.
(обратно)51
См.: Ibidem. P. 37–39.
(обратно)52
Дмитрий Александрович Пригов. Живите в Москве: Рукопись на правах романа. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 176.
(обратно)53
Там же. С. 177.
(обратно)54
Barthes R. La preparation du roman I et Il. Paris: Seuil/Imec, 2003. P. 74.
(обратно)55
Дмитрий Александрович Пригов. Только моя Япония. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 170.
(обратно)56
Там же. С. 171.
(обратно)57
Там же. С. 172–173.
(обратно)58
Althusser L. Le courant souterain du materialisme de la rencontre // Althusser L. Ecrits philosophiques et politiques. T. 1. Paris: Stock/Imec, 1994. P. 542.
(обратно)59
Спиноза. Этика // Спиноза. Сочинения: В 2 т. СПб.: Наука, 1999. Т. 1. С. 317.
(обратно)60
Фердинан Алькье писал: «Он (Спиноза. — М.Я.), как позже Кант, применительно к пространству и времени противопоставляет общие понятия универсалиям, которые первые замещают в работе разума. Общие понятия действительно позволяют достичь универсального без того, чтобы прибегать к абстракции» (Alquié F. Le rationalisme de Spinoza. Paris: PUF, 1981. P. 195).
(обратно)61
Negri A. Time for Revolution. New York; London: Continuum, 2003. P. 156.
(обратно)62
Negri A. The Savage Anomaly: The Power of Spinoza’s Metaphysics and Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991. P. 107.
(обратно)63
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992. С. 429.
(обратно)64
Malabou С. The Future of Hegel: Plasticity, Temporality and Dialectics. London; New York: Routledge, 2005. P. 3.
(обратно)65
Ibidem. P. 12.
(обратно)66
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. С. 190.
(обратно)67
Дмитрий Александрович Пригов. Книга книг. М.: ZeбpaE — Эксмо, 2003. С. 160.
(обратно)68
Там же. С. 161.
(обратно)69
Рыклин М. «Проект длиной в жизнь»: Пригов в контексте Московского концептуализма // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007): Сборник статей и материалов / Под ред. Е. Добренко, И. Кукулина, М. Липовецкого, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 82.
(обратно)70
Дмитрий Александрович Пригов — Михаил Эпштейн. Попытка не быть идентифицированным // Неканонический классик. С. 63.
(обратно)71
Там же.
(обратно)72
Дмитрий Александрович Пригов. Книга книг. С. 214.
(обратно)73
Там же. С. 215.
(обратно)74
Там же. С. 222.
(обратно)75
Там же. С. 216.
(обратно)76
Я не хочу касаться здесь «метафизического» аспекта транзитности, несомненно связанного с тематикой смерти, столь существенной для всего творчества Пригова.
(обратно)77
Там же. С. 524.
(обратно)78
Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения: Философские фрагменты. М.; СПб.: Медиум — Ювента, 1997. С. 29–30.
(обратно)79
В той же книге говорится о первобытном шаманизме как о гибком пиетизме, отрицающем саму идею видимости как идентичности: «Ритуалы шамана были обращены к ветру, к дождю, к змее снаружи или к демону внутри больного, но не к веществам или экземплярам. Не один единственный и идентичный самому себе дух был тем духом, которым приводилась в действие магия; он менялся подобно тем культовым маскам, которым надлежало быть подобными множественным духам» (Там же. С. 23).
(обратно)80
Дмитрий Александрович Пригов. Облачко рая / Беседу ведет И. В. Манцов // Киноведческие записки. 1997. № 35. С. 61.
(обратно)81
де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 145.
(обратно)82
Там же. С. 144–145.
(обратно)83
Bréhier E. La Théorie des incorporels dans l’ancien stoïcisme. Paris: Vrin, 1970. P. 13.
(обратно)84
Делез Ж. Логика смысла; Фуко М. Theatrum philosophicum. М.; Екатеринбург: Раритет — Деловая книга, 1998. С. 45.
(обратно)85
Дмитрий Александрович Пригов — Михаил Эпштейн. Попытка не быть идентифицированным. С. 63.
(обратно)86
Дмитрий Александрович Пригов — Алексей Парщиков. «Мои рассуждения говорят о кризисе нынешнего состояния…»: (Беседа о «новой антропологии») // Неканонический классик. С. 16.
(обратно)87
Дмитрий Александрович Пригов. Книга книг. С. 440.
(обратно)88
Дмитрий Александрович Пригов. Только моя Япония. С. 315.
(обратно)89
Там же. С. 316.
(обратно)90
Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. Киев: Ника-Центр — Эльга, 2004. С. 40.
(обратно)91
Kittler F. Perspective and the Book // Grey Room. 2001. № 5. P. 38–53.
(обратно)92
Цит. по: Ouaknin М.-A. Le livre brûlé: Philosophie du Talmud. Paris: Lieu Commun, 1993. P. 121.
(обратно)93
Ibidem. P. 214. Идель, в основном анализируя каббалистическую традицию, приводит параллели и из других религий.
(обратно)94
См.: Idel М. Ascensions on High in Jewish Mysticism: Pillars, Lines, Ladders. Budapest; New York: Central European University Press, 2005.
(обратно)95
Дмитрий Александрович Пригов. Фантомы инсталляций // Архив Д. А. Пригова.
(обратно)96
Гуссерль Э. Начала геометрии / Введение Ж. Деррида. М.: Ad Marginem, 1996. С. 108–109.
(обратно)97
Benjamin W. On Language as Such and the Language of Man // Benjamin W. Selected Writings. Vol. 1: 1913–1926. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1996. P. 64.
(обратно)98
Дмитрий Александрович Пригов. Сборник предуведомлений к разнообразным вещам. М.: Ad Marginem, 1996. С. 236.
(обратно)99
Там же. С. 157.
(обратно)100
Архив Д. А. Пригова.
(обратно)101
Scholem G. The Name of God and the Linguistic Theory of Kabbala, part 2 // Diogenes. 1972. № 80. P. 170.
(обратно)102
Scholem G. The Name of God and the Linguistic Theory of Kabbala. P. 182.
(обратно)103
Ibidem. P. 168.
(обратно)104
Derrida J. Paper Machine. Stanford: Stanford University Press, 2005. P. 42.
(обратно)105
Ibidem. P. 44.
(обратно)106
Благодарим Н. Г. Бурову за предоставленную возможность работать в домашнем архиве Д. А. Пригова. Неопубликованные тексты Пригова — © Д. А. Пригов, наследники, 2010.
(обратно)107
Пивоваров В. Пригов: (Несистематические наброски к портрету) // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007): Сборник статей и материалов / Под ред. Е. Добренко, И. Кукулина, М. Липовецкого, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 700.
(обратно)108
Цит. по распечатке из домашнего архива Д. А. Пригова (далее — Д.А.). Без даты, хотя, судя по компьютерной печати, это явно 2000-е гг.
(обратно)109
Пригов Д. А. Манифесты: (1. Где наши руки, в которых находится наше будущее (1987); 2. Вторая сакро-секуляризация (1990); 3. Второй раз о том, как все-таки вернуться в литературу, оставаясь в ней, но выйдя из нее сухим! (1991); 4. Одна, словесная, сторона дела (1991); 5. Вышли мы все (поэма) (1987); 6. Нельзя не впасть в ересь (1990); 7. Что русскому здорово, то ему и смерть (1991); 8. Мы так близки, что слов не нужно (1993)) // Wiener Slawistischer Almanach. 1994. Bd. 34. S. 300. Далее ссылки на это издание даются в основном тексте в скобках после цитаты и обозначаются как «WSA».
(обратно)110
Из переписки Ры Никоновой и Д. А. Пригова // Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 271. Эти письма, написанные и отправленные в 1982–1983 гг., были впервые опубликованы в самиздатском журнале «Транспонанс» в Ейске (Краснодарский край), где тогда жили Никонова и ее муж и эстетический соратник, поэт и историк художественного авангарда Сергей Сигей.
(обратно)111
Пригов Д. А. Сборник предуведомлений к разнообразным вещам. М.: Ad Marginem, 1996.
(обратно)112
Из переписки Ры Никоновой и Д. А. Пригова. С. 270.
(обратно)113
См. об этом, в частности: Кузьмин Д. Постконцептуализм: (Как бы наброски к монографии) // Новое литературное обозрение. 2001. № 50; Кукулин И. Every trend makes a brand // Новое литературное обозрение. 2002. № 56.
(обратно)114
См. об этом: Рыклин М. «Проект длиною в жизнь»: Пригов в контексте московского концептуализма // Неканонический классик. С. 81–95.
(обратно)115
Д. А. Цит. по распечатке, не датировано (скорее всего, 2000-е гг.).
(обратно)116
Д. А. Цит. по распечатке, не датировано (2000-е гг.).
(обратно)117
Опубл. в кн.: Homo Sonorus: Международная антология сонорной поэзии / Сост. и общ. ред. Д. Булатова. Калининград: ГЦСИ, Калининградский филиал, 2001. С. 318–327. Цит. по машинописи (Д.А.).
(обратно)118
Дмитрий Александрович Пригов — Алена Яхонтова. Отходы деятельности центрального фантома // Неканонический классик. С. 74.
(обратно)119
Д. А. Цит. по машинописи.
(обратно)120
Д. А. Цит. по машинописи. Доклад Пригова на конференции «Тело и выражение» (Екатеринбург, 1999).
(обратно)121
Из переписки Ры Никоновой и Д. А. Пригова. С. 271.
(обратно)122
Цит. по машинописи. Фрагменты из этой статьи вошли в интервью Д.А. «Художественному журналу»: Пригов Д. А. Конец 90-х — конец четырех проектов // Художественный журнал. 1999. № 28–29. С. 23–26.
(обратно)123
См.: Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993.
(обратно)124
Пригов Д. А. Я работаю имиджами (1992) // Д. А. Цит. по машинописи.
(обратно)125
Термин «Gesamtkunstwerk», хотя бы и написанный русскими буквами, отсылает к теории искусства Рихарда Вагнера. Более подробно о работе Д. А. Пригова с эстетической традицией, восходящей к Вагнеру, см.: Кукулин И. Явление русского модерна современному литератору: четыре романа Д. А. Пригова // Неканонический классик. С. 566–611.
(обратно)126
Опубл. в сокращении в кн.: Поэтика исканий или поиск поэтики? Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа XX–XXI веков и современные литературные стратегии»: (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва, 16–19 мая 2003 г.). М.: ИРЯ РАН, 2004. Цит. по машинописи (Д.А.).
(обратно)127
Из переписки Ры Никоновой и Д. А. Пригова. С. 270.
(обратно)128
См. об этом: Деготь Е. Пригов и «мясо пространства» // Неканонический классик. С. 617–629.
(обратно)129
См.: Витте Г. «Чего бы я с чем сравнил»: Поэзия тотального обмена Д. А. Пригова // Неканонический классик. С. 96–105.
(обратно)130
Историзм Лотмана и Пригова сопоставила Ольга Чернорицкая в эссе «Бунт против Гегеля» (). Утверждение Виктора Куллэ о том, что идеи Пригова были якобы вторичны по отношению к теориям Лотмана, представляется нам неверным по существу и упрощающим взгляды обоих авторов (Куллэ В. Перформанс длиною в жизнь: Этика выживания, или Портрет художника в старости // Ex Libris НГ. 2001. № 41 (213). 1 ноября).
(обратно)131
Лотман Ю. М. О семиосфере // Ученые записки ТГУ Тарту, 1984. Вып. 641 (= Труды по знаковым системам. Вып. XVII).
(обратно)132
Лотман Ю. М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки / Сост. М. Ю. Лотман. СПб.: Искусство-СПБ, 2001. С. 252–253.
(обратно)133
Там же. С. 263.
(обратно)134
Там же. С. 254–255.
(обратно)135
Кузьмин М. Дмитрий Пригов: «Когда не пишется, то пишется еще больше» // Огоп. Гид. 2000. Ноябрь ().
(обратно)136
Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 253.
(обратно)137
Словарь терминов московской концептуальной школы. М.: Ad Marginem, 1999. С. 62–63.
(обратно)138
Опубл.: Искусство кино. 2000. № 6. Цит. по машинописи (Д.А.).
(обратно)139
Термин «прото-постмодернистский» впервые был использован Б. Гройсом в работе «Русский авангард по обе стороны „Черного квадрата“» (Вопросы философии. 1990. № 11). Но возможно, что он был придуман еще в домашних семинарах московских художников-нонконформистов конца 1970-х гг., в которых принимали участие и Пригов, и Гройс.
(обратно)140
Цит. по машинописи (Д.А.). Ориентировочно — конец 80-х — начало 90-х.
(обратно)141
Цит. по машинописи (Д.А.). Судя по отсылкам к гибели принцессы Дианы как к недавнему событию, текст написан во второй половине 1997-го или в 1998 г.
(обратно)142
Пригов Д. А. О Бестиарии // Пастор (Кельн). 1992.№ 1.С.25 (-moscow.org/files/pastor%201.pdf).
(обратно)143
Цит. по машинописи (Д.А.).
(обратно)144
См. об этом: Липовецкий М. Пригов и Батай: эстетика системной растраты // Неканонический классик. С. 328–348; Куюнжич Д. Пригов: Будущее русского языка / Пер. с англ. Г. Зелениной // Там же. С. 349–357.
(обратно)145
Цит. по машинописи (Д.А.).
(обратно)146
Там же.
(обратно)147
Там же.
(обратно)148
Очень показательна в этом отношении его беседа с Алексеем Парщиковым 1997 г.: Дмитрий Александрович Пригов — Алексей Парщиков. «Мои рассуждения говорят о кризисе нынешнего состояния…»: (Беседа о «новой антропологии») // Неканонический классик. С. 15–29.
(обратно)149
См. об этом: Сандлер С., Чепела К. Тело у Пригова / Авториз. пер. с англ. Е. Канищевой // Там же. С. 513–539.
(обратно)150
Опубликовано в журнале: Пастор (Кельн). 1994. № 4: Наше будущее. С. 38–40. Цит. по машинописи (Д.А.).
(обратно)151
Политические смыслы поэзии Пригова подробно анализировал Андрей Зорин. См., например: Зорин А. От Галича к Пригову // Россия / Russia. Вып. 1 (9): Семидесятые как предмет истории русской культуры. М.; Венеция: ОГИ, 1998. С. 153–166.
(обратно)152
Неканонический классик. С. 74–75.
(обратно)153
См.: Boltanski L., Thevenot L. De la justification: Les Économies de la grandeur. Paris: Gallimard, 1991 (англ. пер. — 2006); Тевено Л. Креативные конфигурации в гуманитарных науках и фигурации социальной общности / Пер. с фр. О. Ковеневой // Новое литературное обозрение. 2006. № 77. О концепции Болтански и Тевено см.: Волков В., Хархордин О. Теории практик. СПб.: Издательство Европейского университета, 2008. С. 224–242.
(обратно)154
См.: Блюмбаум А. [Рец. на кн.:] Ирина Балабанова: Говорит Дмитрий Александрович Пригов. М.: ОГИ, 2001 // Новая русская книга. 2001. № 3–4 (magazines.russ.ru/nrk/2001/3/blum.html).
(обратно)155
«<…> поскольку всех нас принципиально интересовало взаимоотношение слова и изображения, поведения и текста, у всех была общая проблематика» (Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007): Сборник статей и материалов / Под ред. Е. Добренко, И. Кукулина, М. Липовецкого, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 46).
(обратно)156
Ремизов А. Рисунки писателей // Волшебный мир Алексея Ремизова: Каталог выставки. СПб.: Хронограф, 1992. С. 43.
(обратно)157
Там же. С. 42.
(обратно)158
См.: Семьян Т. Ф. Визуальный облик прозаического текста. Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2006. Особенно — С. 162–163.
(обратно)159
На знаково-проявляющиеся аспекты проблемы, мне кажется, убедительно указал Ханс Майер, отметив, что трансмедиальность ДАПа сказывается в том, что «характерный для букв символический (т. е. условный) тип знака сочетается у него с индексальным, иконическим» (Неканонический классик. С. 632).
(обратно)160
Архив Л. Силард. Выразительным комментарием к этому листку из блокнота может служить аннотация, сделанная ДАПом 29 лет спустя к его выставке в рамках книжной ярмарки «Non/Fiction» в Центральном доме художника: «Всякое запечатление вербального текста на листе бумаги, выставленном в виде визуального объекта и назначенного быть визуальным объектом, таковым и является. В пределах современного изобразительного искусства, существующего на границе визуального, вербального и перформативного, всякий жест (как визуальный, так и вербальный) является жестом и точкой на пространстве большого проекта длиной в жизнь. Данная композиция составлена из простых листов печатной бумаги, на которых в разные годы на ходу, впопыхах, в поездах и в разного рода общественных местах я записывал свои стихи, которые и суть часть моего большого проекта под названием „Дмитрий Александрович Пригов“».
(обратно)161
Ср.: Силард Л. Блок, Ахматова и Пригов // Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2002.
(обратно)162
Дмитрий Александрович Пригов. Собрание стихов, т. 1. Wiener Slawistischer Almanach. 1996. Sond. 42. S. 119.
(обратно)163
Там же. S. 73.
(обратно)164
Дмитрий Александрович Пригов. Советские тексты, 1979–84. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1997. С. 108.
(обратно)165
Художник и его текст: Русский авангард: история, развитие, значение. К 80-летию Вяч. Вс. Иванова. М.: Наука, 2011. С. 275, 279. Особенно примечательно отмеченное Сегалом «удвоение голоса» протагониста стихотворения «Под гром войны тот гробный тать…», благодаря чему это «двуголосие» расширяет внутреннее пространство смысла. Нечто подобное, полагаю, было задумано и ДАПом для его последнего — не осуществленного — перформанса с вознесением на 22-й этаж МГУ, в ходе которого должен был состояться своего рода диалог возносимого на 22-й этаж ДАПа с параллельно звучащими записями его прежних выступлений.
(обратно)166
Дмитрий Александрович Пригов. Советские тексты. С. 17.
(обратно)167
Ср.: Monster Theory: Reading Culture. Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 1996.
(обратно)168
Ср., например, игровую обработку этой темы в «Объяснительном письме», предваряющем «Изгнание торжествующего зверя» Дж. Бруно (Самара: Агни, 1997. С. 20–21; имя переводчика не указано). См. также: Bruno G. De la causa, principio et uno // Bruno G. Dialoghi filosofici italiani. Milano: Mondadori, 2001. P. 213.
(обратно)169
Карсавин П. П. Джиордано Бруно. Берлин: Обелиск, 1923. С. 215–216. На потенциальную бесконечность этого ряда, в котором, согласно концепции Бруно, «долгим процессом, атом за атомом, образуются новые тела», обращает внимание и А. Н. Веселовский: Веселовский А. Н. Джордано Бруно // Собрание сочинений Александра Николаевича Веселовского. Серия II: Италия и Возрождение. Т. 2, вып. 1: 1871–1905. СПб.: Отделение русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1909. Т. 4. Вып. 1. С. 1–53.
(обратно)170
Di Pietrantonio G. Prigov. Lecco: Salea Arti Grafiche, 1997 (в этом каталоге страницы не проставлены). Каталог подарил мне ДАП, отметив, что пояснения Ди Пьетрантонио ему нравятся (это неудивительно, так как в ряде случаев в них ощущается не искажающий пересказ устных комментариев автора).
(обратно)171
Пригов Д. Мы о том, чего сказать нельзя // Biomediale: Современное общество и геномная культура. Калининград: Янтарный сказ, 2004. См.: .
(обратно)172
Брускин Г. Второе дружеское послание погибшему всерьез Дмитрию Александровичу Пригову от Брускина Григория Давидовича // Новое литературное обозрение. 2010. № 105. С. 247.
(обратно)173
См.: Alchimia. I testi della tradizione occidentale. Milano: Mondadori, 2006. P. 187, 681; Abraham L. A Dictionary of Alchemical Imagery. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 66–67. Стоит также припомнить идеи Парацельса, отразившиеся в таких работах, как «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха (1500–1510) и «Ворота рая» Уильяма Блейка (1793). И, кажется, не исключено, что приговская игра удвоением (утроением?) напоминает о себе яйцеобразной формой в руках монстра.
(обратно)174
См.: Bruno G. Dialoghi filosofici italiani. P. 211, 1054.
(обратно)175
Abraham L. Op. cit. P. 78. По форме своей ОКО в монстрологии ДАПа отдаленно напоминает око, изображенное в «L’Architechture» К.-Н. Леду. Отдельная проблема — круг с точкой в центре, помещенный в правом нижнем углу Автопортрета и указывающий на связь «орфического яйца» с нулем, что означает бесконечность трансформизма.
(обратно)176
Emiers Н. Lexikon des Geheimwissens. Freiburg: Goldmann Verlag, 1986. S. 214.
(обратно)177
Впрочем, двояким можно считать ее смысл и в Библии, поскольку в одних случаях она означает печаль (Пс. 11: 6), а в других — радость (Пс. 23: 5).
(обратно)178
Опираюсь на ход мысли и терминологию Н. Злыдневой: Злыднева Н. Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения. М. Индрик, 2013, С. 83–92 (глава «„Два „художника““ К. Малевича: Стихотворение versus картина)». См. также: Она же. Риторика и изобразительное искусство // vestnik.rsuh.ru/article.html?id=55070.
(обратно)179
Злыднева Н. Риторика и изобразительное искусство.
(обратно)180
В интервью Алене Яхонтовой под карнавальным названием «Отходы деятельности центрального фантома» (2004) ДАП пояснил смысл, придаваемый им этому термину, следующим образом: «Все мои занятия происходят в общепринятых, конвенциональных рамках данного вида деятельности <…> все эти виды деятельности являются частью большого проекта под названием ДАП <…>. Внутри же этого цельного проекта <…> есть указатели на ту центральную зону, откуда они происходят. И в этом смысле они суть простые отходы деятельности этого центрального фантома <…>. В будущем, может быть, возникнет специальная оптика для прослеживания данного фантома. Пока же она отсутствует, посему почти невозможно следить и запечатлевать эту центральную — фантомную, поведенческую, стратегическую — зону деятельности» (Неканонический классик. С. 74–75). Мне кажется, здесь уместно привести определение фантома, которое Андрей Белый дал, опираясь на Р. Штайнера, в не опубликованных пока что разделах «Истории становления самосознающей души» (написанных в конце 20-х гг.): «Связь протонных центров дает особую систему в организме человеческой плоти, <…> как самую квинт-эссенцию материи, открывающей в электронной материи как бы дверь (как теперь говорят: „Протон — дырочка в материи“)», «т. е. связь протонов уже материальную, но еще не минеральную, т. е. фантом, сказали бы ученые — система протонов, но еще не электронов». «Что есть „фантом“? Он — во-первых: система силовых центров, как протонов, <…> „плюс“ система сил, управляющих движением электронов по орбитам и в скачках их с орбиты на орбиту; <…> в другом же разгляде она есть лишь отрицательный заряд пустого объема, если она — такова, то „дыра“ протона <…> есть как раз наоборот: „нечто“, или субстанция самой материи: это и есть фантом, или узор <…>, напечатленный на материи». «Фантом — нематериальная основа вселенной — внутри материи; и эта основа — одна; нет двух фантомов, ибо фантом — один: связь всех атомов вселенных в их силах протонности; но отпечатков фантома столько же, сколько отдельных физических плотей; т. е. столько, сколько протонных систем». Цит. на основе фрагментов из трех машинописей текста (архив Л. Силард).
(обратно)181
Ср.: П. Н. Филонов «Цветы мирового расцвета» (из цикла «Ввод в мировой расцвет», 1915), «Формула Космоса» (1918–1919), «Многофигурная композиция» (1920-е гг.).
(обратно)182
Филонов П. Н. Живопись, графика. Из собрания Государственного Русского музея: Каталог выставки. Л.: Государственный Русский музей, 1988. С. 26.
(обратно)183
Иванов Вян. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., Наука, 1974. С. 169–179; Иванов Вян. Вс. Дракон // Мифы народов мира: Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1980. С. 394–395.
(обратно)184
Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М.: Крон-пресс, 1997.
(обратно)185
К легенде о поединке св. Георгия с драконом ДАП провоцирующе отсылает сознание читателя, когда в плоскости «В-2. Второе начало какого-нибудь повествования» (действительно идет 2-м по счету) упоминает об изображении «драконоборца», которого разглядывает персонаж по имени Георгий (с. 31), и этому Георгию некто — «вальяжный Иван Петрович» — дает загадочные указания: «Надо действовать сообразно модусу и образу времени и места» (с. 35), «<…> времена, Георгий, другие… А вот ситуация прямо-таки трагически изменилась. И это касается тебя в первую очередь» (с. 36). Затем в плоскости «Г. Середина какого-либо повествования, недалеко от начала какого-либо рассказа» мужик из деревни, все жители которой — Семенычи либо Георгичи, вдруг говорит Ренату: «Ты, милый, с Георгичами-то поосторожнее» (с. 40).
(обратно)186
Голынко-Вольфсон Дм. Читая Пригова: неоднозначное и неочевидное // Новое литературное обозрение. 2007. № 87. С. 268–290; и затем в сборнике «Неканонический классик», с. 150. На с. 169 того же опуса Голынко-Вольфсон пишет, что «в приговском тексте беспрерывно варьируется некая изначальная, первичная матрица мифологической темы драконоборчества и змееборчества», и приводит в доказательство своих утверждений цитату из плоскости «С-2. Маленький дополнительный кусочек», не замечая, что вся эта плоскость представляет собой в высшей степени ироническое изложение возможного хода мысли «мужественных представителей рода человеческого» (с. 263), их «харизматического лидера» (с. 265), «героя» традиции св. Георгия (с. 267, 268).
(обратно)187
Харис Р. Примечание к стихам «Лодка Тукая» / Пер. Н. В. Переяслова // Дружба народов. 2009. № 7_(magazines.russ.ru/druzhba/2009/7/ha20-pr.html). Обратим внимание на то, что образ динозавра в поэтических играх ДАПа-поэта с внуком занимает весьма особое место (см. сборник «Неканонический классик», с. 148–149).
(обратно)188
На изображение этих фигур в «РиД», как и на деконструкцию характерного для модернистского романа образа учителя-искусителя, в ряду других европейских мифологем обращает внимание И. Кукулин в сборнике «Неканонический классик» (с. 598).
(обратно)189
Подробнее об этом см. в статье: Силард Л. Проза Д. А. Пригова в европейском контексте: «Ренат и Дракон»: (Проблемы жанра и макроструктуры текста) // Venok: Studia slavica Stefano Garzonio. Berkeley Slavic Specialties, 2012. Part II. P. 335–363.
(обратно)190
Неканонический классик. С. 57. Дата беседы — 18 июня 2004 г.
(обратно)191
См.: Новая антропология: соотношение визуального и вербального в современном искусстве: Запись последней публичной лекции, прочитанной в Доме журналиста (Москва, 18 июня 2007 г.) // prosa.com.ua/culture/novaja_antropologija.shtml. См. также: Дмитрий Александрович Пригов — Алексей Парщиков. «Мои рассуждения говорят о кризисе нынешнего состояния…»: (Беседа о «новой антропологии») // Новое литературное обозрение. 2007. № 87. С. 325–336.
(обратно)192
Неканонический классик. С. 592.
(обратно)193
Закономерно появляются со временем инсталляции типа «Видение Каспару Давиду Фридриху русского Тибета».
(обратно)194
Как известно, в восточных мифологиях, особенно в китайской, Дракон вместе с 9 сыновьями (среди них китайская народная традиция особенно высоко ценит сына-черепаху, который любит носить тяжести) выступает в акцентированной роли медиатора, посредника. Это же наблюдается и в корейской, вьетнамской, японской (правда, не совсем последовательно) и многих других (как, например, Зилант у казанских татар) мифологиях. (Впрочем, 9 сыновей дракона, согласно китайской традиции, вполне специализированы: Иси любит носить тяжести, Чивень — летать, поэтому он на крыше, Пулао — кричать, поэтому он на колоколах, Биань любит юстицию, поэтому он на дверях тюрьмы, Таоте любит есть, поэтому он на сосудах жертвоприношений, Бася любит воду, поэтому он у источников, Яцзы — убивать, поэтому он на рукоятке холодного оружия, Суаньни — сидеть, поэтому он у ног Будды. Цзятоу не любит, чтобы его беспокоили, поэтому он на дверных ручках.) Показательно предположение Вяч. Вс. Иванова, что китайский дракон-медиатор стал таковым, будучи «когда-то укрощенный» (Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 394; см. также: С. 31, 242, 443, 471).
(обратно)195
«Questa nigredine dura più о meno 46 giorni… Seccata e incenerita la pietra, il fuoco dev’essere ulteriormente rafforzato, finché la pietra non diventi perfettamente rossa e riceva dal fuoco la veste regale… A quel punto la cottura dev’essere continuata finché non si ottenga il veleno, il nostro drago sfolgorante nella fissazione del sole. Decorato dai raggi della virtù del cielo e della terra. Da ciò gli verrà la capacità di vincere tutto, digerire tutto, di corregere e purificare tutte le imperfezioni dei corpi; e i suoi nomi moltiplicheranno secondo la moltitudine dei colori» (di Montanor G. La scala dei filosofi // Alchimia: I testi della tradizione occidentale / A cura e con un saggio introduttivo di Michela Pereira. Milano: Mondadori, 2006. P. 747–748; см. также: P. 1126–1127).
(обратно)196
В работе Ньютона называются 40 дней (Ibidem. P. 1201). В комментарии к этой работе подчеркивается, что для Ньютона, судя по всему, была очень важна алхимическая, но восходящая к Гермесу Трисмегисту идея круговорота и взаимосвязанности между верхним и нижним мирами (Ibidem. Р. 1207).
(обратно)197
Смену именований Дракона соответственно смене цвета приведу по другому трактату (в интерпретации этой шкалы абсолютно идентичному выше процитированному): «Nella prima operazione, quando la pietra è nera, si chiama „terra“, „saturno“ e con nomi di tutti corpi neri e terrestri. Poi, quando vieni sbiancata, è chiamata „acqua viva“ e coi nomi di tutte le acque e dei sali, degli allumi e delle cose bianche. Poi, quando è divenuta gialla ed è subblimata e assottigliata, allora si chiama „aria“, „olio giallo“, e le si danno i nomi di realtà spirituali e i nomi degli ucelli. Quando poi si arrossa, è chiamata „cielo“, „zolfo rosso“, „oro“, „rubino“, e coi i nomi di tutte le cose preziose e splendenti, siano esse pietre» (Animali о piante // Ibidem. P. 158; см. также: Ibidem. P. 1046). При описании процессов трансформации и восхождения к высшим ценностям алхимические трактаты подчеркивают также, что в ходе этого процесса само именование Дракон приобретает новые синонимы: сначала это Меркурий, а затем и «Душа»: «Mercurio è detto comunemente „spirito“, il mercurio dei corpi metallici è detto „anima“. Lo spirito non si unisce al corpo se non mediante l’anima, e l’anima da parte sua non si congiunge al corpo se non mediante lo spirito» (Ibidem. P. 52; см. также: P. 1046). Меркурием (что указывает на медиаторскую роль!) в алхимических трактатах обычно именуют ртуть. Детальное описание Дракона см.: Ibidem. Р. 1126–1128. В алхимии (особенно в трудах Н. Фламеля: Ibidem. Р. 1192–1193) также акцентируется роль нейтрализации бинера и выявления полного андрогина, как и принцип «взаимодействия противоположностей» (coincidentia oppositorum) и «мистической сестры» (sorror mystica), однако в символизируемых деталях описания союзного восхождения Рената и Машеньки в тексте ДАПа доминируют, кажется, все-таки элементы шаманизма, на которые наслаивается ироничное обыгрывание идеи вечной женственности в ее русско-символистском воплощении.
(обратно)198
Ср.: Р. 632–634, обращая особое внимание на имплицитно вводимую (через называние вещей!) смену цвета.
(обратно)199
К мотиву Дракона у ДАПа отметим: Drachen // Biedermann Н. Knaurs Lexikon der Symbole. Münich: Knaur, 1989. S. 96–98; Dragon // Cirlot J. E. A Dictionary of Symbols. New York: Dorset Press, 1991. P. 85–89; Roob A. Alchemy & Mysticism. Koln: Benedikt Taschen Verlag, 1997; Элиаде М. Мефистофель и андрогин. СПб.: Алетейя, 1998; Свинцовые врата алхимии: История, символы, практика. СПб.: Амфора, 2002; Abraham L. A Dictionary of Alchemical Imagery. New York: Cambridge University Press, 2003; Calvesi M. Arte e alchimia. Firenze: Giunti, 1998; Alchimia: I testi della tradizione occidentale.
(обратно)200
Можно было бы показать и то, как на затронутые нами восточноазиатские драконологии с их утверждением Дракона как медиатора налагаются не только европейские алхимические ассоциации, акцентирующие в Драконе роль первоматерии, способной к трансформации и восхождению, но и теософские (дракон как Страж Порога), гностические (дракон как путь сквозь все миры), унаследованные отчасти эзотерикой XX в., требующей оседлания (но не убийства!) дракона магом (Barret F. The Magus (1801) // King F. Magic: The Western Tradition. London: Thames & Hudson, 1975. Ill. 21). Оседлать — значит овладеть; см.: Морозов Н. В поисках философского камня: Рассказ о попытках к превращению металлов. СПб.: Общественная польза, 1909. Ср. там же: «дракон символ мужского изменения вещества» (с. 77), «дракон <…> — символ первичного вещества» (с. 131).
(обратно)201
Дмитрий Александрович Пригов — Алексей Парщиков. «Мои рассуждения говорят о кризисе нынешнего состояния…» (Неканонический классик. С. 15). Ср. также: «Проблема новой антропологии вызвана не экстраполированием возможных способов существования разума, а, скорее, кризисом нынешнего существования и (кризисом) культуры, понятой как антропологическая культура» (Там же. С. 16).
(обратно)202
Неканонический классик. С. 59.
(обратно)203
Балабанова И. Говорит Дмитрий Александрович Пригов. М.: ОГИ, 2001. С. 149.
(обратно)204
Неканонический классик, С. 17. Какое место в этом процессе отводится виртуальности? ДАП — Бог своего виртуального мира? Ответ ДАПа: «Теперь мы говорим — в виртуальные миры. Современная техника (компьютерная) только показала со всей технической наглядностью возможность таких переводов даже тем, кто внутренне был абсолютно далек от способности к такой „перекодировке“»; «Виртуальность сейчас тесно связывают с компьютерной виртуальностью, но компьютерная виртуальность, во-первых, недоразвита, а во-вторых, она — частный случай вообще некоего понятия виртуальности. В человеческой культуре, в общекультурном и антропологическом смысле, виртуальность присутствовала в качестве медитативных, галлюциногенных и мистических практик — практик измененного сознания» (с. 17).
(обратно)205
Неканонический классик. С. 63.
(обратно)206
См.: Там же. С. 533, а также упоминание о галерее «Монстропология» (1996): Там же. С. 732.
(обратно)207
Как не вспомнить здесь формулу Андрея Белого: «<…> лишь до плеч „я“ — свой собственный; с плеч поднимается купол небесный» (Мочульский К. В. Андрей Белый // Мочульский К. В. А. Блок. А. Белый. В. Брюсов. М.: Республика, 1997. С. 331).
(обратно)208
Силард Л. Культурологическая концепция Андрея Белого в трактате «История становления самосознающей души» // Миры Андрея Белого. Белград; М.: Издательство филологического факультета Белградского университета, 2011. С. 594–609.
(обратно)209
Ср. концепции времени у Хайдеггера, Бахтина и Левинаса.
(обратно)210
Ср.: Lachmann R. Gedächtnis und Literatur: Intertextualität in der russischen Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990.
(обратно)211
Ср.: Левин Ю. И., Сегал Д. М., Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Russian Literature. 1974. № 7/8. С. 47–82; Силард Л. Блок, Ахматова и другие: (К диалогу поколений) // Russia Romana. 1996. Вып. III. С. 239–263.
(обратно)212
Мандельштам О. Э. О собеседнике // Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2: Проза. New York: Международное литературное содружество, 1971. С. 233–240.
(обратно)213
Deleuze G. Qu’est-ce qu la philosophic? Paris: Gallimard, 1991. P. 185.
(обратно)214
Schaub M. Deleuze im Wunderland: Zeit als Ereignisphilosophie. München: Fink, 2003. S. 139.
(обратно)215
Дмитрий Александрович Пригов. Советские тексты, 1979–84. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1997. С. 153; Дмитрий Александрович Пригов. Собрание стихов, т. 4. Wiener Slawistischer Almanach. 2003. Sond. 58. S. 43.
(обратно)216
Не опубликовано.
(обратно)217
Ср.: Силард Л. Блок, Ахматова и другие.
(обратно)218
Ахматова А. Победа над Судьбой: Стихотворения: В 2 т. М.: Русский путь, 2005. Т. 2: Стихотворения. С. 162.
(обратно)219
Дмитрий Александрович Пригов. Собрание стихов, т. 1. Wiener Slawistischer Almanach. 1996. Sond. 42. S. 143.
(обратно)220
Дмитрий Александрович Пригов. Собрание стихов, т. 3. Wiener Slawistischer Almanach. 1999. Sond. 48. S. 9.
(обратно)221
He опубликовано, копия типоскрипта находится в архиве автора этого текста.
(обратно)222
См. список в сборнике: Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007): Сборник статей и материалов / Под ред. Е. Добренко, И. Кукулина, М. Липовецкого, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 760–761.
(обратно)223
Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. М.: Советский писатель, 1965. С. 165.
(обратно)224
Примеры «Юкка» и «Анаида» относятся к стихам от 8 и 9 января 1994 г. из того же цикла («третий набор»).
(обратно)225
Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Л.: Советский писатель, 1990. Т. 2. С. 70.
(обратно)226
Пастернак 6 августа 1903 г. «упал с лошади, сломал ногу и чудом избежал смерти» (Там же. С. 322).
(обратно)227
Дмитрий Александрович Пригов. Пересечение, август — сентябрь. 1994 (Домашний архив Пригова).
(обратно)228
Дмитрий Александрович Пригов. Пересечение, апрель — май. 1994 (Домашний архив Пригова).
(обратно)229
Монастырский А. Поездки за город: [Группа] «Коллективные действия». М.: Ad Marginem, [1998]. С. 128.
(обратно)230
Подробнее см. в наших книгах: Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. М.: РГГУ, 2002; Орлицкий Ю. Б. Динамика стиха и прозы в истории русской словесности. М.: РГГУ, 2008.
(обратно)231
Подробнее об этом типе стиха см., например: Орлицкий Ю. Гетероморфный (неупорядоченный) стих в русской поэзии // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. С. 187–202.
(обратно)232
См.: Орлицкий Ю. Холостые строки в рифмованном тексте: Функции, типология, тенденции развития // Филологическому семинару — 40 лет: Сборник трудов научной конференции «Современные пути исследования литературы», посвященной 40-летию Филологического семинара: 22–24 мая 2007 г. Т. 1. Смоленск: СмолГУ, 2008. С. 321–335.
(обратно)233
См.: Орлицкий Ю. Холостые начала и концы в поэзии Блока // Блоковский сборник. М.: ИМЛИ РАН, в печати.
(обратно)234
О полиметрии подробнее см.: Руднев П. А. О стихе драмы А. Блока «Роза и Крест» // Ученые записки ТГУ Тарту, 1970. Вып. 251 (= Труды по русской и славянской филологии. Вып. XV: Литературоведение); Руднев П. А. Опыт описания и семантической интерпретации полиметрической структуры поэмы А. Блока «Двенадцать» // Ученые записки ТГУ. Тарту, 1971. Вып. 266 (= Труды по русской и славянской филологии. Вып. XVIII: Литературоведение).
(обратно)235
Айзенберг М. Вокруг концептуализма // Подобранный Пригов. М.: РГГХ 1997. С. 223.
(обратно)236
О версе подробнее см.: Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе.
(обратно)237
Шапир М. О пределах длины строки в верлибре (Д. А. Пригов и другие) // Philologica. 1999–2000. Т. 6. № 14–16. С. 124.
(обратно)238
Там же. С. 129.
(обратно)239
Там же. С. 134–137.
(обратно)240
Кузьмин Д. План работ по исследованию внутрисловного переноса // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 392–409.
(обратно)241
Шапир М. Указ. соч. С. 126.
(обратно)242
Там же. С. 129–130.
(обратно)243
Дмитрий Александрович Пригов. Разнообразие всего. М.: ОГИ, 2007. С. 98.
(обратно)244
Там же. С. 99.
(обратно)245
Статья подготовлена при поддержке проекта П-058 Программы стратегического развития ПГГПУ
(обратно)246
Дмитрий Александрович Пригов — Алена Яхонтова. Отходы деятельности центрального фантома // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007): Сборник статей и материалов / Под ред. Е. Добренко, И. Кукулина, М. Липовецкого, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 74.
(обратно)247
После поездки Пермь закрепилась в приговской ментальной географии. В книге «Исчисления и установления» город встречается в тексте «Призы и победители»:
«За лучшее название города Москва даются призы! Москва-красавица! — Замечательно, первый приз! За лучшее название города Лондон тоже Дается приз! — Туманный Лондон! — Неплохо! Приз! За лучшее название города Пермь тоже дается! Молотов! — Интересно, интересно! Но приз уже выдан!»(Дмитрий Александрович Пригов. Исчисления и установления: (Стратификационные и конвертационные тексты). М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 213).
(обратно)248
См. предыдущее примечание.
(обратно)249
Дмитрий Александрович Пригов. Исчисления и установления. С. 77.
(обратно)250
Там же. С. 296–297.
(обратно)251
Там же. С. 181–182.
(обратно)252
Флакер А. Освоение пространства поездом: (Заметки о железнодорожной прозе Пастернака) // Slavica Tergestina. 2000. Вып. 8: Художественный текст и его геокультурные стратификации. С. 219–226.
(обратно)253
Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений: В 11 т. М.: Слово / Slovo, 2005. Т. VIII. С. 498.
(обратно)254
Перечень остановок по маршруту Москва — Пермь: Владимир, Ковров, Нижний Новгород, Киров, Глазов, Балезино, Кез, Верещагино, Менделеево, Пермь.
(обратно)255
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2: И-О. М.: ГИС, 1955. С. 287.
(обратно)256
Электронный ресурс. Порядок доступа: be.sci-lib.com/article025359.html.
(обратно)257
Лотман Ю. М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб.: Искусство-СПБ, 1997. С. 112.
(обратно)258
Иванов А. Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор. М.: Пальмира, 2003. С. 36.
(обратно)259
Керлот Х. Э. Словарь символов. М.: REFL-book, 1994. С. 167.
(обратно)260
Руднев В. П. Пригов — поэт-парафреник // Руднев В. П. Апология нарциссизма: Исследования по психосемиотике. М.: Аграф, 2007. С. 35–60.
(обратно)261
Берг М. Литературократия: Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 96.
(обратно)262
См. об этом: Руднев В. П. «Как бы» и «на самом деле» // Руднев В. П. Энциклопедический словарь культуры XX века. М.: Аграф, 2009. С. 169–171.
(обратно)263
Вообще, столь радикальная постановка вопроса, приравнивающая поэтическое противостояние к борьбе за жизнь, характерна для отечественных представителей андеграунда. Ср. программное место из романа Э. Лимонова «Это я — Эдичка»: «Мафиози никогда не подпустят других к кормушке. Хуя. Дело идет о хлебе, о мясе и жизни, о девочках. Нам это знакомо, попробуй пробейся в Союз Писателей в СССР. Всего изомнут. Потому что речь идет о хлебе, мясе и пизде. Не на жизнь, а на смерть борьба (курсив мой. — С.О.)» (soft.rosinstrument.com/lib/In_Russian/EDUARD_LIMONOV/ETO_YA_-_EDICHKA.txt-ps100-pn6).
(обратно)264
Руднев В. П. Пригов — поэт-парафреник. С. 51.
(обратно)265
Руднев В. П. Богов замочили в сортире // Коммерсант. 2000. № 235 (2120). 15 декабря.
(обратно)266
Любопытна читательская реакция на приговское исполнение этого произведения, зафиксированная современником: «В начале 2000-х Пригов как-то выступал в нашем отделе Института философии со своими блестящими „Исчислениями и установлениями“. После того как аудитория от души насмеялась, перед умиротворенным поэтом был поставлен каверзный вопрос: „А почему, собственно, так смешно?“ Ответа не последовало. Лишь ощущение грусти и безнадежности повисло над всеми. Пригов в подобных случаях озвучивал свою единственную и универсальную этическую максиму: „Живите не по лжи“. Не запретную и в согласовании с небесной канцелярией и глубинами ада не нуждающуюся» (Чубаров И. «Мест нет»: Пригов и различия // Новое литературное обозрение. 2010. № 105. С 20; курсив мой — С.О.).
(обратно)267
Трансцендентальные коннотации поэзии Пригова и ее теологический аспект в целом ныне становятся предметом специального интереса — см., например, тематическую подборку материалов под общим названием «(Пост)теологический проект Д. А. Пригова» в журнале «Новое литературное обозрение» (2010. № 105. С. 215–252); в этом же номере опубликованы два произведения Пригова на теологическую тему — «Место Бога» и «Предшествие постсвятости» (С. 7–17).
(обратно)268
Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука; Восточная литература, 1994. С. 66.
(обратно)269
Жолковский А. К. Памяти Пригова // Жолковский А. К. Звезды и немного нервно: Мемуарные виньетки. М.: Время, 2008. С. 308.
(обратно)270
Кобринский А. «Дмитрий Александрович Пригов» как художественный проект / .
(обратно)271
Шкловский В. Б. Избранное: В 2 т. Т. 1: Повести о прозе; Размышления и разборы. М.: Художественная литература, 1983. С. 238.
(обратно)272
О схожих канонизаторских тактиках применительно к иному литературному материалу см.: Жолковский А. К. Анна Ахматова пятьдесят лет спустя // Жолковский А. К. Избранные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М.: РГГУ, 2005. С. 173–174.
(обратно)273
Сопричастность «романа» приговским стихам всеобщая и всепроникающая. Рассказчик надевает все маски приговского лирического героя, начиная с прилежного советского человека, черты которого еще ярче и сочнее проявляются благодаря погруженности в сверхидеологизированное детство; систематизируются и онтологизируются параллельные миры крыс и тараканов; эпически воспевается Милицанер, посредник между земным и сталинским-вышепартийным неземным миром; мегаломания, в общем-то, в очень скромной книге переиначивается в субтильно-сорняковое наваждение гипербол, сначала как стилистический, а потом как ведущий повествовательный прием.
(обратно)274
Дмитрий Александрович Пригов. Живите в Москве: Рукопись на правах романа. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 158.
(обратно)275
Там же. С. 329.
(обратно)276
Там же. С. 159–160.
(обратно)277
Там же. С. 119.
(обратно)278
Дмитрий Александрович Пригов. Указ. соч. С. 343. Целесообразно, конечно, было бы «охватит», но тут иначе не скажешь: несовершенный вид — сам дух повествования.
(обратно)279
Там же. С. 226.
(обратно)280
«Гарь» (тоже к Гарри), «паровозный дым» и «говяжья накипь» — связующие элементы сцен в Сокольниках и у Сашки, где «ливер» — вариация, явно отсылающая к косвенно упомянутой Люверс (Пастернак Б. Л. Избранное: В 2 т. М.: Художественная литература, 1985. Т. 2. С. 105–106, 110).
(обратно)281
Дмитрий Александрович Пригов. Указ. соч. С. 13–14.
(обратно)282
Дмитрий Александрович Пригов. Указ. соч. С. 159.
(обратно)283
Там же. С. 225.
(обратно)284
Там же. С. 201–207.
(обратно)285
Там же. С. 59.
(обратно)286
Там же. С. 350. А если продолжить цитату, уже попадем в приговский, шаманский восток: «<…> вглядываясь тремя мерцающими зрачками в каждый мой расширенный глаз».
(обратно)287
Личное дело №: Литературно-художественный альманах. М.: Союзтеатр, 1991. С. 205. В немецкоязычной публикации статьи данный текст ДАП цитируется полностью, см.: Silard L. Renat und der Drache (Renat i Drakon): Das Dasein und der Ereignis des Zeins // Jenseits der Parodie / Hg. von B. Obermayr. Wiener Slawistischer Almanach. 2013. Sond. 81. S. 210.
(обратно)288
Цит. no: .
(обратно)289
К сожалению, во многих ссылках на эту книгу ошибочно фигурирует: «романтическое»!
(обратно)290
Недаром в плоскости «Д. Серединное уведомление» вдруг помечается провоцирующее прочтение буквы М: «Потом выплыла буква М. Посомневавшись, ее идентифицировали как букву латинского алфавита» (Дмитрий Александрович Пригов. Ренат и Дракон. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 60). В дальнейшем ссылки на роман будут даваться по этому изданию с указанием цитируемых страниц в скобках в основном тексте статьи.
(обратно)291
Александров Н. Пригов в романе // izvestia.ru/news/300634.
(обратно)292
Дмитрий Александрович Пригов. Ренат и Дракон. С. 260.
(обратно)293
Рискую предположить, исходя из результатов предлагаемого здесь исследования, что в данном случае особенно значима числовая символика Таро, а также алхимии (см.: Battistini М. Astrology, Magic, and Alchemy in Art. Los Angeles: J. Paul Getti Museum, 2007. P. 214–217). Однако, имея в виду имя и «родню» протагониста, не исключено, что важна и нумерология тюркской архаики: 4 угла земли, 7 планет как 7 уровней и 3 бытия мира (верхнее, среднее, нижнее). К проблеме числа у Пригова см.: Obermayr В. Tod und Zahl: Transitive und intransitive Operazionen bei V. Chlebnikov und D. A. Prigov // Wiener Slawistischer Almanach. 2005. Bd. 56. S. 209–285. Среди обобщающих работ о символике чисел хотелось бы выделить монографию: Schimmel A. Mystery of Numbers. New York; Oxford: Oxford University Press, 1993. Монография содержит обширную, однако далеко не исчерпывающую библиографию. Так, в ней не учтена знаменитая работа Сен-Мартена.
(обратно)294
Дмитрий Александрович Пригов. Буквы (1997) // Дмитрий Александрович Пригов. Исчисления и установления. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 134.
(обратно)295
Ответный комментарий предполагавшихся «носильщиков» был: «Единственная работа, не позволяющая уронить и деконструировать человеческую честь, — работа грузчика: перемещение тяжелых предметов в пространстве» (информация в интернете). Невольно напрашивается аналогия: в китайской традиции эта мысль закрепилась как особое уважение к той черепахе, которая (будучи сыном дракона) любит носить тяжести.
(обратно)296
Не лучше было бы вместо Константинополя сохранить в переводе, соответственно сербскоязычному оригиналу, вполне понятное и родственное для русского уха — «в Царьграде»?
(обратно)297
«L’idea di operare i tarocchi come una macchina marrativa combinatoria» (Calvino I. Romanzi e racconti. Milano: Mondadori, 1992. Vol. 2. P. 127).
(обратно)298
В этой связи стоит припомнить футурологический трактат В. Хлебникова «Радио будущего» (1921), где описывается действие этого радио так, как если бы Хлебников уже имел возможность видеть работу если не интернета, то по крайней мере телевидения.
(обратно)299
Кальвино И. Незримые города. Замок скрещенных судеб. Киев: Лабиринт, 1993. С. 384. В дальнейшем ссылки на книгу Кальвино будут даваться по этому изданию с указанием цитируемых страниц в скобках в основном тексте статьи.
(обратно)300
Хлебников В. Творения. М.: Советский писатель, 1986. С. 473.
(обратно)301
Об этом см.: Силард Л. «Зангези» Хлебникова и Большие Арканы Таро // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования, 1911–1998. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 294–302, 807–808.
(обратно)302
Шмаков В. Священная книга Тота; Великие арканы Таро; Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма: Опыт комментария. М., 1916. С. 102.
(обратно)303
Шмаков В. Основы пневматологии; Теоретическая механика становления Духа. Киев: София, 1994. С. 289.
(обратно)304
Scholem G. Kabbalah. New York: Dorset Press, 1974. P. 27.
(обратно)305
Лермонтов М. Ю. Маскарад // Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 4 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 3. С. 62. Ср.: Виноградов В. В. Математический расчет и каббалистика игры как художественные темы // Виноградов В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980. С. 176–203; Лотман Ю. М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX в. // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 2. С. 389–415.
(обратно)306
Ср.: «„Зангези“ собран-решен» (запись 1922 г.).
(обратно)307
Убедительнее многих других это описал П. Д. Успенский, см.: Ouspensky P. D. The Symbolism of the Tarot. New York: Dover Publications Inc., 1976. (Как отмечается в примечании: «This Dover edition <…> is <…> republication of the work, first published in 1913». Об этом — в моей статье (см. примеч. 2 на с. 192), а также в резюме дипломной работы: Paddeu S. Zangezi: un «matto» viaggiatore nella lingua. Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Vol. 5. Sassari, 2005 (2009). P. 107–112.
(обратно)308
См.: Лощилов И. Феномен Николая Заболоцкого. Helsinki: Institute for Russian and East European Studies, 1997.
(обратно)309
Рубинштейн Я. Что тут можно сказать… // Личное дело №… С. 235.
(обратно)310
Там же. С. 234.
(обратно)311
Цит. по «самодельному изданию» (М., 1997).
(обратно)312
Фрейденберг О. Миф и литература древности. М.: Наука, 1978. С. 223. На этот вывод обратил мое внимание И. Лощилов; см. примеч. 4 на с. 196, а также: .
(обратно)313
J. McTaggart «The Unreality of Time» (1908), «The Nature of Existence» (1921, 1927).
(обратно)314
Не структурно, но рефлективно это оформляется уже в «Живите в Москве»: «С какого-то времени (уже достаточно позднего, преклонного, стареющего) отпали также всякие проблемы с прошлым, настоящим и будущим. Стало ясно, что все они модусы некоего единства, стягивающегося в определенный момент с определенной задачей на одно из них» (Дмитрий Александрович Пригов. Живите в Москве: Рукопись на правах романа. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 218).
(обратно)315
Хлебников В. Скуфья скифа // Хлебников В. Творения. С. 539. См. также комментарий: Бабков В. Законы времени и «Доски судьбы»: Нефилологический взгляд на творчество Велимира Хлебникова // Человек. 2000. № 6. С. 51–65.
(обратно)316
Ср.: «Самое важное, что я узнал на Тральфамадоре, это то, что <…> все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и будут существовать. <…> Только у нас, на Земле, существует иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке, и что если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно» (Воннегут К. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей // Сэлинджер Дж. Д. Над пропастью во ржи; Выше стропила, плотники; Рассказы; Воннегут К. Колыбель для кошки; Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. М.: Радуга, 1983. С. 631).
(обратно)317
Там же. С. 629.
(обратно)318
Там же. С. 611.
(обратно)319
Может быть, здесь уместно припомнить различение, вводимое Боэцием, о котором напоминает Фома Аквинский: «Вечность (Aeternitas. — Л.С.) есть мера пребывания. А время — мера движения». Цит. по: Боргош Ю. Фома Аквинский. М.: Мысль, 1966. С. 150. В тексте «Ренат и Дракон» эта вторая мера крайне релятивизируется. Ср. также: Иванов Вяч. Вс. Категория времени в искусстве и культуре XX века // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.: Наука, 1974. С. 39–66; Долинин А. А. «Двойное время» у Набокова: (От «Дара» к «Лолите») // Пути и миражи русской культуры. СПб.: Северо-Запад, 1994. С. 283–322.
(обратно)320
Смирнов И. П. Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М.: Новое литературное обозрение, 1994. С. 310.
(обратно)321
Ср.: «Только вымоешь посуду / Глядь — уж новая лежит / Уж какая тут свобода / Тут до старости б дожить / Правда, можно и не мыть / Да вот тут приходят разные / Говорят: посуда грязная — / Где уж тут свободе быть» (Дмитрий Александрович Пригов. Советские тексты, 1979–84. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1997. С. 130).
(обратно)322
Дмитрий Александрович Пригов. Только моя Япония. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 217.
(обратно)323
Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М.: Институт компьютерных исследований, 2002. (Насколько мне известно, первый перевод этой книги на русский язык, ставшей теперь учебником, фигурирующим и в интернете, появился в 1977 г.).
(обратно)324
Его впервые описал в 1967 г. Мартин Гарднер в колонке математических игр в «Scientific American», а позднее Дональд Кнут, профессор в Стэнфорде. Ср. развернутый комментарий в: Силард Л. Проза Д. А. Пригова в европейском контексте: «Ренат и Дракон»: Проблемы жанра и макроструктуры текста // Venok: Studia slavica Stefano Garzonio. Berkeley Slavic Specialities, 2012. Part II. P. 353.
(обратно)325
К проблеме построения фрактального пространства в искусстве см. интереснейшие работы Р. П. Тейлора, в частности: Taylor R. P. Alla ricerca dell’arte frattale che riduce lo stress: Da Jackson Pollock a Frank Gehry // Matematica e Cultura 2005. Milano: Sringer, 2005.
(обратно)326
Попов E. Душа патриота // Попов E. Накануне накануне. М.: Гелеос, 2001. С. 131, 175, 201, 239, 246–249, 258–280, 283–287, 293–301, 306–309, 316. См. также «Накануне накануне», где упорно фигурируют «какие-то братья, по виду разбойники, но с разными фамилиями <…> Попов, Ерофеев, Пригов» (С. 359, ср. с. 361, 396, 405, 417, 431, 434). Несколько подробнее о «братьях <…> с разными фамилиями» см. в: Силард Л. Проблема автора и авторской личности в литературе постмодернизма: Прелиминарии к теме // Studia Slavica Hungarica. 2013. Vol. 58. № 1. P. 1–15.
(обратно)327
Силард Л. М. Булгаков и наследие символизма: Магия криптоанаграммирования // Russian Literature. 2004. Вып. LVI. С. 283–296.
(обратно)328
Название этого городка (Feldkirch / Feldkirche) вводит и историко-литературные ассоциации, поскольку в этом городе (как не раз отмечали джойсоведы) дважды (в 1915 и в 1932 гг.) побывал автор «Улисса». А ДАП выступал в этом городке на фестивале русского искусства (если не ошибаюсь, в 1998 г.).
(обратно)329
В том же 1998 г. ДАП выступал в монастыре миноритов, что неподалеку от Граца.
(обратно)330
Чтобы убедиться в устойчивости приговского связывания этих пространств, думаю, уместно вспомнить название одной из его инсталляций 2004 г.: «Видение Каспару Давиду Фридриху русского Тибета».
(обратно)331
Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Русские словари, 1996. Т. 5. С. 72. Ср. также на с. 71: «У меня нет точки зрения на себя извне <…>, из моих глаз глядят чужие глаза». В комментарии С. Бочарова к наброску М. М. Бахтина «Человек у зеркала» обращается особое внимание на полемику Г. Шпета с «зеркальной аналогией» П. Наторпа: «Как сетчатка не может видеть себя самое иначе, как только в зеркальном отображении, так и об Я, как объекте, можно говорить только не в буквальном смысле: Я как в зеркале отражается в своем содержании» (Шпет Г. Сознание и его собственник. М.: Типография А. И. Мамонтова, 1916. С. 44). По мнению С. Бочарова, Шпет откликается здесь на работу Наторпа «Allgemeine Psychologies» (см. комментарий С. Бочарова в книге: Бахтин М. М. Указ. изд. С. 464–466).
(обратно)332
Например: Левин Ю. И. Зеркало как потенциальный семиотический объект // Ученые записки ТГУ. Тарту, 1988. Вып. 831 (= Труды по знаковым системам. Вып. XXII); Минц З. Г., Обатнин Г. Символика зеркала в ранней поэзии Вяч. Иванова: Сборники «Кормчие звезды» и «Прозрачность» // Минц З. Г. Поэтика русского символизма. СПб.: Искусство-СПБ, 2004.
(обратно)333
Несколько подробнее об этом в: Szilard L. Forma formans е forma formata: Dal simbolismo al concettualismo russo // Il tradimento del Bello: Le trans-figurazioni tra avanguardia e post-modernità / A cura di E. Agazzi e M. Lorandi. Milano: Mondadori, 2007. P. 27–48; Силард П. «Зеркало» Б. Пастернака // Studia Russica. Budapest, 2011. Vol. XXIV. P. 247–258.
(обратно)334
Демарш О. Введение // Иванов Вяч. Собрание сочинений. Т. 1. Брюссель, 1971. С. 63. Далее — ССВИ. Ср.: Мосап М. La trasparenza е il riflesso: Sull’alta fantasia in Dante. Milano: Mondadori, 2007. На эту книгу обратила мое внимание Чечилия Пило Бойль.
(обратно)335
Приведенные примеры взяты из книги «Прозрачность»: ССВИ. Т. 1. С. 747, 752, 782.
(обратно)336
Дешарт О. Введение. С. 63.
(обратно)337
ССВИ. Т. 1. С. 741.
(обратно)338
Там же. С. 738.
(обратно)339
Русская литература XX века. 1890–1910 гг. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. 3. Кн. 8. М.: Мир, 1918.
(обратно)340
Цит. по: Андрей Белый. Вячеслав Иванов // Андрей Белый. Поэзия слова; О смысле познания. Chicago: Russian Language Specialties, 1965. С. 18. (Репринт издания: Пг.: Эпоха, 1922).
(обратно)341
Ср.: R. Steiner «Die Philosophie der Freiheit» (1894, 1929), «Die Raäsei der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt» (1914), «Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung» (1886); H. Гартман «Система онтологии» (т. 1–4, 1933–1950).
(обратно)342
Правда, в комментариях книги «Символизм» (М.: Мусагет, 1910) Андрей Белый отсылает к Е. Блаватской, пересказывающей эзотерические учения о 6, а то и 8 уровнях.
(обратно)343
В «Хронологической канве жизни и творчества» (Лавров А. В. Андрей Белый в 1900-е годы. М.: Новое литературное обозрение, 1995) помечена только дата опубликования трактата, но в цитируемом мной издании указана дата — 1916 г. Трактат писался в пору, когда Андрей Белый уже познакомился со Штейнеровой практикой медитации, концентрации, контемпляции; см.: Спивак М. Иван Иванович Коробкин на путях посвящения // Sub Rosa: In honorem Lenae Szilard. Budapest: EFO, 2005. P. 555–570. Можно предположить, что тогда же он познакомился и со Штейнеровой интерпретацией процесса познания, представленной позднее в книгах: Steiner R. Kosmologie, Religion und Philosophie. Dornach (Schweiz): Philosophisch-Antroposophischer Verlag am Goetheanum, 1922; Steiner R. Die Zwolf Sinne des Menschen in ihrer Beziehung zu Imaginazion, Inspirazion, Intuition. Dornach (Schweiz): Rudolf Steiner Verlag, 1976.
(обратно)344
Из известного письма В. Ф. Асмусу от 3 марта 1953 г. См. также: Фатеева Н. Поэт и проза: Книга о Пастернаке. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 263.
(обратно)345
На эту метонимию обратил внимание А. К. Жолковский: Жолковский А. Место окна в поэтическом мире Пастернака // Russian Literature. 1978. Vol. VI. № 1. P. 1–8. Любопытно, что у Хлебникова в «Зангези» окно означает связь между человеческим и «зачеловеческим» мирами, ср.: «Мне, бабочке, залетевшей / В комнату человеческой жизни, / Оставить почерк моей пыли / По суровым окнам, подписью узника, / На строгих стеклах рока» (Хлебников В. Творения. С. 477).
(обратно)346
Пастернак Б. Из ранних прозаических опытов Пастернака // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. М.: Наука, 1977. С. 261. Может быть, здесь уместно будет напомнить, что в поле зрения Пастернака были работы и Г. Шпета, и П. Наторпа, о чем свидетельствуют его многочисленные конспекты студенческих лет. См.: Неопубликованные философские конспекты и заметки Бориса Пастернака. Т. 1–2. Stanford: Stanford Slavic Studies, 1996.
(обратно)347
Ходасевич В. Берлинское // Ходасевич В. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1989. С. 161–162.
(обратно)348
Липавский Л. Исследование ужаса. Цит. по: Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб.: Академический проект, 1995. С. 162. Ср. приговское предуведомление к азбуке «Арифметика»: «Ну, арифметика — не самый сложный раздел математики. Но это только так кажется. Это только в узком поле числово и буквенно обозначаемых квазиобъектов. Но если к этому подключить реальные объекты, да к тому же и разночувствующие, самовольные, а иногда и хаотические субъекты — вот вам и неведомая сложность в свете новых постоянно возникающих, самопорождающихся даже, как раскидывающиеся щупальцы осьминога гносеологии, новых осей и векторов измерений и постижений» (Азбука «Арифметика», 1997).
(обратно)349
Андрей Белый. Котик Летаев. München: Eidos Verlag, 1964. С. 157.
(обратно)350
Ср.: «Памятлив наш народ. Только как-то по-особенному, не по-временному, а по-вечностному» (с. 91).
(обратно)351
Филонов П. Н. Живопись, графика: Из собрания Государственного Русского музея: Каталог выставки. Л.: Аврора, 1988. С. 26.
(обратно)352
Дмитрий Александрович Пригов. Только моя Япония. С. 149.
(обратно)353
Ср. термин «гармонический осциллятор», которым оперирует в современной физике «теория струн»: Susskind L. The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design. New York: Little, Brown & Co., 2006; Lloyd S. Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes on the Cosmos. New York: A. A. Knopf, 2006; Vilenkin A. Many Worlds in One: The Search for Other Universes. New York: Hill & Wang, 2006.
(обратно)354
В файле — полужирный — прим. верст.
(обратно)355
Пригов Д. Мы о том, чего сказать нельзя // .
(обратно)356
Голынко-Вольфсон Дм. Читая Пригова: неоднозначное и неочевидное // Новое литературное обозрение. 2007. № 87. С. 268–290.
(обратно)357
Мотив Дракона у Пригова впитывает в себя непомерное количество ассоциаций из разных областей и разных трактовок восточных и западных драконологий, из указаний на которые отметим: Drachen // Biedermann Н. Knaurs Lexikon der Symbole. Wien 1989. S. 96–98; Dragon // Cirlot J. E. A Dictionary of Symbols. New York: Dorset Press, 1991. P. 85–89; Roob A. Alchemy & Mysticism. Köln: Benedikt Taschen Verlag, 1997; Элиаде М. Мефистофель и андрогин. СПб.: Алетейя, 1998; Свинцовые врата алхимии: История, символы, практика. СПб.: Амфора, 2002; Abraham L. A Dictionary of Alchemical Imagery. New York: Cambridge University Press, 2003; Calvesi M. Arte e alchimia. Firenze: Giunti, 1998; Alchimia: I testi della tradizione occidentale / A cura e con un saggio introduttivo di Michela Pereira. Milano: Mondadori, 2006.
(обратно)358
В эту по-игровому сконструированную ловушку попадаются и некоторые исследователи творчества ДАПа, в частности Дм. Голынко-Вольфсон, см. примеч. 1 на этой стр.
(обратно)359
Достаточно вспомнить об успехе драконьей серии романов Энн Маккефри и отметить сообщения в интернете о том, что драконология связана с мифологией, биологией, психологией, культурологией, теологией и оккультизмом, обратив внимание и на тематически выходящую за пределы этого перечня лекцию А. Н. Квашенко «Естественно-научное драконоведение», прочитанную на Малом мехмате МГУ в 2007 г.
(обратно)360
Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М.: Наука, 1970. С. 407–408.
(обратно)361
Там же. С. 403–404.
(обратно)362
Там же.
(обратно)363
Там же. С. 222.
(обратно)364
Barret F. The Magus (1801) // King F. Magic: The Western Tradition. London: Thames 8; Hudson, 1975. Ill. 21. Оседлать — значит овладеть; см.: Морозов Н. В поисках философского камня: Рассказ о попытках к превращению металлов. СПб.: Общественная польза, 1909. Ср. там же: «дракон символ мужского изменения вещества» (с. 77), «дракон <…> — символ первичного вещества» (с. 131).
(обратно)365
«Il nostro drago è la nostra materia cruda, cosi come scaturisce dalla terra <…> é alato a causa dello spirito e dell’anima, che devono essere in esso inseparabilmente legati, altrimenti non porta giovamente alia nostra arte…» (Manuscriptum ad Fridericum, цит. в итальянском переводе no: Alchimia: I testi della tradizione occidentale. P. 1126).
(обратно)366
Детальнейшее описание переходов от «чернотки» (nigredine), которая длится приблизительно 46 дней, через побеление, пожелтение и, наконец, покраснение (определяемое также как цвет рубина, золота или золотистости и заменяемое иногда зеленым цветом), с указанием на требуемую в ходе процесса смену температуры, соответствующую положениям солнца, и характеристикой конкретных значений цветовых изменений, можно найти в труде «La scala dei filosofi», открываемом ссылкой на Раймонда Луллия: Ibidem. Р. 747–749. См. также: Р. 969, 1046–1047, 1200–1202 (Praxis Ньютона).
Впрочем, в разных традициях алхимии последовательность в смене цвета бывает различной, устойчивой остается во всех вариациях последовательность: черный — белый — желтый — красный; см. об этом: Свинцовые врата алхимии. С. 215; Roob A. Alchemy & Mysticism. P. 682. В «Ренате и Драконе» основная последовательность в смене цвета выдержана: к примеру, обратим внимание на «беломраморного Димку», другого брата Рената, а также на все более акцентируемую белизну буддийской ступы — последнего пристанища Воопопа (с. 633).
(обратно)367
О «химическом браке» и роли преодоления бинера в процессе алхимических преобразований см.: Alchimia: I testi della tradizione occidentale. P. 761 (Praxis Ньютона), 1192–1193.
(обратно)368
Функционирование в тексте литературных реминисценций и всякого рода ассоциаций — отдельная большая тема.
(обратно)369
«Человек ведь на удивление приспосабливающееся существо, способное соорудить жизненную рутину, культурную паутину, так сказать, даже над разверстой и обжигающей бытийной пропастью» (с. 384).
(обратно)370
Зорин А. «Альманах» — взгляд из зала // Личное дело №… С. 263. Ср.: «<…> все что-нибудь да значит, помещенное в сильно искривляющее поле человеческой культуры» («Ренат и Дракон», с. 396).
(обратно)371
Силард Л. Ф. Сологуб и наследие герметизма в России начала XX века: (К символике «Творимой легенды») // На рубеже двух столетий. Сборник в честь 60-летия А. В. Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 607–624.
(обратно)372
Ср.: Дмитрий Александрович Пригов. Живите в Москве: Рукопись на правах романа. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 35.
(обратно)373
Их множество, и разнообразие, представленное в тексте, требовало бы специального описания, может быть, на основе сопоставления с символикой этого обряда, проанализированной в специальной литературе, ср.: Eliade М. Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy. Princeton: Princeton University Press, 1964; Shamanism / Compiled by Sh. Nicholson. London: The Theosophical Publishing House, 1987; Drury N. Shamanism. Shaftesbury: Element, 1996.
(обратно)374
См. примеч. 1 на с. 206.
(обратно)375
Дмитрий Александрович Пригов. Открытое письмо (к моим современникам, соратникам и ко всем моим) // Дмитрий Александрович Пригов. Советские тексты, 1979–84. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1997. С. 270. Сходную мысль, высказанную тоже по-игровому, можно найти и в романе «Душа патриота» Е. Попова: «Все мы когда-нибудь умрем и наши тела обратятся в прах, а бумага вечна, пусть даже и неопубликованная» (с. 141).
(обратно)376
Да и «квазиантропоморфного существования», «остатков антропоморфности» (Дмитрий Александрович Пригов. Живите в Москве. С. 25, 37), и «квазиантропологических существ, квазиантропологического существования полуотдельных человеческих тел», и «последней, страстно чаемой всеми утопии человечества: тотальности общеантропологических оснований» (Дмитрий Александрович Пригов. Только моя Япония. С. 101, 12).
(обратно)377
Соотношение повествований в стиле «фольклорных рассказов» с элементами наррации в «стиле фэнтези», как и обыгрывание возможностей стилистической многослойности повествования, тоже должно стать предметом специального исследования. Любопытно было бы, в частности, проследить, как в тексте ДАПа — в связи с мотивом храпа — обыгрывается интерпретация былины «Как Святые горы выпустили из каменных пещер своих русских могучиих богатырей», предложенная в антропософской работе: Прокофьев С. О. Духовные судьбы России и грядущие мистерии Святого Грааля. М.: Энигма, 1995, особенно с. 402–417 (см. также соответствующие примечания).
(обратно)378
На место эпистемологии в своем творчестве ДАП обращал внимание читателей не раз, определяя специфику своей позиции разными терминами, выбор которых, кажется, обуславливался каждый раз установкой на язык собеседника. Так, в интервью, данном Денису Иоффе и помещенном в интернет-журнале «Топос» 30 июля 2003 г., ДАП, в частности, говорит: «<…> я автор не метафизический и не описывающий онтологические основы бытия или даже языка. Я имею дело с эпистемологией. Посему все, кажущееся метафизическим или онтологическим, — просто примеры и цитаты, взятые для проведения над ними процедур испытания на прочность <…>». В романе «Живите в Москве» (2000), предназначенном широкому читателю, ДАП называет свой подход «гносеологической уловкой мерцания», которая означает: «не принимать окончательного решения, а как бы мерцать между двумя полюсами, оставаясь в зоне неразрешимости. Неразрешаемости, неулавливаемости для постороннего — да и собственного в не меньшей степени — окончательного нелицеприятного суждения. Подобное вполне совпадает со всеми современными стратегиями, поведениями в наисовременнейших искусствах. Правда, они мало кому понятны в своей радикальности и пресловутой наисовременности. Но все же. Именно в них употребляя различнейшие способы говорения, говорящий не влипает ни в одну из стилистик, а, как блоха на горячей сковородке, прыгает из одной в другую. Не задерживаясь ни в какой из них на длительное время, чтобы не влипнуть. Но в то же время не отлетая очень уж далеко и надолго, чтобы совсем не вылететь в зону неразличения» (с. 11–12). А в интервью, данном Славе Сергееву, в ответ на его замечание (в связи с «Ренатом и Драконом») о возможности существования искусства «без <…> мистических фокусов», ДАП — в который уже раз! — пояснил: «<…> ведь я же пишу не про мистику — я пишу про культурные феномены… Я пишу не про мистику, а про то, как работает язык, порождая это. Меня мало интересует, что за этим стоит реально или нереально… Для меня есть опыт культуры, искусства, языка, а не мистических откровений» (Дмитрий Александрович Пригов. Буквы. С. 8–9; см. также: prigov.ru/bukva/interv.php).
(обратно)379
«<…> в нашей карете вдобавок к собственным ее прелестям мы нашли гнездо скорпионов: почтенную родительницу с двумя дюжинами скорпионят на спине, отца, снох и прочих членов семейства. Я чуть было на них не села. Ямщик джаин упрашивал меня не предавать их лютой смерти. У него, видите ли, умерло несколько детей в этот год, и кто знает! Быть может, они все трансмигрировали в это интересное семейство…» (Блаватская Е. П. Дурбар в Лахоре: Из дневника русской / Блаватская Е. П. Загадочные племена на «Голубых Горах»; Дурбар в Лахоре. М.: Сфера, 1994. С. 177). Ср. также: Блаватская Е. П. Из пещер и дебрей Индостана. М.: Автор, 1991. С. 32. Ср.: Дмитрий Александрович Пригов. Живите в Москве. С. 26.
(обратно)380
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 361. Ср. также: «Мир как событие (а не как бытие в его готовости) <…>. Человек как свидетель всего бытия. Свидетель и участник» (Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. Т. 1. С. 423–424.
(обратно)381
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 361.
(обратно)382
Цит. по «самодельному изданию» (М., 1997).
(обратно)383
Дмитрий Александрович Пригов. Только моя Япония. С. 149.
(обратно)384
В этой публикации были использованы самиздатские материалы из архива Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете.
(обратно)385
Гуревич Л. Художники ленинградского андеграунда: Биографический словарь. СПб.: Искусство, 2007. С. 291–308.
(обратно)386
Достаточно вспомнить, что знаменитые выставки художников-нонконформистов Ленинграда во Дворце культуры имени Газа с 22 по 25 декабря 1974 г. («Газаневщина») и во Дворце культуры «Невский» с 10 по 20 сентября 1975 г. следовали за выставками московских неофициальных художников, в том числе за бульдозерной выставкой 15 сентября в Беляево и за разрешенной выставкой 29 сентября 1974 г. в Измайлово. См.: Газаневщина / Сост. А. Басин, Л. Скобкина. СПб.: Изд. ООО П.Р.П., 2004. С. 98.
(обратно)387
См. «Часы» (№ 1–11 — альманах; № 12–80 — журнал; 1976–1990) // Самиздат Ленинграда: 1950-е — 1980-е: Литературная энциклопедия / Под общей ред. Д. Я. Северюхина. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 463–465. Идея журнала родилась, подобно кривулинскому «37», как ответ официальной культуре и власти после запрета выпуска антологии неофициальных ленинградских поэтов «Лепта» (1975).
(обратно)388
Например, Борис Гройс под псевдонимом «И. Суицидов» публикует статью «Взгляд зрителя на духовное в искусстве» («37». 1976. № 2), под псевдонимом «Б. Глебов» — «Гегель и экзистенциальная философия» («37». 1976. № 6); под псевдонимом «Б. Иноземцев» он вместе с Татьяной Горичевой публикует «Феноменологическую переписку» («37». 1977. № 10–11; 1978. № 15) и т. д.
(обратно)389
Кривулин В. Золотой век самиздата: (Ленинградская подпольная журналистика) // Самиздат века. М.: Полифакт, 1999. С. 355. Ср.: #part3 (дата обращения: 02.12.2011).
(обратно)390
Стихи Всеволода Некрасова были также опубликованы в «37», 1979, № 17, с. 23–54. Ср.: Некрасов Вс. Стихи из журнала. М.: Прометей, 1989. Только в 1989 г. Всеволод Некрасов выпустил «за счет средств автора» свой первый сборник стихов. Название книги «Стихи из журнала» поясняет первая сноска: «Почти все, здесь собранное, в 78–79 году напечатано в ленинградском журнале „37“ — на машинке, тиражом 30 экземпляров». Ср.: Айзенберг М. Второе дыхание // Октябрь. 1990. № 11.
(обратно)391
Инфантэ Ф. Введение к артефакту // «37». 1979. № 19 (в разделе «Московский концептуализм»).
(обратно)392
Ср.: Берг М. Кривулин и Пригов // Звезда. 2011. № 10. magazines.russ.ru/zvezda/2011/10/bel2.html (дата обращения: 02.12.2011).
(обратно)393
Б.Г. Московский романтический концептуализм // «37». 1978. № 15. С. 50–65. Спустя год статья была перепечатана в первом номере тамиздатского журнала «А — Я» (Гройс Б. Московский романтический концептуализм. Первая часть: Лев Рубинштейн, Иван Чуйков. Вторая часть: Франциско Инфантэ, Андрей Монастырский // А — Я. Paris, 1979. № 1). Ср.: -moscow.org/page?id=1635 (дата обращения: 02.12.2011).
(обратно)394
Б.Г. Московский романтический концептуализм // «37». 1978. № 15. С. 50. Кроме предисловия (с. 50–53), статья Б. Гройса состоит из четырех частей, посвященных главным представителям романтического концептуализма: 1. Льву Рубинштейну (с. 53–57), 2. Ивану Чуйкову (с. 57–61), 3. Франциско Инфантэ (с. 61–63), 4. группе «Коллективные действия» (Никита Алексеев, Андрей Монастырский и др.) (с. 63–64).
(обратно)395
Там же. С. 53.
(обратно)396
Там же. С. 65.
(обратно)397
Рубинштейн Л. Из программы работ (1974–1976) // «37». 1978. № 15. С. 7–49. (Из книг «Autocodex 74» и «Это все» 1976 г.).
(обратно)398
Шейнкер М. [Предисловие к стихам Л. Рубинштейна] // Там же. С. 5–7. По словам М. Шейнкера, «тексты, входящие в подборку, принципиально не нуждаются ни в каких комментариях, расшифровках, идейных базисах, поскольку все это, как кажется, заключено в них самих» (с. 6).
(обратно)399
Некрасов Вс. Ленинградские стихи. Пушкин и Пушкин. Картинки с выставки Ильи Глазунова // Там же.
(обратно)400
А.М. По поводу статьи Б. Гройса «Московский романтический концептуализм» (октябрь 1978 г.) // «37». 1978. № 16 (Послесловие к разделу «Московский концептуализм: (Теория и практика)»).
(обратно)401
Б.Г. Поэзия, культура и смерть в городе Москва // «37». 1979. № 17. С. 3–19. Кроме статьи Бориса Гройса, в первом разделе журнала «37» под названием «Стихи и о стихах» были опубликованы подборки Всеволода Некрасова («Стихи». С. 20–53) и Дмитрия Пригова («Дабл-сборник: Часть 1. Апофеоз милицанера. Часть 2. Он. Из сборника „Стихи весны лета осени года жизни 1978“. Из сборника „Стихи двадцати лет опыта“». С. 54–74).
(обратно)402
Статья была перепечатана в 2010 г.: Гройс Б. Поэзия, культура и смерть в городе Москва // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007): Сборник статей и материалов / Под ред. Е. Добренко, И. Кукулина, М. Липовецкого, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 407–429.
(обратно)403
Гройс Б. Поэзия, культура и смерть в городе Москва: [Краткое предуведомление, 22.08.2007] // Неканонический классик. С. 407.
(обратно)404
Там же. С. 409.
(обратно)405
Там же. С. 408.
(обратно)406
Там же. С. 407–408.
(обратно)407
Главная цель Бориса Иванова была в создании нормальных условий для самиздатской публикации неофициальных писателей. Главными условиями журнала были открытость, демократизм и регулярность выпусков. Объем каждого номера — около трехсот страниц, в которые включены разделы поэзии, прозы, переводов, критики и искусства. См.: Кривулин В. Золотой век самиздата: Вступительная статья // rvb.ru/np/publication/00.htm#part7 (дата обращения: 22.12.2011).
(обратно)408
Иванов Б. Экспериментальная поэма Льва Рубинштейна // Часы. 1978. № 15. С. 243–247.
(обратно)409
Там же. С. 243.
(обратно)410
Там же.
(обратно)411
Первоначальная идея о независимой премии возникла у Бориса Останина. См.: Останин Б. «Быть вместо иметь…»: Интервью // Toronto Slavic Quarterly. 2002. № 2. (дата обращения: 02.12.2011). По мнению Бориса Иванова, премия Андрея Белого явилась первой в истории России. См.: Иванов Б. Первая в истории России независимая литературная премия // (дата обращения: 22.12.2011). Хочу напомнить, что по инициативе все той же редколлегии в 1977 и 1979 гг. были организованы конференции, посвященные культурному ленинградскому движению.
(обратно)412
Присуждение премий имени Андрея Белого: [Из редакции журнала] // Часы. 1978. № 15. С. 249 (13.12.1978 г.). «Выбор имени А. Белого был мотивирован новаторским духом его творчества и свободой от ангажированности. Премии должны вручаться ежегодно поэтам, прозаикам, критикам, произведения которых являются ощутимым вкладом в развитие гуманитарии (лауреатом необязательно должен быть автор журнала)». См. также: Иванов Б. Первая в истории России независимая литературная премия.
(обратно)413
Присуждение премий имени Андрея Белого. С. 249.
(обратно)414
Там же.
(обратно)415
Гройс Б. Речь при вручении премии // Там же. С. 250–251.
(обратно)416
В № 20 журнала «37» выходят две статьи Бориса Гройса — «Философия и время» под псевдонимом И. Суицидов и статья «Две культуры в единой культуре» («37». 1980. № 20).
(обратно)417
Я хочу еще напомнить, что в конце 1970-х гг. Виктор Кривулин параллельно с журналом «37» по предложению Сергея Дедюлина стал соредактором журнала «Северная почта». Журнал был посвящен исключительно проблемам теории и практики поэтического языка. Из-за давления КГБ на Кривулина и почти одновременного отъезда Татьяны Горичевой, Бориса Гройса и Сергея Дедюлина весной 1981 г. выпуск журнала «Северная почта» прекратился.
(обратно)418
В «Митином журнале» опубликованы следующие произведения Д.А. При-гова: «Добавления» (1985. № 6); «Пятьдесят девятая азбука (чеховских разговоров лошадей свифтовских о пении ангельском)» (1986. № 11); «Третий каталог обращений Дмитрия Алексаныча» (1986. № 12); «Русские стихи советского содержания на английском языке» (1989. № 30). Его творчество занимает особо важное место в журнале «Транспонанс» (1979–1987). См.: «Переписка Д. Пригова и Ры Никоновой» (1982. № 12. С. 32–64); «Имя бога» (1983. № 14. С. 51–54); «Отрывной календарь» (1983. № 15); «Преобразования» (1983. № 16. С. 73–80); «Не все ясно с первого взгляда» (1983. № 18. С. 93–98; см. также в начальном разделе «Проективная и концептуальная поэзия»); «После манифеста ирфаеризма. Переписка Ры Никоновой и Дмитрия Пригова про ирфаеризм» (1983. № 19. С. 7–17); «Сочинения» (1985. № 27. С. 21–24); «Сорок первая азбука» (1985. № 28. С. 37–38); «Вопросы Андрею Монастырскому» (1986. № 34); «Вечер в Юрмале» и «Граждане» (1987. № 36).
(обратно)419
Шнейдерман Э. Клуб 81 и КГБ // Звезда. 2004. № 4. magazines.russ.ru/zvezda/2004/8/sheil5.html (дата обращения: 02.12.2011).
(обратно)420
Пригов Д. Стихи // Обводный канал. 1982. № 2. С. 21–48. [Из частного архива Сергея Стратановского].
(обратно)421
Там же. 1983. № 4. [Из частного архива Сергея Стратановского].
(обратно)422
Гройс Б. Поэзия, культура и смерть в городе Москва. С. 429.
(обратно)423
Пригов Д. Осмелюсь сказать о Хлебникове // Обводный канал. 1983. № 4. С. 133–135. [Из частного архива Сергея Стратановского].
(обратно)424
В № 3 журнала «Диалог» К. Бутырина и С. Стратановского за 1981 г. была опубликована подобная анкета о творчестве Александра Блока. См. также: Северная почта. 1981. № 8. С. 38–64.
(обратно)425
Ср.: Анкетная икра Обводного канала // Транспонанс. 1986. № 34. [Из архива Бременского института Восточной Европы. F. 66].
(обратно)426
Ср.: Юрьев О. О лирической настоятельности советского авангарда // newkamera.de/nkr/oj_02.html (дата обращения: 02.12.2011).
(обратно)427
По словам Михаила Берга, «поэтика Пригова — удачное и остроумное отображение позднесоветской эпохи, но слишком тесная связь с социальной, идеологической и политической реальностью делает эту поэтику заложником времени» (Берг М. Кривулин и Пригов).
(обратно)428
Благодарю М. Г. Павловца за ценные обсуждения.
(обратно)429
В настоящее время риторику Некрасова, хотя и в несколько смягченной форме, продолжает в критических статьях о современной поэзии поэт и филолог Михаил Сухотин.
(обратно)430
Стихотворения Вс. Н. Некрасова цит. по авторскому сайту: levin.rinet.ru/FRIENDS/NEKRASOV. Стихотворение основано на ритмико-фонетических аллюзиях к арии Фигаро из оперы В. А. Моцарта «Севильский цирюльник».
(обратно)431
Губайловский В. Виноградная косточка // Новый мир. 2002. № 10.
(обратно)432
Кулаков Вл. О пользе практики для теории // Литературная газета. 1990. № 52. С. 5. Перепечатано в кн.: Кулаков Вл. Поэзия как факт. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 35–41.
(обратно)433
Житенев А. «Можно уж и я немножко скажу…»: Этос нетерпимости в творчестве Всеволода Некрасова // Полилог. 2010. № 3. С. 35–38 (polylogue.polutona.ru/upload/private/Polylogue_3_2010.pdf).
(обратно)434
В дискуссии по докладу, положенному в основу этой статьи, на Третьих Приговских чтениях в Венеции (10–11 октября 2012 г.).
(обратно)435
М. Г. Павловец, частное письмо автору статьи. 9 марта 2012 г.
(обратно)436
Цит. по: .
(обратно)437
Айзенберг М. Вокруг концептуализма (1994) // Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. М.: Гэндальф, 1997. Айзенберг цитирует стихотворение Пригова «Шестидесятая азбука (алмазная)» (1986) (сам Пригов квалифицировал его как текст для саунд-перформанса), название которого отсылает к буддистской «Алмазной сутре». Подробнее об этой аллюзии см. комментарии Пригова в интервью Александру Клейну (2003) для специализированного сайта, посвященного дзен-буддизму: klein.zen.ru/pravda/klassik/pc_prigovl.shtml.
(обратно)438
Об эволюции Пригова и о парадоксах его репутации в постсоветское время см.: Майофис М. Пригов и Державин: поэт после прижизненной канонизации; Кукулин И. Явление русского модерна современному литератору: Четыре романа Д. А. Пригова; Юсупова И. «Только мой» Пригов // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007): Сборник статей и материалов / Под ред. Е. Добренко, И. Кукулина, М. Липовецкого, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 281–304, 566–611, 680–688.
(обратно)439
См., например: Пригов Д. А. И не смейтесь, мы живем при демократии // (2006. 16 сентября).
(обратно)440
Подробнее см.: Кукулин И. Явление русского модерна современному литератору.
(обратно)441
См. интервью Некрасова о концептуализме: Грааль [самиздат]. Ленинград, 1981. № 9 (декабрь). С. 71–83. См. также: Некрасов Вс. Как это было (и есть) с концептуализмом//Литературная газета. 1990. № 31.1 августа. С. 8; Айзенберг М. Второе дыхание // Октябрь. 1990. № 11; Янечек Дж. Теория и практика концептуализма у Всеволода Некрасова // Новое литературное обозрение. 1993. № 5. С. 196–201; Он же. Всеволод Некрасов и русский литературный концептуализм // Новое литературное обозрение. 2009. № 99. С. 201–209.
(обратно)442
См. об этом: Тименчик Р. Д. Анна Ахматова в 1960-е годы. М.; Toronto: Водолей Publishers; The University of Toronto, 2005 (= Toronto Slavic Library. Vol. 2).
(обратно)443
Кулаков Вл. Несколько слов об особых заслугах: Речь при вручении Премии Андрея Белого Всеволоду Некрасову // Сайт Премии Андрея Белого. 2007 (magazines.russ.ru/project/bely/2007/kulak.html).
(обратно)444
См. об этом, например: Витте Г. «Чего бы я с чем сравнил»: Поэзия тотального обмена Д. А. Пригова // Неканонический классик. С. 106–122.
(обратно)445
В печати едва ли не первым указал на эту перекличку Михаил Айзенберг — в статье, впервые опубликованной в 1991 г. в журнале «Театр» (№ 4): «[Владлен Гаврильчик и Эдуард Лимонов] кажутся нам предтечами того сдвига поэтической традиции, который стал совершенно очевиден уже в работе Пригова и его последователей» (цит. по изд.: Айзенберг М. Некоторые другие. Вариант хроники: Первая версия // Айзенберг М. Взгляд на свободного художника (–31.html)).
(обратно)446
В файле — полужирный — прим. верст.
(обратно)447
Это наблюдение Некрасова, по-видимому, было основано на литературоведческой работе его жены А. И. Журавлевой, анализировавшей написанное двустишиями (или, точнее, сложными строфами с использованием смежной рифмовки) стихотворение Ф. И. Тютчева «Silentium!»: Журавлева А. И. Стихотворение Тютчева «Silentium!»: (К проблеме «Тютчев и Пушкин») // Замысел. Труд. Воплощение: Сборник статей, посвященный профессору С. М. Бонди / Под ред. В. И. Кулешова. М.: Издательство МГУ, 1977. С. 179–190.
(обратно)448
На использованную в статье Некрасова метафорику симультанного и взаимодополнительного действия мозговых полушарий, возможно, оказали влияние работы Вяч. Вс. Иванова о функциональной асимметрии головного мозга.
(обратно)449
Текст впервые опубликован в «литературном выпуске» журнала по современному искусству «А — Я» (Paris, 1985). На протяжении 1990-х гг. несколько раз перепечатывался в России в различных периодических изданиях.
(обратно)450
Библер B. C. Поэтика Всеволода Некрасова (или еще раз о «загадках слова») // Библер B. C. Замыслы: В 2 кн. М.: РГГУ, 2002. Кн. 2. С. 985–1001. См. также: Махонинова А. «Обернуть речь ситуацией»: Пространственность поэтической речи Всеволода Некрасова // Новое литературное обозрение. 2009. № 99. С. 231–242.
(обратно)451
На то, что для Пригова грамматическая эквивалентность могла выражаться в пространственных метафорах, указывает его предисловие к книге стихотворений Андрея Монастырского «Поэтический мир» (М.: Новое литературное обозрение, 2007). В нем Пригов уподобил ряды аналогичных стихотворений Монастырского цепочке роллов, едущих к потребителю на ленте транспортера японского ресторана фаст-фуд.
(обратно)452
Шапир М. И. «Versus» vs «prosa»: Пространство-время поэтического текста // Philologica. 1995. Вып. 2. № 3–4. С. 7–47.
(обратно)453
Павловец М. «Листки» Всеволода Некрасова и «карточки» Льва Рубинштейна — два подхода к одному принципу организации поэтической книги // Полилог. 2010. № 3. С. 13–21.
(обратно)454
Некрасов В. ЖИВУ ВИЖУ. М., 2002.
(обратно)455
Из позднего интервью: «Годы 55–60-й. Вуз, литобъединение. Влюбленности — взрослей, стихи осознанней. А главное, наверное, время. „Пришло время стихов“, — Эренбург писал. [То есть] время разбираться, что где — где стихи, а где так, строчки-столбики… Чем на ЛИТО и занимались. С острейшим интересом… <…> Больше того: думаю, тогда, после 53 года, вообще подошло время осознания искусства как факта, прав, достоинства этого факта, чтоб их отстаивать и с ними считаться» (Альчук А. Всеволод Некрасов: «Открытый стих…» // Интернет-газета «Взгляд». 2007. 20 февраля. ).
(обратно)456
Некрасов Вс. Как это было (и есть) с концептуализмом. С. 8.
(обратно)457
См., например, его переписку с Ры Никоновой: Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 269–282.
(обратно)458
Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб.: A-Cad, 1994. С. 404.
(обратно)459
Дмитрий Александрович Пригов — Анна Яхонтова. Отходы деятельности центрального фантома // Неканонический классик. С. 72–79.
(обратно)460
Дмитрий Александрович Пригов — Алексей Парщиков. «Мои рассуждения говорят о кризисе нынешнего состояния…»: (Беседа о «новой антропологии») // Неканонический классик. С. 15–29.
(обратно)461
Подробнее о Лукомникове см., например: Кукулин И. От перестроечного карнавала к новой акционности // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 257–261.
(обратно)462
Из многочисленных работ на эту тему см., например: Дмитриева Е. Е. Издание Гоголя: проблема этическая, эстетическая, текстологическая?; Великанова Н. Воля и неволя автора «Войны и мира»: (Издание рукописей и основного текста) // Проблемы текстологии и эдиционной практики: Опыт французских и российских исследователей / Под ред. М. Делона и Е. Дмитриевой. М.: ОГИ, 2003. С. 33–63.
(обратно)463
См. об этом статью, новаторскую и оригинальную по постановке проблемы, но, на мой взгляд, несколько упрощающую это понимание авторства в творчестве Кабакова: Watten В. Post-Soviet Subjectivity in Arkadii Dragomoshchenko and Ilya Kabakov // Postmodern Culture. 1993. Vol. 3. № 2.
(обратно)464
Пайн Б. Дж., Гилмор Дж. Х. Экономика впечатлений: Работа — это театр, а каждый бизнес — сцена. М.: Вильямс, 2005. В 2012 г. в Национальном исследовательском университете — Высшей школе экономики была организована первая в России магистратура по теме «Экономика впечатлений».
(обратно)465
Если же говорить о перекличках между визуальными и словесными произведениями Пригова, то и в тех, и в других знаки сакрального создаются из профанных, преходящих объектов, что продолжает преромантическую поэтику руин. Можно сказать, что в «мантрах» Пригова — медитативном распеве первой строфы пушкинского «Евгения Онегина» на «православный», «буддистский» и другие мотивы — производится ироническая реконструкция мультикультуралистского сакрального.
(обратно)466
См. об этом: Кузьмин Д. Постконцептуализм: как бы наброски к монографии // Новое литературное обозрение. 2001. № 50; Он же. После концептуализма // Арион. 2002. № 1; Кукулин И. Современный русский поэт как воскресшие Аленушка и Иванушка // Новое литературное обозрение. 2002. № 54; Он же. Every trend makes a brand // Новое литературное обозрение. 2002. № 56.
(обратно)467
Некрасов ссылался на этот текст в других своих статьях, но сведений о его публикации мне обнаружить не удалось.
(обратно)468
Харауэй Д. Манифест киборгов: Наука, технология и социалистический феминизм 1980-х / Пер. А. Гараджи // Гендерная теория и искусство: Антология. 1970–2000 / Под ред. Л. М. Бредихиной и К. Дипуэлл. М.: РОССПЭН, 2005. С. 322–377.
(обратно)469
См. обсуждение этих фильмов в беседе Пригова с А. Парщиковым.
(обратно)470
Альчук А. Саунд-поэзия Дмитрия Александровича Пригова в контексте его глобального проекта // Дмитрий Александрович Пригов. Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! Работы на бумаге, инсталляция, книга, перформанс, опера и декламация. М.: Московский музей современного искусства, 2008. С. 108–114; Рубинштейн Л. Профессия: Пригов // Подобранный Пригов. М.: РГГУ, 1997. С. 232.
(обратно)471
См., например: Дмитрий Александрович Пригов. Пятьдесят капелек крови. М.: Текст, 1993. С. 7; Дмитрий Александрович Пригов. Сборник предуведомлений к разнообразным вещам. М.: Ad Marginem, 1996. С. 89; Дмитрий Александрович Пригов. Советские тексты, 1979–84. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1997. С. 92; Дмитрий Александрович Пригов. Книга как способ нечитания // Точка зрения: Визуальная поэзия, 90-е годы. Калининград: Симплиции, 1998. С. 61; Дмитрий Александрович Пригов. Исчисления и установления: (Стратификационные и конвертационные тексты). М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 46.
(обратно)472
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин ММ. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Русские словари, 1996. Т. 5. С. 159–206.
(обратно)473
Искусство предпоследних истин: Беседа с Дмитрием Приговым // Альманах «Панорама». 1989. 17–24 февраля. С. 18.
(обратно)474
Цит. по: Obermayr В. Tod und Zahl: Transitive und intransitive Operationen bei V. Chlebnikov und D. A. Prigov // Wiener Slawistischer Almanach. 2005. Bd. 56. S. 230.
(обратно)475
Гройс Б. Экзистенциальные предпосылки концептуального искусства // «37». 1977. № 12. Интернет-версия: plucer.livejournal.com/71212.html; Borges J. Labyrinths. New York: New Directions, 1964. P. 39.
(обратно)476
См., например: Дмитрий Александрович Пригов. Мантра высокой русской культуры // ; Дмитрий Александрович Пригов. Факсимильное воспроизведение самодельной книги Дмитрия Александровича Пригова «Евгений Онегин Пушкина» с рисунками на полях работы Александра Флоренского. СПб.: Красный матрос; Митьки-либрис, 1998.
(обратно)477
Гройс Б. Московский романтический концептуализм // А — Я. 1979. № 1. С. 4–5.
(обратно)478
Пригов Д. А., Никонова Р., Сигей С. Переписка // Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 271.
(обратно)479
Davidson М., Hejitiian L., Silliman R., Watten B. Leningrad: American Writers in the Soviet Union. San Francisco: Mercury House, 1991. P. 46.
(обратно)480
Benjamin W. The Arcades Project. Cambridge, MA: Belknap, 1999. P. 460 (№ 2, 3). См. также: Benjamin A. Benjamins Modernity // The Cambridge Companion to Walter Benjamin. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 112–13; Comay R. Benjamin and the Ambiguities of Romanticism // Ibidem. P. 149.
(обратно)481
Цит. по: Komaromi A. The Material Existence of Soviet Samizdat // Slavic Review. 2004. № 63. P. 615.
(обратно)482
Д. А. Пригов, интервью с автором, 19 июля 2006 г.
(обратно)483
Дмитрий Александрович Пригов и студия «Музей Анны Термен». Россия, 2004 (интернет-версия: ); Broodthaers М. Interview with a Cat (1970). New York: Marian Goodman Gallery, 1995. CD; Idem. Pense-Bete (1964).
(обратно)484
Perloff M. Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2010; Goldsmith K. Uncreativity as a Creative Practice // epc.buffalo.edu/authors/goldsmith/uncreativity.html; Idem. Conceptual Poetics // poetryfoundation.org/dispatches/journals/2007.01.22.html.
(обратно)485
Perloff M. Russian Postmodernism: An Oxymoron? // Postmodern Culture. 1993. Vol. 3. № 2. muse.jhu.edu/journals/postmodern_culture/v003/3.2perloff.html.
(обратно)486
Dworkin C. The Fate of Echo // Against Expression: An Anthology of Conceptual Writing. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2011. P. xlviii.
(обратно)487
Ibidem. P. xlv.
(обратно)488
Perloff M. Unoriginal Genius: Walter Benjamin’s Arcades as Paradigm for the New Poetics // Études Anglaises. 2008. Vol. 61. № 2. P. 231.
(обратно)489
Prigov D. A. What More Is There to Say? // Third Wave: The New Russian Poetry. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992. P. 102.
(обратно)490
Данное исследование выполнено в рамках проекта «Литература самиздата: формы художественной саморефлексии» по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК-14.740.11.1118).
(обратно)491
Айзенберг М. Вокруг концептуализма // –6/html.
(обратно)492
Монастырский А. Предисловие к первому тому «Поездок за город» // Монастырский А. Эстетические исследования. Вологда: Герман Титов, 2009. С. 39.
(обратно)493
Деготь Е. Московский коммунистический концептуализм // Московский концептуализм. М.: WAM, 2005. С. 13.
(обратно)494
Монастырский А. Батискаф концептуализма // Московский концептуализм. С. 19.
(обратно)495
Эпштейн М. Тезисы о метареализме и концептуализме // Эпштейн М. Постмодерн в России. М.: Издательство Р. Элинина, 2000. С. 114.
(обратно)496
Кабаков И. Пыль, грязь и мусор // Кабаков И. Тексты. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2010. С. 434.
(обратно)497
В этой связи, разумеется, следует прежде всего упомянуть проект «Библиотека московского концептуализма Германа Титова».
(обратно)498
Суицидов И. Философия и время // «37». 1980. № 20. С. 17.
(обратно)499
Там же. С. 18.
(обратно)500
Там же. С. 26.
(обратно)501
Там же. С. 29.
(обратно)502
Там же. С. 30.
(обратно)503
Там же. С. 31–32.
(обратно)504
Некрасов Вс. Концепт как авангард авангарда // Некрасов Вс., Журавлева А. Пакет. М.: Меридиан, 1996. С. 284.
(обратно)505
Некрасов Вс. Как смотрим // Там же. С. 277.
(обратно)506
Некрасов Вс. Концепт как авангард авангарда. С. 287.
(обратно)507
Некрасов Вс. Что это было // Там же. С. 205.
(обратно)508
Суицидов И. Искусство и проблема понимания // Часы. 1979. № 21. С. 171–172.
(обратно)509
Гройс Б. Объяснение как творчество // Беседа. 1984. № 2. С. 109.
(обратно)510
Суицидов И. Нулевое решение // Часы. 1980. № 28. С. 205.
(обратно)511
Суицидов И. Искусство и проблема понимания. С. 193.
(обратно)512
Суицидов И. Об искренности философской речи // Часы. 1982. № 37. С. 164.
(обратно)513
Там же. С. 165.
(обратно)514
Некрасов Вс. Концепт как авангард авангарда. С. 288.
(обратно)515
Там же. С. 295.
(обратно)516
Некрасов Вс. Объяснительная записка // Некрасов Вс., Журавлева А. Пакет. С. 303.
(обратно)517
Некрасов Вс. Концепт как авангард авангарда. С. 285.
(обратно)518
Там же. С. 285.
(обратно)519
Некрасов Вс. Концепт как авангард авангарда. С. 289, 290–291.
(обратно)520
Там же. С. 292.
(обратно)521
Суицидов И. Об искренности философской речи. С. 173.
(обратно)522
Там же. С. 173.
(обратно)523
Суицидов И. Нулевое решение. С. 206.
(обратно)524
Там же. С. 207.
(обратно)525
Там же. С. 211.
(обратно)526
Там же. С. 218.
(обратно)527
Некрасов Вс. О польской поэзии // Некрасов Вс., Журавлева А. Пакет. С. 248.
(обратно)528
Там же. С. 255.
(обратно)529
Некрасов Вс. Как смотрим // Там же. С. 277.
(обратно)530
Гройс Б. Экзистенциальные предпосылки концептуального искусства // Московский концептуализм. С. 334–335.
(обратно)531
Там же. С. 335.
(обратно)532
Там же. С. 336.
(обратно)533
Там же. С. 339.
(обратно)534
Там же. С. 341.
(обратно)535
Гройс Б. Московский романтический концептуализм // Там же. С. 351.
(обратно)536
Гройс Б. Московский романтический концептуализм. С. 351.
(обратно)537
Некрасов Вс. Концепт как авангард авангарда. С. 295.
(обратно)538
Там же. С. 297.
(обратно)539
Некрасов Вс. Объяснительная записка. С. 300.
(обратно)540
Там же. С. 302.
(обратно)541
Некрасов Вс. Как смотрим. С. 276.
(обратно)542
Некрасов Вс. Объяснительная записка. С. 301.
(обратно)543
Улитин П. П. Разговор о рыбе. М.: ОГИ, 2002.
(обратно)544
Улитин П. П. Макаров чешет затылок. М.: Новое издательство, 2006.
(обратно)545
Улитин П. П. Путешествие без Надежды. М.: Новое издательство, 2006.
(обратно)546
Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в культуре 1920–2000-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 46.
(обратно)547
См., например: Липовецкий М. Паралогии; Fokkema D. The Semiotic of Literary Postmodernism // International Posmodernism: Theory and Practice / Ed. by D. Fokkema and H. Bertens. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamin’s Publ., 1997. P. 15–42. О специфике постмодернизма см. также, например: Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996; Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998.
(обратно)548
Гройс Б. Московский романтический концептуализм // А — Я. 1979. № 1. С. 3–11.
(обратно)549
См. мемориальный сайт Улитина в составе Русской виртуальной библиотеки: rvb.ru/ulitin/index.html (дата обращения: 05.12.2011).
(обратно)550
Там же.
(обратно)551
Улитин П. П. Путешествие без Надежды. С. 129.
(обратно)552
Улитин П. П. Разговор о рыбе. С. 36.
(обратно)553
Зиник З. Какой-то пошлый мадригал // Эмиграция как литературный прием. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 69.
(обратно)554
Айзенберг М. Памятка: Предисловие // Улитин П. П. Макаров чешет затылок. С. VI. См. также предисловие М. Айзенберга к публикации на сайте colta.ru:.
(обратно)555
Зиник З. Приветствую ваш неуспех: Предисловие // Улитин П. П. Разговор о рыбе. С. 14.
(обратно)556
Улитин П. П. Путешествие без Надежды. С. 71.
(обратно)557
Пригов Д. А. Что надо знать о концептуализме: [Запись публичной лекции, 1998 г.] // azbuka.gif.ru/important/prigov-kontseptualizm (дата обращения: 05.12.2011).
(обратно)558
Wolf G. Im Blick der Augen — Erwachen am Augenblick // Claus C. Zwischen dem Einst und dem Jetzt: Sprachblätter. Texte. Aggregat K. Versuchsgebiet K. Ausst.-Kat. Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen. Berlin: Januss Press, 1993. S. 85–88; Augen Blicke Wort Erinnern: Begegnungen mit Carlfriedrich Claus / Hrsg. von G. Wolf. Berlin: Janus Press, 1999; Gilbert A. Das Auge: Der blinde Fleck der Selbstbeobachtung // Gilbert A. Bewegung im Stillstand: Erkundungen des Skriptualen bei Carlfriedrich Claus, Elizaveta Mnatsakanjan, Valeri Scherstjanoi und Cy Twombly. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2007. S. 183–205.
(обратно)559
Bach C. Dosen, Zeitungen und russischer Schnee // Dmitrij Prigov. Arbeiten 1975–1995 / Hrsg. vom Städtischen Museum Mülheim a. d. Ruhr, Ludwig Museum Budapest, Musée dArt Moderne Saint-Etienne. Mühlheim a. d. Ruhr, 1995. S. 10–12; Мундт К. «Мы видим или видят нас?»: Власть взгляда в искусстве Д. А. Пригова // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007): Сборник статей и материалов / Под ред. Е. Добренко, И. Кукулина, М. Липовецкого, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 655–667.
(обратно)560
Ср.: Schrift. Zeichen. Geste: Carlfriedrich Claus im Kontext von Klee bis Pollock / Hrsg. von I. Mössinger, B. Milde. Köln: Wienand Verlag, 2005; Дмитрий Александрович Пригов. Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! Работы на бумаге, инсталляция, книга, перформанс, опера и декламация. М.: Московский музей современного искусства, 2008.
(обратно)561
Ср.: Scherstjanoi V. Carlfriedrich Claus und die russischen Futuristen // Schrift. Zeichen. Geste. S. 146–151. В середине 1980-х гг. были созданы листы, посвященные русским футуристам, среди них в 1985 г. — «Микроконтакт-Комбинат. Велимиру Хлебникову», исполненный пером и тушью на прозрачной бумаге с двух сторон, и «Заумный портрет Крученых III», исполненный углем (Claus С. Zwischen dem Einst und dem Jetzt. S. 47–48, 49).
(обратно)562
О его занятии фотографией см.: Flügge М. «Elementare Experimente mit Photo-Natur»: Carlfriedrich Claus fotografiert // Claus C. «Geschrieben in Nachtmeer»: Sprachblätter, Radierungen, Fotografie und Lautprozesse: Ausst.-Kat. Eine Ausstellung der Akademie der Künste, Berlin, in Zusammenarbeit mit den Kunstsammlungen Chemnitz, Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv. Konzeption Matthias Fliigge und Brigitta Milde. Berlin, 2011. S. 36–41.
(обратно)563
Интересно отметить, что в его ранней статье, написанной в 1956 г. в защиту Пикассо, глаз фигурирует уже в качестве гаранта истинности суждения о произведениях искусства: «Eine solche, man möchte sagen, mit geschlossenen Augen vorgenommene Charakterisierung mancher Arbeiten lässt sich meines Erachtens nur auf die Einengung des Begriffs „Realismus“ zurückführen, die notwendigerweise zu einer falschen Einschätzung aller Kunstwerke führen muß» («Подобное, хочется сказать, закрытыми глазами сделанное суждение о некоторых работах можно, по моему мнению, объяснить только сужением понятия „реализм“, которое неизбежно приведет к ложной оценке всех произведений искусств»; перевод мой. — А.Р.), опубл. в журнале: Bildende Kunst. 1956. Hft. 7. S. 398.
(обратно)564
Ср.: Flügge M. Claus im «Kontext DDR» // Claus C. «Geschrieben in Nachtmeer». S. 172–174.
(обратно)565
Ср.: Дмитрий Александрович Пригов. Собрание стихов, т. 1. Wiener Slawistischer Almanach. 1996. Sond. 42.
(обратно)566
Ср.: Зубова Л. Д. А. Пригов: Инсталляция словесных объектов // Неканонический классик. С. 542–543.
(обратно)567
Он создал, например, бумажные манипулятивные объекты и серии текстовых объектов «Банки».
(обратно)568
Ср.: Янечек Дж. Серийность в творчестве Д. А. Пригова // Неканонический классик. С. 501–512.
(обратно)569
Цит. по: Claus С. Zwischen dem Einst und dem Jetzt. S. 87 (перевод мой. — A.P.)-.
Пейзаж Совсем нежно следует луч по округлости глаза Между Наклонными и крутыми разделенными прямыми дрожащая линия Совсем легко обводит она глаз (обратно)570
Ibidem (перевод мой. — А.Р.):
Один глаз ясный Другой плывет в туманах Которые все плотнее его несут Один является ясным Другой также Только совсем по-другому (обратно)571
Ibidem. S. 86 (перевод мой. — А.Р.):
В темноту закрытых век отражает кровь пульсируя свет В темноте закрытых век образует свет кристалловидный поток (обратно)572
Claus С. Zwischen dem Einst und dem Jetzt. S. 107.
(обратно)573
Аннетте Гильберт подробно проанализировала лист «Начало письма Виллу Громану» (1963), посвященный проблеме самонаблюдения, в котором человек одновременно и смотрит, и является объектом наблюдения (Gilbert A. Bewegung im Stillstand. S. 187–188).
(обратно)574
Weigel V. Der giildene Griff // Weigel V. Ausgewählte Werke / Hrsg. und eingel. von S. Wollgast. Berlin: Union, 1977; здесь цит. и пер. по: Claus С. Zwischen dem Einst und dem Jetzt. Sprachblätter. S. 87.
(обратно)575
Ibidem.
(обратно)576
Ср.: Giese A. Die Freimaurer — Eine Emführung. Wien: Böhlau, 1998; Biedermann H. Knaurs Lexikon der Symbole. Augsburg: Weltbild Verlag, 2000.
(обратно)577
Мундт К. «Мы видим или видят нас?». С. 655.
(обратно)578
Ср. также издание: Дмитрий Александрович Пригов. Пятьдесят капелек крови в абсорбирующей среде. М.: Текст, 1993.
(обратно)579
Ср.: Стригалев А. Пройдемся по выставке «ноль — десять» («0,10») // Русский авангард: Проблемы репрезентации и интерпретации: Сборник по материалам конференции, посвященной выставке «Музей в музее: Русский авангард из коллекции Музея художественной культуры в собрании Государственного Русского музея» (Санкт-Петербург, Русский музей, 1998). СПб.: Palace Editions, 2001. С. 71–109.
(обратно)580
Письмо Казимира Малевича Михаилу Гершензону из Витебска от 11 апреля 1920 г. Цит. по: Малевич о себе. Современники о Малевиче: Письма. Документы. Воспоминания. Критика: В 2 т. / Авторы-составители И. А. Вакар, Т. Н. Михиенко. М.: RA, 2004. Т. 1. С. 127.
(обратно)581
Шатских А. Малевич — куратор Малевича // Русский авангард: Проблемы репрезентации и интерпретации. С. 149.
(обратно)582
Bach С. Dosen, Zeitungen und russischer Schnee. S. 11.
(обратно)583
Такое истолкование восходит, наверное, к мифу о египетском боге Хорусе. В борьбе за престолонаследие его брат Сет вырвал ему левый глаз, так называемый лунный глаз. Позже Хорус получил свой глаз обратно, но из-за перенесенных страданий он стал и прототипом жертвоприношений.
(обратно)584
Ср.: Дмитрий Александрович Пригов. Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! С. 82–87.
(обратно)585
Там же. С. 228–229.
(обратно)586
Дмитрий Александрович Пригов. Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! С. 92–93.
(обратно)587
См. илл. 5 к статье Катрин Мундт в книге «Неканонический классик» между с. 384 и 385.
(обратно)588
Prigov D. A. L’inebriante Stella delia poesia russa / Trad. it. di V. Piccolo // Schegge di Russia / A cura di M. Caramitti. Roma: Fanucci, 2002. P. 173–180; Idem. Sette nuovi racconti su Stalin; I rappresentanti della bellezza nella storia e nella cultura russe; E con la morte calpestò i nemici / Trad, di G. Marcucci // Mosca sul palmo di una mano: 5 classici della letteratura contemporanea / A cura di G. Denissova. Pisa: Plus; Pisa University Press, 2005. P. 39–44; Idem. Eccovi Mosca / Trad, di R. Lanzi. Roma: Voland, 2005. О том, как обстоят дела с прозой Пригова в переводе на итальянский, пишет главный редактор римского издательства «Voland», в котором вышел перевод романа «Живите в Москве»: Di Sora D. Nota dell’editore // Prigov D. Eccovi Mosca. P. 5–7.
(обратно)589
Prigov D. A. La vita ci è data una volta sola / Trad, di V. Parisi // Dmitrij A. Prigov: [Каталог выставки] / A cura di M. Tavola. Lecco: Galleria Melesi, 2009. P. 64–67; Idem. Concettualismo / Trad, di V. Parisi // Ibidem. P. 83–85.
(обратно)590
Prigov D. A. Il campo di Kulikovo e altre poesie: [5 poesie e 2 testi] / Trad, di P. Pera // Linea D’Ombra. 1991. № 64. P. 43–45; Idem. [9 poesie] / Trad, di A. Niero // Si scrive. 1997. P. 322–328; Idem. [1 poesia] / Trad, di M. Caramitti // Schegge di Russia. P. 171; Idem. [16 poesie] / Trad, di P. Galvagni // La nuova poesia russa / A cura di P. Galvagni. Milano: Crocetti, 2003. P. 56–69; Idem. [10 poesie] / Trad, di A. Niero // In Forma di Parole. 2005. № 2. P. 122–139; Idem. [1 testo] / Trad, di M. La Greca // Mosca sul palmo di una mano. P. 117–120; Idem. [34 poesie] / Trad, di P. Galvagni // Poesia. 2006. № 206. P. 54–58; Idem. [10 poesie] / Trad, di A. Niero // Atti del convegno «Il dialogo fra le culture: Il problema del multiculturalismo», Sassari 2001 / A cura di A. Cattani. Sassari: Edizioni R&R, 2007. P. 124–132; Idem. [6 poesie] / Trad, di A. Niero // Dmitrij A. Prigov: [Каталог выставки]. P. 102–103; Idem. [1 poesia] / Trad, di M. Caramitti // CaramittiM. Letteratura russa contemporanea. Bari: Laterza, 2010. P. 114. Idem. Banale ragionamento sul tema della libertà: [8 poesie] / Trad, di P. Galvagni // Piccola antologia della poesia russa dal dopoguerra a oggi / A cura della redazione di EaST Journal. estjournal2.files. wordpress.com/2010/05/piccola-antologia-poesia-russa.pdf.
(обратно)591
О Пригове-художнике см.: Di Pierantonio G. [Testo introduttivo] // Prigov: [Каталог выставки]. Lecco: EFFE Arte Contemporanea, [1997]; Parisi V. Dal «baluginio» alla «nuova sincerità»: Strategic autorali nell’opera di Dmitrij Aleksandrovič Prigov // Avanguardia. 2006. № 31. P. 95–118; Idem. Contro Gutenberg: Variazioni samizdat sul tema del libro d’artista // Progetto Grafico. 2007. № 11. P. 36–41; Burini S. Il fecondissimo nulla: Alcuni esempi di semiotica dello zero nel concettualismo russo // Annali di Ca’ Foscari. Rivista della Facolta di Lingue e Letterature Straniere dell’Universita Ca’ Foscari di Venezia: [L’opera incompiuta]. 2008. Vol. 47. № 2. P. 191–223; Misiano V. Prigov e la sua mole // Dmitrij A. Prigov: [Каталог выставки]. P. 12–14; Tavola M. Parola di Prigov // Ibidem. P. 7–11.
(обратно)592
См.: Prigov: [Каталог выставки]; Dmitrij A. Prigov: [Каталог выставки].
(обратно)593
См.: Дмитрий Пригов: Dmitri Prigov / Редактор Д. Ю. Озерков. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2011.
(обратно)594
Вторая планируется к концу 2012 — началу 2013 г. в издательстве «Voland».
(обратно)595
См.: Prigov D. A. Trentatre testi / A cura di A. Niero. Crocetta del Montello: Terra Ferma, 2011. Книга целиком состоит из текстов, почерпнутых из: Дмитрий Александрович Пригов. Написанное с 1975 по 1989. М.: Новое литературное обозрение, [1997].
(обратно)596
О Пригове-поэте по-итальянски напечатано очень мало. Очень часто это переводы с русского: Ajzenberg M. N. Dmitrij Prigov: La parodia e la maschera / Trad, di P. Galvagni // Poesia. 2006. № 206. P. 50–53; ŠapirM.I. Sui limiti di lunghezza del verso nel «vers libre» (D. A. Prigov e altri) / Trad, di M. La Greca // Mosca sul palmo di una mano. P. 103–116; Krivulin V. B. Mezzo secolo di poesia russa / Trad, di P. Galvagni // La nuova poesia russa. P. 19, 21; Kuz’min D.V. Introduzione / Trad, di P. Galvagni // La nuova poesia russa. P. 13. Немного было написано итальянцами: Caramitti М. Letteratura russa contemporanea. P. 113–115; Niero A. Del tradurre Prigov in italiano: Due versioni con tentativo di «autoanalisi» // Russica Romana. 2004. № XI. P. 199–213; Idem. La persistenza della poesia dall’Urss alia Russia // Otto poeti russi. P. 292–300; Idem. Intorno a Prigov (con qualche traduzione) // Atti del convegno «Il dialogo fra le culture: Il problema del multiculturalismo». P. 113–123. См. также воспоминания о нем: Burini S., Niero A., Piretto G. P. Omaggio a Dmitrij Prigov: Con uno scritto e due disegni inediti // eSamizdat. 2007. Vol. V. № 3. P. 7–12; Cattani A. Introduzione // Atti del convegno «Il dialogo fra le culture: Il probleraa del multiculturalismo». P. 9–13.
(обратно)597
Дело, конечно, не сводится только к этому, а влечет за собой проблему восприятия, т. е. насколько сильно отличается русская переводческая традиция от итальянской. В Италии, например, четкого разграничения между подстрочником и переводом нет, и средний читатель склонен подходить к свободным «подстрочечным» стихам именно как к стихам tout court.
(обратно)598
У меня невольно даже получился каламбур, которого в оригинале нет, и устранять его я не стал: «Pure i cechi fra loro non si cavano gli occhi» (cechi по-итальянски звучит так же, как ciechi, т. е. «слепые», поэтому в переводе оказалось предложение: «да и чех/слепой чеху глаз не выклюет»).
(обратно)599
Etkind E. G. Un art en crise: Poetique de la traduction poétique. Lausanne: L’Age d’Homme, 1982. P. 22–26.
(обратно)600
См.: Carnero R. Trentatre testi. Dalla Russia con dolore // L’Unita. 2011. 3 luglio. P. 39; Parisi V. I demoni di Prigov evocati in performance sonore // Il Manifesto. 2011. 24 giugno. P. 11; Mirakyan N. Il concettualismo di Prigov // La Repubblica. Inserto «Russia Oggi». 2011. 28 ottobre. russiaoggi.it/articles/2011/10/27/il_concettualismo_di_prigov_12783.html.
(обратно)601
См.: Malcovati F. [Recensione a: Prigov D. A. Trentatré testi] // Sfogliando la Russia. 2011. № 16. -vr.it/content/sfogliando-la-russia-16-periodico-di-segnalazione-delle-novità-editoriali-russe-cura-di-.
(обратно)602
Имеются в виду такие тексты, как: «Я всю жизнь свою провел в мытье посуды…», «Банальное рассуждение на тему свободы», «Я выпью бразильского кофе…», «В полуфабрикатах достал я азу…», «Когда тайком я мусор выносил…», «Вот плачет бедная стиральная машина…», «Как я пакостный могуч…», «Вот на кухню выхожу…».
(обратно)603
R. Galaverni, e-mail. 1 ottobre 2011.
(обратно)604
По этому поводу хотелось бы уточнить, что я ничего не имею против верлибра, просто решил поступить иначе: я стремился к тому, чтобы на техническом уровне тексты Пригова как можно больше напоминали традиционные стихи.
(обратно)605
Гаспаров М. Л. Стилистическая перспектива в переводах художественной литературы // Взаимообогащение национальных советских литератур и художественный перевод / Под ред. С. Джолдосева. Фрунзе: Киргизский государственный университет, 1987. С. 10.
(обратно)606
См.: Poesia italiana della contraddizione. L’avanguardia dei nostri anni: 43 autori in una antologia / A cura di F. Cavallo e M. Lunetta. Roma: Newton Compton, 1989. P. 204–206.
(обратно)607
Ferroni G. Storia della letteratura italiana. 4 vol. Torino: Einaudi, 1991. Vol. 4. P. 508.
(обратно)608
Брейтбурд Г. С. На стороне разума: О современной итальянской литературе. М.: Советский писатель, 1978. С. 14.
(обратно)609
Там же.
(обратно)610
Там же. В этом отношении возможна еще одна параллель: стремление Рубинштейна к деидеологизации языка путем использования как можно большего числа нейтральных предложений и приговское очищение от идеологии, кристаллизованное в языке через саму идеологию.
(обратно)611
Брейтбурд Г. С. Указ. соч. С. 17.
(обратно)612
См. также: Там же. С. 128–134, 229–239; Кин Ц. И. Миф. Реальность. Литература: Итальянские заметки. М.: Советский писатель, 1968. С. 294–318; Голенищев-Кутузов И. Н. От сумеречников к неоавангардистам: (Итальянская поэзия XX века) // Вопросы литературы. 1968. № 6. С. 105–109. Не все придерживались такого строгого мнения. При представлении «неоавангарда» советской публике в авторитетной антологии «Итальянская лирика. XX век» Е. М. Солонович подходит к нему гораздо более «нейтрально», профессионально-литературоведчески: «Продолжают поиски в области формы представители литературной „Группы 63“ Э. Пальярани, А. Джулиани, Э. Сангвинети; начатые в конце пятидесятых годов, поиски эти носят открыто полемический, эскпериментальный характер (полемику несет в себе уже само слово „неоавангард“, присутствующее в каждом критическом выступлении этих поэтов) и тоже основаны на стремлении начать все сначала» (Солонович Е. М. От составителя // Итальянская лирика. XX век / Сост. Е. Солонович. М.: Прогресс, 1968. С. 25).
(обратно)613
Mengaldo P. V. Premessa // Caproni G. Quaderno di traduzioni / A cura di E. Testa. Torino: Einaudi, 1998. С. IX.
(обратно)614
Maurizio M. [Recensione inedita]. 19 agosto 2011.
(обратно)615
«Милые вещи дурного вкуса — / Пусть они дурного вкуса / Но зато они милые, а без них / Желание их иметь нисколько / Не только дурное, а также / Справедливое, ведь не сами / Вещи дурны, а те, кто / Позволяет себе их так определить — de gustibus / non disputandum est — следовательно / дурной вкус именно у тех, кто считает дурными / вещи дурного вкуса, но милые». См.: Niero A. D.A.P.: modalità d’uso // Prigov D. A. Trentatré testi. P. 107.
(обратно)616
См.: Etkind E. G. Un art en crise. P. 26–27.
(обратно)617
«Те, кто там, наверху, импровизируют реформы / А мы-то здесь внизу, за этим и следим прямо как простофили, / а очень хочется брякнуть: „га…ы“ — / В очередной раз вы вынимаете у меня из кармана бабки // Предупредили бы раньше, что мы / Вот-вот и упадем в вонючее горшище / Что мы оказываемся в кризисе глобально — / Нужен был бы комиссарио Монтальбано! / Или Каттани… / Реформы такие / Делает спрут!».
(обратно)618
Авторизованный перевод с английского Фриды Свердловой.
(обратно)619
Пока нет филологически безуречного издания «Азбук», мы отсылаем к файлу, который нам прислал сам автор. Он в основном совпадает с версией «Азбук» на сайте Пригова (prigov.com/azbuki; дата обращения: 29.12.2011), отсутствуют только указания на визуальные «Азбуки». В файле мы читаем, например, после 17-й «Азбуки» следующее: «(Азбуки 18 и 19 — визуальные, 1985)».
(обратно)620
По Ожегову, это шестое и последнее значение глагола «описать»: «Совершить криволинейное движение. О. дугу в воздухе. Скользя, о. полукруг».
(обратно)621
«Суверенная» азбучная речь является источником и таким образом и предмет (обратной) индексальной сигнификации бессмысленных и бессильных приговских азбук.
(обратно)622
В конце концов конференция состоялась как памятная и прошла в Берлине 11–12 июля 2008 г. под названием «Prigov lesen» («Читая Пригова»). Сборник по материалам докладов выйдет в Берлине.
(обратно)623
Эти переводы были собраны в сборнике: Prigow D. Der Milizionär und die Anderen. Leipzig: Reclam-Verlag, 1992.
(обратно)624
Деррида Ж. Шиболетт. Пер. с франц. и коммент. Е. Лапицкого. 2-е изд., испр. и доп. СПб, 2012. С. 56.
(обратно)
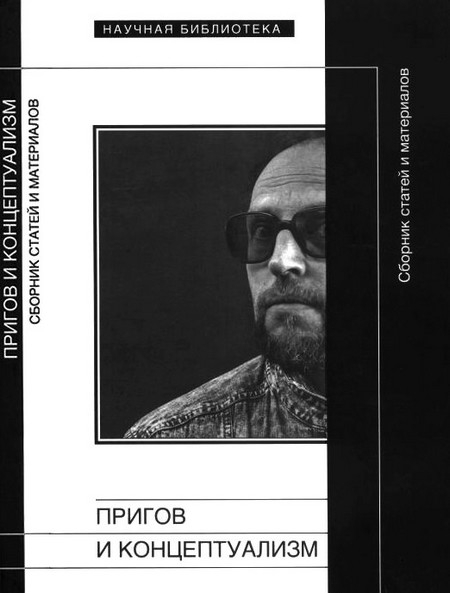

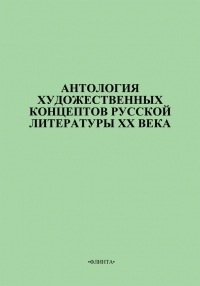
Комментарии к книге «Пригов и концептуализм», Владимир Васильевич Абашев
Всего 0 комментариев