Альберто Мангель Гомер: «Илиада» и «Одиссея»
Посвящается Крэйгу, жителю Итаки
От автора
Чтобы чтение этой книги было более лёгким, в своей работе я предпочёл пользоваться более распространёнными версиями гомеровских имён, называя Улиссом Одиссея и Ахиллесом Ахилла. Сэмюэль Батлер в своё время отметил: «Не думаю, что вариант Гекаба вытеснит из употребления вариант Гекуба до тех пор, пока не забыты строки “Что он Гекубе, что ему Гекуба”»[1] Однако живи он в нашу эпоху, скорую на забвение, возможно, он повременил бы с этим заявлением…
Также следует отметить, что я неверно использую термин «греки» и признаю это. Силы, объединившиеся против Трои, состояли из ахейцев, данаев и аргивян, а собирательный термин «греки» был введён гораздо позже, во времена экспансии Рима. В данной работе я говорю «греки» для большей краткости. Также и слово «эллины» (которое я всё же употребил единожды или дважды) в действительности не соответствует ни историческим, ни географическим данным, приведённым у Гомера, так как относится лишь к небольшому участку южной Фессалии.
Нумерация гомеровских строф различается от перевода к переводу. При написании данного труда я пользовался версиями «Илиады» и «Одиссеи» пера Роберта Фаглза — перевод этот является, на мой взгляд, одним из самых изящных и совершенных. Остальные переводы неанглоязычных авторов выполнены лично мной (в том случае, если не указано иное). [В русскоязычном тексте сочинения Гомера цитируются в классических переводах Гнедича и Жуковского. Перевод цитируемых англоязычных текстов, если в списке литературы не указано иное, выполнен Лидией Кисляковой — прим. перев.]
Хотелось бы назвать тех, кто помог мне в моей работе: Антонио Басанта Рейес, Кармен Криадо, Сильвия Ди Сеньи Обиольс, Лючи Пабель, Готтвальт Панков, Артуро Рамонеда, Марта Ройо, Жан-Кристоф Саладин, Гильермо Шавельзон, Марио Клаудио Викарио — я от всей души благодарю их. Также приношу благодарность Тоби Мунди из Grove Atlantic за то, что он отнёсся к моему проекту с таким вниманием, и Брюсу Вествуду и всем сотрудникам «WCA», которые первыми начали активно продвигать мою книгу.
А что касается литературной критики… А. Э. Хаусман, например, сказал следующее: «Знание — это прекрасно, метод — прекрасно также; однако важнее всего, чтобы на плечах была голова, а не тыква, а в голове — мозги, а не пудинг». Признаюсь, что в долгом процессе создания этой книги мне не раз приходилось задумываться — удовлетворяю ли я этим требованиям?
Альберто Мангель,
Модион,
16 августа 2006
Вступление
Всякое произведение искусства — это либо «Илиада», либо «Одиссея».
Раймон Кено, предисловие к «Бювару и Пекюше» ФлобераЗанятно, что те две книги, которые больше любых других питали воображение Запада дольше двух с половиной тысячелетий, не имеют ни чётко выраженного начала, ни неоспоримого автора. Гомер рождался задолго до Гомера. «Илиада» и «Одиссея» никогда не были традиционными литературными произведениями. Вероятнее всего, они возникали постепенно, складываясь как знаменитые народные легенды в неуловимом процессе отсеивания и смешивания подробностей, и, даже обретя единую литературную форму, уже считались чересчур архаичными к VIII веку до н. э., когда, как принято считать, жил и творил Гомер. Гомер — слепой аэд, ради подаяния обходивший со своими песнями города древней Греции, много веков считался автором «Илиады» и «Одиссеи». По прошествии времени его стали считать некой аллегорией поэтического вдохновения, частично собирательным образом, частично просто выдумкой, — воплощённой поэзией древности. В конце концов, мнение о том, что Гомер является не более чем вымыслом, утвердилось, и в 1850-ые годы Густав Флобер сыронизировал над ним в своём «Словаре клише», книге, которая предлагала представителям буржуазии современные остроумные ответы на высказывание собеседника: «ГОМЕР: никогда не существовал»[2].
Мы ничего не знаем о Гомере. Однако дело обстоит иначе с его книгами. Не будет ошибкой утверждать, что наше знакомство с «Илиадой» и «Одиссеей» начинается задолго до того, как мы открываем первую страницу. Ещё не будучи захваченными страстями, бушующими в груди у Ахиллеса, ещё не начав восхищаться отвагой и находчивостью Улисса, мы уже предчувствуем, что книга, повествующая нам о великой войне и великом путешествии, повествует также о неком общем опыте людской борьбы и странствий. Если верны те метафоры, которые уподобляют жизнь величайшей битве и долгой дороге, то, вне зависимости от того, были ли «Илиада» и «Одиссея» написаны с опорой на это знание или сами породили его, читатель и книга оказываются как бы зеркалами, которые бесконечно отражают друг друга. Учитывая неясное происхождение двух этих эпосов, большинство учёных полагают, что «Илиада» и «Одиссея», авторство которых приписывается Гомеру, были сначала разрознёнными текстами разных жанров. «Лишь позже, в слиянии друг с другом, они сформировали два единых масштабных произведения в том их виде, в каком они знакомы нам сейчас. Одно из них повествует о трагедии, разыгрывающейся под стенами отдельно взятого города, Трои, осаждаемой врагом; другое — о приключениях отдельно взятого человека, Улисса, который на пути домой преодолевает множество опасностей. В глазах будущих читателей Гомера Троя стала прообразом всех городов, а Улисс — прообразом самой человеческой судьбы.
Биография книги — не то же самое, что биография её автора. Это, однако, не совсем справедливо в случае Гомера и его творчества. Здесь нити судеб сплетены так плотно, что сейчас уже невозможно точно определить, какие события предваряли другие. Был ли сначала слепой певец, который поведал о разрушении Трои и о долгом путешествии греческого царя к родному дому, или же сначала появились истории о жажде войны и о тоске по миру, которые лишь после записи стали претендовать на достоверность. В глазах читателя автор и его произведение всегда находятся в тесной взаимосвязи. Есть книги, герои которых сотворены столь вдохновенным словом, что затмевают истинную личность самого автора, как, например, Дон Кихот Сервантеса или Гамлет Шекспира. В свою очередь, существуют писатели, чья жизнь, как сам о себе отзывался Оскар Уайльд, есть чаша, переполненная их гением, и чьи книги есть плоды этого гения[3]. В нашу эпоху принято относить Гомера и его поэмы к первой категории, но ведь были и времена, когда читатели не усомнились бы в их принадлежности к последней…
Никто, даже самый страстный почитатель, не способен до конца познать «Илиаду» и «Одиссею». Впрочем, то же можно сказать и о любой другой книге: каждое очередное прочтение накладывается на предыдущие, и интерпретации испещряют страницы текста, словно трещины — скалу; первоначальный, чистый текст (если таковой вообще когда-либо существовал) становится практически неразличимым. Поэтому когда, закрывая книгу, мы думаем: «Ну, теперь-то я разобрался в “Илиаде” и “Одиссее”», — мы имеем в виду лишь то, что разобрались в истории, столькими до нас изученной, пересказанной, переведённой, адаптированной, и в то время, как суждения других о тексте ещё отдаются у нас в ушах, мы пытаемся оценить его с позиций собственных вкусов и предпочтений, подобно тому, как в гуле настраивающегося оркестра вдруг слышится мелодия солиста. Так Китс впервые открыл Гомера в переводе Чапмена. Так Джойс преследовал Улисса в сутолоке Дублина. Для таких попыток вникнуть в Гомера строгое соответствие хронологии не представляет ценности, так как прочтения оказывают влияние друг на друга, преодолевая временные барьеры. Ведь никому не приходит в голову обвинять в непоследовательности Блаженного Августина, изучавшего Гомера по Гёте, или Гераклита, расстроенного комментариями Джорджа Стайнера!
Вуаль предыдущих прочтений не только заслоняет от нас оригинальный текст, или то, что учёные по договорённости признают за таковой. Рассказывают, что один английский священник, потрясая Библией короля Якоба и своим гневом ввергая паству в трепет, кричал с амвона: «Это не Библия! — и затем, после продолжительной паузы: — Это перевод Библии!» Кроме того ограниченного числа счастливцев — учёных владеющих древнегреческим языком, — все те, кто читает Гомера, читают не Гомера, а перевод Гомера. Среди них есть те, кому повезло держать в руках издание Александра Поупа или Роберта Фаглза; но есть и те, кому суждено довольствоваться «дословной» версией Т. С. Брэндрета или напыщенным интерпретационным переводом Ф. Л. Лукаса.
Перевод — по своей сути искусство спорное. Удивительно видеть, как труды, подобные «Илиаде» и «Одиссее», созданные силой слова и потому до известной степени зависящие от точности словоупотребления в языке перевода, преодолевают эти границы и воплощаются в языках, которые даже не существовали во времена возникновения оригинала. Сравним: Mênin aeide, théa, Peleiadeo Achilleos… — «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» — таков знакомый нам перевод первой строфы «Илиады». Но что Гомер имел в виду под aeide «воспой», под théa «богиня», под mênin «гнев»? Вирджиния Вулф отметила следующее: «Кичиться знанием древнегреческого — тщета и тупоумие, и все мы в нашем невежестве подобны самым ленивым и неумным школьникам. Разве знаем мы, как звучали на этом языке слова? Где в тексте нам следует разражаться хохотом? Как играли акт`ры? Колоссальная разница между нами и народом Древней Греции — не столько в расе или языке, сколько в разногласии традиций»[4].
«Разногласие традиций» существует даже между современными языками. Старомодное английское «wrath», «гнев», вызывает в памяти образы тигров Блейка и гроздьев Стейнбека; оно отлично от немецкого «Zorn», гремящего военной мощью и яростью, которые так явственно проступают в песне Эммануэля Гейбеля: «Гнев над Родиной священ…»[5].Оно отлично и от французского «colére», которое в период экзистенциализма Симона де Бовуар определила как страсть, «рожд`нную любовью, чтобы умертвить любовь»[6].Что же делать читателю при такой путанице? Читать и продолжать задавать вопросы…
Несмотря на такие сложности, великая книга способна пережить самые неточные переводы. Даже когда мы читаем строки Брэндрета о «многих душу губящих вещах / в таблицы впечатлённых»[7], которые и ему самому были не по вкусу, гнев Ахиллеса или тоска Улисса так или иначе затронут наши душевные струны, напоминая нам наши собственные чувства, обращаясь к чему-то в наших сердцах, что присуще не нам одним, но всему человечеству. В 1990 году Министерство культуры Колумбии ввело в действие систему передвижных библиотек, которые развозили книги жителям отдалённых сельских регионов. Для этой цели вместительные рюкзаки с книгами навьючивали на спины ослов, доставлявших их в дебри джунглей и в пустынные сьерры. Доставленные книги на несколько недель отдавались на попечение учителю или старейшине деревни, фактически становившемуся ответственным библиотекарем. Подавляющее большинство книг составляли работы по технике, сельскому хозяйству, а также образцы вышивок и так далее; однако была и художественная литература. Однажды, по словам одного из «библиотекарей», не досчитались одной книги: «Это был единственный случай, когда книгу не вернули, — отметила она. — Мы тогда, помимо обычной для нас литературы, заказали «Илиаду» в испанском переводе. Когда подошло время возвращать её, жители деревни отказались это сделать. Мы решили подарить её им, однако попросили объяснить, почему им так захотелось оставить у себя именно эту книгу. Они признались нам, что история Гомера, как им показалось, отражает их собственную жизнь: в раздираемой войной стране, где безумные боги бродят среди людей, а сами люди не ведают, за что сражаются, будут ли когда-либо счастливы, а если погибнут, то во имя чего»[8].
В финале «Илиады» Ахиллес, убивший Гектора в отместку за смерть своего друга Патрокла, даёт согласие на то, чтобы отец Гектора Приам пришёл забрать бездыханное тело сына. Это одна из самых сильных, самых проникновенных сцен, какую мне доводилось читать. Внезапно оказывается, что победитель и побеждённый, старик и мужчина во цвете лет, отец и сын — равны. Слова Приама вызывают в душе Ахиллеса скорбь по его собственному отцу; он мягко останавливает Приама, желающего поцеловать ему руки:
Так говоря, возбудил об отце в нём плачевные думы; За руку старца он взяв, от себя отклонил его тихо. Оба они вспоминая: Приам — знаменитого сына, Горестно плакал, у ног Ахиллесовых в прахе простёртый; Царь Ахиллес, то отца вспоминая, то друга Патрокла, Плакал, и горестный стон их кругом раздавался по дому[9].В конце Ахиллес говорит Приаму, что оба они должны сложить с сердца печаль, чтобы обрести покой.
Сердца крушительный плач ни к чему человеку не служит: Боги судили всесильные нам, человекам несчастным, Жить на земле в огорчениях; боги одни беспечальны. Две глубокие урны лежат перед прагом Зевеса, Полны даров: счастливых одна и несчастных другая. Смертный, которому их посылает, смесивши, Кронион, В жизни своей переменно и горесть находит и радость: Тот же, кому он несчастных пошлёт, — поношению предан; Нужда, грызущая сердце, везде по земле его гонит; Бродит несчастный, отринут бессмертными, смертными презрен[10].В этом было утешение и Ахиллеса, и Приама; возможно, и для жителей той колумбийской деревушки это звучало утешительно.
Краткий пересказ «Илиады» и «Одиссеи»
«Илиада»
Ещё до того как разворачивается действие «Илиады», жена Менелая, прекрасная Елена, была похищена Парисом, сыном Троянского царя Приама и его жены Гекубы, родителей также Гектора, женатого на Андромахе, и прорицательницы Кассандры. Чтобы вызволить Елену, брат Менелая Агамемнон осаждает Трою с огромной армией; в числе воинов — знаменитые Аякс, Диомед, Улисс, умудрённый годами Нестор, Патрокл и его друг, величайший воин из всех — Ахиллес, сын богини Фетиды.
Осада продолжалась десять лет. В борьбу вступили боги, чьи предпочтения разделились: на стороне осаждённых — Афродита, чей сын Эней — троянец, Аполлон и бог войны Арес; на стороне греков — мать Ахиллеса нимфа Фетида, богиня мудрости Афина, повелитель морских вод Посейдон и жена Зевса Гера.
Песнь I. На десятый год Троянской войны греческая армия под предводительством Агамемнона расположилась на морском берегу недалеко от города. Жрец Аполлона Хрис просит Агамемнона вернуть его дочь Хрисеиду, похищенную Агамемноном и ставшую его рабой. Его просьбы отвергаются. Хрис обращается за помощью к Аполлону, и бог насылает на греков мор. Созвав совет, греки решают: чтобы умилостивить Аполлона, нужно вернуть рабыню троянцам. Агамемнон соглашается, требуя, однако, чтобы взамен ему отдали Брисеиду, возлюбленную Ахиллеса. Ахиллес оскорблён и отказывается от дальнейшего участия в войне. Вслед за ним уходят Патрокл и верные солдаты. Ахиллес просит свою мать отомстить за его унижение, и Фетида убеждает Зевса сражаться на стороне троянцев. Гера возражает против этого, и лишь вмешательство их сына Гефеста мирит супругов-небожителей.
Песнь II. Агамемнон видит сон, предвещающий победу греков над троянцами. Решив проверить, вещий ли этот сон, он предлагает воинам снять осаду и вернуться домой. К его удивлению, воины единодушно соглашаются. Один из воинов, Терсит, вызывает волнение в рядах греков, осмелившись высказаться против их предводителей. Порядок восстанавливает Улисс. Эпизод завершается перечислением воинов троянской и греческой армий.
Песнь III. Воюющие стороны встречаются на равнине неподалёку от Трои и заключают перемирие. Парис и Менелай, однако, не отступаются от Елены. Со стен Трои Елена указывает на греков Приаму. Афродита спасает Париса от смерти и переносит его обратно за спасительные стены города.
Песнь IV. Боги снова вмешиваются в ход событий. Гера требует, чтобы перемирие было нарушено. Афина подговаривает Пандарея, сражающегося на стороне троянцев, совершить покушение на Менелая. Менелай ранен.
Песнь V. Заручившись поддержкой Афины, Диомед атакует троянцев, в том числе Афродиту, помогающую Энею, и Ареса, который пытается воссоединить силы Трои.
Песнь VI. Битва. Грек Диомед встречает Главка, ликийца, сражающегося за Трою, они становятся друзьями и отказываются далее участвовать в войне. Гектор возвращается в Трою и приносит жертву Афине. Он произносит пламенную речь перед Еленой и своей женой Андромахой, а также перед Парисом, упрекая брата, не вышедшего на поле боя. Вняв укорам Гектора, Парис присоединяется к войску.
Песнь VII. Парис и Гектор вновь вступают в битву. Гектор вызывает на сражение Аякса, однако исход боя неясен. Троянцы предлагают заключить перемирие, чтобы обе армии могли похоронить своих мёртвых. В это время греки, следуя совету Нестора, укрепляют свой лагерь.
Песнь VIII. Зевс вдохновляет троянцев, запрещая, однако, другим богам принимать участие в войне. Греки отступают к своему лагерю, в то время как осаждённые занимают позиции за стенами Трои.
Песнь IX. Обеспокоенный продвижением троянцев, Нестор предлагает Агамемнону послать Аякса, а с ним — Феникса, учителя Улисса и Ахиллеса, чтобы те убедили Ахиллеса вновь присоединиться к осаждающим. Ахиллес, несмотря на то, что кроме возвращения Брисеиды ему предлагают руку дочери Агамемнона, отказывается.
Песнь X. Нестор вносит следующее предложение: согласно ему, Диомед и Улисс под покровом ночи отправляются разведать ситуацию противника. Поймав Долона, троянского разведчика, они узнают от него достаточно, чтобы умертвить нескольких воинов Трои.
Песнь XI. Троянцы под предводительством Гектора оттесняют греков к их кораблям, ранив при наступлении Агамемнона, Диомеда и Улисса. Ахиллес замечает, как троянцы уносят одного из своих раненых, и посылает Патрокла узнать, кто это был. Нестор просит Патрокла вступить в схватку в доспехах Ахиллеса, чтобы устрашить врага, заставив его поверить, будто Ахиллес вновь сражается на стороне греков.
Песнь XII. После ухода Патрокла Гектор со своими солдатами проникают в греческий лагерь через пролом в стене.
Песнь XIII. Бой ведётся у самого моря. Троянцы стремятся завладеть кораблями греков. Посейдон вдохновляет греков на активное сопротивление. Гектора и его отряд останавливает Аякс.
Песнь XIV. Зевс засыпает под влиянием чар Геры, которая таким образом помогает Посейдону и далее воодушевлять греков. Аякс наносит Гектору серьёзное ранение.
Песнь XV. Зевс просыпается и укоряет Геру. Затем он требует, чтобы Посейдон оставил своё занятие, а Аполлон излечил Гектора. Под натиском троянцев греки снова отступают к своим кораблям.
Песнь XV/. Патрокл возвращается в шатёр Ахиллеса и облачается в его доспехи. Тем временем Гектор и его войско, потеснив Аякса и его отряд, поджигают один из греческих кораблей. Появившийся Патрокл заставляет троянцев отступить к городу. Забыв о совете Ахиллеса не преследовать врага слишком далеко, Патрокл подходит к самым стенам Трои, где его обезоруживает и ранит своей стрелой Аполлон. После ещё одного ранения, полученного от троянца Эвфорба, Патрокл погибает от руки Гектора.
Песнь XVII. Гектор разоблачает Патрокла, тело которого греки уносят в лагерь. Битва продолжается под предводительством Менелая и Аякса со стороны осаждающих, Гектора и Энея со стороны осаждённых.
Песнь XVIII. Ахиллесу становится известно о гибели Патрокла. Преисполнившись ярости и скорби, он принимает решение отомстить за друга. Фетида обещает, что Гефест выкует ему новые доспехи, однако предвещает, что за смертью Гектора последует его собственная. Тело Патрокла возвращают в греческий лагерь. Ахиллес получает от Гефеста прекрасные доспехи и роскошный щит.
Песнь XIX. Улисс уговаривает Агамемнона и Ахиллеса примириться. Ахиллес облачается в новые доспехи, готовясь идти в бой. Верный конь Ксанф предрекает его близкую кончину.
Песнь XX. Переменив своё решение, Зевс позволяет богам вступить в битву. Разгневанный Ахиллес идёт в наступление на троянцев. Посейдон спасает от смерти Энея, Аполлон — Гектора. Войско троянцев отступает.
Песнь XXI. Ахиллес препятствует отступлению на реке Скамандр, одного за другим умерщвляя троянских воинов. Заполненная трупами, река вздымает свои воды, однако Гефест усмиряет её силой огня. Начинается бой богов друг против друга, Афина наносит ранения Аресу и Афродите. Боги возвращаются на Олимп, но перед тем Аполлон отвлекает внимание Ахиллеса, предоставляя тем самым возможность троянцам укрыться за стенами города.
Песнь XXII. Под стенами Трои Ахиллес встречается с Гектором, ждущим его. При приближении противника Гектор, однако, пытается убежать. Вновь вмешиваются боги: Афина воодушевляет Гектора на гибельную для него схватку с Ахиллесом. Сразив Гектора, Ахиллес привязывает тело поверженного врага к колеснице и тащит по земле до лагеря греков, оставляя Приама и родных Гектора в ужасе и скорби.
Песнь XXIII. Ночью Ахиллеса посещает призрак Патрокла, просящий скорого погребения. На следующий день Ахиллес устраивает другу пышные похороны, сопровождающиеся спортивными играми.
Песнь XXIV. Тело Гектора одиннадцать дней лежит непогребённым. Следуя советам богов, Приам посещает лагерь греков, чтобы предложить Ахиллесу выкуп за тело сына. Победитель соглашается. Разделив с Ахиллесом трапезу, Приам возвращается в Трою с останками Гектора. Поэма заканчивается сценой похорон Гектора и плача троянских женщин, ведомых Андромахой, по погибшим в ходе войны.
«Одиссея»
Действие «Одиссеи» разворачивается через десять лет после падения Трои. По взятии города разбойничье поведение некоторых воинов-победителей возмутило богов, в особенности Афину. Несмотря на то, что на протяжении осады она держала сторону греков, теперь она поднимает на море сильнейший шторм, задерживая корабли в пути. И хотя Афина всё же сохраняет доброжелательное отношение к Улиссу, ему не было позволено вернуться домой к верной жене Пенелопе, которая вот уже семь лет отвечает отказом многочисленным претендентам на её руку. Посейдон и Аполлон стремятся отомстить Улиссу за то, что тот за время своих странствий ослепил сына Посейдона циклопа Полифема, а его товарищи употребили в пищу священный скот Аполлона. И вот Улисс находится на далёком острове, пленённый нимфой Калипсо, которая добивается его любви.
Песнь I. Совет богов. Афина обращается к Зевсу с вопросом, почему тот отвернулся от Улисса. Громовержец отвечает, что виной всему гнев его брата Посейдона, однако теперь, когда Посейдон отбыл к блаженному народу эфиопов, Улисс может продолжить путешествие домой. Афина, обернувшись Ментесом, другом Улисса, предводителем моряков с острова Тафос, посещает Телемаха, сына Улисса, и советует ему предпринять шаги против поклонников его матери. Она также сообщает ему, что он сможет узнать о судьбе своего отца от Нестора, царя Пилоса, и Менелая, царя Спарты.
Песнь II. Телемах созывает совет, где произносит речь, направленную против настойчивых ухажёров Пенелопы. Несмотря на пламенные речи, возбудить гнев против сватающихся к царице не удаётся. Телемах покидает Итаку и отправляется в Пилос в сопровождении Афины, на этот раз принявшей обличье Ментора, друга Улисса.
Песнь III. Поведав Телемаху о возвращении после взятия Трои таких героев, как Менелай и Агамемнон, Нестор тем не менее не может ничего рассказать о судьбе Улисса. Телемах и Афина отправляются в Спарту вместе с сыном Нестора Писисистратом.
Песнь IV. Прибыв в Спарту, Телемах и его спутники получают тёплый приём со стороны Менелая и его жены Елены, ставшей вновь законной царицей. Менелай рассказывает, как по пути на родину из Трои слышал от морского старца о пленении Улисса нимфой Калипсо. В это время в Итаке раскрывается тайный отъезд Телемаха. Ухажёры Пенелопы планируют вероломное убийство её сына, когда тот будет возвращаться в Итаку.
Песнь V. Боги на совете решают послать Гермеса к Калипсо с приказом отпустить Улисса. Калипсо нехотя подчиняется желанию богов. Улисс уплывает прочь на построенной им самим лодке, однако проходит только семнадцать дней прежде, чем Посейдон, обнаружив его, насылает шторм, который топит челн. Израненный Улисс добирается до берега земли феакийцев.
Песнь VI. Царевна Навсикая и её свита, стирающие одежды и играющие на берегу в мяч, находят Улисса. Улисс молит царевну оказать ему гостеприимство, и она дарит ему одежду и приглашает в отцовский дворец.
Песнь VII. Улисс просит помощи у родителей Навсикаи, царя Алкиноя и его жены Ареты, однако рассказывает им лишь о некоторых из случившихся с ним событий, утаивая, кто он такой. Алкиной предлагает ему остаться и взять в жёны Навсикаю.
Песнь VIII. Алкиной устраивает в честь своего гостя роскошный пир, где слепой певец Демодок повествует об Улиссе и его ссоре с Ахиллесом, а также о взятии Трои с помощью деревянного коня. Улисс плачет при воспоминании об этом. Позже, во время спортивных игр Улисс вызывают продемонстрировать свою силу.
Песнь IX. Улисс наконец раскрывает себя и рассказывает, что случилось с ним с момента падения Трои: о том, как он и его товарищи вышли на двенадцати кораблях, об их нападениях на союзников Трои, о землях пожирателей лотосов и об острове циклопов, где греки стали заложниками циклопа Полифема, который держал их в своей пещере и съедал по одному. Улисс объясняет, как избежал смерти, ослепив Полифема, а затем назвавшись никем, и как он совершил побег из пещеры, забравшись под брюхо барана из отары Полифема. До того, как покинуть остров, он назвал своё имя, и тогда Полифем поклялся, что попросит у своего отца Посейдона отмщения.
Песнь X. Улисс продолжает свой рассказ. Он и его товарищи достигли берегов плавучего острова, где жил бог Эол, одаривший их сумкой, в которую были заключены все ветра, кроме западного. Пока Улисс спал, другие открыли сумку, и ветра, вырвавшись, принесли корабли обратно к острову Эола. На этот раз бог отказался помогать им. Достигнув земель великанов-лестригонов, греки потеряли одиннадцать кораблей. Улисс и те из его товарищей, кто был на единственном уцелевшем корабле, прибыли на остров Эя, где волшебницей Цирцеей некоторые моряки были превращены в свиней, а Улисс стал её возлюбленным. По прошествии года Улисс попросил обольстительницу позволить ему отправиться в путь, однако она наказала ему сначала спуститься в Аид и спросить совета у прорицателя Тиресия.
Песнь XI. Улисс рассказывает о своём путешествии в подземное царство. Когда он и его товарищи созвали мёртвых, Тиресий предрёк ему, что по достижении берегов родной Итаки странствия Улисса не окончатся. Кроме Тиресия Улисс говорит с духами своей покойной матери, Агамемнона, Ахиллеса и Геракла.
Песнь XII. Улисс завершает свой рассказ. Пройдя между чудовищами Сциллой и Харибдой, а также проплыв мимо сладкоголосых сирен, пением манивших моряков на погибель, Улисс и его спутники достигли берегов острова, где пасся священный скот Аполлона. Несмотря на запрет причинять вред скоту, голод вынудил их убить нескольких овец. Когда об этом стало известно Аполлону, он пришёл с жалобой к Зевсу. В качестве наказания отец богов уничтожил корабль и умертвил товарищей Улисса, оставив в живых лишь его самого. Улисс провёл девять дней в море на обломках корабля, пока наконец его не прибило к острову Калипсо. Что случилось далее, слушателям уже известно.
Песнь XIII. Алкиной осыпает Улисса щедрыми дарами и отправляет в путь. Заснув на борту корабля феакийцев, Улисс просыпается на берегах родной Итаки. Ему является Афина, одетая юношей; Улисс пытается скрыть от богини, кто он такой, однако она всё знает и обещает помочь ему избавиться от тех, кто сватается к Пенелопе. Затем Афина переодевает Улисса в старого бродягу.
Песнь XIV. Улисс рассказывает выдуманные истории о себе, развлекая свинопаса Евмея, приютившего его в своей хижине.
Песнь XV. Евмей рассказывает Улиссу о своей жизни. Тем временем Телемах покидает Спарту и возвращается домой, взяв в спутники прорицателя Теоклимена. Телемаху удаётся счастливо избежать западни, уготованной ему ухажёрами его матери.
Песнь XVI. Телемах посещает хижину свинопаса, где встречает отца. Улисс объясняет сыну, что чтобы справиться с женихами Пенелопы, им обоим следует соблюдать осторожность. Те же, вернувшись с неудачного преследования Телемаха, строят новые планы.
Песнь XVII. Телемах возвращается во дворец и разговаривает с матерью. В это время козопас Мелант, верный женихам Пенелопы, при виде Евмея и его гостя начинает оскорблять Улисса, одетого бедняком. У дворца пёс Улисса Аргус узнаёт хозяина, и сердце его разрывается от радости. Улисс просит у сватающихся к Пенелопе подать ему какой-нибудь еды, однако вместо этого один из них кидает в царя табуретом.
Песнь XVIII. Бродяга Ирус вызывает Улисса на кулачный бой, в котором проигрывает. Появляется Пенелопа, принимающая подношения от женихов. Девушка из прислуги начинает высмеивать Улисса, однако тот грозит ей, что расскажет о её поведении царевичу. Один из основных претендентов на руку Пенелопы, Евримах, оскорбляет Улисса и, разъярившись, когда Улисс отвечает ему в подобном же тоне, кидает в него скамейкой, однако попадает в виночерпия.
Песнь XIX. Наставляемые Афиной, Улисс и Телемах выносят из зала оружие. Снося продолжающиеся оскорбления прислуги, Улисс рассказывает Пенелопе о том, что якобы когда-то развлекал её мужа и что тот уже на пути домой. Старая няня Эвриклея во время омовения ног Улисса узнаёт царя по шраму, однако Улисс умоляет её не раскрывать тайны. Тем временем Пенелопа говорит, что на следующий день испытает женихов, велев им стрелять из лука её мужа.
Песнь XX. Улисс не может заснуть, с нетерпением ожидая состязания. Появляется верный ему пастух Филойтий. Один из женихов, Ктессип, запускает в Улисса бычьим окороком, что вызывает бурный смех среди остальных ухажёров Пенелопы. Пророк Теоклимен, однако, не разделяет веселья сватающихся, предрекая им скорую смерть.
Песнь XXI. Пенелопа выносит лук Улисса и объявляет, что хочет испробовать женихов в стрельбе: они должны пробить стрелой из лука несколько топоров. Каждый из женихов, кроме Антиноя, который просит отсрочить испытание, делает напрасную попытку. Пенелопа покидает зал. Тогда Улисс, раскрыв, кто он на самом деле такой, Евмею и Филойтию, хватает лук и пробивает стрелой топоры.
Песнь XXII. Сразив стрелой Антиноя, Улисс раскрывает себя женихам, которых затем убивает с помощью Телемаха, Евмея и Филойтия. Верный ухажёрам Мелантий приносит для них доспехи, однако его застигают. Когда у Улисса заканчиваются стрелы, он, облачившись в доспехи, продолжает бой на копьях. Завершают эту кровавую сцену мучительная смерть Мелантия и повешение двенадцати девушек из прислуги.
Песнь XXIII. Узнав о возвращении Улисса от Эвриклеи, Пенелопа отказывается поверить в это. С целью испытать Улисса, она велит Эвриклее передвинуть их супружеское ложе из спальни, прекрасно зная, что кровать слишком тяжела, чтобы её можно было сдвинуть с места. Услышав о таком приказе царицы, Улисс гневается, что убеждает её окончательно в том, что перед ней — её муж. Супруги ложатся в постель и делятся друг с другом произошедшими с ними событиями.
Песнь XXIV. Гермес сопровождает души умерщвлённых женихов в Аид, где тех встречают призраки Агамемнона, Аякса, Патрокла и Ахиллеса. Улисс же навещает своего отца Лаэрта, который удалился от светской жизни, и через некоторое время раскрывает отцу своё истинное лицо. Родня сватавшихся к Пенелопе мужчин замышляет отмщение, однако Афина, всё ещё в обличье Ментора, наделяет Лаэрта достаточной силой для убийства одного из родственников, после чего Итака наконец благословлена Афиной на долгую эпоху мира и согласия.
Проблема жизнеописания Гомера
Гомер, или какой-то другой грек, именуемый Гомером…
Оскар Уайльд, «Застольные беседы»Гомер или, по крайней мере, та личность, которую мы называем Гомером, — фигура, о которой нам мало что известно. Его биографы (или те люди, что выдумали его) предполагают, что он родился вскоре после падения Трои, традиционно датируемого 1184 годом до н. э.[11] Эратосфен из Кирены, работавший в Александрийской библиотеке, довольно точно вычисливший радиус Земли, указал, что Гомер, скорее всего, был современником Гектора и Ахиллеса. Конечно, у древних греков вопроса о реальности существования Гомера не возникало. Для них он просто был величайшим поэтом, человеком из плоти и крови, жившим когда-то в далёком прошлом и сочинившим литературные произведения, которые легли в основу греческой культуры. Речь идёт не только об «Илиаде» и «Одиссее», но также о других его песнях и эпосах: повествование о походе Амфиарея против Фив, так называемая «Малая Илиада», «Фокея», «Керкопы», «Война мышей и лягушек». Большинство из них на данный момент утеряны; авторство многих подвергается сомнению. Ещё в V веке до н. э. знаменитый историк Геродот ставил под сомнение авторство некоторых из вышеприведённых работ, однако он не оспаривал существования Гомера[12]. За несколько десятилетий до Геродота Эсхил, пьесы которого (по крайней мере, известные нам) сюжетно не связаны ни с «Илиадой», ни с «Одиссеей», признавал своё творчество лишь «остатками снеди после великого гомеровского пира»[13],утверждая таким образом, что кроме двух наиболее нам известных были и другие труды Гомера, вдохновившие его. Как бы то ни было, даже если какие-то его произведения и затерялись в веках — слава Гомера бессмертна. Уже во II веке Архелай из Приен на высеченном им мраморном рельефе изобразил Гомера в венце времени и пространства (т. е. по сути всей Ойкумены, освоенной греками территории), восхваляемого музами истории (Клио), трагедии (Мельпомена), комедии (Талия) и эпической поэзии (Каллиопа). У ног аэда — его детища, «Илиада» и «Одиссея». Изображение в верхней части рельефа Зевса в окружении отдающих ему дань почтения богов проводит параллель между отцом богов и Гомером, «отцом человечества»[14], ещё более возвеличивая поэта.
Под «отцом человечества» греки зачастую подразумевали отца человеческой, а точнее их, греческой, истории. Событиям обеих монументальных поэм Гомера предшествует десятилетие: действие «Илиады» разворачивается через десять лет после начала осады Трои, а действие «Одиссеи» — через десять лет после её разрушения. Можно предположить, что для древних греков временной промежуток длиной в десять лет имел некое магическое или символическое значение, так как являлся своего рода границей между эпохой богов и эпохой людей. Само летоисчисление велось у греков с года, когда, по их подсчётам, пала Троя. Безусловно, были известны и, что немаловажно, зафиксированы более ранние даты. Так, на мраморной табличке с острова Парос, которая в настоящее время хранится в музее Эшмолин в Оксфорде, высечена дата, по современному летоисчислению являющаяся 1582 годом до н. э. — именно этот год мы можем считать точкой отсчёта греческой истории. Тем не менее, именно разрушение легендарного города рассматривалось греками как начало эпохи более или менее достоверных событий. Шумерские эпические песни о Гильгамеше и мифы древних египтян — это исток, предыстория, но поэмы Гомера — начало всех наших историй, созданных силой слова.
Поэмы Гомера — первые памятники древнегреческой литературы, отмеченные характерными именно для письменной традиции чертами: большой объём текста, который поэту уже не нужно удерживать в памяти от первой строки и до последней; большая сюжетная содержательность и более яркая прорисовка характеров героев, чем в устной традиции; подробная, детальная разработка событийной линии как результат того, что и автор, и читатель в любой момент могли обратиться к предыдущим фрагментам текста, уже содержащим некоторую важную для сюжета информацию; и, наконец, цельность, единство текста, который теперь мог быть оценён не только на слух, но и визуально. Кроме того, важным достоинством записанного произведения стало то, что число людей, имевших возможность с ним ознакомиться, существенно возросло, ведь читателю уже не обязательно было находиться в непосредственной близости к автору. Алфавитная письменность появилась в Греции не раньше IX-VIII веков до н. э.; её распространению предшествовали два или три столетия, последовавшие за падением крито-микенской культуры и выходом из употребления так называемого линейного письма Б, использовавшегося для архаического греческого языка. Первые примеры литературных произведений, записанных алфавитным письмом, датируются серединой VIII века и представляют собой примеры финикийского консонантного письма, названные Геродотом «финикийскими письмами»[15]. В шестой песни «Илиады» Главк рассказывает, как его деда, Беллерофонта, злокозненный Прет «в Ликию выслал… и вручил злосоветные знаки, / Много на дщице складной начертав, ему на погибель»[16].Становится очевидным, что Гомер был знаком с подобными табличками и сам пользовался ими для записи своих произведений. Некоторые современные исследователи[17], не уверенные в существовании Гомера, допускают возможность написания «Илиады» и «Одиссеи» поэтом-ионийцем (или же несколькими поэтами) не на табличках, а на свитках папируса, завезённых из Египта. Вспомним, что в VII веке до н. э. жители Ионии вели активную торговлю, в том числе с такими далёкими от них землями, как западный район дельты Нила. Имя одного из них, наиболее предприимчивого, вырезано на бедре гигантской статуи в Абу-Симбеле. Именно ионийцы привезли из Египта чудесное изобретение египтян, свитки папируса, которые, как свидетельствует Геродот, они называли diphterai — «кожи», «шкуры» (их собственные книги изготовлялись из более тонкого пергамента). Если Гомер действительно писал свои произведения на свитках, их длина во многом определялась тем объёмом текста, какой мог уместиться на свитке. Возможно, именно этим объясняется одинаковый объём обеих поэм — двадцать четыре песни[18].
Но сначала следует всё же ответить на вопрос о существовании самого аэда и, если его существование будет признано достоверным фактом, о том, где он родился и какой была его жизнь. Относительно места рождения Гомера нет однозначных данных; знаменитый спор за право называться родным городом поэта вёлся между семью городами: Хиосом, Смирной, Колофоном, Саламином, Родосом, Аргосом и Афинами. В разные эпохи спор этот приобретал некую иносказательную трактовку. Так, в XVII веке английский драматург Томас Хейвуд усмотрел в нём аллегорию творческого пути человека, отдавшего жизнь искусству и лишь после смерти отмеченного славой:
Семь городов сражались за Гомера-мертвеца, Кто, будучи в живых, родного не имел крыльца[19].Мигель Сервантес, напротив, посчитал, что в споре семи городов проявилось равнодушие судьбы, позволившей им делить славу величайшего поэта древности. Подобное случилось и с его героем Дон Кихотом: его родной город Сид Ахмет «отказывался назвать, так как хотел, чтобы все города Ла-Манчи, большие и малые, соперничали между собой за право овладеть частицей его доброго имени, назвав его своим, так, как произошло это с Гомером, за которого боролись семь городов»[20].
Одна из первых гипотез предполагает, что Гомер появился на свет на острое Хиос в конце VII века до н. э. «Гимн Аполлону Делосскому», авторство которого приписывается Гомеру, был известен как поэтический труд «слепца с гористого Хиоса»[21]. Именно Хиос в конце концов доказал своё право считаться местом рождения великого аэда. В наши дни туристам часто показывают небольшую пещеру в скале неподалёку от Хиоса, рассказывая, будто там Гомер, а позже — гомериды (рапсоды, которые считали себя потомками Гомера и его последователями) отдыхали за прочтением друг другу своих стихов. Существует ещё два факта, подкрепляющих версию о том, что именно Хиос является родиной Гомера. Первый касается языка его поэзии, по преимуществу ионийского диалекта, распространённого среди ранних греческих поселенцев на территории запада Малой Азии и близлежащих островов, в том числе и Хиоса. Впрочем, возможно, этот диалект был общепринятым поэтическим диалектом, которым Гомер пользовался среди прочих поэтов. Второй факт, говорящий в пользу Хиоса, — ссылки в Гомеровской поэзии, в особенности в «Илиаде», на географию тех мест (например, упоминание о том, что со стороны Трои были видны горные пики Самофракии), доказывающие, что ландшафт был хорошо знаком Гомеру.
Если Хиос претендовал на право называться местом рождения Гомера, то другой греческий остров, Кос, спорил за право называться местом его смерти. Притязания эти были оспорены Кипром: согласно легенде, матерью Гомера была кипрская женщина по имени Темисто; подле места захоронения её праха и пожелал умереть великий аэд[22].
В течение III-II веков до н. э., видимо, вследствие ощущавшейся необходимости добавить живописности туманному образу Гомера, появилось несколько книг, представлявших собой якобы биографии Гомера и подписанных для большего правдоподобия именами известных авторов. Самая объёмная из этих книг, как полагали, принадлежала перу Геродота (в наше время доказано, что это не так): она содержала подробное описание путешествий Гомера, а также детали его генеалогии. В качестве матери поэта называлась не Темисто, а некая Кретис.
Вышеупомянутая книга, «Жизнь Гомера», была написана в V или IV веке до н. э. Несмотря на то, что её авторство приписывалось Геродоту, на самом деле написавший её, скорее всего, происходил из Смирны. Тот факт, что он называет Смирну в качестве места рождения Гомера, даёт основания предположить в этом попытку прославления своего родного города: «Гомер был из эолийцев, не из ионийцев и не из дорийцев, доказательством чему — моё слово», — так с завидной уверенностью пишет автор. Откуда бы ни происходил автор, он написал свой труд на том же ионийском диалекте, каким пользовался Гомер[23], и продемонстрировал свободное владение этим диалектом, а также знание обычаев области, в которой тот был распространён.
Из «Жизни Гомера» мы узнаём следующее. Родители матери Гомера умерли молодыми, оставив свою дочь Кретис на попечение своему другу. Через несколько лет Кретис забеременела от своего возлюбленного, и её попечитель из страха, что о позоре молодой женщины станет известно, отослал её в новый на тот момент город Смирну. Автор утверждает, что Гомер родился через 168 лет после Троянской войны на берегах реки Мелет, протекавшей неподалёку от Смирны, и мать назвала его Мелесингом, т. е. «рождённым Мелетом» (вспомним строки Мильтона: «Был Мелесинг слепой с тех пор Гомером зван»[24]). Когда ребёнок подрос, Кретис отдала его в школу, где вскоре, когда были замечены его блестящие способности, он стал преподавать. Однажды путешественник, оказавшийся в Смирне, убедил Мелесинга покинуть город и посмотреть мир, и молодой человек, на разных кораблях бороздя угодья Посейдона, повидал многое из того, что позже было им описано в «Одиссее» — в том числе и родную для Улисса Итаку. Именно в период его морских странствований он и начал развлекать своих товарищей по плаванию стихами собственного сочинения. Почти всех встреченных он позднее изобразил в своих поэмах: Ментора из Итаки, аэда Фемия, Ментеса, предводителя пиратов с острова Тафос, кожевенных дел мастер Тихия, сделавшего щит Аяксу. Автор книги часто обвиняет другие источники в недостоверности их сведений, а порой и в неприкрытой лжи. Так, он пишет, что, несмотря на заявления жителей Итаки о том, будто Гомер ослеп, находясь в их городе, событие это произошло на самом деле в Колофоне (и с тем, как он отмечает, соглашаются жители Колофона). Но, по-видимому, Мелесинг стал Гомером (что с эолийского диалекта переводится как «слепец», а также как «пророк», «поэт») всё же в Киммерии, где аэд предложил местным властям предоставить ему жильё и пропитание в обмен на то, чтобы он прославил их город своими песнями. Те, как и свойственно властям, отказались от такого предложения, заявив, что позволь они такому случиться единожды, и всю Киммерию заполонят нищие слепцы («гомеры»), каждый из которых будет требовать еды и крова. Чтобы устыдить отказавших ему, поэт и взял себе имя Гомер.
Автор «Жизни Гомера» также оспаривает версию смерти Гомера, предложенную философом-стоиком Гераклитом в VI веке до н. э.: Гомер умер от разочарования, так как не мог успешно разрешить детскую загадку о ловле вошек[25]. По его утверждению, Гомер умер на острове Иос вовсе не от тщетных попыток разрешить загадку, а от общей телесной слабости[26]. На протяжении всей так называемой биографии автор вплетает в историю жизни Гомера детали, явно почерпнутые из «Одиссеи»: мать Гомера, как верная царица Пенелопа, чешет и сучит шерсть; добросердечный козопас Главк принимает Гомера у себя в жилище так же, как свинопас Евмей принял переодетого бродягой Улисса. Всё это вкупе рисует нам картину довольно романтическую: слепой аэд Гомер путешествует по Греции, исполняя свои прекрасные песни.
Восприятие образа Гомера в свете одного из его героев — нередкое явление. Для современников, слышавших поэмы Гомера или читавших их, он был рапсодом, сочинителем и исполнителем эпических поэм, «царём поэтов», не единожды участвовавшим в поэтических состязаниях. По рассказу Гераклита, однажды оппонентом Гомера в таком поединке стал Гесиод[27]. Описание подобного поэтического поединка мы находим в «Одиссее», когда при дворе царя Алкиноя слепой певец Демодок исполняет под аккомпанемент кифары три песни. Первая, слава которой достигла ушей самих богов, — о раздоре Улисса и Ахиллеса[28]; вторая, исполненная для удовольствия гостей — о страсти Ареса и Афродиты[29]; наконец, третья, приуроченная к отбытию Улисса, — песнь о деревянном коне и взятии Трои[30]. Первая и последняя песни являют собой превосходный образец «повествования в повествовании», поскольку сам Улисс, скрывающий своё настоящее «я», находится в числе гостей и плачет при воспоминании о воспеваемых Демодоком событиях. (Есть также и другое, более раннее описание выступления барда, а именно певца из Итаки Фемия, который при дворе Улисса развлекает женихов Пенелопы[31]).
О феномене древнегреческих рапсодов нам практически ничего не известно, кроме разрозненных фактов: они часто страдали слепотой, путешествовали от города к городу, зарабатывая на жизнь выступлениями в местах скопления народа, а также при дворах правителей. Со слов самого Гомера мы знаем также, что аэды (именно этот термин употребляет Гомер для обозначения странствующего певца) «воспевали великие деяния героев-воинов»[32]и то, предложит ли им кто-нибудь еду и ночлег, всецело зависело от щедрости слушателей. Именно этим фактом Т. Э. Лоуренс, известный также как Лоуренс Аравийский, объясняет чрезмерную растянутость завершающих событий «Одиссеи»: «Возможно, утомительная пространность повествования, которому потребовалось десять глав на то, чтобы дойти до развязки, суть следствие уловок исполнителя, желавшего подольше занимать гостеприимного и щедрого хозяина»[33].
Интересно отметить, что традиция странствующих певцов сохранилась практически без изменений и в наше время. В 30-е годы XX века американский филолог Мильман Пэрри и его ученик Альберт Лорд в ходе своей работы по изучению культуры бардов бывшей Югославии обнаружили, что народные исполнители в мусульманской Сербии являются прямыми преемниками древней эпической техники, весьма схожей с техникой Гомера, чей текст в значительной степени состоял из устойчивых поэтических формул и эпитетов. Это позволило Пэрри и Лорду предположить, что «Илиада» и «Одиссея» исполнялись без опоры на записанный текст, подобно тому, как исполнялись песни такого рода на Балканах: барды, аккомпанировавшие себе на струнном инструменте, импровизировали на материале передаваемого из поколения в поколение содержания, по-своему интонируя те или иные фрагменты[34]. Иными словами, используя готовые формулировки для пересказа историй, давно известных слушателям, барды всякий раз исполняли нечто новое.
К IV веку до н. э. культура исполнения несколько изменилась. Теперь, хотя певец по-прежнему считался посредником между собственно поэтом и слушателями, «интерпретатором поэтической мысли»[35], ему больше не нужен был такой ранее необходимый атрибут, как лира; зато появилось одеяние по моде тех времён и посох. Аэды стали такими, какими видел их Сократ: «Как часто я завидую вам, рапсоды, и вашему занятию. От вас всего лишь требуется разгуливать в пышном облачении, поражая всех великолепием облика, а вы тем временем заводите знакомство с выдающимися поэтами, из которых величайший, славный своим божественным даром, — Гомер»[36].
До сих пор не дано чётких ответов на вопросы: привносили ли рапсоды в исполняемые ими песни личностное, индивидуальное начало? Или же они просто заучивали произведение, в редких случаях отступая от его сюжетной канвы? Обязаны ли они были придерживаться оригинального текста, и если да, насколько строго? Как и кем осуществлялся отбор репертуара? Из всех аэдов лишь имя Гомера осталось в истории как имя человека, мастерство которого было и осталось непревзойдённым и чьи произведения стали мерилом поэтического искусства. Сохранился указ, к сожалению, недатированный, а потому приписываемый и Солону, и Писистрату, и Гиппарху, требующий, чтобы и «Илиада» и «Одиссея» в полном их объёме зачитывались на Панафинеях, июльских празднествах в честь Афины[37]. Коль скоро Гомер был единственным автором, столь высокочтимым, публике хотелось знать о нём больше — с этой целью и создавались его биографии.
Однако было бы смехотворным полагать, что существование биографий Гомера — факт, подтверждающий существование самого Гомера. «Некоторые говорят, такого человека, как Гомер, никогда не существовало, — писал Томас де Куинси в 1841 году. — Как же не существовало, возражают им другие, когда их существовало превеликое множество!»[38]Возможно, разгадка в том, что Гомер — не живший когда-то человек из плоти и крови, а символ, придуманный странствующими бардами для выражения духа их творчества и воплотивший отдельный вид искусства в легендарном «отце» этого искусства, известном своим сказочным мастерством знаменитом предке всех, кто позже посвятил себя этому искусству. Когда в процессе интервью Пэрри задал балканским народным певцам вопрос о том, кого они считают лучшим из их числа, несколько опрошенных назвали барда, известного под двумя именами: Исак и Хусо. Место рождения этого человека никому не было точно известно, однако знали, что с детства он был одарён и дожил до глубочайшей старости; его репертуар включал в себя огромное количество песен, но никто и никогда лично не посещал его выступлений, а лишь слышал отзывы о них[39]. Можно предположить, что так же, как история этого балканского рапсода, зарождалась и история Гомера.
Чем объясняется то, что известность так рано пришла к Гомеру? Дело в том, что в гомеровских текстах жители всех уголков разобщённой Греции, какой она была во времена Гомера, увидели два объединивших их момента: близкие им всем сюжеты и общих для всех них богов. Историк Гилберт Мюррей поясняет это следующим образом: «В противостоянии города и клана у олимпийских богов было одно неоспоримое преимущество: к тому времени они, в отличие от всех остальных богов, уже не принадлежали ни к городу, ни к клану. Они были известны повсюду, но не привязаны к какому-либо одному городу или области, кроме тех случаев, когда их можно было отождествить с местным божком. Они были славны, величественны, прекрасны. Весь их пантеон должен был вот-вот стать Poliouchoi, покровителями городов, или, что ещё более вероятно, — Hellanioi, покровителями целой Эллады»[40].
Поэмы Гомера стали каноническими произведениями, представляющими космополитизм в изображении богов и героев. Однако интерпретация этого содержания неоднозначна. Можно утверждать, что эти тексты есть документированная истина, равно как и приводить метафизические аргументы в пользу аллегорических толкований. Этим спором и занялись две школы философской мысли. С одной стороны, историки соглашались с тем, что сюжетная линия, изложенная в поэмах Гомера, представляет собой более или менее достоверную параллель прошлых событий, отображение фактической реальности. Так, по мнению историка Страбона, «Одиссея» была написана с целью обучения географии: «Гомеру простительно… смешение в тексте выдуманных деталей, так как в итоге цель этого смешения — просвещать и наставлять»[41]. С другой стороны, философы заявляли, что поведанные Гомером истории суть поэтические иносказания. Многие, например, стоики, ссылались на Гомера для подкрепления своей позиции в споре или рассуждениях; в то же время другие, в том числе Аристотель, отказывались аллегорически истолковывать полностью вымышленные истории[42].
Историк Пол Вейн считает, что «в глазах философа миф представляет собой иносказательное обращение к философским истинам; для историка же миф — это не более чем незначительное отклонение от истинно имевших место событий»[43]. И для тех, и для других тексты Гомера являлись источниками, обойти которые вниманием не представлялось возможным. Поэтому два подхода к прочтению гомеровского эпоса и сейчас влияют на методы исследования и анализа творчества Гомера. Существуют те, по преимуществу археологи, кто полагает, что события, описанные в «Илиаде» и «Одиссее», на самом деле происходили и даются автором с величайшей точностью, включая место действия. Существуют также и те, кто ратует за иносказательную трактовку этих произведений, примеры чему встречаются со времён эпохи Рима.
К VI веку до н. э. Гомер стал не только величайшим поэтом древней Греции; он также оказал сильное влияние на картину мира своих соотечественников, на то, какими им виделись боги, и смертные, и те смертные, что пытались сравняться с богами, зачастую ведя себя отнюдь не так, как подобает богам. Как верно отметил философ Ксенофан, «Гомер и Гесиод приписали богам те качества, которые даже у смертных заслуживают порицания; их боги крадут, изменяют и обманывают друг друга»[44]. Гомер показал, что в суровом и изменчивом мире человеку нужно надеяться на себя самого, на свои силы и находчивость, а не на ветреных богов. Иллюстрацией к тому может послужить описанное в «Илиаде» без преувеличения отталкивающее поведение небожителей по отношению к Гектору. Сначала помощь Приамиду оказывают Зевс и Аполлон; затем они по собственному произволу оставляют его; более того, Афина под личиной одного из братьев Гектора вводит героя в заблуждение, побуждая вступить в схватку с Ахиллесом, которую — и ей это отлично известно — он проиграет[45]. Боги Гомера зачастую жестоки и вероломны.
Поведение же смертных героев Гомера нередко представляет собой поистине образец для подражания. Согласно этике греческих воинов, лучший воин — тот, кто сохраняет хладнокровие в бою и верность своим товарищам. Для лучшего понимания воинской культуры древней Греции важно вчитаться в строки Гомера, когда тот описывает просчёты Агамемнона, преданность Ахиллеса Патроклу и их крепкую дружбу, решительность твёрдого характером Гектора, просчитанную до мелочей стратегию Нестора, хитроумие Улисса. Поэтому уже десятки веков назад образование не мыслилось без обращения к творчеству Гомера. Когда молодой Алкивиад в ходе своего посещения школы около 430 года до н. э. обратился к учителю за книгой Гомера и услышал в ответ, что таковой в школьной библиотеке нет, он ни много ни мало свалил учителя с ног ударом кулака[46]; школа без Гомера — это не школа, а лишь жалкое место для обучения без источника знаний!
Гомер и философы
[Работы Гомера] заключают в себе целый мир… который можно изучать до скончания времён и, однако, чувствовать, что вы прикоснулись к одному-единственному атому этого космоса.
Нортроп Фрай, «Светское писание и другие труды»Несмотря на то, что Гомер и был, возможно, «величайшим» и наделённым «божественным даром» в глазах Сократа (или, скорее, Платона, вложившего восхваления в уста Сократа), его сочинения всё же представляли собой дилемму для философии. Платон в своём «Государстве» проводит аналогию между строем души человека и типом общества, в котором он живёт. Общественный строй с его делением на три категории (философов-правителей, воинов и торговцев) он рассматривает как некое отражение свойственных человеку потребностей — в умственной деятельности, доблести, а также насыщении (хотя, конечно, это лишь грубое упрощение гораздо более сложной социально-политической теории Платона[47]). В идеальном государстве недопустимо существование тех, кто описывает мир ложный, несуществующий, вымышленный: продукты труда людей, создающих образы образов, не есть истина и потому не должны иметь места в мире абсолютной справедливости. Например, образ ложа в искусстве — на полотне или в литературном произведении, — это всего лишь пустая копия реального ложа, а истинно только реально существующее, ибо реальность воплощает замысел божества. Даже таким мастерам, как Гомер (и здесь Платон выступает против самого почитаемого им поэта!), нет места в идеальном государстве, ведь автор не только даёт жизнь ложным образам; он создаёт людей, чьим неправедным переживаниям мы сочувствуем, и богов, часто ошибающихся в своих поступках. По словам Платона, литература (и творчество Гомера как лучший из её плодов) питает человеческую слабость к размышлению над чужими несчастьями, восхищению смелостью и сопереживанию печали того, кто «пусть и будучи человеком достойным, предаётся неумеренно своему горю». Именно эта жажда человеческой души утоляется литературой, и, чтобы быть свободным от неё, следует «пренебречь поэзией в целом»; иначе «насытив душу жалостью к чужой беде, мы не сможем избегнуть жалости к собственной»[48].(«Вот какой ценой приходится нам платить за спокойствие, — говорит один из героев антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». — Рано или поздно приходится сделать выбор между счастьем и тем, что люди зовут высоким искусством. Мы принесли в жертву высокое искусство»[49].) Сократ утверждал, что высокое искусство более всего развращает человека, будь то человек плохой или хороший: предлагая мнимый духовный опыт — знание о мире, полученное из чужих рук, подавляет в нас стремление к самопознанию и самокритике. Мы думаем, что открываем самих себя, вглядываясь в образы Ахиллеса, Улисса, Гекубы или Пенелопы; мы опускаем руки, позволяя Трое пасть — ведь нам известно, что она всё равно обречена; мы не стремимся более попасть в Итаку — ведь мы знаем, что в конце концов волны сами принесут нас туда.
Сократ считал, что труды Гомера не были написаны, чтобы воспитывать: Гомер не знал, как сделать человека лучше, так как, не обладая реальным знанием, обладал лишь искусством подражания, и именно поэтому его современники не принимали его творчество всерьёз. Сократ спрашивает: разве могли Гомер и другие великие поэты «помочь человечеству достичь совершенства?» Разве их современники «дозволили бы Гомеру и Гесиоду странствовать по миру со своими песнями? Разве они не пытались бы удержать певцов, дорожа ими больше мирских благ, вынуждая великих поэтов оставаться рядом? А если бы им это не удалось, разве не последовали бы они за своими кумирами повсюду, пока дух великих не стал бы и их духом?» Должно быть, осмысляя эти слова, Платон не осмелился высказаться относительно них, поскольку помнил, какая кончина ждала его учителя, лучшего из всех, приговорённого к смерти тем самым обществом, которому он так самозабвенно служил. Несомненно, Платон, знал (да и все творцы знают об этом): общество, пусть и поощряющее людей искусства жалкой милостыней пособий и премий, никогда не чтит и не вознаграждает должным образом тех, кто силой своего воображения и своим талантом пытается сделать нас лучше. Люди всегда и везде ценят золотые безделушки больше мастерства ювелира. Так, во всех диалогах Платона Сократ предстаёт спорщиком, который смело следует аргументам и развивает нить спора, куда бы та ни привела, ничего не утверждая наверняка, не приходя ни к каким непререкаемым истинам. «Я не могу согласиться с тобой», — говорит Гиппий Сократу в одном из диалогов. «Я и сам не могу с собой согласиться, любезный Гиппий; однако, как мне кажется, это утверждение и есть вывод, который следует из нашего с тобой спора»[50], — отвечает Сократ, даруя мыслям абсолютную свободу.
Вне зависимости от того, признаём ли мы аргумент Платона против Гомера убедительным или нет, эта идея преследовала общество с тех пор, как была сформулирована. Великий парадокс: человеческое общество без искусства немыслимо, мы обустраиваем общественную жизнь, чтоб стать счастливее и мудрее; однако же искусство, даже величайшие его шедевры, не способно сделать нас таковыми и лишь заменяет подлинное наше счастье или мудрость опытом, принадлежащим вовсе не нам. Гомер первым создал сложное многообразие персонажей, чья жизнь суть непрекращающаяся борьба, полная страстей, страданий и, в конце концов, смерти, — и именно вследствие этих приоритетов в его творчестве, он «главный виновник» последующей судьбы искусства в истории. Когда Викарий и Цирюльник решают сжечь библиотеку Дон Кихота, так как, по их мнению, в книгах, прочитанных рыцарем, кроется причина его безумия, они случайно находят один из первых рыцарских романов, появившихся в Испании, под названием «Амадис де Гаула». Викарий громогласно призывает «обличить злокозненную ересь и без всякого сожаления предать книгу очистительному огню». Цирюльник возражает, однако, что эта книга — одна из лучших, написанных в жанре рыцарской прозы, к тому же она уникальна; двух этих доводов должно быть достаточно, чтобы оправдать её[51]. Парадокс этот ещё явственнее проступает у Платона. Предполагая, что влияние, оказываемое искусством на человека, пагубно, Платон по-прежнему пылко чтит Гомера, обращаясь к его книгам в случаях, когда требуется разъяснить сказанное или добавить проницательный комментарий — и на страницах «Диалогов» мы находим ссылку на труды Гомера! «Разве сами вы не ощущаете магии поэзии, особенно когда её заклинания облечены в слова Гомера?» — спрашивает один из тех, кто внимал аргументам Сократа. Ответ Сократа: «Безусловно». А к концу девятой книги, когда один из участников спора выражает сомнение в том, что где-либо на земле можно построить такое идеальное государство, Платон вкладывает в уста Сократа косвенную ссылку на Гомера, тем самым практически сводя на нет категоричность сформулированного мнения об искусстве. «Не имеет значения, существует ли идеальное государство или будет ли существовать, — говорит Сократ, — или же оно существуют лишь в наших помыслах в виде идеала, модели, созерцать устройство которой человеку будет достаточно, чтобы видеть себя гражданином этого идеального государства». Для Платона важнее всего, чтобы модель была истинной. Так же и для понимания «Илиады» важен не столько трагический исход Троянской войны, сколько сам образ течения этой войны, и для нас, читателей, важны эти «модели» — образы, характеры, лежащие в основе двух поэм Гомера. Наследниками идей Гомера будут искатели справедливости Дон Кихот и князь Мышкин, Йозеф К. из «Процесса» Кафки и Исмаил из «Моби Дика», — все те, кто искал в своих битвах и странствиях нечто большее, превосходя собственную судьбу. По Платону (хотя, возможно, эта интерпретация и даётся им вынужденно и с неохотой), за текстами Гомера стоит идея о том, что человеку следует прожить отведённый ему срок как можно ярче, стремясь совершенствоваться в духовном и нравственном отношении.
С появлением Аристотеля представление о Гомере как о слепом старце, странствующем исполнителе эпических песен, сменилось на видение его вдохновенным и весьма образованным поэтом. Для Аристотеля Гомер был первым и основным примером истинной поэзии, как трагического, так и комического характера. «Гомер превосходит всех остальных поэтов в трагедии, так как одному ему удалось эффектный, драматичный сюжет облечь плотью живого чувства. Однако он также заложил основы и комедийного жанра, преувеличивая смехотворное и нелепое вместо того, чтобы ограничиться насмешками в адрес отдельных людей»[52]. На Гомера (не потому, что его книги судили уход от реальности в мир выдуманных страстей, а в силу выдающегося таланта автора) следовало, по мнению Аристотеля, ориентироваться всем, имеющим дерзание к высокому искусству. Теперь он был не просто жившим в прошлом рапсодом, но автором признанных литературных шедевров, человеком, отдавшим всего себя своему труду. «Илиада» и «Одиссея», а также в настоящее время утерянная комическая поэма «Маргит» стали образцами для подражания; их цельность и совершенство уже не были подвластны возможным недостаткам техники и умения тех, кто исполнял их.
Несмотря на то, что косвенные ссылки на произведения Гомера относятся к середине VII века до н. э. (они встречаются у таких авторов, как Алкман Сардинский, Архилох Паросский и Тиртей из Аттики), самые ранние прямые упоминания зафиксированы спустя двести лет после предположительного написания поэм. В I веке до н. э. Цицерон сообщает, что труды Гомера были записаны и получили своё окончательное оформление в Афинах при тиране Писистрате (т. е. в VI веке до н. э.)[53].Первая дошедшая до нас критическая работа о книгах Гомера была написана современником Писистрата Теагеном из Региума; о нём неизвестно ничего, кроме того, что из-под его пера также вышла издевательски-педантичная поэма, адресованная некоему Кирну, где автор советовал юноше продолжать устраивать разгульные аристократические вечеринки и держаться подальше от грязных демократов. Как отмечает Мильтон в «Ареопагитике», в IV веке до н. э. Ликург, оратор из Аттики, «был настолько привержен изящным ученьям, что первым привёз с собой из Ионии фрагменты произведений Гомера»[54], предположительно, отредактированные для широкой общественности. Четырьмя столетиями позже комментарии к Гомеру были уже настолько многочисленны и пространны, что знаменитый «Список кораблей» из «Илиады», длиной в шестьдесят две строки, представил филологу Деметрию из Скепсиса достаточно материала для целого тридцатитомника, ныне всё же утерянного[55].
Имя Гомера было известно не только учёным-филологам. Греческие колонисты завозили его книги во многие торговые города. Так, в Италии, приблизительно в эпоху основания Рима, т. е. в VIII веке до н. э., знание произведений Гомера считалось одной из важнейших составляющих хорошего образования. В могиле двенадцатилетнего мальчика, обнаруженной в ходе раскопок в Неапольском заливе, среди всего, что родители положили рядом с умершим сыном, чтобы его загробная жизнь не была скучной, находилась чаша с написанными на ней тремя строками на греческом языке. Текст первой строки неразборчив, однако вторая и третья строка гласят: «Я чаша Нестора, дарую пьющему радость, / Но кто выпьет из меня, воспылает тотчас / Страстью к прекрасной Афродите»[56].Эти строки — косвенная отсылка к «Илиаде»: Ахиллес, видя, что троянцы оттеснили армию греков к кораблям, просит Патрокла прояснить ситуацию. Мудрый царь Нестор принимает его в своём шатре, где уже поданы яства и где, среди прочей посуды, присутствует роскошный кубок?
…Окрест гвоздями златыми покрытый; на нём рукояток Было четыре высоких, и две голубицы на каждой Будто клевали, златые; и был он внутри двоедонный. Тяжкий сей кубок иной не легко приподнял бы с трапезы, Полный вином; но легко подымал его старец пилосский[57].Можно предположить, чаша, найденная рядом с умершим мальчиком, знавала не один дружеский пир, где гости хвалились своими силой и геройством, поднимая её и, возможно, цитируя произведения Гомера. В свете этого трогательным представляется сравнение старого Нестора, который всё ещё мог поднять чашу, и маленького мальчика, которого смерть забрала ещё до того, как он смог это сделать.
Вергилий
Вергилий был, наверное, первым — по крайней мере, в литературе, — кто применил линейный принцип к судьбе героя, никогда не возвращающегося, всегда уходящего. Если бы я писал «Божественную комедию», то поместил бы этого римлянина в Рай: тогда, в полном соответствии с линейным принципом, роман стремился бы к своему логическому завершению.
Иосиф Бродский, «Бегство из Византии»К III-II векам до н. э. творчество Гомера уже изучали в Александрийской библиотеке такие выдающиеся учёные, как Зенодот Эфесский, Аристофан Византийский, и — самый эрудированный из всех — Аристарх с острова Самос. В общих чертах используемый этими учёными метод работы с текстом сводился к следующим действиям: сначала осуществлялась историческая проверка предполагаемого авторства текста; затем текст тщательно структурировался и разделялся на песни или главы; наконец, для того, чтобы облегчить читателям изучение текста, подбирались комментарии и критика.
Зенодот начал работу над поэмами Гомера со сбора разнообразных копий предполагаемого оригинала (к тому времени уже утерянного). Явно чужеродные элементы он исключал из текста; строфы, относительно которых у него возникали сомнения, помечал штрихом слева от начала строки; те же строфы, которые, пусть и с некоторой неуверенностью, по мнению Зенодота можно было назвать гомеровскими, он помечал астериском (звёздочкой)[58].
Аристарх к труду Зенодота добавил собственные комментарии. Основываясь на наблюдениях лингвистического характера, Аристарх предположил, что некоторые текстовые блоки в поэмах Гомера были добавлены позже. В числе подобных блоков он называет ночную вылазку, результатом которой стала поимка троянского разведчика Долона, в десятой песни «Илиады» и сцену, завершающую песнь XXIII «Одиссеи», где Улисс и Пенелопа на супружеском ложе рассказывают друг другу о своих злоключениях (и современные исследователи соглашаются с Аристархом)[59]. Эрудиция и ум Аристарха стали известны настолько широко, что уже при его жизни всякого критика называли аристархом.
Благодаря работе древних филологов текст гомеровских поэм обрёл единую форму; позднее, в годы раннего Средневековья, исследование его произведений, закрепившее достижения учёных из Александрии, продолжилось в Византии.
После того как поэмы Гомера стали появляться под эгидой авторитетных критиков, первые известные Греции романисты (начиная с I века до н. э. и вплоть до V века н. э.) обрели в нём своё вдохновение. Работая над сочинением популярных в народе любовных историй, известных как pathos erotikon, они использовали не только предложенные Гомером сюжеты, но и его повествовательную технику и стиль языка. Харитон, Ксенофон, Лонг (автор известной пасторали «Дафна и Хлоя») и Гелиодор обратились к таким гомеровским открытиям, как речь от первого лица (вспомним монолог Улисса при дворе феакийцев в песнях IX, X и XII «Одиссеи»), смена сюжетных планов от общего к частному и наоборот в «Илиаде», а также несовпадение начала произведения с сюжетной завязкой, при котором повествование начинается in media res, когда события уже активно разворачиваются[60]. Усвоение этими авторами приёмов Гомера привело к тому, что подобные методы создания событийной канвы и описания персонажей, достижения большей убедительности, жизненности текста, а также сообщения читателю более ярких эмоций и сопереживания героям стали рассматриваться как основные элементы при написании произведения не документального характера.
В эпоху расцвета Рима переведённые «Илиаду» и «Одиссею» подвергали иносказательной трактовке или рассматривали с точки зрения морали и этики. События, лежавшие в основе этих поэм, стали одновременно правдой и вымыслом, фактическим и символическим явлением. В III веке до н. э. Ливий Андроник, пленный грек из Тарента, перевёл «Одиссею» на латынь. Этот перевод был двести пятьдесят лет спустя заклеймён Горацием как архаичный, грубый и вульгарный[61] — однако среди современников Андроника книга стала весьма популярной и следующие три столетия входила в школьную программу. Дети, будущие римские граждане, знакомились с Гомером уже на ранних этапах обучения — казалось, история Греции была не только переведена на латынь, но и отразилась на истории латинян. Вспоминая нелёгкие первые годы обучения в свою бытность студентом-юристом, Плиний Младший писал: «Молодые люди начинают обучение с «гиблых» дел так же, как школьники — с Гомера; и тут, и там самое сложное даётся обучающимся в первую очередь»[62]. Детей учили, что так же, как Улисс не стал добычей сирен, душа не должна становиться добычей чувств (это сравнение стало очень расхожим и даже выбивалось на надгробных камнях[63]) и что гнев Ахиллеса должен служить уроком тому, как пагубны для человека могут быть чрезмерность переживаний и несдержанность. Гораций, школьником зубривший Гомера наизусть под страхом учительской розги[64], в одном из своих «Посланий» описал некоторые из этих «уроков нравственности» и заключил, пусть и с известной долей сарказма, что подобными историями «греки должны отплатить за безумства тех, кто правит ими»[65].
Хотя впервые познакомил читателя-римлянина с Гомером Ливий Андроник, тексты грека Гомера были усвоены читавшими на латинском языке благодаря трудам Вергилия. Его «Энеида», являющаяся, возможно, величайшим произведением времён расцвета Рима, явно была написана с опорой на тексты Гомера. Однако если Вергилий многим обязан Гомеру, то и Гомер, в свою очередь, многим обязан Вергилию, благодаря которому стал некоторым образом причастен к истории становления Римского государства. В течение первых столетий с появления Рима троих героев рассматривали в качестве основателей Вечного города: Ромула, выкормленного вместе со своим братом-близнецом волчицей; странника Улисса; и Энея, выжившего после падения Трои.
В I веке до н. э. Марк Теренций Варрон, по словам оратора Квинтилиана — самый эрудированный из римлян[66], утвердил в качестве основателя Рима Энея. Изучив генеалогическое древо, представленное Гомером («…Сын знаменитый Анхизов, / Мощный Эней; от Анхила его родила Афродита, / В рощах на холмах Идейских, богиня, почившая с смертным»[67]), Варрон составил подробный список городов, которые предположительно посещал Эней на пути из Трои (Илиона) в Италию, и подтвердил правоту Юлия Цезаря, утверждавшего, что его род, gens Iulia, происходил от богини любви, давшей рождение герою Троянской войны[68].
Вергилий же предал легенде некое подобие исторической истины, даровав таким образом поверженным троянцам посмертную победу над восторжествовавшим в своё время противником. Благодаря трудам Вергилия произведения Гомера, до той поры рассматривавшиеся лишь как вымышленные истории (пусть и гениально написанные) о сражениях и путешествиях, стали для многих предвестником славного будущего: сначала — мощи Римской империи; позже — широко распространившегося христианства.
Вергилий (Публий Вергилий Марон) родился 15 октября 70 года до н. э. в этрусском городке под названием Анды, что неподалёку от Мантуи. Его фамилия указывает, скорее всего, на этрусское происхождение семьи; имя же типично для римлянина. В ранних биографиях, написанных много лет спустя после его смерти, он представляется сыном бедного бродячего гончара, женившегося на дочери одного из своих заказчиков. На самом же деле Вергилий был полноправным римским гражданином, и некоторые члены его семьи занимали видные посты как в самом Риме, так и в других городах Римской империи. Детство и юность Вергилия, о которых нам известно очень мало, пришлись на ту эпоху, когда Италию раздирали гражданские войны: сначала это было противостояние Мария и Суллы, затем — Цезаря и Помпея. Только в 31 году до н. э. победа Августа у мыса Акций положила конец смутам. Вергилий же, возможно, по причине слабого здоровья, никогда не претендовал на государственные посты, не стремился стать сенатором или юристом. И никогда не был женат.
В семнадцать лет Вергилий оставил родной сельский дом и отправился в Рим. Одна из его первых поэм приоткрывает нам ожидания Вергилия, намеревавшегося оставить юношеское бумагомарание и приняться за серьёзные науки:
Прощайте, музы, хоть, признаюсь я, Сладки уста, что строки мне шептали; Однако, и простившись, с вдохновеньем Ко мне слетать, пусть изредка, могли[69].Возможно, в Риме Вергилию покровительствовал молодой Октавиан, будущий император Октавиан Август. Если это так, можно предположить, что именно для него Вергилий, на манер греческого поэта Феокрита, сочинил прославившие его «Эклоги». Его стали узнавать и приветствовать на улицах; ему, при его застенчивости, это было настолько непривычно, что он спешил укрыться в ближайшем же доме. Жизнь в шумном Риме стала утомлять его, и он уехал в Неаполь — там он и прожил большую часть своей жизни. В 19 году до н. э. он отправился вместе с Августом в путешествие по Греции, но, к несчастью, серьёзно заболел и вынужден был вернуться в Бриндизи, где и скончался.
Вергилий творил медленно: работа над «Эклогами» заняла у него от трёх до четырёх лет, а над «Георгиками», посвящёнными приближённому лицу императора Августа, покровительствовавшему поэтам Меценату, — семь или восемь. Известно, что Август ознакомился с «Георгиками» около 29 года до н. э., когда Вергилию только исполнилось сорок и он, по поощрению ли свыше или в соответствии с собственной уверенностью в том, что приобрёл необходимые навыки, хотел заняться более честолюбивым проектом. Примерно в это время он начал работу над новой поэмой, которая, как и предыдущие, носила греческое имя: «Энеида».
Греческому Вергилий учился с детства, как и родной латыни, так как в его родной Тоскании было множество греческих переселенцев. Однако овладеть языком Гомера, по дошедшим до нас сведениям, Вергилию помог поэт Парфений из Никеи, автор каталога эротических мифов[70]. Ахея (название это не может не напоминать нам о Гомере), римская провинция в Греции, была для римлян одновременно и подчинённой ими колонией, и источником древних познаний о своей собственной культуре. Двойственная сущность Греции в глазах римлян сказывалась на их отношении к Элладе. Современников Вергилия Греция привлекала своего рода экзотичностью: образованные римляне путешествовали по стране, посещая храмы и дворцы, изучали античную религию, возвращаясь на родину с предметами искусства, которыми украшали свои дома, и подражали греческому образу жизни, отпуская бороды и держа в любовниках юношей. При всём этом они так или иначе оставались «хозяевами»[71]. В «Энеиде» отец Энея предупреждает сына, чтобы тот не соблазнялся другими культурами, как бы великолепны те ни казались (безусловно, речь идёт в первую очередь о греческой культуре), так как римляне должны главенствовать в любой культуре. На таком мировоззрении зачастую строится кредо империализма, так что у современного читателя вызывают определённые ассоциации подобные строки:
Смогут другие создать изваянья живые из бронзы, Или обличье мужей повторить во мраморе лучше, Тяжбы лучше вести и движенья неба искусней Вычислят иль назовут восходящие звезды, — не спорю: Римлянин! Ты научись народами править державно — В этом искусство твоё! — налагать условия мира, Милость покорным являть и смирять войною надменных![72]Узнав, что Вергилий в поте лица трудится над новым произведением, император Август пожелал узнать, о чём оно. Он мог предложить своему любимцу написать эпическую поэму о возникновении Рима, целью которой в конечном итоге было бы прославление его, Августа, персоны. Сохранились сведения о том, что Август написал Вергилию из Испании письмо с просьбой ознакомиться хотя бы с фрагментом новой поэмы — однако поэт отказал императору. Много позже он согласился в присутствии Августа зачитать три песни из первой половины «Энеиды»: о падении Трои, о смерти Дидоны и о путешествии Энея в Подземное царство. Со слов секретаря Вергилия Эроса мы знаем, что Вергилий, сочинив страницу утром, в течение всего дня правил её так, что к вечеру в ней мало что оставалось от изначального текста. Он сравнивал свой метод работы с рождением детёнышей медведицы, которых мать вылизывает, пока они не станут похожи на медвежат. Остаётся не до конца ясным, понимал ли Август замысел Вергилия: «Как можешь ты утверждать, что Цезарь принимал понятие метафоры, если Цезарь само ощущение и восприятие почитал за чрезмерную покорность?» — вопрошает Герман Брох в своём романе «Смерть Вергилия»[73].
Вергилий изучал тексты Гомера, а также комментарии к ним с прилежанием прирождённого учёного. Поэмы Гомера были построены следующим образом: сюжет «Илиады», в основе которого лежала изнурительная десятилетняя осада Трои, сфокусировался на сорока днях сражения; «Одиссея» повествует о возвращении одного из участвовавших в осаде Трои воинов домой. Подобным образом структурировал «Энеиду» и Вергилий: в первой части, проводя параллель с «Одиссеей», он описывает скитания Энея, во второй, схожей с «Илиадой», — его битвы и, в конце концов, основание им Рима.
По легенде, Вергилий перед смертью завещал своим друзьям сжечь манускрипт. Разубедили ли те его или просто отказались выполнить его последнюю волю — неизвестно; важен тот факт, что книга была издана и вскоре уже широко разошлась по империи. Некоторым читателям казалось, что вторая книга «Энеиды» несколько хуже первой — действительно, у Вергилия не было времени доработать её, довести до совершенства. Однако дело скорее всего в том, что, как проницательно отметил Питер Леви, поэт «не понимал основополагающего для творчества Гомера принципа: поэзия — удел побеждённых и мертвецов». Эней Вергилия — победитель, основатель династии стоявшего у власти Октавиана Августа, в то время как у Гомера бесспорным победителем не был ни один из героев.
Есть несколько причин, по которым Эней был избран в качестве основного персонажа латинского эпоса, несущего в себе отголоски творчества Гомера — персонажа, который интуитивно чувствовал: «Года пройдут; настанет век, / Когда троянцам проиграют греки»[74]. Эней выступал, пусть этого и не было сказано прямо, будущим наследником троянской мощи уже в «Илиаде», когда, дразня его, Ахиллес вопрошает: «Не душа ли тебя сразиться со мной увлекает / В гордой надежде, что ты над троянцами царствовать будешь, / Чести Приама наследник?»[75] Эней — славный герой: многие фрески, раскрашенные вазы и мозаики донесли до нас изображения того, как он покидает горящую Трою, вынося на плечах своего отца Анхиза и уводя за собой юного сына; его образ не тускнел в народном сознании. Писатели древности[76] рассказали о путешествии Энея начиная от стен Трои и заканчивая италийскими берегами; они предположили, что он нашёл подходящее место для поселения неподалёку от места основания Рима. Уже в III веке до н. э. латинский поэт Невий писал об Энее как об «отце римлян»[77]; два столетия спустя Лукреций начал свою знаменитую поэму «О природе вещей» обращением к «матери Энеидов, любимице и смертных, и богов, дарительнице Венере»[78].
Персонажи Гомера настолько разносторонни, настолько сложны для понимания, что это порой озадачивает читателя, так как допускает множество трактовок. Мотивы поведения Ахиллеса или Улисса в случае, если они рассматриваются не с точки зрения аллегорий, приводят в замешательство. Ахиллес храбр и верен тем, кого любит, но часто пребывает в мрачном расположении духа, эгоистичен и безжалостен к своим врагам, хоть и способен на широкие жесты; используя каламбур Льюиса Кэрролла[79], — он человек, в присутствии которого люди начинают чувствовать себя не в своей тарелке. Его личность настолько многогранна, что даже к концу произведения ей не добавляется целостности. Даже гнев — одна из основополагающих черт характера Ахиллеса — обладает таким множеством проявлений, что его природу невозможно определить точно. Гнев Ахиллеса на Агамемнона за недостаток умений в военном деле — не тот же гнев, какой испытывает Ахиллес, оскорблённый резкими выпадами последнего; не похож этот гнев и на яростную скорбь героя, горюющего по своему другу Патроклу. «Ярость», «гнев» и даже «одержимость» — вот слова, передающие чувства Ахиллеса на протяжении повествования; каждое из них сообщает происходящему особенную атмосферу.
В первую строку «Илиады» каждый из переводчиков на английский язык привнёс нечто своё. В 1616 году Джордж Чапмен, переводы которого вызывали бурный восторг у Джона Китса, передал содержание так: «Ахиллеса губительный гнев огласи, о богиня, что навлёк / Бесконечные беды на греков»[80]. В 1715 году Томас Тикелл предложил такой вариант: «Гнев роковой Ахилла, исток раздора, / Что обрёк на бесчисленные скорби Греции сынов, / О богиня, пой»[81]. Дискуссионный перевод «Илиады» опубликовал в 1715–1720 годах Александр Поуп: «Ахилла гнев, для Греции страшный исток / бесчисленных скорбей, небесная богиня, пой!»[82] В 1880 году Генри Данбар перевёл первую строку как «Гибельный гнев Пелея сына, Ахиллеса, богиня, пой»[83]. Из сделанных в XX веке переводов назовём следующие. А. Т. Мюррей: «Гнев пой, богиня, Пелея сына Ахиллеса»[84]. У. Г. Роуз: «Я стану петь о муже в гневе: о горьком гневе Ахиллеса, сына Пелеева дома»[85].Д. Ф. Кито: «Божественная муза, пой разрушительный гнев Ахиллеса, Пелеева сына»[86]. Р. Латтимор: «Пой, богиня, о ярости Пелеева сына Ахиллеса / И об опустошении, что принесла она»[87]. Р. Лоуэлл: «Пой, муза, мне безумье Ахиллеса / Что на греков тысячу бед навлекло»[88]. Р. Фаглз выразил Гомера так: «Ярость — богиня, пой ярость Пелеева сына Ахилла».
Подобная проблема определения эмоции (и, соответственно, отбора языковых средств) возникала в любом языке, на который переводили Гомера. В 1519 году Хуан де Мена, переводивший с латыни, предложил несколько тяжеловесный вариант: «Божественная муза, пой со мной, Гомером, о ярости высокомерного Пелея сына, а именно Ахилла»[89]. В 1793 году Йохан Генрих Восс открыл свой перевод «Илиады» простым и лаконичным «Воспой же ярость, о богиня, Пелейона Ахиллеса»[90]. Немногим менее века спустя Шарль-Мари Леконт де Лиль сделал попытку перевести максимально близко к греческому тексту: «Воспой, богиня, Пелейона Ахиллеса ярость губительную»[91]. Гарольдо до Кампос, бразильский поэт XX века, был немногословен: «Гнев, богиня, славь Пелида Ахиллеса»[92].
Филолог XIX века Хуан Валера, комментируя перевод с греческого на испанский, где гневу Ахиллеса был подобран эпитет «страшный», «ужасный», писал: «Определять гнев Ахиллеса как страшный равносильно признанию в том, что ты плохой переводчик. Прилагательное, использованное Гомером, происходит от глагола «терять, уничтожать» и имеет значение «фатальный, губительный, приносящий несчастье, разрушительный» — а ведь это куда больше, чем просто «страшный». В мире есть страшные вещи, которые, однако, не несут разрушений; гнев Ахиллеса не относится к их числу… Страшен звук, с какими посланная Аполлоном стрела пронизывает воздух; страшно грозное сияние глаз Минервы; страшно пламя, полыхающее в сердце великодушного Ахиллеса… Страшным видится Елене старец Приам, когда он, пусть и не желая ей зла и не причиняя вреда, с отцовской добротой укоряет её и пробуждает в её душе ужас и стыд. Елена же, не будучи страшной, разрушительна, так как разрушила счастье и мир Приама и принесла ему много горя»[93].
Почему предметом «Илиады» стал гнев — гнев Ахиллеса? В понимании Гомера именно гнев — движущая сила, причина войны, без которой войны бы не было. В то же время гнев Ахиллеса непостоянен и неясен по своей сути, он как бы складывается из нескольких типов гнева. Гомер очень аккуратен при описаниях обстоятельств, в которых Ахиллес гневается: неистовство Пелида, вызванное оскорблением Агамемнона; обида как следствие самолюбия, задетого предложением отдать другому Брисеиду; желание досадить, поступить наперекор грекам, пытающимся уговорить его вновь присоединиться к армии; угрюмость, которой ответил Ахиллес на просьбу Патрокла надеть его доспехи; безумие, в которое впал он, получив известие о смерти друга; бешенство и ярость, направленная на убийцу, Гектора… Когда в Аиде Улисс встречается с Ахиллесом, тот негодует на словах о том, что царство мёртвых, возможно, не худшее место в мире[94]… Историк Нэнси Шерман, изучившая склад ума воинов, утверждает, что хотя озлобление и является немаловажной эмоциональной составляющей воюющих, подобно тому, как оружие и обмундирование являются её материальной составляющей, всё же оно приносит пользу лишь тогда, когда контролируется. Стоики, рассматривавшие гнев наравне с остальными эмоциями как сознательное состояние, в какое добровольно ввергает себя человек, считали, что гнев неприемлем для воина, поскольку он искажает объективную картину мира. Шерман отмечает, что в противовес чувству злобы стоики предлагали apatheia, «свободу от страстей, при которой человек не испытывает ни неистовства или ярости, ни раздражения или горечи и не преступает границ морали»[95]. В XIX веке Стендаль связывал такого рода душевную непоколебимость с греко-римской этикой. «Я забыл, что такое злость! — восклицает Фабрис в «Пармской обители». — Быть может, я — один из тех великих храбрецов, которых подарила человечеству античность? Быть может, я — герой и сам того не ведаю?»[96] Если Фабрис и несёт в себе отголоски античных героев, то никак не гомеровских: в тех не было и следа апатии.
У Вергилия подобные оттенки эмоциональных переживаний героев значительно упрощены, лишены гомеровского разнообразия. Это не умаляет яркости, жизненности характеров, лишь делает их более ясными и менее сложными для понимания читателя. Исключение, пожалуй, составляет лишь Дидона, чей образ по сей день тревожит своей скорбностью. Эней же некоторым читателям казался чересчур цельным персонажем, лишённым каких бы то ни было изъянов. «Ахиллес — такой, каким описал его Гомер, со всеми его недостатками — куда более убедителен, чем Эней, и всегда будет привлекать читателя более, чем последний, являющий собой пример абсолютного совершенства»[97], — так писал в XIX веке поэт Джакомо Леопарди, знаток как Гомера, так и Вергилия.
И в «Илиаде», и в «Одиссее» судьбы героев находятся в руках богов, поступающих пусть и не совсем нерационально, всё же зачастую странно. В «Энеиде» же присутствие богов, образы которых, пусть и каждый со своими капризами, уже были до Вергилия продуманы Гомером, неслучайно: все несчастья, выпадающие на долю Энея, и все непростые решения, которые он должен принять (например, покинуть Дидону), приобретают значение в свете некоего высшего замысла. В поэмах Гомера похороны Гектора и возвращение в Итаку — сильные сцены, завершающие книги, но не сами истории. У Вергилия не упомянутое, но подразумеваемое основание Энеем Рима — не только завершение «Энеиды», но, собственно, причина её написания. «Каков теперь конец?» — спрашивает Юпитер у Юноны в финале поэмы и затем, следуя ответу богини, изрекает:
Учрежу я обрядов священных Чин, единый для всех, и свяжу народы наречьем. Род в Авзонийской земле возникнет от смешанной крови, Всех благочестьем своим превзойдёт бессмертных и смертных[98].Не может быть сомнения в том, что Август был очень и очень доволен трудами своего протеже.
Гомер в христианстве
Я верю в Микеланджело, Веласкеса, Рембрандта; верю в силу мысли, в таинство цвета, во спасение всего и вся вечной Красотой и в идею Искусства, благодаря которому эти мастера благословенны.
Джордж Бернард Шоу, «Дилемма доктора»После Вергилия, в первые века христианской веры, отцы церкви пытались если не согласовать творчество Гомера с набожностью и благочестием, какие проповедала «истинная религия», то хотя бы отыскать в этой религии концепции, которым бы не противоречило мировоззрение Гомера. Господь дал человечеству величайшую книгу из всех книг, в коей записаны судьбы всех, что были и будут; Сын Его искупил наши грехи собственным страданием… Пришло время, и это новое знание стало теснить знание, предложенное Гомером.
Явный конфликт между древней языческой литературой и догматикой новой, молодой веры для ранних христиан представлял сложную дилемму. Один из наиболее эрудированных христианских учёных, Святой Иероним, всю свою долгую жизнь пытался примирить свою веру с верой Гомера. Он понимал, что никогда не сможет честно и искренне отречься от Гомера, от того эстетического и умственного удовольствия, какое приносит ему чтение гомеровских поэм. Он предпочёл создать своего рода иерархию, gradus ad Parnassum: Гомер и его современники стояли у подножия, Библия же была вершиной.
Иероним родился в Далматии около 342 года н. э. Его родители были христиане, однако они не стали крестить ребёнка, пока ему не исполнилось восемнадцать. В Риме он изучал латынь под руководством прославленного учёного Аэлия Доната, из-под пера которого вышла одна из самых известных средневековых грамматик — «Ars grammatica». Благодаря Донату Иероним познакомился с величайшими авторами античности и позднее скрупулёзно цитировал их в собственных работах. Когда ему было немногим за тридцать, он отправился в Сирию; там, живя с отшельниками в пустынях Антиохии, он выучился у одного уважаемого раввина ивриту. Его посвятили в духовный сан, однако он не выполнял никаких обязанностей в церкви. Вместо этого он стал секретарём Дамаса I, Римского Папы с 366 года, по его поручению не только исправил перевод Нового завета на латынь с греческого и иврита[99], но и переработал практически весь Новый завет, а также переведя заново значительную часть Ветхого. Это величайшее достижение, известное ныне как Библия Вульгата (от лат. vulgatus — «широко распространённый, общеизвестный»), упрочившее славу Иеронима как интеллектуала, стало на следующие пятнадцать столетий образцовым изданием Библии. Долгие часы, которые провёл Иероним, усердно трудясь над вверенным ему Папой переводом, тщательные исследования, проведённые им, чтобы пролить свет на неясности в оригинальном тексте, и жалкая благодарность, которую он получил в качестве награды — все эти факторы побудили Католическую церковь канонизировать его и наречь его святым покровителем переводчиков.
В одном из своих писем к другу Святой Иероним подробно излагает сон, ставший вскоре широко известным. Чтобы исполнить своё предназначение и сделать это в соответствии с предписаниями христианства, Иероним отдалился от семьи и отказался от всех тех благ (в частности, изысканных яств), к которым привык с детства. Единственное, с чем он не смог расстаться, была его библиотека, которую он с превеликим тщанием собрал, будучи в Риме. Он казнился и испытывал чувство вины, но не мог отказаться от удовольствия прочесть страницы, написанные Цицероном. Вскоре Иероним серьёзно заболел, и, когда он лежал в лихорадке, ему привиделось, будто его душу привлекли к суду Господа. Голос спросил его, кто он, и он ответствовал: «Я христианин». «Ты лжешь, — возразил тогда голос, — ты следуешь за Цицероном, не за Христом. Там, где хранишь ты свои сокровища, там хранишь ты и своё сердце»[100]. Устрашённый, Иероним поклялся Господу, что не возьмёт более в руки мирских книг и не станет более читать таковых, потому что подобное было бы равносильно отречению от Бога. Но эту торжественную клятву невозможно было бы сдержать, так как в памяти человека, хочет он того или нет, остаются прочитанные им тексты. Пусть даже Иероним согласился больше не читать светских книг, но прочитанные ранее в любой момент готовы были вновь раскрыть свои страницы перед его мысленным взором — и тогда он нарушил бы собственную клятву против своей воли. И тогда Иероним поклялся в другом — в том, что он сможет выполнить: «изучать книги, данные Господом, с большим рвением, чем то, с каким он ранее отдавался книгам, сотворённым смертными»[101]. Иероним пообещал Господу, что труды древности, произведения античных авторов обратит на пользу христианства.
В детстве у Иеронима был друг по имени Руфин; годы спустя этот человек стал сильнейшим оппонентом Иеронима. Руфин, желавший подвергнуть друга детства гонениям, побудил оратора из Рима, некоего Магнуса, снова поднять вопрос о противоречии языческих воззрений и христианских. Магнус спросил Иеронима: почему тот так часто обращается к произведениям древних в своих духовных трудах, смешивая, таким образом, святое с нечестивым. Иероним ответил пылкой речью в защиту античных авторов, снабдив её доводами, использовавшимися для аргументации многие столетия спустя. Он предположил, что каждый читатель в процессе личной переработки и интерпретации старого текста превращает его в новый и этот новый текст может пролить свет на такие аспекты реальности, о каких его автор и не задумывался. «Мои усилия, — писал Иероним, — благоприятствуют христианству, а то, что я, как говорят, оскверняю себя обращением к языческим текстам, лишь увеличивает число тех, кто разделяет мою веру»[102]. Кроме того, разве не к Слову Божию следует относиться с предельным почтением и стремиться перевести его высочайшим стилем, какой знает язык? И разве не мастера древности лучше всех владели этим высочайшим стилем? А потому разве будет грехом изучать их произведения? Эразм Роттердамский, автор примечаний к письмам Иеронима, сделал комментарий по существу: «Разве сам Христос не красноречив? И если Цицерон красноречиво говорит о своих богах, то что мешает христианину так же красноречиво говорить о святости и истинной религии?»[103]
Блаженный Августин, живший примерно в то же время, что и Святой Иероним, в юности также много часов провёл за чтением античных авторов; но когда проблема конфликта античной и современной ему культур встала перед ним, он решил её по-своему. Августин родился в 354 году в городе Тагасте, в Нумидии (современный Алжир), в семье, где мать-христианка пыталась привить сыну собственную веру. Однако мальчик явно более, чем христианским мировоззрением, интересовался культурой Греции и Рима — Рима в большей степени, чем Греции, так как, даже повзрослев, он не мог в полной мере понимать греческий язык[104]. Возможно, греческая литература нравилась ему меньше произведений на латыни именно потому, что он не мог с лёгкостью читать её? «Гомер, как и Вергилий, мастерски сплетал нити рассказа, вкрапляя в них блёстки богатейшего воображения, — писал Августин, — и тем не менее его произведения не были мне по душе — думаю, так же, как не приходятся по душе греческим мальчикам произведения Вергилия, которого они вынуждены изучать в школе, как я изучал Гомера»[105].
В Карфагене Августин некоторое время жил с женщиной, которая родила ему сына, но он, следуя родительским наставлениям, оставил её ради другой, выбранной ему матерью. Брак, однако, заключён не был. Не связанный семейными узами, Августин стал учительствовать в Риме, а затем — в Милане, где его наставником был пожилой епископ Амвросий, старый друг его матери. В юности Августин увлёкся манихейством — доктриной, гласившей, что Вселенная движима двумя силами, Добром и Злом, не зависящими друг от друга и находящимися в постоянном противоборстве. Далее, под влиянием Амвросия и работ греческого философа Плотина и неоплатоников он отрёкся от манихейства (позже он стал одним из самых яростных его противников), принял христианство и решил посвятить свою жизнь служению Господу. Он вернулся в Африку и основал там монашескую общину. В 396 году, во время поездки в Гиппон Регийский, его рукоположили в епископы. Прошло более тридцати лет, прежде чем в 428 году вандалы вторглись в Северную Африку и двумя годами позже осадили Гиппон. На четвёртый месяц осады, 29 августа 430 года, 76-летний Августин скончался.
В зрелом возрасте Августин прекрасно сознавал, как влияют на его мировосприятие ранее прочитанные им книги; он понимал, что его давнее восхищение Вергилием не могло не отразиться на его собственных произведениях и интерпретации им чужих. Эти отголоски авторов-язычников в собственном сознании мучили его. В послании, написанном Лоллию Максиму, молодому человеку, изучавшему риторику, Гораций, произведениями которого Августин также увлекался в юности, описывал, как, перечитывая Гомера, понял, что Гомер лучше какого бы то ни было оратора смог показать, «что честно, а что подло, что полезно, а что пагубно». «Послушайся моего совета и сейчас, пока ты ещё молод и твои помыслы чисты, поверь ему, более зрелому и мудрому, чем ты — ведь новая бочка, давно уже опустев, ещё сохраняет аромат вина, которое хранила»[106]. Августин перефразировал Горация, использовав его слова как назидание юношам, чтобы те не читали Вергилия: «Они вбирают его в себя, пьют его большими глотками, так, что потом его оказывается нелегко забыть»[107]. Августин соглашался с Горацием: книги, к которым мы привязываемся в детстве, остаются с нами всю жизнь. Следовательно, не будучи в состоянии выкорчевать их — мощные деревья, пустившие корни в его сердце, — он пытался найти способ подать античные сюжеты как предостережения против них же самих. Таким образом, Августин хотел убить двух зайцев одним выстрелом: не отказываясь от хорошей литературы, в то же время не изменять христианской морали. «Может ли педагог, с гордостью носящий свою мантию, внимать безучастно тому, кто бросает ему вызов в той области знания, какой педагог владеет более всех, утверждая, что Гомеру, приписавшему в своих произведениях человеческие ошибки капризам богов, лучше было бы представить читателю примеры божественной мудрости? Гораздо правильнее было бы считать, что богам, которых Гомер изобразил в своих текстах, он приписал свойственные смертным недостатки и пороки. Тогда пороки эти — уже не злодеяние, и тот, кто станет поступать подобным образом, будет поступать не как грешный смертный, но как языческое божество»[108].
Августин и сам последовал собственному совету. Например, его сочинение «О граде Божьем» открывается пространным рассуждением о том, как античные авторы писали о падении Трои (заметим, что Гомер не входит в их число, так как его «Илиада» не описывает взятия и разрушения города). Обращение к классикам позволило Августину воспеть небесный город, а цитируя героев Греции и Рима, он возвышал христианских мучеников. Его аргументация безупречна — в этом он не уступает Цицерону; и всё же читатель чувствует, что где-то в глубине души мудрого учёного всё ещё живёт мальчик, плакавший над участью Дидоны так горько, что «едва видел сквозь слёзы те строки, что вызывали в нём печаль». Занятый попытками примирить свою культуру и культуру античности, Августин, возможно, не понял, что делать это было вовсе не обязательно. Неугасающий интерес к античной литературе обеспечил непрерывность передаваемого новым поколениям знания; для христианства же произведения греков и римлян стали предысторией, давшей новой религии возможность получить такое широкое распространение.
Пятнадцать веков спустя, читая Блаженного Августина, Генрих Гейне рассмотрел проблему взаимодействия языческой и христианской традиций под другим углом: в центре его внимания оказалась красота в восприятии греков, в том числе Гомера (красота как архетип), и красота в христианстве (красота как непреходящая истина, явленная избранным). В лирическом стихотворении, отзвуке последней любви, написанном в 1856 году, за две недели до смерти поэта, Гейне описывает глубоко взволновавший его сон. Во сне он видит себя после смерти, лежащего в открытом гробу, украшенном сценами из античной мифологии и Ветхого Завета, в окружении обломков изваяний. Внезапно резкие голоса нарушают тишину усыпальницы:
«Ах, не окончится их ссора никогда, В раздоре вечно Истина с Красою, И вечно будут люди делены На варваров и греков»[109].Гомер в византийской культуре
Ахиллес существует только благодаря Гомеру.
Франсуа-Рене де Шатобриан, предисловие к новелле «Натчез»Со смерти Блаженного Августина минуло немногим менее ста пятидесяти лет, когда квестор короля остготов Теодориха и министр при трёх его преемниках Флавий Кассиодор Магнус Аврелий Сенатор написал трактат под названием «Руководство к изучению божественной и светской литературы», посвящённый проблеме духовного и светского образования. Впервые в истории появилась книга, указывавшая, как лучшим образом постигать свободные искусства в контексте христианского учения. Этот труд, со временем ставший известен как «Руководство» Кассиодора, считался одним из основополагающих учебных трактатов вплоть до эпохи позднего Возрождения.
Трактат разделён на две части. Первая его часть представляет собой изучение Писания и советы, как подбирать и копировать манускрипты. Вторая — это энциклопедический подход к осмыслению семи искусств. По Кассиодору, сущность всех искусств, как современных, так и древних, передана в Писаниях; мудрость и творчество людей, причастных к искусству, пусть и живших в дохристианскую эпоху, является результатом того, что они познали Слово Божие, которое существовало всегда, хоть на тот момент ещё не было зафиксировано в Библии. В одном из своих ранних трудов — «Введении к псалмам» — Кассиодор анализировал текст девятнадцатого псалма, который позже использовал для подкрепления основной идеи «Руководства». Для него слова о том, что «небеса возглашают о славе Господней» всюду и всегда, что «нет языка, на коем Божий глас не слышен», были доказательством того, что любой человек, живи он при христианстве или задолго до него, мог слышать голос Бога и впитать Его мудрость[110].
Однако пусть и «нет языка, на коем Божий глас не слышен», языковая проблема встала перед учёными тех лет. В 324 году н. э., незадолго до рождения Святого Августина, император Константин перенёс столицу в византийский Константинополь, ставший отныне центром политической и культурной деятельности. К VIII веку, несмотря на то, что законы Византии издавались на латыни и на греческом, всё же последний был распространён больше. Признанный языком литературы и философии, он стал родным для духовных и образовательных институтов. Начиная с восьми лет и далее дети обучались греческому языку на материале не только работ религиозного характера, но и сборников классических текстов, включая Гомера. Овладев правилами греческой грамматики, ученики должны были составлять собственные сочинения, имитируя античные модели. Наиболее абсурдным из всех заданий, предлагавшихся обучающимся, было то, что получило название «схедограф»: ученик должен был написать диктант, содержащий множество омонимов и редких слов; для этой цели требовалось вызубрить трудные для понимания слова, а также омонимы, значение каждого из которых определялось исключительно по контексту. Вообще тренировке памяти в византийской системе образования уделялось большое внимание: по прошествии нескольких лет обучения студенты должны были знать «Илиаду» наизусть.
Важнейшим из высших школ в Византии было Императорское училище в Константинополе; его глава носил напыщенный титул Светила науки, а двенадцать его помощников — профессора различных факультетов — именовались знаками Зодиака. Библиотека училища насчитывала 35 000 томов, включая множество произведений греческих авторов; среди них находилась и рукопись с поэмами Гомера, написанная на свитке в 120 футов длиной, который, по слухам, был выполнен из кишки гигантской змеи.
В VII веке н. э. Египет вышел из состава Римской империи, и традиционному папирусу пришёл на замену пергамент (подобно тому, как ранее, в VII веке до н. э., папирус, вытеснив пергамент, стал популярен в Греции). Распространение строчных букв скорописи позволило писцам делать больше копий за меньшие деньги — ведь для требуемого текста им стало нужно меньшее количество листов. Результатом этого стало то, что теперь филологи для написания рецензий и комментариев или для перевода могли ознакомиться с оригинальным, несокращённым текстом, тогда как раньше они вынуждены были довольствоваться сборниками и антологиями. Для жителей Византии искусство литературы включало в себя прежде всего копирование текста и его толкование, составление к нему глоссария и тому подобного. Оригинальность, самобытность перевода считалась качеством пустым и бесполезным, так как единственное, чего переводчик мог таким образом добиться — это продемонстрировать собственную эрудицию и знание малоизвестных слов и выражений. Тем не менее византийцы очень трепетно относились к классикам, поэтому греческие писатели в Константинополе подражали великим авторам античности — но их сочинения не достигали ни мастерства, ни силы и мощи образцов. «В своих прозаических текстах они воспаряют к чудовищной аффектации поэзии; в поэтических — тонут под гнётом плоской бесцветности прозы, — так описывает литературу тех времён Эдвард Гиббон. — Мельпомена, Каллиопа и Евтерпа в Константинополе безмолвствовали, забытые всеми; редко когда кто-либо из византийских певцов поднимался выше загадки или эпиграммы, панегирика или сказочки, они даже забыли правила просодии и стихосложения… Однако эхо великих песен Гомера всё ещё звучало в их ушах, и вот они смешивали все стихотворные стопы, все типы слогов, чтобы произвести на свет те дешёвые вирши, которые позже стали носить гордое название политических или городских стихов»[111].
Оценка Гиббона была, возможно, чересчур заниженной. Пусть в целом литература Византии и была не так прекрасна, как литература античности, в общей её массе всё же есть некоторые заметные труды (особенно в области истории и биографии), в которых чувствуется некоторое влияние гомеровской манеры. Это происходило отчасти потому, что любой образованный человек считал своим долгом знать сочинения Гомера. В относящейся к XI веку хронике описан эпизод, отлично иллюстрирующий ситуацию. Однажды во время императорского шествия некий придворный при виде Склерены, супруги короля, очень тихо процитировал строку из «Илиады», в которой троянцы отзываются о прекрасной Елене с восторгом, говоря, что если сражение идёт за такую женщину, как она, не зазорно вести его. Во время процессии Склерена не подала вида, что услышала ремарку в свой адрес, но когда церемония была окончена, она повелела найти человека, произнёсшего эти слова, и спросила его, что он имел в виду. Она повторила его слова без единой ошибки, произнеся в точности то, что прошептал мужчина. Он пересказал ей гомеровский эпос, и толпа поддержала его и то, что он сравнил Склерену с прекрасной Еленой; сама же Склерена приняла комплимент с благодарностью и щедро наградила мужчину[112]. Хоть Склерена и не была знакома с Гомером, знание его творчества и уместная цитата возвысили придворного в глазах многих.
К концу IV века разделение империи на греческий восток и латинский запад стало ещё более очевидным, чем ранее. Христианская церковь и государство прививали людям востока чувство своего рода избранности, убеждая их, будто они живут в землях, назначенных христианскому народу самим Богом. А люди запада рассматривали служение императору и служение христианской церкви как не связанные друг с другом обязанности гражданина. В области интеллектуального развития на востоке опирались главным образом на классическое знание, почерпнутое из опыта как Греции, так и Рима. На западе же классическое знание считалось неотъемлемой частью языческой культуры, а посему труды Гомера, хотя в Константинополе и продолжалось их издание и изучение, в Риме были почти полностью забыты. Многие христиане, жившие на западе, считали своим долгом внимательно читать Слово Божие, не уделяя уже ни внимания, ни времени произведениям тех авторов, на которых строилась когда-то римская культура, и без зазрения совести выбрасывали старые свитки папируса с сохранившимися до их времён древними текстами[113]. В то время как на востоке епископ Афанасий призывал «встречать рассвет с книгой в руках», на западе христиане следовали заветам Августина, верившего, что праведник, подобно древним святым, может жить «верой, надеждой и подаянием»[114], а книги ему не нужны.
Противоречие между языческой и христианской культурами, которому так много внимания посвятили Иероним и Августин, во времена расцвета Византийской империи во многом стал причиной пренебрежительного отношения к античному наследию. В 382 году статую Виктории, со времён Октавиана Августа олицетворявшую величие Рима, по императорскому указу сняли с её постамента в сенате, чтобы она не оскорбляла сенаторов-христиан. Этому воспротивился представитель нехристианской части сенаторского состава, Квинт Аврелий Симмах, родственник философа Боэция (позже, в период правления готов, и Симмаху, и Боэцию были предъявлены обвинения в антигосударственных происках по наущению Константинополя, и оба они были замучены до смерти). Симмах высказался очень красноречиво — не за дискриминацию христиан, но против дискриминации христианами тех, кто придерживается традиционного для римской знати вероисповедания; он отметил, что престиж императора не возрастёт оттого, что он лишит права на законное существование верования собственных предков: «Суть проблемы заключается в том, что религия римлян неразделима с их государственностью. Уйди одно — уйдёт и другое»[115]. Симмаху возразил епископ Миланский, наставник Блаженного Августина, Святой Амвросий, утверждая, что, как бы верны ни были аргументы, приведённые Симмахом, затронутый вопрос имеет не культурное, но политическое значение: поощряй император язычников — и христианская церковь лишит его своей поддержки.
Завуалированная угроза Амвросия сделала своё дело: христианство возобладало над язычеством.
Когда вестготы во главе с Аларихом в 401 году вторглись на Апеннинский полуостров и девять лет спустя, после осады, захватили Рим, падение Вечного города стало для многих доказательством гнева древних богов на тех, кто обратился в христианство. Отметим, что готы тоже были христианами — они приняли христианство в середине IV века, когда греческий проповедник Вульфила, сторонник арианства, объяснил им, что, хоть Отец и имеет божественную природу, Сын имеет природу человеческую. Для римлян тот факт, что победители разделяют их веру, лишь усугублял позор статуса завоёванного народа. В связи с этим их отношение к язычникам — как и к языческим текстам — на время смягчилось. Некоторое время произведения античности сохранялись и изучались в монастырях и аббатствах, заботливо переписывались представителями как светской, так и духовной власти. Однако в 455 году, когда Рим был захвачен вандалами и королевство готов пало, начались войны, опустошившие Апеннины; библиотеки как традиционный источник знания для народа практически исчезли, а с ними исчезли и книги[116]. Поколение, пережившее две масштабных осады за четыре десятилетия, просто хранило книги как реликвии, не ища в них знаний, пусть даже и знаний о древнейшем прообразе осады города, какая описана в «Илиаде». Гомер стал символом, великим поэтом древности, существование которого было сомнительно, но к которому испытывали должное уважение.
Тем временем на востоке империи Гомера по-прежнему читали, и книги его вошли в обиход и занимали отдельную нишу в сознании византийцев. Несмотря на то, что подробно разбирались лишь некоторые фрагменты его поэм, и знание его сочинений на деле свелось к знанию общего сюжета и нескольких цитат, Гомер продолжал оказывать сильнейшее влияние на культуру Византии. Одним из подтверждений этого влияния являются, как ни странно, многочисленные попытки опровергнуть его истории, полностью или частично. В глазах светил византийской филологии труды Гомера оставались образцами возвышенной литературы, достойными подражания; но появилось несколько других текстов, претендовавших на подобное к себе отношение, а это, в свою очередь, способствовало росту числа литературы несколько худшего качества.
Так, по сведениям Прокла, занимавшегося историей литературы (к сожалению, время его работы не определено чётко и может датироваться как II, так и V веком н. э.), существовало несколько эпических поэм, сочинённых во времена Гомера или ранее, на материале которых сам Гомер, возможно, и разработал свои всем известные тексты. От шести произведений, посвящённых теме Троянской войны, до нас дошло лишь несколько отрывков; однако список, перечисляющий их названия, сохранился в рукописи «Илиады», хранящейся сейчас в Венеции[117]. Самый объёмный из этих шести текстов называется «Киприя» и представляет собой в некотором роде предысторию «Илиады»: действие там начинается с суда Париса, когда Афродита сулит молодому троянцу любовь прекраснейшей из смертных женщин в обмен на то, что он назовёт её, Афродиту, прекраснейшей из богинь. Далее есть текст, действие в котором начинается с похорон Гектора и заканчивается смертью Ахиллеса и спором Улисса и Аякса о том, кто заберёт его доспехи. «Малая Илиада», чьё авторство, как уже упоминалось выше, некогда приписывалось Гомеру, рассказывает о том, как спор о доспехах разрешился в пользу Улисса, и заканчивается ввозом в Трою деревянного коня. Повествование продолжает «Разграбление Илиона», где описывается взятие Трои. Книга завершается жертвоприношением Поликсены (жительницы Трои, на которой, полюбив её, хотел жениться Ахиллес, но был предательски убит Парисом, когда, безоружный, пришёл для бракосочетания) над кенотафом Ахиллеса; убийством сына Гектора Улиссом; и, наконец, отплытием греков, устрашённых разгневанной Афиной. Дальнейшее развитие судеб героев троянской войны описывается в пяти книгах, называемых «Возвращения». Путешествие Менелая в Египет, к берегам которого буря прибила направлявшиеся домой корабли, и его успешное прибытие обратно в Спарту; предостережение о грядущей смерти от руки жены Клитемнестры и её любовника Эгисфа, которое даёт Агамемнону призрак Ахиллеса; кораблекрушение и гибель Аякса; долгая дорога домой Неоптолема, сына Ахиллеса. О жизни Улисса после описанных в «Одиссее» странствий повествует «Телегония». Похоронив умерщвлённых женихов Пенелопы, Улисс отправился в последнее предсказанное ему Тиресием путешествие[118], где он женился на царице, выиграл войну, вернулся в Итаку и был, подобно Эдипу, убит там собственным сыном от Цирцеи, Телегоном, который отправился на поиски отца и, высадившись в Итаке, но не зная, что это Итака, стал разорять земли местных жителей. Улисс погиб, встав на защиту своего государства; Телегон же, узнав о трагической ошибке, вместе с Пенелопой и Телемахом вернулся к матери, которая наделила всех троих бессмертием[119].
Этот эпический цикл стоял у истоков того жанра, который, получив название троянского, стал источником вдохновения для многих авторов. Среди таковых следует отметить Квинта из Смирны, высокообразованного грека, жившего в Малой Азии в III веке н. э.: имитируя стиль изложения Гомера, он написал «Постомерику», «полную» (и, признаемся, довольно-таки скверную) историю Троянской войны[120]. Кроме этого текста есть ещё два сочинения, представляющие собой рассказы о падении Трои, предположительно написанные солдатами, участвовавшими во взятии города. Из всех произведений, затрагивающих тему Троянской войны, эти сочинения, авторами которых являются Дикт с Крита и Дарес из Фригии, пользуются наибольшей (после гомеровских поэм) известностью. Есть мнение, что они предвосхитили сочинения Гомера на несколько сотен лет. Позже в Византии нашлись авторы, использовавшие в качестве материала для собственных произведений текст Дареса («История падения Трои»); большее число опиралось на описание Дикта («Записки Троянской войны»), вероятно потому, что Дикт предложил видение глазами грека, а Дарес — троянца[121]. Кроме того, повествование Дикта охватывает и возвращение греков на родину, превращаясь в своего рода связку между «Илиадой» и «Одиссеей». Безусловно, эти сочинения не являются достоверными рассказами очевидцев, а, скорее всего, были написаны в I веке н. э. некими греками. Как бы то ни было, оригиналы не дошли до наших дней; сохранился лишь незначительный фрагмент из текста, приписанного Дикту, — в 1899 году он был найден на обороте документа, касавшегося подоходного налога за 206 год н. э.
После перевода текстов Дикта и Дареса на латынь последний получил большее распространение среди наследников Римской империи, так как он излагал историю с позиций того, кто принадлежал к потомкам Энея. Затмив собой даже «Илиаду», сочинение Дареса стало цитироваться всякий раз, когда требовалось обращение к истории Трои. Как уже упоминалось, Гомера часто упрекали в том, что он изобразил богов подверженными людским страстям и вмешивающимися в дела смертных. В свою очередь, Дарес (а с ним и Дикт) не приписывали богам самостоятельности, упоминая их имена только из почтения; в их изложении все события зависели исключительно от людей. На многие века записи Дикта и Дареса стали достоверными историческими документами, написанными как бы в противовес друг другу. Так продолжалось вплоть до начала XVIII века, когда учёному Якову Перизонию удалось предоставить бесспорные доказательства тому, что оба сочинения представляют собой мастерские подделки.
Около 1165 года Бенуа де Сент-Мор из Нормандии, приближённый короля Генриха II, написал собственный роман — «Троянский роман», основанный на сочинении Дареса. Однажды в Афинах, рассказывает Сент-Мор, учёный по имени Корнелий, перебирая свою библиотеку, обнаружил труд Дареса на греческом языке. Корнелий перевёл его на латынь — именно этот перевод, по утверждению Сент-Мора, и лёг в основу его «Троянского романа». Признавая в лице Гомера весьма образованного человека, наделённого величайшим гением и мудростью, Сент-Мор тем не менее считает хронику Дареса лучшим описанием военных действий: Дарес как солдат, участвовавший во взятии, кажется ему источником более достоверным, чем Гомер, знавший об этом лишь понаслышке (при этом Сент-Мор признаёт, что сам он Гомера не читал, а узнал о нём «из других источников» — например, от того же Дареса). Себя Сент-Мор позиционирует как переводчика на благо тех читателей, кто не знает латыни (illiterati — «безграмотных»), поясняя, что намеревается «использовать все присущие ему мастерство и ум, чтобы те, кто не умеет читать на латыни, смогли всё же насладиться поэмой»[122].
В тексте Сент-Мора был один эпизод, не упомянутый у Дареса, — описание трагической любви троянца Тройлия и Крессиды (названной у Сент-Мора Брисеидой). Возлюбленная Тройлия вынуждена покинуть город, когда её отец Калхас, нарушив долг, переходит на сторону греков. В неё влюбляется грек Диомед, предложение которого она после некоторых сомнений принимает. Как залог своей любви она отдаёт ему правый рукав своего платья. Тройлий же, оставленный любимой, погибает в битве от руки Ахиллеса.
Двести лет спустя Гвидо де Колонн, писатель с Сицилии, не ссылаясь на источник, написал прозаическую версию «Троянского романа». Позже она была переведена на английский Джоном Лидгейтом[123]; Джеффри Чосер предложил более вдохновенный перевод, «Тройлий и Крисеида»[124], настолько впечатливший поэта Роберта Генрисона, что он переработал историю. В его «Завещании Крессиды» боги наказывают девушку за неверность, наслав на неё проказу; Крсссида умирает, получив милостыню от Тройлия, не узнавшего её, покрытую язвами[125]. В 1474 году английский первопечатник Уильям Кэкстон включил эту (в то время весьма популярную) историю в свой «Сборник рассказов о Трое»[126].И наконец, сам Уильям Шекспир, который, как известно, владел «немного латынью и чуть меньше греческим»[127], а потому, конечно, не читал Гомера в оригинале, воспользовался многочисленными уже источниками для создания собственной версии под названием «Тройлий и Крессида»[128].
Гомер в исламе
Не только у арабов есть поэты: у чужеземцев они есть также. Поэты были и в Персии и в Греции. Например, Аристотель в своей «Логике» восхваляет некоего Уматираша (Гомера).
Ибн Хальдун, «Укаддима»В то время как в Византии изучение греческого сводилось главным образом к изучению античных моделей, в культурных центрах Арабского мира (сначала в Багдаде, позднее — в Каире, Дамаске, Кордове и Толедо) изучение греческой литературы велось в виде диалога между деятелями культуры. Аристотель и Платон не были призрачными фигурами из далёкого прошлого: они продолжали жить и вели активный диалог со своими читателями; читатели, в свою очередь, не только читали для самих себя, но и распространяли книги, делая переводы и снабжая их комментариями. В IX веке великий Абу Усман Амр ибн Бахр аль-Джахиз, более известный как Джахиз, упрекал учёных в том, что они Корану предпочитают Аристотеля (при этом сам он не признавался, что в нескольких своих работах сознательно выразил аристотелевские принципы)[129].
Считается, что деятельность по переводу на арабский язык литературы на других языках началась в середине VIII века, во время правления знаменитого аль-Мансура; в частности, среди переводов были индийский сборник «Калила и Димна», «Альмагест» Клавдия Птолемея и «Геометрия» Евклида[130]. Однако масштабный перевод греческих книг начался веком позже — и начался он со сна. Однажды в Багдаде халиф аль-Мамум, прозванный Ценителем знания (сын небезызвестного Гаруна аль-Рашида, который позже стал персонажем полюбившихся европейцам сказок «Тысяча и одной ночи»), увидел во сне сурового бледнолицего голубоглазого мужчину с высоким лбом мудреца. С той уверенностью, что бывает присуща нам во сне, халиф понял, что мужчина этот — Аристотель[131]. Аль-Мамум беседовал с мудрецом всю ночь. Наутро халиф приказал основать в Багдаде библиотеку для трудов Аристотеля, где смогли бы также работать переводчики. Руководство переводческой деятельностью поручили учёному по имени аль-Ибади, который вместе со своими учениками перевёл на сирийский и арабский языки практически все сочинения греческой и эллинистической философии и науки. Несмотря на то, что поэтические тексты переводились редко, было переведено несколько фрагментов из поэм Гомера — об этом свидетельствуют некоторые сборники изречений философов (некоторые из них заслуживают доверия, некоторые недостоверны), а также переводы на арабский язык тех греческих авторов, кто цитировал Гомера (например, Аристотеля). Страсть арабов к текстам античности была так велика, что в некоторых случаях к работам признанных авторов переводчиками добавлялись произвольные фрагменты. Так, к примеру, произошло с «Федром» Платона — трудом, который фантазия переводчика, снабдив выдуманными размышлениями Аристотеля на смертном одре, превратила в «Китаб аль-Туффаха», или «Книгу яблока»[132]. Биографии Гомера или, как его называли, «поэта-странника», обычно входили в состав словарей и энциклопедий[133].
Так же, как языческие писатели для христианской Европы стали источником аналогий, целью которых было возвеличение христианской религии, писатели-исламисты использовали греческую и (в меньшей степени) латинскую литературу для того, чтобы поддержать авторитет Корана. Примеры, взятые из греческих книг, в трактовке арабских авторов иллюстрировали, по словам пророка Мухаммеда, «законы, которые движут душой». В X веке лучшие и наиболее значимые из таких религиозно-ориентированных комментариев вышли из-под пера учёного по имени аль-Фараби, выдающегося логика своей эпохи. Пройдя обучение в Багдаде с учёными-христианами из Александрии, он обосновался в Дамаске, где, работая в уединении, стал писать принёсшие ему славу критические трактаты об Аристотеле, Платоне и Галене. В них аль-Фараби выразил свою идею о том, что философия, как и религия, может помочь человеку прийти к истине, если он избирает разные пути и приветливо относится к путникам, идущим другой дорогой. Каждый из путей, будь то путь религии или философии, — это два уровня поиска истины. Высший уровень — это метафизическое исследование; он доступен тем, кто в силу своего ума или одарённости способен оперировать сложными абстрактными формулировками. Другой уровень, доступный большинству, — это знание, заложенное в сказках, мифах, загадках и иносказательных притчах. В идеале оба пути познания и четыре уровня внутри них должны сосуществовать в гармонии. Отметим, что были и такие учёные, кто считал, что представители нижних уровней, например, поэты или «пророки повседневности», как аль-Саракси назвал странствующих проповедников, — не более чем невежды. Однако ведь Платон выразился гораздо жёстче, заклеймив их как «искажающих истину» и лишив их права на существование в идеальном государстве. Аль-Фараби не был так категоричен. По словам пророка Мухаммеда, общество в исламе должно состоять из идеальных общин — умм. Для аль-Фараби государство Платона и умма Мухаммеда были двумя воплощениями одной идеи, и хотя в одном из этих сообществ не находилось места поэтам, а в другом они были такими же гражданами, как все остальные, объединила их идея идеальности, совершенства системы[134]. При таком рассмотрении поэмы Гомера, пусть и не такие холодно-возвышенные, как труды Платона и Аристотеля, написанные архаичным, почти вульгарным слогом, заслуживали внимательного прочтения, так как содержали зёрна истины.
Насколько известно современной науке, в период расцвета переводов на арабский не было зафиксировано ни одного полного перевода Гомера. Во времена династии Абассидов существовало лишь несколько учёных, ознакомленных с сюжетом «Илиады» и «Одиссеи», фрагменты двух этих поэм появлялись в популярных рассказах. К примеру, некоторые из приключений Улисса легли в основу историй о Синдбаде[135]. Антология военных подвигов арабов, датированная поздним XIII или XIV веком, рассказывает историю, похожую на мотив гнева Ахиллеса и убийства Гектора. Несомненно, источником этой истории мог быть и не Гомер, а один из многочисленных пересказов событий Троянской войны.
«История рассказывает нам о том, как царь византийских греков хитростью вознамерился захватить Ифрикию [Фригию], но народ узнал об этом до вторжения и скрылся в стенах города [Трои], который долгое время держался в осаде войсками захватчиков, но их усилия были тщетны: врата города выдерживали все атаки. Среди горожан был человек по имени Актар [Гектор] — решительный и храбрый. Всякий воин, кто отважился выйти против него, был обречён. Об этом сообщили греческому царю [Агамемнону].
У царя в армии был воин, именуемый Арсилай [Ахиллес]. Храбрость его была непревзойдённой; однако он под влиянием гнева на решение царя отказался сражаться. Царь требовал и просил, однако Арсилай был непреклонен. Тогда царь повелел распустить слух, будто брат Арсилая был взят в плен Актаром.
Арсилай испытал большое горе, когда услышал об этом. Он искал брата повсюду, но не мог найти. Тогда он взял в руки оружие и вышел сразиться с Актаром. Он победил Актара, и взял его в плен, и отвёл к царю греков, и царь греков умертвил Актара. Народ Ифрикии и все их союзники впали в отчаяние, узнав о том, что их герой погиб. Царь греков и Арсилай вновь повели войско на осаждённый город. Они нанесли тяжкое поражение врагу и завоевали те земли…»[136]
В данную версию событий Троянской войны привнесены два важных изменения: во-первых, Гектор на самом деле не убивал «брата» Ахиллеса — известие об убийстве всего лишь слух, пущенный по приказу Агамемнона; во-вторых, Ахиллес не убивает Гектора, он лишь берёт его в плен; казнь Гектора происходит по велению Агамемнона. Таким образом, Агамемнон оказывается главным действующим лицом повествования.
К концу X века арабская переводческая школа стала терять свой блеск, но прежним осталось желание арабов наполнить собственную культуру мудростью, накопленной в других культурах задолго до того. Арабские учёные, облекавшие слова греков плотью родного языка и оживлявшие греческие тексты своими комментариями, занимались этим не столько ради сохранения культуры Греции (последняя была для них не важнее, чем культура Персии), сколько ради «присвоения и ассимиляции»[137], стремясь впитать знания греков. Начиная с XI и до XIII века многие из переведённых на арабский язык произведений античной Греции были, в свою очередь, переведены на другие языки, в частности, на латынь и иврит. На Сицилии и в особенности в Испании труды Аристотеля, снабжённые примечаниями аль-Фараби, Авиценны и Аверроэса (в арабском варианте — Ибн Рушд) были переосмыслены благодаря комментариям переводчиков. Также некоторые художественные произведения и поэзия появились в Европе в арабском варианте и были позже переведены на другие языки. Благодаря этому активному процессу несколько эпизодов из поэм Гомера, по-своему трактованные арабскими переводчиками, трансформировались в испанские романсы, канцоны Прованса, французские сказки-фаблио и так далее.
Прошло много времени, прежде чем в 1857 году Вильгельм Гримм, один из знаменитых немецких братьев-сказочников, предположил, что в основе варьирующихся, но тем не менее схожих сюжетов лежат истории Гомера, которые изначально были преподнесены читателю как легенды об имевших место в далёком прошлом событиях. Легенды эти постепенно превращались в народные сказания, фиксированные время и место действия сменились на общее для всех сказочных сюжетов «в некотором царстве, в некотором государстве», а те, кто «жили-были однажды», из античных греческих героев стали Гансами, Иванами и Джеками[138]. Конечно, можно лишь строить предположения относительно того, как далеко за пределы Греции распространились сюжеты Гомера. Например, существуют факторы, давшие филологам основания полагать, что «История об одноруком Эгиле и Асмундре, грозе берсерков», исландская сага, датированная примерно 1300 годом, испытала значительное влияние «Одиссеи» — в частности, эпизода встречи Улисса и циклопов[139], в английском фольклоре вошедшего в сказку «Джек Бобовое Зёрнышко».
При всей важности арабских переводчиков, не только они вдохнули вторую жизнь в античное наследие Европы[140]. Большая часть величайшей художественной и философской литературы и драматургии пришла в Европу гораздо позже и отнюдь не через арабские переводы. И всё же в переводе или в оригинальном, древнегреческом варианте, с комментариями и глоссами или без таковых, в виде разрозненных сюжетов и персонажей или цельного произведения, рассматриваемые как аллегории или как достоверное описание исторических фактов — поэмы Гомера вновь стали занимать воображение читателей, на этот раз европейских. В начале XVI века Хуан де Мена в своём предисловии к «Илиаде», обращённом к королю Хуану II, попытался объяснить механизм подобного возобновившегося интереса к Гомеру. Такие авторы, как Авиценна, писал он, подобны шелкопрядам, сплетающим книги из нитей собственных мыслей; однако себя де Мена уподоблял «пчеле, собирающей нектар с мёдоточивых цветков, что цветут в чужих садах». «Воистину велик мой дар, если я, обкрадывая других, не обрекаю украденное мною на разложение. Воистину велика и моя храбрость, если я отважился переводить и толковать такой величайший труд, как «Илиада» Гомера, с греческого переведённый на латынь, с латыни же — на наше грубое кастильское наречие»[141].
Обычные читатели — не такие строгие судьи, как учёные и критики. Открывая книгу, они просто дают свободу своему воображению вести диалог со всем, что они читали ранее, позволяя значениям, иносказаниям, образам обогащать и дополнять друг друга. В сознании читателя сюжеты, герои и даже авторы сливаются воедино; и союз их так тесен, что совершил ли то или иное деяние Арсилай или Ахиллес, где заканчиваются приключения Улисса, описанные Гомером, и начинаются приключения Синдбада, описанные арабским автором, — уже не важно.
Данте
Данте был этому господину известен как сумасбродный эксцентрик из числа тех древних типов, что, обвив голову лавровым венком, неизвестно ради чего взгромоздившись на табурет, красуются в непосредственной близости от Флорентийского собора.
Чарльз Диккенс, «Крошка Доррит»
Средневековье подходило к концу, и учёные и поэты снова вернулись к вопросам, которыми задавались Святой Иероним и Блаженный Августин, когда искали связь между поэмами Гомера и Библией. Гомера по-прежнему трактовали иносказательно, сопровождая изучение текстов поиском аналогий между знанием, которому учили древние, и накопленным христианской церковью (при этом в такого рода параллельных трактовках ни античная, языческая, ни христианская мудрость не исключали друг друга). В то время в искусстве и литературе уже укрепилась традиция примечаний к библейским Заветам; сюжеты и образы из Нового Завета часто подкреплялись примерами из Ветхого, и наоборот (например, древо познания, с которого Адам и Ева сорвали запретный плод, могло соседствовать с крестом, на котором умер распятый Христос). Подобным же образом проводились и аналогии между Библией и Гомером: так, Ахиллеса сравнивали с ветхозаветным Давидом, а странствия Улисса прежде, чем он вернулся в родную Итаку, — с исходом из Египта.
В начале XIV века Альбертино Муссато, наиболее известный из числа поэтов, входивших в «cenacolo padovano», поэтический кружок в Падуе, утверждал, что в творчестве языческих авторов в форме загадок и иносказаний заложены те же идеи, что и в Писании, и древние также предсказывали появление посланника Божьего. Муссато называл их поэзию второй теологией[142] (перефразировав это утверждение, Петрарка писал позже: «Теология — это поэзия самого Господа»[143]).
Рассуждая о языческой поэзии, Муссато имел в виду в первую очередь Гомера. Несмотря на то, что литературное наследие Римской империи занимало важное место в библиотеках времён Возрождения, Гомер считался первоисточником, родником, без свежей воды которого не взошли бы цветы других поэтов. Когда Данте встречает выдающихся поэтов древности в первом круге Ада, во главе процессии он видит Гомера, размахивающего мечом, тем самым утверждая превосходство эпической поэзии над другими её разновидностями. Гомер и другие подходят поприветствовать Вергилия, а затем, к удивлению Вергилия — Данте[144], то есть сначала приветствует того, кто в «Энеиде» воспел триумф Рима, а затем — того, кто в будущем воспоёт триумф христианства.
Гомер оказал на Данте и его современников влияние сродни тому, какое оказывали боги на древних. В «Илиаде» и «Одиссее» (а также и в некоторых более поздних сочинениях) Зевс и другие боги появляются среди смертных, вдохновляя их, устрашая, добиваясь для них славы или погибели или строя мелкие козни (как, например, в «Илиаде», когда Афина дёргает Ахиллеса за волосы[145]). Пусть на Олимпе боги были бесплотны — их облекли плотью из бронзы и мрамора скульпторы, чьи творения водрузили в храмах; более того, они стали жить в воображении тех, кто верил в них, кто молился им перед тем, как идти в бой, или заключить сделку, или отправиться в путешествие. Воспитанники Платона после смерти учителя защищали высмеянное им гомеровское представление о богах как о сущностях, шпионящих за человеком; Плутарх часто упоминал о появлении богов среди людей; император Марк Аврелий размышлял о присутствии божеств, «которые плывут звёздами по небесам, а в наших снах являются нам в качестве друзей или наставников»[146].Для Блаженного Августина же во Вселенной был только один Господь.
Философ и драматург Сенека, работавший в I веке н. э., предложил консенсус. В его понимании не боги, но смертные — великие поэты и мыслители древности — продолжали жить среди людей. «Только о тех, кто каждый день возвращается к Зенону, Пифагору, Демокриту и другим столпам знаний, только о тех, кто ценит Аристотеля и Теофраста, можно справедливо сказать, что они живут надлежащим образом, — писал он. — Как часто можно услышать, что мы не выбираем себе родителей, но судьба дарует нам их. Однако своё происхождение мы можем выбрать сами». Сенека считал, что великие просветители прошлого могут наделить и нас своим опытом. Указывая на свою библиотеку, он говорил: «Вот семьи, чьё наследие благородно, — ты можешь выбрать, к какой из них тебе принадлежать. Став одним из них, ты не только возьмёшь себе новое имя; ты унаследуешь состояние, которое не нужно беречь, боясь кражи, которое можно тратить, не скупясь: чем больше людей ты приобщишь к нему, тем более оно вырастет. Оно откроет тебе путь в вечность и вознесёт тебя туда, откуда тебя никто не сможет низвергнуть. Это единственный способ продлить свою — увы! не вечную — жизнь, превратить её из удела смертного в бессмертие»[147].
Альбертино Муссато, Данте и другим поэтам того времени доводы Сенеки не казались чем-то новым. Отцы католической церкви давно уже сравнялись с великими творцами античности, поэтому так же, как Муссато обращался к Титу Ливию, называя его своим наставником[148], мог Петрарка вести воображаемый диалог с Августином[149]. Подобные отношения гения с гением были так же чисты, как и отношения между читателем и его любимыми книгами.
Единственное исключение из всего вышесказанного — Данте. Он стал первым писателем, жившим в эпоху Возрождения и, тем не менее, превозносимым современниками так же, как великие мастера Греции и Рима. Стоит отметить, что у него самого это не вызывало удивления:
О Музы, к вам я обращусь с воззваньем! О благородный разум, гений свой Запечатлей моим повествованьем![150]Однако Данте знал, что он не в силах поведать свою историю без божественного вдохновения. Гомер первым позиционировал себя не как автора поэм, но как исполнителя того, что продиктовал ему некий божественный голос. И «Илиада», и «Одиссея» открываются обращением аэда к музе: он просит её воспеть гнев одного человека и хитрость другого. Однако эти два начала различаются в том, что в «Илиаде», более раннем тексте, Гомер как бы остаётся в тени, предоставляя музе речь его устами; в «Одиссее» же он сам является слушателем и просит музу петь ему. Вергилий и Данте строят свои тексты по последней модели. Первый в «Энеиде» призывает музу петь для него о войне, которая стала началом странствий Энея[151]. Второй в «Божественной комедии» обращается к музам за помощью: те воспоминания о проделанном им путешествии, что сохранила его память, он хочет облечь в совершенную форму[152].
Гилберт Кит Честертон отметил однажды, что вовсе не обязательно читать классиков, чтобы знать, что они классики; достаточно сознавать, какую важность для многих поколений читателей несут Сервантес, Шекспир или Достоевский, чтобы признавать в них «важных» писателей. Когда мы понимаем, что хотим сами прикоснуться к их творчеству (если такое вообще происходит), на знание общего характера о том, что данная книга принадлежит перу классика, накладываются наши собственные суждения, как-то: мне нравятся (или не нравятся) книги Гомера и посыл, заложенный в них. Данте был знаком лишь с теми произведениями классиков, которые были доступны на латыни (в основном — с Горацием, Сенекой и, конечно, Вергилием). С великими греками, которых в «Божественной комедии» Вергилий представляет как своих близких товарищей (Еврипид, Антифон, Симонид, Агафон «и несколько других, увенчанных лавровыми венками»), Данте знаком не более чем понаслышке. Ни Софокл, ни Эсхил не упомянуты у него, так как в XIV веке их имена были забыты, и Данте их попросту не знал (впрочем, даже об Еврипиде ему было известно лишь имя — возможности ознакомиться с сочинениями Еврипида у него не было[153]).
Данте и его современники принимали вековую славу Гомера как должное. Его поэмы они читали (если читали) в переводе на латинский язык (отметим «Ilias Latina», популярный в то время анонимный пересказ «Илиады», датированный предположительно I веком н. э.). У Петрарки хранилась греческая рукопись Гомера: он не мог её прочесть, но относился к ней с благоговением и другу, приславшему этот манускрипт из Константинополя, писал: «Твой Гомер лежит рядом со мной; он нем ко мне так же, как я глух к нему. Как часто целовал я его, восклицая — Великий муж! Как бы я хотел внять твоим словам!»[154] По предложению Петрарки и не без помощи Боккаччо друг обоих Леонцио Пилато, монах из Калабрии, грек по происхождению, перевёл обе поэмы Гомера на латынь — однако перевод этот был весьма и весьма плох[155].
Данте познакомился с Гомером через Вергилия. Как отмечает Джордж Стайнер, «пусть даже он не знал греческого и не мог ни одного греческого сочинения прочесть в оригинале, его гений как поэта и провидца подсказал ему, что за «Энеидой» стоит Гомер»[156]. В этом смысле Вергилий был не только проводником Данте в Аду, но также источником, из которого Данте почерпнул своё вдохновение; благодаря Вергилию Данте получил возможность насладиться, пусть и косвенно, произведениями Гомера. Кроме этого Вергилий был для Данте тем, кто увидел в обширной Римской Империи культурное единство. А ведь в эпоху Данте мир также стремился к цельности: к единению духовному, над которым стоял избранный Богом Папа, и светскому, подвластному избранному Богом императору. И Папа, и император подчинялись законам Господа и диктовали эти законы простым людям, так что тот, кто нарушил какой-либо закон, должен был либо понести искупительное наказание, либо (за очень серьёзный проступок) быть обречённым на страшную вечную кару.
В соответствии с этим «Божественная комедия» разделена на три пространственных континуума. Первый — Ад — это место, предназначенное для тех, кому нет прощения; оно представляет собой некую воронку, протянувшуюся от Северного полушария до центра земли. Второй — Чистилище — место, где души могут искупить свои земные грехи; это гора на острове в Южном полушарии. Наконец, третий — это Рай, находящийся непосредственно под десятью небесами, которые, по представлениям средневековых астрономов, образуют небо.
«Божественная комедия» Данте как литературное произведение вобрала в себя множество элементов из сочинений других авторов, от Гомера (через Вергилия) до описаний в арабской литературе путешествия Мухаммеда в другой мир, «Мираж» (эта книга была переведена на кастильский по приказу Альфонса X, а затем получила распространение на латыни, французском и итальянском — последнюю версию, скорее всего, и читал Данте). «Божественная комедия» Данте подобна величайшему архитектурному памятнику — однако краеугольному камню этого шедевра имя Гомер.
Гомер в Аду
Шумно, дорогой мой! И все эти люди…
Эрнст Тезигер в ответ на вопрос о военной службе в Первую мировую войнуГомер, описывая царство мёртвых, не упоминает никаких подробностей. Преисподняя в «Одиссее» предстает как некое обобщённое место, где пребывают души умерших, а властелин над ними — Аид. Туда отправляется Улисс по требованию Цирцеи, которая после года пленения наконец решает отпустить его — однако прежде наказывает ему «проникнуть / В область Аида, где властвует страшная с ним Персефона, / Душу пророка, слепца, обладавшего разумом зорким, / Душу Тиресия фивского… вопросить там». Улисс тогда восклицает в страхе: «Кто ж, о Цирцея, на этом пути провожатым мне будет? В аде ещё не бывал с кораблём ни один земнородный»[157].
Цирцея даёт Улиссу подробные указания. Гонимый северным ветром, его корабль достигнет тёмных пустынных берегов рощи Персефоны. Оттуда он должен спуститься в царство Аида к водам реки Ахерон, в которую впадают два потока: река Огня и река Слёз (рукав Стикса, реки Ненависти). Здесь Улисс совершит возлияния мёртвым и станет ждать их появления, пока не возникнет призрак Тиресия, который и подскажет герою, как ему вернуться в Итаку[158]. Улисс в точности следует указаниям Цирцеи[159]. (Позже, в песне двадцать четвёртой, описано второе путешествие в царство мёртвых, когда Гермес провожает туда души умерщвлённых женихов Пенелопы: «Мимо Левкада скалы и стремительных вод Океана, / Мимо ворот Гелиосовых, мимо пределов, где боги / Сна обитают, провеяли тени на асфодилонский / Луг»[160]. Таким образом, получается, что в Ад ведёт несколько дорог.)
Описание, предложенное Гомером, являет нашему мысленному взору Ад, никоим образом не структурированный: здесь, словно старики в богадельне, бродят бестелесные души; в основном они безразличны к происходящему вокруг, хотя некоторые из них с сожалением вспоминают о том, что осталось в земной жизни. Других боги обрекли на чудовищные муки: Тантал мучим голодом и жаждой, но не может утолить их, так как вода уходит, а ветвь с плодами отстраняется от него; Сизиф поднимает в гору камень, который всё время скатывается вниз… Несмотря на то, что в VI веке до н. э. поэт-лирик Пиндар отметил в царстве мёртвых области, в которых, по его мнению, обитают счастливые души[161], по Гомеру, усопшие никогда не бывают довольны своей судьбой. «Утешения в смерти мне дать не надейся, — восклицает Ахиллес при встрече с Одиссеем. — Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле, / Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, / Нежели здесь над бездушными мёртвыми царствовать, мёртвый»[162] (это сожаление созвучно изречению из Экклезиаста 9:4 — «Живой пёс лучше мёртвого льва»).
Вергилию гомеровское представление Царства мёртвых показалось недостаточно объёмным. В «Одиссее» у Улисса, которому Цирцея подробно описала, как добраться до обиталища Аида, нет иного выбора, кроме как следовать её наставлениям. Двенадцати строк оказывается достаточно, чтобы описать его путешествие; следующих затем шестнадцати — чтобы передать его обращение к мёртвым. Затем, как и предсказывала Цирцея, на зов является наводящая ужас толпа призраков:
Души усопших, из тёмныя бездны Эреба поднявшись: Души невест, малоопытных юношей, опытных старцев. Дев молодых, о утрате недолгия жизни скорбящих, Бранных мужей, медноострым копьём поражённых смертельно В битве и брони, обрызганной кровью, ещё не сложивших. Все они, вылетев вместе бесчисленным роем из ямы, Подняли крик несказанный; был схвачен я ужасом бледным[163].Появление мёртвых поистине вселяет страх, однако по сравнению с угрожающего вида стенающими духами те, с кем далее беседует Улисс, спокойны и отрешены. Наиболее сильное воздействие на читателя оказывает именно рой призраков — Гомеру это известно, потому он к концу эпизода повторяет описание, причём практически теми же словами:
…толпою бесчисленной души слетевшись, Подняли крик несказанный; был схвачен я ужасом бледным[164].Леденящая кровь сцена явления мёртвых, в толпе которых смешиваются и возраста, и пол, и богатые соседствуют с бедными, впечатляла многие поколения читателей. К концу XIV века она легла в основу образа так называемого Танца Смерти (danse macabré)[165], в котором друг за другом следуют мужчины и женщины всех сословий, от Папы до бедняка-крестьянина. Самые ранние его изображения появились в Европе в начале XV века на стенах кладбища Невинных в Париже, в монастыре Святого Павла в Лондоне, в церкви Святой Марии в Любеке[166]. Сто лет спустя Ганс Гольбейн Младший выполнил серию гравюр по дереву, посвящённых Танцу Смерти; danse macabré стал частным сюжетом икон. В XX веке этот образ, переименованный в Триумф Смерти, был использован Ингмаром Бергманом в его фильме «Седьмая печать»; позже зеркальный образ Триумфа Жизни был введён в «Восемь с половиной» Федерико Феллини.
Читая «Одиссею», мы глазами Улисса видим рой воющих и стенающих призраков, вызванных жертвенными возлияниями Улисса. Но для понимания этой сцены важно не только осознавать, что смерть — это судьба каждого человека; Гомер замыкает круг жизни, изображая в числе мёртвых и младенцев, тех, кого смерть забрала фактически до жизни.
В VI Песне «Илиады», когда Главк, бьющийся на стороне троянцев, на обагрённом кровью поле брани встречает Диомеда, которому суждено стать его другом, он в ответ на насмешки грека отвечает:
Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков: Ветер одни по земле развевает, другие дубрава, Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают: Так человеки: сии нарождаются, те погибают[167].Духи, вышедшие навстречу Улиссу, подобны осеннему вихрю. Главк сравнивает мёртвых с опавшими листьями, но и напоминает, что после осени непременно придёт весна — этой надежды нет в «Одиссее».
Подобным же образом призрачный рой окружает в подземном царстве Энея в «Энеиде». Если у Гомера духи спускаются к Улиссу, то у Вергилия они толпятся на берегу, к которому подплывает его корабль, вынужденные столетие ждать прежде, чем им будет позволено пересечь воды (у современного читателя это, возможно, вызовет ассоциации с потоком беженцев). Тяжёлая, гнетущая сцена заканчивается одной и самых знаменитых и самых прекрасных строк Вергилия:
Жёны идут, и мужи, и героев сонмы усопших, Юноши, дети спешат и девы, не знавшие брака, Их на глазах у отцов унёс огонь погребальный. Мёртвых не счесть, как листьев в лесу, что в холод осенний Все умоляли, чтоб их переправил первыми старец. Руки тянули, стремясь оказаться скорей за рекою[168].Вслед за Гомером Вергилий использует сравнение с листьями из «Илиады», отнеся его к толпам мёртвых, какими они были описаны в «Одиссее». Таким образом, два гомеровских образа у Вергилия накладываются друг на друга, соединяются; видя бесчисленное множество мужчин и женщин, расстающихся с жизнью, как расстаётся с ветвью лист, осень за осенью, читатель понимает: когда-нибудь и я стану одним из них.
Видение Вергилия живо в памяти Данте, когда мастер пишет свою «Божественную комедию». Как и Улисс и Эней до него, Данте, ведомый Вергилием, проходит врата Ада и оказывается на берегу Ахерона, где стоят в ожидании толпы мёртвых.
Как листья сыплются в осенней мгле, За строем строй, и ясень оголённый Свои одежды видит на земле…[169]По Гомеру, жизнь и смерть чередуются, накатывая, как прибойная волна, и отходя вновь; акцент у него делается на циклическую природу существования всего живого. По Вергилию, число мертвецов столь же велико, сколь число опавших осенних листьев — акцент делается на количестве. Наконец, Данте к наблюдениям за вечным движением жизни и идее бесчисленности живых и мёртвых добавляет собственные размышления об отдельно взятой судьбе, о том, что каждый лист должен отжить своё.
В романе Андре Мальро 1930 года «Королевская дорога» главный герой, умирая, произносит следующие слова: «Смерти… нет… Есть только… я… и я… умираю…»[170] Так же и Данте: он настаивает на том, что глагол «умирать» должен иметь лишь одну форму спряжения — первое лицо, единственное число. Там, где у Вергилия листья падают (cadunt), у Данте они отрываются и улетают прочь (si levan) — таким образом, Данте как бы наделяет листья и, по ассоциации, людские души, собственной волей к движению[171]. Данте словно утверждает: мы смертны и не можем уйти от смерти, но как мы расстанемся с жизнью — решать нам. Фактическая сторона смерти — нечто предопределённое; однако лицо смерти для каждого человека своё. (Во втором круге Ада души тех, кто грешил похотью, кружатся вихрем на завывающем ветру, но у каждой души есть своя история).
Прочтение Гомера через Вергилия и затем Данте нашло отражение у более поздних авторов. Так, Мильтон в своём «Потерянном Рае» использовал образ, предложенный Вергилием, чтобы изобразить легионы Сатаны на берегу Огненного моря:
…бойцам, валяющимся, как листва Осенняя, устлавшая пластами Лесные Валамброзские ручьи, Текущие под сенью тёмных крон Дубравы Этрурийской.[172]Прошло двести лет после публикации «Потерянного Рая» — и Поль Верлен вернулся к аллегории Главка в своём стихотворении «Осенняя песнь»:
Рыдая, уйду Себе на беду С ветром из дому. Паду в пустоту Подобно листу Сухому.[173]Джеральд Мэнли Хопкинс, современник Верлена, обратился с этим образом к ребёнку, вопрошая:
Маргарет, иль ты печалишься, Что облетает золочёный лес? Иль будто что-то есть в листве С судьбой людскою схоже…[174]В знаменитом послании к наместнику Кангранде делла Скала Данте объяснил, что каждый образ из множества, изображённого им в «Божественной комедии», необходимо рассматривать в четырёх ипостасях: дословной, аллегорической, анагогической (духовной) и аналогической (сравнивая, проводя аналогии)[175]. В таком случае образ осенней листвы может рассматриваться так:
1) число усопших так же велико, как число опавших листьев;
2) всем живущим уготован жребий, для которого рождён человек;
3) мы должны смириться со смертью, так как она, как и жизнь, дарована нам Господом; однако мы также должны постараться уйти достойно;
4) истина — в словах Экклезиаста: «Род человеческий приходит и уходит; а земля пребывает вовеки»[176].
Дальнейшее развитие образа осуществил Перси Биши Шелли при описании развалин Помпей в 1820 году: он зеркально перевернул параллель, сравнив гонимую ветром опавшую листву с призраками не нашедших покоя душ:
Среди останков города Я слышал шорохи сухой листвы, Как будто души лёгкими шагами Пересекали улицы, и живы и мертвы[177].Как и несколько других предложенных Данте образов, сравнение усопших с листьями отражает приверженность автора доктринам томизма, учения Фомы Аквинского. Человек, согласно томистским воззрениям, может быть счастлив в загробной жизни лишь в том случае, если он встретил смерть правильно, достойно (пояснить, какой смысл он вкладывает в последнее понятие, Данте не мог или не хотел). В то же время, сравнивая опыт смерти с природными явлениями (деревья, ветер, земля), знакомыми нам по земной жизни, Данте как бы уравнивает смертное существование и существование высшее, непознанное[178] — а это очень важно. Происходящие в Аду, царстве смерти, события интересуют Данте лишь потому, что из них он может извлечь знание о жизни[179]. Описывая толпу мёртвых, он помнит, что эти бесплотные души, толпящиеся вокруг Улисса в «Одиссее», были облечены живой плотью в «Илиаде»…
Гомер создал описание. Вергилий сравнил. Данте подвёл итог.
Греки и римляне
Если государю недостаёт знания Гомера — значит, государь недостоин этого знания.
Франсуа Фенелон, «Разговоры мёртвых: Гомер»И всё же, почему в «Божественной комедии» Данте изобразил Гомера в Аду? Ад Данте — это не абсолют; открывшись внутреннему взору Данте, его Ад становится своего рода предостережением, которое он, автор, должен донести до смертных, не потерявших ещё возможности искупить свои прегрешения. В этом видении Данте помещает среди прочих языческих поэтов и Гомера — но не в Ад, а в преддверие Ада, сотворённое самим Данте.
По Данте, души попадают в Ад по своему собственному желанию, так как тот круг, в который они попадут, зависит лишь от совершённых ими грехов: чем более велики прегрешения смертного, тем глубже в Аду будет вечно страдать душа. Пространство Ада строго распределено по мерам наказаний. Через врата Ада мы попадаем в «переднюю», где обитают души людей, не сделавших свой нравственный выбор и провёдших жизнь «посередине», между добром и злом. Далее, на самом краю гигантской воронки, какую представляет собой Ад, начинается первый круг — Лимб, преддверие Ада, где обитают души некрещёных младенцев и тех, кто, как Авиценна или Аверроэс, отказались от принятия христианской веры, хотя и вели благочестивую жизнь[180]. Лимб — посмертное прибежище добродетельных язычников, в частности — Гомера, кто «…Именем своим / …гремят земле, и слава эта / Угодна Небу, благостному к ним»[181], но кто, однако, «Жил до христианского ученья, / Тот Бога чтил не так, как мы должны», (объясняя, Вергилий добавляет: «Таков и я»[182]). Гомера и подобных ему Данте размещает в обнесённом рвом и семью стенами замке посреди зелёной поляны. Ров — это аллегория земных благ или ораторского мастерства; стены — семи свободных искусств или интеллектуального превосходства и духовности. Таким образом, сохраняется в высшей степени почтительное отношение к Гомеру.
Мастера Ренессанса, разделяя позицию Данте, считали Гомера первым и лучшим из «добродетельных язычников». Около 1470 года герцог Федериго де Монтефельтро, которого называли «образованнейшим человеком при образованном дворе», разместил в своём кабинете во дворце Урбино двадцать восемь портретов известных исторических личностей. Птолемей здесь соседствовал с царём Соломоном, Вергилий — со святым Амвросием, Сенека — с Фомой Аквинским; в числе изображённых, конечно, был и Гомер. Несмотря на то, что герцог Федериго уважал философов более поэтов, его коллекция была бы неполной без этого портрета, как без знакомства с Гомером неполным было бы образование любого культурного человека[183].
Триста лет спустя, в 1508 году, Папа Юлий II дал заказ Рафаэлю на то, чтобы великий художник расписал комнаты Папы в Ватикане. Молодой (ему тогда было двадцать три года) Рафаэль избрал для комнаты с видом на сады Бельведера тему горы Олимп, обиталища богов древней Греции и воздал должное Гомеру. В период расцвета Рима холм Ватикана был посвящён богу Аполлону — именно его и изобразил Рафаэль. Бог-солнце сидит с лирой в руках (но не с классической греческой кифарой, а с lira da braccio, музыкальным инструментом, популярным у поэтов эпохи Возрождения — данная деталь символизирует то, что Аполлон незримо присутствует среди итальянцев), в окружении восемнадцати поэтов, как древних, так и современных Рафаэлю. Гомер, подобно тому, как группируются изображения святой троицы иконописцами, помещён Рафаэлем между величайшими его последователями; по левую руку от него Вергилий, по правую — Данте[184].
Благодаря беженцам из Греции, спасавшимся от турецкого вторжения, вскоре после Боккаччо и Петрарки возобновился интерес к греческой культуре. Завоевание Константинополя Мехметом II 29 мая 1453 года привело к тому, что некоторые весьма образованные эллинисты эмигрировали во Флоренцию, Рим, Падую и Венецию и основали в этих городах школы, где изучался греческий язык и велись работы по изданию греческих книг. Благодаря существованию таких заведений около 1504 года в Венеции печатник Альдус Манитий смог издать некоторые из наиболее изящных произведений классиков, среди которых были и две поэмы Гомера[185]. Знакомство с классиками стало одним из основных элементов в образовании человека, занимающего видное положение в обществе. Томмазо Парентучелли, ставший в 1447 году Папой Николаем V, известный своим изысканным вкусом, был, по слухам, «так же жаден до книг, как Борджиа — до женщин» и однажды заплатил десять тысяч золотых за перевод Гомера[186].
Образовательные трактаты того времени подчёркивают необходимость преподавания Гомера и Вергилия детям, мотивируя утверждение тем, что «этим знанием владели все великие мужи»[187]. По словам философа Баттисты Гуарино, «Гомер, величайший из поэтов, не труден для изучения, поскольку на его трудах основаны труды практически всех наших [латинских] авторов. Какое удовольствие можно получить, когда читаешь подражание Вергилия Гомеру — ведь «Энеида» как зеркало сочинений Гомера, и у Вергилия нет почти ничего, чего не было бы у Гомера»[188]. Эней Сильвий Пикколомини, более известный как Папа Пий II, предложил более поэтичное доказательство необходимости изучать античных авторов: «Язык — это посредник любви»[189].
Как и Пий II, Папы Павел II и Павел III отлично владели греческим языком — однако они не разделяли его убеждённости в высокой значимости античной культуры. Павел II, собиравший разнообразные и разнородные коллекции, любитель спорта и дорогостоящих удовольствий, основатель первой в Риме печатни, издал указ, запрещающий школам знакомить детей с языческими поэтами. Павел III, покровитель таких гениальных художников, как Тициан и Микеланджело, в 1542 году основал Конгрегацию священной инквизиции, в чью задачу входили, кроме всего прочего, запрет, поиск и изъятие еретической и языческой литературы[190]. В период с 1468 (когда Павел II по подозрению в проведении языческих ритуалов под прикрытием изучения классической культуры постановил закрыть академию в Риме) по 1549 годы, когда скончался Павел III, интерес к изучению греческого языка и культуры на Апеннинском полуострове начал необратимо падать[191]. Однако в этот период в Италии всё же были деятели, благосклонно относившиеся к греческой культуре. Одним из самых влиятельных был Лев X, второй сын Лоренцо Великолепного. Став в 1513 году Папой, он приказал вновь открыть академию, а также основать высшее учебное заведение для молодых греков, начальство над которым получил именитый учёный Джованни Ласкарис. За семь лет работы Квиринальского колледжа десятки молодых людей, греков по происхождению, обучились греческому языку, литературе и образу мыслей. Сохранилось письмо от греческого нотариуса, писанное в Венеции. В этом письме подробно описывается церемония представления студентов Папе, в процессе которой каждый должен был произнести напыщенную речь на древнегреческом языке (выражения, которыми изъяснялись студенты, были почерпнуты ими из классической литературы, включая, безусловно, Гомера)[192].
Позже началось переселение греческих учёных из северных стран. Пользуясь волной эмиграции, известные гуманисты (Эразм Роттердамский, Томас Мор, Гийом Бюде) возобновили прерванную католической церковью работу по толкованию и редакции греческих трудов. Петер Шаде, профессор греческого в Лейпцигском университете, молодой друг Эразма, в 1518 году опубликовал книгу, озаглавленную «Спор о необходимости изучения разнообразных языков», в которой отстаивал языкознание. На аргументы противников, заключавшиеся в отсылках к Библии и ветхозаветной истории Вавилонского столпотворения, когда Господь покарал человечество множеством языков, Шаде отвечал, что и сам Господь многоязычен, поскольку ему ведомы все языки людские, и что многоязычны также ангелы и святые, поскольку они ходатайствуют за человечество перед Господом. «Если бы они не понимали молитв, произнесённых на одном из множества языков, присущих людям, то было бы лишено смысла обращение француза или немца к святым других народов с молитвой на родном языке. Сами же молящиеся в таком случае были бы столь же смешны, как если бы пытались говорить с мёртвыми»[193].
После Реформации латынь была признана языком католической церкви, в то время как греческий и местные языки, на которые была переведена протестантская Библия, стали языками протестантства. Тридентский собор, проходивший в городе Тренто с 1545 по 1563 год, запретил католикам (кроме некоторых назначенных церковью учёных) толковать греческую и еврейскую Библии; студенты, изучающие греческий язык, в глазах Рима стали еретиками. В 1546 году по приказу короля Франции, католика Франциска I (несмотря на любовь монарха к искусствам и литературе), несколько греческих учёных были приговорены к смерти на костре, обвинённые в «оскорблении веры». В протестантских странах, напротив, изучение греческого языка поощрялось — даже в колониях стран, исповедующих протестантизм, греческий язык стал частью школьной программы. Так, в 1788 году на Виргинских островах, принадлежавших тогда Дании, пастор Ганс Вест открыл школу, где дети плантаторов знакомились с сочинениями Гомера и других поэтов античности[194].
Раскол Запада повлёк за собой колоссальные изменения. Начиная с XVII века, в университетах Англии, Германии и Скандинавии шло активное изучение Гомера, в то время как во Франции, Италии, Испании и Португалии ему предпочитали Вергилия и Данте. Первый перевод «Одиссеи» на испанский язык непосредственно с греческого, выполненный Гонзало Пересом в 1556 голу и опубликованный в Амбересе, практически не получил распространения. «Илиада» в переводе Гарсии Мало, также переводившего с греческого, была издана лишь в 1788 году и встречена без воодушевления. Веками испаноговорящие читатели изучали Гомера единственно по цитатам в классических текстах или по немногочисленным переводам с латыни. Первый написанный на испанском языке альманах, «Silva de varia leccion» Педро Мексиа, был, ко всеобщему восторгу, издан в Севилье в 1540 году[195]. Несмотря на то, что книга была заявлена как компендиум «величайших сочинений», там содержится весьма малое количество ссылок на Гомера, позаимствованных скорее всего (поскольку автор не владел греческим) либо из латинского перевода «Илиады», изданного в Базеле в 1531 году[196], либо из трудов других авторов, цитировавших Гомера. Мексия приводит в качестве цитат лишь наиболее известные эпизоды поэм, например, обращение Гектора к коням в Восьмой песне «Илиады» или дар Эола Улиссу и его спутникам в Десятой песне «Одиссеи».
Немногие испанские писатели отважились защищать произведения Гомера от тех, кто отзывался о них пренебрежительно. Так, поэт Франциско де Кеведо насмехался над невежеством «возводящих бесстыдную клевету на Гомера и воздающих незаслуженные хвалы Вергилию»[197]. В изощренной форме он обвинял таких мнимых учёных в «лжесвидетельстве»: «Во все века найдутся бесчестные люди, предпочитающие скорее очернить славных, чем самим снискать себе добрую, а не дурную славу»[198].
Высокообразованная мексиканская поэтесса Хуана Инес де ла Крус, опубликовавшая в 1689 году «Сон», подражание Луису де Гонгоре, отзывается о языке Гомера как о наиболее благозвучном и воздаёт должное воспетым Гомером «подвигам Ахиллеса и искусности Улисса». Поэтесса не имела иной возможности ознакомиться с Гомером, кроме как в трудах современных ей авторов (например, немецкого учёного Атанасиуса Кирхера)[199],но она преклоняется перед его гением: «Легче было бы забрать из ладони Громовержца его молнии… чем из поэм Гомера изъять хотя бы полстроки стиха, продиктованного благосклонным к поэту Аполлоном»[200].
Фрэнсис Бэкон часто обращался к Гомеру, тщательно изучал его и видел в нём наставника в поэзии. Он считал, что отвернуться от поэтов древности в силу их «небрежной безнравственности» (как постановил Тридентский собор) было бы шагом опрометчивым и едва ли не богохульным. Ведь если религиозное сознание находит свет истины в тех образах и метафорах, уничтожение их сродни наложению запрета на какое бы то ни было общение между Богом и человеком[201]. Если для Хуаны де ла Крус Гомер был неопровержимым, хоть и не читанным лично, гением, то для Бэкона он был источником знания, подлежащего изучению и анализу.
Подобное двухполюсное отношение к Гомеру из Европы было перенесено также в Америку, что нашло отражение не только в собраниях библиотек, но и в стиле жизни. Элита Соединённых Штатов в архитектуре предпочитала неоклассицизм, в то время как в Латинской Америке дома буржуазии строились с подражанием французскому и итальянскому барокко. На Севере появились Ральф Уолдо Эмерсон, Уолт Уитмен и Генри Давид Торо, читавшие Гомера; на Юге Рио-Гранде — Хосе Марти, Рубен Дарио и Машадо де Ассис, читавшие Вергилия.
«Античники» и «Модернисты»
Как это непохоже на быт нашей родной Королевы!
Викторианская леди после просмотра постановки «Антония и Клеопатры» с Сарой БернарМишель де Монтень, работавший в последние десятилетия XVI века, назвал Гомера одним из трёх «величайших из людей» всех времён (двумя остальными были воители: Александр Македонский и фиванский полководец Эпаминонд). Признаваясь в том, что его познаний в греческом недостаточно для того, чтобы по достоинству оценить Гомера, с творчеством которого он познакомился главным образом по работам Вергилия, Монтень тем не менее высоко чтил слепого аэда, утверждая, что «едва ли произведения каких-либо других авторов так живы в памяти людей». «Ни одна история, — писал Монтень, — не обладает такой известностью, как история о Прекрасной Елене и городе, виной падения которого она стала — а ведь эти события, возможно, на самом деле не происходили. Новорождённые всё ещё получают имена, какими Гомер наделил своих героев сотни лет назад. Найдётся ли тот, кто никогда не слышал об Ахиллесе или Гекторе? Возвести свои истоки к гомеровским героям стремятся не только отдельные фамилии, но и целые нации. Турецкий султан Мехмед II так писал Папе Пию II: «Меня удивляет тот факт, что итальянцы ополчились против меня, ведь и у меня, и у них троянские корни, и я, как и они, ищу возможности отомстить за пролитую греками кровь Гектора — которого, однако же, итальянцы ставят выше меня». Какой величественный фарс! В этом фарсе короли, республики, императоры веками играют отведённые им роли, и весь мир служит им сценой»[202].
К актёрам, названным им, Монтень мог также добавить литераторов и учёных — так как именно они в середине XVII века стали главными действующими лицами «Противостояния античников и модернистов», развернувшейся во Франции вокруг Гомера. Этот затянувшийся на целый век спор вёлся между различными деятелями культуры и науки, придерживавшимися противоречивых точек зрения. Античники (anciens) ставили классиков превыше всего, ратуя за подражание их стилю и продолжение античных традиций. Напротив, модернисты (modernes) считали, что любой народ должен поощрять национальное искусство как самобытное начало, способное привнести нечто новое в культуру как отдельной страны, так и всего мира в целом. Модернисты утверждали примат христианства над язычеством; античники — власти царственного хозяина Версаля над светскими интеллектуалами парижских салонов. Спор вёлся относительно многих аспектов: обращение к образам Олимпийских, то есть языческих, богов или к ангелам и демонам в поэзии; предпочтительный язык литературных произведений (французский или латынь); допущение в печатном тексте просторечных или разговорных слов и выражений. С высокомерием, присущим тем, кто вошёл в число модернистов, последние (например, знаменитый сказочник Шарль Перро) признавали важность гомеровского наследия, но насмехались над его простотой[203] (в частности, над сравнением отступления Аякса с поведением упрямого осла, которого бьют дети[204], или над репликой особы царских кровей о том, ей нужно пойти на реку постирать одежду брата[205]). Мнение Перро, считавшего, что тексты Гомера нужно «отшлифовать», очистить от налёта вульгарности, Шарль Огюстен Сент-Бев, известный критик, комментировал сравнением подобного отношения с поведением ребёнка, который, прося мать почитать ему, говорит: «Я знаю, что всё это неправда и эта история — вымысел, но всё равно хочу её слушать»[206]. Античники же наслаждались произведениями Гомера, невзирая на некоторую грубость его стиля.
Один из античников, молодой Жан Расин, который в свои двадцать три года блестяще владел греческим языком, отвечал на выпады противников Гомера дифирамбами в адрес его языка и «чувства истинности». Нетерпимый к литературным изыскам, которые он считал претенциозными, он писал так: «Деревенский говор Гомера не так груб на греческом языке, как на нашем родном французском, нетерпимом, не прощающим ни эклог о крестьянах на манер Феокрита, ни вставок о свинопасах в героических текстах. Однако подобная повышенная чувствительность и сентиментальность свидетельствует лишь о слабости характера»[207].
Жан Расин был достаточно образован, обладал хорошей памятью и проницательностью, что позволило ему подкрепить своё мнение убедительными доводами. Сирота с детских лет, он обучался в цистерианской школе Пор-Рояль, а затем в Париже, где в 1663 году, не найдя привлекательной перспективу духовной карьеры, он занялся литературной деятельностью. Однажды, когда он был юным учеником Пор-Рояля, ему в руки попала «Эфиопика» — роман Гелиодора, написанный в конце II века н. э. под влиянием поэзии Гомера. Это была одна из тех книг, которые осуждались братьями-цистерианцами — поэтому, застав Расина за чтением «Эфиопики» в лесу аббатства, пономарь вырвал её у мальчика из рук и позже сжёг. Копия, которую удалось сохранить Расину, была вскоре найдена и также сожжена. Тогда мальчик купил ещё одно издание книги, выучил его наизусть и сдал пономарю со словами: «Теперь можете сжечь и эту». По слухам, так же, как он выучил «Эфиопику», Расин выучил «Илиаду» и «Одиссею»[208].
В Пор-Рояле юный Расин ознакомился не только с классикой древнегреческой литературы, но и с некоторыми положениями янсенизма. Начало этому течению в католицизме положил голландский богослов XVII века Янсений, воспринявший от Блаженного Августина догмат о предопределении. По Янсению, спасение человеку может быть даровано не в силу его добродетельности при жизни, но исключительно по Божьей милости. В своё время Августин воспользовался похожим аргументом, выступая против пелагианской ереси, последователи которой верили, что добрые дела в мирской жизни откроют человеку путь в Рай (в то же время в своём споре с манихейцами Августин защищал положение о свободе воли). Янсений двадцать четыре года трудился над трактатом, названным им довольно громко «Толкование Августина епископом Корнелием Янсеном, или О положениях Августина Блаженного касательно человеческой сущности, здоровья, печали и избавления от пелагианства». Однако книга не увидела свет, так как в 1638 году её автор умер от чумы. Когда два года спустя близкие друзья Янсения опубликовали книгу под лаконичным названием «Августин», Папа Урбан VIII, возмущённый некоторыми выраженными в книге идеями, объявил книгу еретической. В 1641 году книга вошла в список сочинений, запрещённых Священной Инквизицией[209]. В защиту аргументов Янсения Блез Паскаль в своих «Мыслях» писал следующее: «Мы не достигнем понимания деяний Господа, если не примем на веру то, что Он, из одних творя слепцов, иных делает провидцами»[210].
По меньшей мере два из положений Янсения, заклеймённых Папой как еретические, находят отражение в работах Расина. Одно из них гласит: не всем нам Бог даёт достаточно силы повиноваться его воле; второе: все мы носители первородного адамова греха, и поэтому нет смысла пытаться избавится от внутренней склонности грешить, но необходимо противостоять соблазнам извне. Расин считал, что обе этих идеи проступают в том, как Гомер описал отношения между богами и смертными; именно эта особенность творчества Гомера (а с ним — Пиндара, Еврипида и Плутарха) более всего вдохновила Расина на лучшие его трагедии, «Андромаха» и «Ифигения». При этом вдохновение Расина носило характер продолжения, развития идей Гомера: он начал с того, к чему Гомер пришёл, и то, что у Гомера было следствием, для Расина стало причиной.
В «Илиаде» Гомер описывает Андромаху, в отчаянии прижимающую к груди сына и умоляющую Гектора не оставлять её и не идти на битву с греками. Гектор отвечает жене:
Добрая! Сердце себе не круши неумеренной скорбью. Против судьбы человек меня не пошлёт к Аидесу; Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный Муж, ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он родится[211].Расин в своей трагедии идею Гомера рассматривает сквозь призму идей янсенистов. В центр внимания он ставит овдовевшую Андромаху, отданную по жребию сыну Ахиллеса Неоптолему (также известному как Пирр). Хитросплетение сюжета — это столкновение страстных любовных чувств: греческого посланца Ореста — к Гермионе, невесте Пирра и Пирра — к Андромахе; Андромаха же продолжает горевать по убитому Гектору. У Расина Орест ясно определяет свою позицию: «Отдамся слепо я судьбе, меня влекущей»[212]. Закончив трагедию, Расин осознал, что такое утверждение поверхностно и что более мощные силы, чем судьба, воздействуют на жизнь каждого человека. В 1668 голу, через год после первого издания «Андромахи», он переписал монолог Ореста, вводя вместо «судьбы» (destin) слово, переводимое как «влечение; экстаз» (transport)[213]. Это та же судьба, но такая, которая словно бы околдовывает вас, сбивает человека с ног и уносит прочь, такая, которая, будучи сродни одержимости, наделяет человека эмоциональной силой, настолько превосходящей скудные человеческие возможности, что это неминуемо закончится бедой.
Эту эмоциональную силу не следует путать с инстинктом. Пример, наглядно демонстрирующий различие двух этих начал, есть у Гомера в «Одиссее», в песне девятой, в эпизоде, где Улисс спасается от циклопов: одноглазым гигантом Полифемом движет звериный аппетит, который он утоляет, добыв «дичь» грубой силой. Улисс же выживает благодаря своей хитрости, сообразительности (по-гречески — metis, «быстрый разум», «ясное осознание»). В первом случае действие и субъект действия едины; во втором субъект властвует над своими действиями[214]. Идея этого противопоставления такова: герой не должен бороться со своими инстинктами, так как, как бы низки они ни казались, они естественны и раскрывают его человеческую природу — но он должен отдавать себе в них отчёт. Одна из самых леденящих кровь ужасом сцен в «Одиссее» — когда Улисс становится свидетелем гибели в пасти Сциллы своих товарищей, как
…трепетали они в высоте, унесённые жадною Сциллой. Там перед входом пещеры она сожрала их, кричащих Громко и руки ко мне простирающих в лютом терзанье. Страшное тут я очами узрел, и страшней ничего мне Зреть никогда в продолжение странствий моих не случалось[215].Но после он и те немногие, кто остался в живых, пристают к берегу на ночлег и со вкусом ужинают. Они пьют и едят и только после этого вспоминают своих погибших столь страшной смертью друзей и предаются унынию, после чего засыпают — «и сон долгожданный смежает слезой окроплённые вежды»[216]. Комментируя этот эпизод, Олдос Хаксли отмечает, насколько правдоподобным и жизненным кажется описание обильного ужина людей, только что наблюдавших кровавую гибель своих товарищей: «В каждой хорошей книге есть крупицы правды — без них она более не будет хорошей книгой. Но всей правды — никогда. Есть лишь несколько авторов древности, отважившихся на всю правду. Гомер — тот, каким он написал «Одиссею» — один из их числа»[217].
Именно дарованная Богом избранным эмоциональная сила, которой овладевают с помощью metis, «быстрого разума», открывает человеку судьбу, способную пойти по множеству путей. По замыслу Расина, Андромаха, пусть и отданная Пирру, исполняет свою судьбу, как бы воплощая в себе судьбу Трои, порабощённой греками после смерти Гектора, но одновременно празднуя победу над победителями (Пирр добровольно отрекается от власти в пользу Андромахи и её сына от Гектора: «Отдаю тебе свою корону и свою веру: Адромаха, властвуй над Эпиром и надо мной»[218]). Выходя замуж за Пирра, Андромаха становится царицей, в то время как её сын, троянец, наследует греческий престол. Действовать так Андромаху, которая позже заплатит за свой metis жизнью, побуждает не любовь, но нечто большее, что она не может определить так же, как не может не придавать этому значения. Возвращаясь к утверждению Паскаля, можно сказать, что Бог и ослепил, и просветил Андромаху, — заставив её повиноваться судьбе, но в то же время осознавать присутствие этой высшей, влекущей силы.
Собственноручные примечания Расина на полях «Одиссеи» и «Илиады» помогают нам представить, каково было видение французского драматурга. Особый интерес для Расина представляли приёмы, использовавшиеся Гомером для достижения большей правдоподобности. Об этом говорит, например, его заметка о том, что дружелюбие и радушие, с каким в первой песне «Одиссеи» Телемах встретил переодетую Афину, возможно, свидетельствует о том, что сам Гомер получал тёплый приём во время своих странствий. Далее, Расин указывает, что развитие событий в «Илиаде» занимает ровно сорок семь точно рассчитанных по часам дней: пять дней битвы, девять дней мора, одиннадцать — пока Посейдон гостил у эфиопов, одиннадцать — на похороны Гектора, и одиннадцать — на похороны Патрокла. Заметки Расина касаются таких деталей, как трапеза, одежда, описания географии мест, развёрнутые метафоры, действенность некоторых жестов, сладостность слёз.
В пятой песне, когда Посейдон насылает на корабль шторм, Улисс падает за борт. Два дня он проводит в открытом море, а на третий замечает берег и радуется — «Сколь несказанною радостью детям бывает спасенье / Жизни отца, поражённого тяжким недугом, все силы / В нём истребившим»[219]. Однако когда Улисс оказывается уже почти на спасительном берегу, Посейдон насылает огромную волну, которая, не вмешайся Афина, расшибла бы Улисса о скалы. Ладони Улисса ободраны о камни — «Если полипа из ложа ветвистого силою вырвешь, / Множество крупинок камня к его прилепляется ножкам: / К резкому так прилепилась утёсу лоскутьями кожа / Рук Одиссеевых»[220]… Измученный схваткой с всесильным богом, Одиссей достигает устья реки и обращается к её богу с молитвой:
Кто бы ты ни был, могучий, к тебе, столь желанному, ныне Я прибегаю, спасаясь от гроз Посейдонова моря. Вечные боги всегда благосклонно внимают молитвам Бедного странника, кто бы он ни был, когда он подобен Мне, твой поток и колена объявшему, много великих Бед претерпевшему; сжалься, могучий, подай мне защиту[221].Расин приводит слова Сенеки, во время своего изгнания на Корсику обобщившего смысл молитвы Улисса в четырёх словах: Res est sacra miser — «Горе священно». К этому Расин добавляет: «Несчастье Улисса тем более пронзительно, что оно переживается им в самом сердце природы»[222]. Несчастье лежит также в «самом сердце» поэм Гомера.
Не все участники спора античников и модернистов руководствовались литературными, философскими или эстетическими мотивами; некоторые из них были более заинтересованы в политике. Среди споривших была Анна Дасье, дочь Таннеги Лефевра, известнейшего гуманиста и эллиниста, сочинение которого об «Илиаде» оказало влияние на перевод, сделанный несколькими годами позже Александром Поупом. Анна Дасье, относившая себя к античникам, в 1714 году выпустила книгу «О причинах порчи вкуса»[223]. В сотрудничестве с другими учёными она работала над греческими и латинскими текстами, сокращая их и сглаживая стилевые шероховатости, чтобы с ними мог ознакомиться дофин, наследник французского престола (поэтому выражение ad usum Delphini, т. к. «для пользования дофина», стало означать отредактированную, «отшлифованную» книгу). Редакция Гомера, выполненная Дасье, была весьма популярна, хотя вряд ли заслуживает уважения тот факт, что в неё не вошли некоторые эпизоды из гомеровского текста, которые могли посчитать непристойными (в частности, обнажённый Улисс перед Навсикаей в шестой песне «Одиссеи»), а также некоторые непочтительные реплики в адрес монархов (например, гневная речь Ахиллеса к Агамемнону в первой песне «Илиады»), которые, как посчитала Дасье, способны оскорбить короля больше, чем та вульгарность, о которой говорил Перро.
Присутствовал в споре и религиозный мотив. Франсуа Фенелон видел в Гомере источник вдохновения молодёжи, но только в том случае, если гомеровские сюжеты будут поданы с надлежащей степенью нравоучительности и христианского благочестия. Наделённый блестящим умом и непринуждённым стилем речи, Фенелон словно самой судьбой был предназначен для карьеры в качестве наставника дофина. Он был возведён в сан епископа Камбре и прославился как автор нескольких книг по преподаванию. Но в 1696 году он впал в немилость второй супруги Людовика XIV мадам де Мантенон, сошедшись с мадам де Гийон, пропагандировавшей среди молодёжи квиетизм — религиозное учение в рамках христианства, поощрявшее пассивное подчинение воле Бога и ставившее молчание превыше молитвы[224]. Супруга короля и наставник Фенелона Жак Бенин Боссюэ опасались, что принципы квиетизма могут в результате привести к полной общественной и душевной апатии. В ответ Фенелон в 1697 году опубликовал книгу «Пояснения к максимам святых»[225], в которой попытался последовательно доказать правоту постулатов квиетизма. К сожалению, его аргументы показались оппонентам недостаточными: менее чем через два года книга была заклеймена и светской властью (в лице короля), и властью духовной (в лице Папы). Довершило несчастья Фенелона его разжалование из наставников королевского отпрыска.
Незадолго до того, как на него обрушились неудачи, Фенелон поставил перед собой задачу написать для своего высокородного ученика пособие по мифологии и гражданской морали. Результатом стали «Приключения Телемаха» — нравоучительный роман, в котором автор продолжил прерванную в четвёртой песни «Одиссеи» историю Телемаха[226].У Гомера Телемах и сын Нестора Писистрат прибывают ко двору Менелая и Елены в Спарте, где узнают, что Улисс находится на далёком острове в плену у Калипсо. Далее история прерываются, и вновь Телемах появляется лишь в пятнадцатой песне.
Призвав на помощь своё воображение, Фенелон решил рассказать о путешествиях Телемаха. Итак, в сопровождении Афины, переодетой Ментором, сын Улисса терпит кораблекрушение у берегов острова, где живёт Калипсо, и там влюбляется в нимфу, но мудрая Афина спасает его от сердечной привязанности. Спутники достигают порта Саленте, и Афина, по-прежнему в облике Ментора, основывает идеальный город, где благо народа и принцип независимости религии доминируют над прихотями и самовластием монарха. Телемах совершает различные подвиги (в том числе спускается в царство мёртвых), пока наконец вместе с богиней не отплывает обратно в Итаку. Там на родине отец и сын встречаются после долгой разлуки.
В условиях заговоров и подозрений, царивших в Версале, сочинение Фенелона (изданное, правда, анонимно) посчиталось не столько стилизацией гомеровских текстов, сколько опасной критикой политики Людовика XIV. Фенелон собственнолично зачитывал папский указ, направленный против «Пояснений к максимам святых». Остаток жизни он провёл в изгнании вдали от двора и умер в 1715 году, всего за восемь месяцев до смерти капризного короля, которому он не угодил[227].
В первой четверти XVIII века спор в защиту различных прочтений Гомера уже завоевал сомнительную славу. В 1721 году Шарль де Секонда, барон Монтескье, автор знакового труда «О духе законов», высмеивал современное ему французское общество в изданным им анонимно эпистолярном романе, представлявшем Францию глазами Усбека, путешественника из Персии, пишущего письма в Венецию своему другу Реди. Рассказчик освещал разнообразные проблемы, от традиционного уклада Востока до бездумного попустительства, царящего во Франции. Описывая своё потрясение, вызванное французской манерой разбрасываться, тратить свои интеллектуальные силы на пустяки, Усбек пишет: «Когда я прибыл в Париж, я застал разгоревшийся спор по ничтожнейшему вопросу, какой можно представить: личности какого-то древнегреческого поэта, родина которого, как и дата смерти, последние две тысячи лет остаются невыясненными. Обе стороны спора признавали за ним совершенство поэтического дара; единственное, в чём их мнения не сходились — сколь достоин данный поэт похвал. Каждый спорщик стремился внести собственную лепту, но неизбежно чей-то вклад оказывался меньше, а чей-то, благодаря репутации, больше, и… похоже, в этом и была причина спора!»[228]
В конце концов, в противостоянии античников и модернистов не победила ни одна из сторон. Итог ей подвёл в 1757 году интеллектуал Фредерик-Мельхиор Гримм: «Можно с уверенностью сказать, что ничто так не преумножило славу величественного певца Гомера, как сочинения его преемников, от Вергилия до Вольтера»[229].
Гомер как источник вдохновения
Не пел ли мне по моему веленью слепой Гомер?
Кристофер Марло, «Доктор Фауст»Примерно за столетие до того, как во Франции разгорелся спор античников и модернистов, в Голландии Рембрандт написал портрет бородатого мужчины в современной художнику одежде (шикорополая шляпа, свободные рукава, массивная золотая цепь на груди); правая рука мужчины покоится на античном изваянии. Несмотря на то, что сам Рембрандт оставил эту картину без названия, она стала известна как «Аристотель, созерцающий бюст Гомера».
В 1632 году Рембрандт уже жил не в родном ему Лейдене, а в Амстердаме, где он стал портретистом. Слава его гремела повсюду, а состояние росло, чему, кроме успеха в живописи, поспособствовала женитьба на Саскии ван Эйленбюрх, позировавшей ему для множества картин. Однако через десять лет дела у художника шли уже не так хорошо, и когда в 1652 году, за четыре года до того, как Рембрандт полностью обеднел, ему пришёл заказ на написанный уже портрет, мастер с радостью принял его.
Заказ пришёл от богатого сицилийского купца Антонио Руффо, который, рассмотрев стопку книг на заднем плане картины, уверился в том, что её сюжет — нечто возвышенное и интеллектуальное. Потому он внёс полотно в опись своего имущества под названием «Портрет философа в половину роста, выполненный в Амстердаме художником Рембрандтом (по всей видимости, это Аристотель или доктор теологии Альберт Магнус)»[230].
Помимо «Аристотеля» и «Гомера» на холсте есть и третий персонаж: голова мужчины в шлеме, изображённая на золотом медальоне, прикреплённом к цепи на груди у «Аристотеля». Было установлено, что с наибольшей долей вероятности это — Александр Македонский, любимый ученик Аристотеля[231]. Александр является как бы связующим звеном между поэтом и философом: по данным Плутарха, именно Аристотель подготовил то издание «Илиады», которое Александр хранил «под подушкой рядом с кинжалом и называл книгу переносной сокровищницей всех воинских добродетелей и знания в области искусства войны»[232]. Историк и культуролог Саймон Скама убедительно доказывает, что бородач на портрете — не Аристотель, а Апеллес, древнегреческий живописец. Однако нам в данном случае важно не это, а то, что бюст действительно изображает Гомера. Существуют и другие изображения Гомера кисти Рембрандта: рисунок, где поэт читает вслух свои стихи, а также плохо сохранившийся набросок для портрета старца Гомера, стоящего, опёршись на посох. Эти изображения, пусть и представляющие Гомера таким, каким его лишь вообразил художник, завораживают своим правдоподобием, живостью человека, запечатлённого цитирующим или сочиняющим великие поэмы. Мы видим, что его глаза слепы, но дух ясен.
И всё же бюст Гомера отнюдь не отражает представление Рембрандта о поэте, а является скорее собирательным образом, воплотившим в себе отношение многих поколений ко всем известному человеку, жившему в далёком прошлом — подобно собирательному образу Христа. Образ этот, как пишет Скама, «пусть и в обобщённом виде, изображает поэта таким, каким его представляют люди». Именно такой бюст зафиксирован в описи имущества Рембрандта. Очевидно, что появление изваяния на картине не имеет целью изображение собственно Гомера, но служит символом всеобъемлющей идеи поэзии как таковой, а возможно, и литературного творчества вообще. Аристотель ли, Апеллес — кем бы ни был бородатый мужчина на полотне Рембрандта, созерцая изваяние Гомера, он обращается к потоку мыслей и страстей, созданных верой в то, что жизнь можно сохранить в словах и образах, которые в будущем обретут новое рождение, отражаясь в глазах читателей. Мужчина на полотне созерцает не бюст как таковой, но идею творчества. И если для бардов древности вершины поэтического мастерства воплотил мифический человек по имени Гомер, то сегодня, более двух тысяч лет спустя, образ Гомера, отразившись в зеркалах всех прошедших эпох, стал символом самой поэзии.
Что же такое — «поэтическое искусство»? Для Филипа Сидни, литератора XVI века, поэзия была лишь искусством подражания: «Говорящая картина, назначенная поучать и восхищать»[233] — таков был его приговор. Столетием позже Фрэнсис Бэкон, высказывался о поэзии как искусстве возвышенного: «Поэзия, — писал он, — всегда представлялась мне чем-то причастным божественному, ибо она возвышает разум, показывая власть разума над вещами, будто изменяя силой разума саму природу вещей»[234]. В XVIII веке в основе поэзии видели изобретательность и воображение, умение, по словам Т. С. Элиота, «быть оригинальным, пользуясь минимальными средствами различия». Хотя он же предостерегал: «Обобщать поэзию восемнадцатого века весьма опасно, как, впрочем, и поэзию любой другой эпохи; но этот век был более чем какой-либо другой, веком перемен и развития»[235]. И возможно, характер этого изменения стиля проявился наиболее ярко именно в переводах — ведь оригинальность и новизна переведённого текста открываются лишь в сравнении с попытками предшественников.
Когда Александр Поуп создавал свой перевод «Илиады», его интересовала не верность букве оригинала или традиции, — он попытался «придумать заново» то, что величайшие поэты поистине изобретали впервые; приблизиться к совершенству слога через поэтическую, интуитивную точность. Поуп считал, что Гомера вдохновила не Муза, но собственный творческий гений. Именно это он отметил в предисловии к изданию: «Гомеру всем миром присвоено право на величайшее изобретение, из числа тех, что не могут быть созданы даже с помощью всех средств науки вместе взятых, но появляются лишь благодаря силе великого таланта»[236].
Александр Поуп получил хорошее домашнее образование. Он родился в Лондоне, в состоятельной католической семье, но в 1700 году семья перебралась в Бинфилд, расположенный в Виндзорском лесу. В детские годы Александр страдал туберкулёзным заболеванием позвоночника и поэтому почти всё время проводил в родительском доме, компенсируя одиночество чтением. В шестнадцать лет он написал серию пасторалей в подражание Феокриту и Вергилию, любимым авторам, к творчеству которых он обращался на протяжении всей жизни. Но о чём он по-настоящему мечтал, так это о создании собственного перевода «Илиады» и «Одиссеи». Проблема была в том, что Поуп не знал греческого, — но всё же он решился исполнить своё смелое намерение, работая с английскими переводами Чэпмена, Джона Огилби, Томаса Гоббса, незаконченной версией Джона Драйдена и фрагментами латинских переводов, хотя и его латынь была далека от совершенства. Поуп писал, прилежно соблюдая строгую форму героических куплетов, повышая тон там, где Гомер казался ему слишком прозаичным. Каждый день, проснувшись, он переводил тридцать-сорок строф, в течение дня правил их, вечером перечитывал законченные страницы. Но перед тем как начать работать, он описывал в прозе смысл каждой строки Гомера, своё ощущение, понимание, и только после этого приступал к переложению в стихи. Как однажды признался Ричард Оутрэм[237], этим методом часто пользуются поэты: на основе записок — впечатлений, наблюдений, идей (причём как своих, так и принадлежащих другим авторам) — создавать уже оригинальные поэтические произведения.
Так или иначе, в 1715 году двадцатисемилетний создатель новой английской версии «Илиады» Александр Поуп опубликовал первый том своей работы. И… ни один автор до него не заработал столько денег переводом! Гомер сделал его финансово независимым. Впоследствии полный перевод «Илиады», опубликованный в шести томах, принёс ему доход в 5320 фунтов, «Одиссеи» в 3500 фунтов, а для тех дней это было большой удачей. «Спасибо Гомеру, — говорил Поуп, — благодаря ему я не задолжал ни одному из живущих!» Но несмотря на то, что читающая публика была в восторге от его «Илиады», академические оценки были весьма неоднозначны. Например, знаменитый английский историк Эдвард Гиббон, кому работа Поупа всё же пришлась по вкусу, сказал что перевод «обладает всеми достоинствами, кроме схожести с оригиналом»[238]. В том же духе высказался и деспотичный ректор Тринити-колледжа Ричард Бентли: «Красивая поэма, мистер Поуп, но вы не должны называть это Гомером». А вот один из самых знаменитых критиков той эпохи Сэмюэл Джонсон, назвал это «величайшим переложением поэзии из всех, что видел свет»[239]. Писатель Генри Филдинг в своём занимательном «Путешествии из этого мира в мир иной» рассказывал, как в цветущих просторах Элизиума он встретил Гомера, с учёной мадам Дасье на коленях: «Он всё спрашивал, как там поживает мистер Поуп, говорил, что с превеликим удовольствием повидался бы с ним, ибо чтение его «Илиады» доставило ему удовольствие не меньшее, чем, как можно предположить, сам он доставил всем другим читателям своим оригиналом»[240].
Но многим критикам версия Поупа категорически не нравилась, её называли искусственной, а вовсе не искусной, и насмехались над его прилежным переложением в напыщенные фразы самых вульгарнейших выражений Гомера. Об этом говорил Уильям Хазлитт[241]. Лесли Стэфен, автор биографии Поупа, считал проблему ясной: «Каждый стиль кажется плохим, когда устаревает; когда определённый стиль становится лишь данью традиции, его средства — не лучший способ произвести какое-то особенное впечатление… При таких попытках неудивительно, что манера письма становится тяжёлой, но автору легко вообразить себя поэтом, хотя на самом деле он лишь следует внешней форме, вместо того, чтобы использовать её как самый обычный инструмент»[242]. Но всё это было сказано уже после того, как Александр Поуп достиг успеха, и имеет отношение скорее к его незадачливым последователям.
Поуп предпринимал все возможные меры предосторожности против критики. В предисловии к своему изданию он писал: «Сочинения Гомера подобны дикому райскому саду, и если мы не можем так детально, как в строго задуманном парке, рассмотреть все его красоты, то только потому, что число их неизмеримо более велико». И, следуя ботанической метафоре, он продолжал: «Они подобны богатому питомнику, где есть семена и первые ростки всех сортов, из которых его последователи лишь отбирали определённые растения по своему вкусу, чтобы взрастить и приукрасить их. И если какие-то из них слишком роскошны, то причина тому — плодородие богатой почвы; если другие не достигли совершенства и зрелости, — значит, они были превзойдены растениями более сильными по природе»[243]. Другими словами, Поуп считал, что совершенство текста Гомера не может передать полностью ни один переводчик.
«Концепция абсолютно авторитетного, канонического текста, — писал в 1932 году Жорж Луи Бурже, — принадлежит либо религии, либо просто усталости от жизни»[244]. Самый лучший перевод — это тот, который мы сами предпочитаем всем другим. Кто-то из нас любит версии Р. Фитцджеральда или Чапмена, Лоуренса или, скажем, немецкий перевод Восса; просто потому, что какой-то из вариантов нам более знаком и более близок, мы склонны считать его лучшим и наиболее точным[245].
Для тех читателей, кто наслаждается смелой, вдохновенной музыкой строк переложения Александра Поупа, его текст тоже, очевидно, является таким «каноном» — самым лучшим, самым совершенным переводом. Почти любой отрывок из его работы может служить подтверждением такого поэтического совершенства. Например, сцена из книги XXIII, в которой Ахиллес, сразив Гектора, готовит погребальный костёр для Патрокла, но ветер стих и не питает пламя. Ахиллес просит Ириду-вестницу, богиню радуги, донести его молитву ветрам Борею и Зефиру.
Быстро, как слово, Ирида исчезла из вида, Быстро, как слово, летели буйные ветры, Громыхающим рёвом прорвав штормовую завесу, Тучи на тучи как скалы на скалы бросая, Вздымая глубины тяжёлые в недрах горы водяной, К далёким низинам земным с небес оглушительно рушились. Стены Трои под ветром могучим опасно дрожали, Пока погребальный костёр не привлёк средоточие бури.А вот, для сравнения, описание той же сцены Робертом Фаглзом, чей перевод, созданный совсем недавно, в 1990—1996 годах, был высоко оценён за аккуратность и современное звучание:
Доставив послание, она поспешила укрыться от ветров восставших, что уже разрывали встречные тучи со сверхчеловеческим рёвом. Достигнув стремительно глади открытого моря, мощь штормовая волны хлестала убийственным шквалом; вторглись ветра в плодородные земли троянские, в костёр погребальный ударили, — пламя нечеловеческой силы с воем до небес поднялось.Наши современные уши тут же распознают в этих строках знакомые фразы — как «сообщение доставлено» или «убийственный шквал»… Всё это звучит для нас очень реалистично. Для Поупа целью было вовсе не правдоподобие, а скорее «естественная искусность» следования ритму выдержанных каденций, музыкальность слога, попытка создания искусства, обладающего незримой силой воздействия; он описывал свой метод как следование самой природе языка, звучания речи. Но интересно, что его стиль производил подчас совсем иное впечатление: «Благодаря постоянной практике, язык в его сознании был выстроен в определённую систему, где все слова будто разложили по полочкам в идеальном порядке, так, что нужное слово всегда было под рукой»[246], — писал Сэмюэл Джонсон. И тем не менее, поэтическое искусство никогда не было для Поупа механической работой, или поверхностной игрой словами. Только тем читателям, кто требовал от поэта фундаментализма научного работника, или тем, кто уже настроился на простую музыку Уильяма Водсворта, его поэзия могла казаться поверхностной, тяжёлой или невыразительной. Например, Уильям Коупер — который сам был поэтом посредственным — написал, что Поуп «Стихосложения искусство производством заменил / И всяк и каждый горлопан его манеру заучил»[247]. А Георг Штейнер мудро заключил: «Те, кто ругает Поупа, очевидно, просто не читали его»[248].
Мэтью Арнольд, живший столетием позже, явно читал Поупа, и хотя не приписывал ему изумительного таланта, тем не менее признавал его работы, комментируя их объективно и нейтрально: «В композиции Гомер неизменно ставит во главу угла описываемый предмет или событие, Поупа же заботит больше сам стиль; в свой стиль он может переложить всё, что угодно»[249]. Арнольд был увлекающимся читателем, проницательным критиком и талантливым педагогом. Будучи сыном тренера по регби, он стал первым лицом Ориель-колледжа в Оксфорде. В должности ответственного инспектора английских школ, Арнольд в течение тридцати пяти лет наблюдал за условиями и спецификой учебного процесса в Англии и деятельно боролся за повышение стандартов образования, ориентируясь на прусскую модель («Школы и университеты континента», 1869), а также предлагая сделать занятия более оживлёнными, развивающими воображение и артистизм («Культура и анархия», 1869). Он был незаурядной личностью широких либеральных взглядов, нетерпимый к провинциализму и недальновидности, свойственных, по его мнению, английским интеллектуалам. А свой талант литературного критика Арнольд проявил в том числе и в обсуждении проблемы переводов Гомера.
Относительно проблемы переводов в целом, Арнольд отталкивался от взглядов двух основных школ. Первая учила, что «читатель должен вовсе позабыть, что перед ним — перевод, и сладко покоиться в иллюзии, что он читает оригинал произведения, как если б оно и впрямь было написано на родном ему языке»[250]. Вторая (позиции которой защищал, среди прочих, религиозный мыслитель Джон Генри Ньюман), утверждала, что переводчик должен стараться «сохранить и передать каждую отличительную черту оригинала, настолько, насколько это только возможно, и чем чужероднее язык, тем прилежней должно быть это старание», чтобы читатель «ни на минуту не забывал, что он читает лишь подражание, переложение совсем иного текста». Главными качествами переводчика, по мнению Ньюмана, должны быть добросовестность и точность. Как заметил Арнольд, — добросовестности от переводчика законно требуют обе стороны, а разница между ними в том, что они подразумевают под добросовестностью. Критически комментируя вторую позицию, он отметил, что «даже если бы Ньюман и достиг своей цели, «сохранив и передав каждую отличительную черту оригинала», то в случае с Гомером — кто был бы порукой тому, что он действительно остался верен его манере и образу мысли? Сами древние греки? Но все они давным-давно мертвы и не годятся в судьи»[251].
Арнольд советовал всем, кто собирается переводить Гомера, оставить в стороне определённые вопросы: существовал ли вообще Гомер, был ли у «Илиады» и «Одиссеи» один автор или несколько, была ли в гомеровской мифологии скрыта христианская доктрина расплаты за грехи, и т. д. и т. п. Ибо, если даже и можно отыскать на них ответ, то какой от этого прок переводу? Также переводчик не должен полагать, что восприятие современного человека адекватно восприятию античному, как и эмоциональная реакция на события. Во что бы ни верили древние, мы должны ясно осознавать, что это вовсе не то, во что мы верим сегодня. Переводчику Гомера нужны четыре вещи: талант захватывающе рассказывать истории, умение ясно выражаться, а также ясно мыслить, и, наконец, благородство, в высшем смысле этого слова. Арнольд признаёт, что описание этих качеств, возможно, «слишком общее, и вряд ли может сослужить кому-то службу», разве что, быть может, кому-либо из поэтов будущего, кто решится испытать свой талант переводом Гомера. В таком случае — а иначе не видать ему успеха — он должен поистине чувствовать свой предмет и питать к нему бескорыстную любовь, что так редко и так ценно в литературном творчестве[252].
Ньюман же уклонялся от сути вопроса, в ответ на критику приводя невразумительные семантические принципы и грамматические ребусы. Он считал серьёзнейшие высказывания Арнольда не более чем иронией, а проницательно точные суждения — неуважительными. В то время как один из самых строгих критиков А. Е. Хаусман аргументы Арнольда оценил так: «Если сложить на одну чашу весов всю-всю литературную критику, написанную профессионалами и учёными всех сортов, а на другую бросить тоненький зелёный томик «Лекций по переводу Гомера» Мэтью Арнольда, который долго оставался неизданным из-за отсутствия интереса к этой работе у британской публики, то первая чаша, по выражению Мильтона, взнесётся ввысь и в лучезарное сияние вольётся»[253].
Гомер в английской поэзии
Болтая обо всём об этом, мы соглашаемся, что Блейк был плох, потому что занялся итальянским и Данте, когда ему было уже за шестьдесят, Данте был плох, потому что слишком увлекался Вергилием, Вергилий был плох, потому что Теннисон превзошёл его, ну а Теннисон — Теннисон хорош, ничего не скажешь.
Сэмюэль Батлер, «Записки»Поэты эпохи романтизма не находили вдохновения в академических литературных изысканиях, предпочитая свежий воздух открытых просторов и вольные думы. Джон Китс был убеждён, что проводить время на природе «более благотворно для моих достижений в поэзии, чем торчать дома среди книг, даже если я буду читать Гомера»[254]. Но Гомера Китс всё же читал, а точнее, «Илиаду» в переводе Чапмена 1598 года, выполненном в классической манере, цветистыми классическими строфами в четырнадцать слогов, и был настолько очарован, что запечатлел свои чувства в знаменитом сонете:
Бродя среди наречий и племён В сиянье золотом прекрасных сфер, В тиши зелёных рощ, глухих пещер. Где бардами прославлен Аполлон, Я слышал о стране былых времён, Где непреклонно властвовал Гомер, Но лишь теперь во мне звучит размер, Которым смелый Чапмен вдохновлён. Я звездочёт, который видит лик Неведомой планеты чудных стран; А может быть, Кортес в тот вечный миг, Когда, исканьем славы обуян, С безмолвной свитой он взошёл на пик И вдруг увидел Тихий океан[255].В «Предисловии к читателю» Джордж Чапмен писал, что английский язык — не самый подходящий для перевода Гомера, первого и лучшего среди поэтов, ибо «Поэзия есть цветок, что открывается только солнцу и не расцветает при свече». Такое представление было близко по духу поэтам-романтикам, которые тоже предпочитали видеть в Гомере «всеодарённого поэта-гения»[256], первооткрывателя поэзии, созидающего в самом сердце начала начал. Поэтому они считали своим долгом критиковать Поупа и защищать Чапмена, полагая, что так они хранят верность самому Гомеру.
Уильям Блейк критиковал и Поупа, и Чапмена, но особенно — Гомера, хотя понять его истинное отношение к Гомеру не так-то легко. То Блейк восхвалял его, то осыпал бранью; называл то поэтом-провидцем (наряду с Вергилием, Мильтоном и Данте)[257], то классиком, давно смещённым с пьедестала славы; то одним из «тех вдохновенных гениев, кого отвергло общество»[258], то красивой картинкой для отвода глаз от интеллектуальных преступлений, таких как писанина на продажу, плагиат и унижение истинного искусства. Нападки Блейка бывали порой не на шутку свирепы. «Во всём виноваты классики! Именно классики, а не готы, и не религиозные фанатики привели Европу к опустошающим войнам»[259].
По мнению Блейка, в ранг высокого искусства Гомера возвело его умение создавать символические образы, «обращаться к Воображению, которое есть Прикосновение к Сфере Духа, и посредник Познания или Разума»[260]. А те, кто выискивает среди этих великих строк жалкую современную мораль, просто неспособны ценить возвышенное. «Если бы единственной заслугой Гомера, — писал Блейк, — были исторические очерки и моральные проповеди, он был бы ничем не лучше Клариссы»[261], (а «Кларисса» — это длиннющий сентиментальный роман Ричардсона). Что думал сам Блейк по поводу этики в поэзии? «Величайшие поэтические произведения аморальны, величайшие герои безнравственны!», а «прекрасная языческая поэзия Гомера была оклеветана и извращена христианами, и персидскими султанами с их военачальниками, и в конце концов римлянами»[262]. Как мы видим, отношение Блейка к Гомеру было весьма неоднозначным… Возможно, разгадкой этому может служить одна из иллюстраций, сделанных Блейком к «Божественной комедии». Седьмой рисунок изображает «Отца Поэзии», каким его видел Данте — увенчанного лаврами, с мечом в руке, окружённого шестью поэтами античности. Вот только вместо имени «Гомер» Блейк вписал «Сатана», а потом частично стёр надпись[263]. Как известно, для Блейка именно Сатана был истинным героем «Потерянного рая»[264].
Отношение Блейка к Поупу понять гораздо проще: то же, что и у Драйдена «Монотонное «Лейся, песня, лейся, песня» от начала до конца»[265]. Но вот его ближайший современник, Лорд Байрон был совсем иного мнения. Он считал Поупа великим новатором, совершившим переворот в поэзии, «эталоном стиля и хорошего вкуса»[266]. В письме своему издателю Джону Мюррею, датированном 17 сентября 1817 года, Байрон писал: «Говоря о поэзии в целом… я убеждён, что все мы идём по неверному пути, и все наши революционные нововведения ничего не стоят… В этом я убедился ещё больше, взглянув с этой точки зрения на кое-кого из наших классиков, и в частности на Поупа. Я был поистине поражён (кто бы мог подумать!) его неописуемым превосходством во всём, что касается смысла, гармонии, силы воздействия и даже воображения, страсти и изобретательности»[267].
Байрон обожал «Илиаду» Поупа. Несмотря на то, что он читал Гомера в оригинале и поэтому прекрасно знал, насколько она была далека от древнегреческого текста, это ничуть не уменьшало его восхищения поэтической силой языка Поупа. Джон Стюарт Милль сетовал, что в изучении античности учебные заведения Англии отдают предпочтение филологии и поэзии, в ущерб истории и философии, ценя Гомера больше, чем Платона[268]. Быть может, это не вполне справедливо по отношению к эпохе в целом (классические философские школы Оксфорда и Кембриджа — тому доказательство), но для Байрона Древняя Греция была запечатлена в «Илиаде» и «Одиссее», а вовсе не в учениях Сократа и его последователей.
Такое же представление было и у Перси Биши Шелли: Греция — это Гомер. В своей работе «В защиту поэзии» Шелли писал, что поэмы Гомера «были столпом, основой античной цивилизации; его герои были воплощением идеальных качеств, и несомненно, знакомство с ними пробуждало желание быть таким же, как Ахиллес, Патрокл или Улисс; в глубине этих, по сути, далёких от морали произведений, всё же скрыты истины дружбы, патриотизма и нерушимой верности»[269]. Интересно, что некоторые современники приписывали Шелли и Байрону черты древнегреческих героев, сравнивая Шелли с Патроклом, а Байрона — с Ахиллесом. Возможно, что-то подобное ощущал в себе и сам Байрон, когда 13 июля 1823 года, «с надеждой обрести в путешествии то, к чему не смог прикоснуться мыслью»[270], он взошёл на корабль и отправился в Грецию.
Конечно, «Илиада» и «Одиссея» не были для Байрона или Шелли просто собранием образцов для подражания. Байрон считал, что пусть Греция Гомера — идеализированный образ, но, тем не менее, это часть великого прошлого, священное наследие, которое правительства современной Европы предали, позволив оттоманским захватчикам разорять греческие земли.
И я пою, божественный Гомер, Все ужасы чудовищной осады, Хотя не знали гаубиц и мортир В оперативных сводках Илиады. Но я с тобой не спорю: ты кумир! Ручью не должно с мощью водопада Соревноваться… Но, порукой бес, В резне за нами будет перевес. В поэзии мы отстаём, пожалуй, Но факты! Но правдивость! Бог ты мой! Нам муза с прямотою небывалой Могла бы подвиг описать любой![271]Итак, Гомер был для Байрона непревзойдённым кумиром, который создал эталон не только самого мастерства стихосложения, но и главных для поэзии тем. Этих тем всего две, и они нам прекрасно известны, более того — сегодня мы уже называем их «вечными». Война и путешествие были положены в основу главных произведений Байрона — «Дон Жузн» и «Паломничество Чайльд-Гарольда». Герои обеих поэм чем-то напоминают нам Улисса, и становятся свидетелями военных действий. В «Дон Жуане», следуя гомеровскому прообразу, Байрон описывает осаду Измаила в 1790 году, когда русские войска одержали победу над оттоманскими силами, — но сцена этой осады, беспорядочной и суматошной, была задумана им лишь как карикатурное отражение величественных событий древности и служила намёком на политическую неразбериху в Европе после Наполеона.
Но в наше время автор «Илиады» Не стал бы петь, как сын Приамов пал; Мортиры, пули, ядра, эскалады — Вот эпоса новейший арсенал. Но знаю я — штыки и батареи Противны музе грубостью своею![272]Если в «Илиаде» война есть благородное сражение, то войны XIX века больше напоминают дозволенные законом массовые убийства. Байрон саркастически комментирует «Благодарственную оду» Вордсворта:
«Господней дщерью» Вордсворт умилённый Назвал войну; коль так, она сестрой Доводится Христу — и уж наверно С неверными обходится прескверно[273].Следуя гомеровским темам в описании своего века, Байрон всё же не стремился подражать его стилю, и возможно, лишь случайно употреблял иногда некоторые эпитеты или сравнения; он понимал, что художественные приёмы теряют со временем силу воздействия, и новая эпоха требует создания новых средств выражения.
Поэтические формулы из устойчивых сочетаний и эпитетов, которые мы встречаем в текстах Гомера, можно интерпретировать по-разному. Например, американский филолог-классик Мильман Пэрри сравнивал приёмы Гомера с техникой народных сказителей Югославии, и утверждал, что использование таких устойчивых словосочетаний позволяет, импровизируя, сохранять нить рассказа. Но по прошествии стольких веков мы не можем точно сказать, какое воздействие оказывали такие выражения на слушателей или читателей Гомера. Возможно, некоторые из них были частью традиционной речи, некоторые — изобретениями самого Гомера, призванными передать оттенки в изображении деталей события, предмета или характера героя. Формулы эти разнообразны. Например, такие как «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос»[274] или «…и растерзалося милое сердце»[275] можно сравнить с традиционными фразами, начинающими и заканчивающими историю, типа «Однажды…», «И жили они долго и счастливо». Другие повторяющиеся фразы — устойчивые эпитеты (Пэрри называет их «эпитеты-украшения»), которые сопутствуют названиям мест или именам героев: «крепкостенные» Афины, «быстроногий» Ахиллес, «многоумный» Одиссей, «сладкоречивый» Нестор, и так далее. Жорж Бурже предположил, что такие формулировки были просто корректной формой выражения или обращения, как для нас, например, «встал не с той ноги», а не «встал не на ту ногу»[276]. Некоторые переводчики (например, Роберт Фитцджеральд[277]) предпочитали не воспроизводить эти условности, так как полагали, что современной публике эти постоянные повторения будут казаться банальными или скучными. Но для нас они вовсе не звучат привычными условностями, и сравнение красок рассвета с «перстами пурпурными Эос» современному читателю покажется причудливой и поразительной метафорой.
Определённые устойчивые выражения употреблялись и для изображения действий, например, того, как один воин убивает другого. Когда в «Илиаде» Мерион сражает Лаогона иди Идоменей Эримаса, то рассказ о смерти каждого не индивидуален, а следует некоему правилу: начинается с упоминания места поражения («под челюсть и ухо», «прямо в уста»), а заканчивается перифразой, традиционной для описания смерти («покрылся облаком смерти», «ужасная тьма окружила»)[278]. Причём такой порядок вовсе не преследует цель живописания реалий, а равносилен, скорее, закону жанра — как, например, в детективном романе, сначала говорится о факте убийства, и только потом о нити причин и череде подозреваемых.
Вероятно, наибольшее впечатление на читателей производили пространные эпические сравнения. Обычная метафора заключается в переносе значения — когда один объект описывается с помощью признаков другого объекта, и этим приёмом создаётся новый художественный образ, в котором сказанное и подразумеваемое смешиваются. В эпическом сравнении описания различных действий сопоставляются, но не смешиваются, остаются визуально разделёнными, так что один образ определяет характер другого. В одной «Илиаде» можно насчитать более двухсот таких уподоблений. В песне шестнадцатой после того, как троянцы, ведомые Гектором, оттеснили греков к кораблям, Патрокл в доспехах Ахиллеса ринулся в ответную атаку и отбросил троянцев обратно к стенам города. В описании Гомера сцена эта страшна и жестока:
Словно свирепые волки на коз нападают иль агнцев, Их вырывая из стад, которым неопытный пастырь Дал по горам рассеяться; волки, едва их завидят, Быстро напав, раздирают бессильных и трепетных тварей, — Так на троян нападали ахейцы…[279]Для Гомера и его аудитории, охотящиеся на овец волки и пастух, невнимательно следящий за стадом, были, очевидно, обычным делом, и поэтому такое сравнение использовалось очень часто и стало традиционным. В восемнадцатом веке волки, конечно, продолжали свирепствовать, но уже за стенами города, и поэтому образ был городским жителям не так близок. Тем не менее, это сравнение — одно из тех немногих стилистических приёмов, которые Байрон позаимствовал у Гомера. Его отголосок слышится в первой строке «Поражения Сеннахериба»:
Ассирянин спускался, как волк на загон…[280]
Это очень сильная строчка, она вдыхает новую жизнь в устаревший образ и придаёт ему особый блеск: сначала мы видим спускающихся ассирян, потом нашим глазам предстаёт волк, крадущийся к овцам, но сама кровавая сцена остаётся до поры до времени фигурой умолчания, адресованной нашему собственному воображению.
Иногда подобные сопоставления используются в инверсии, обратном порядке, когда сначала описывается в красках то, с чем хотят сравнить, и лишь потом объект уподобления, причём связка «как» зачастую вовсе выпадает. Замечательный пример такого приёма — сонет аргентинского поэта Энрике Бэнкса. Хотя страшный зверь не волк, а тигр, смысл сравнения остаётся прежним:
Извиваясь в крадущемся шаге, Тигр скользит, лоснящийся и гладкий, как строфа; Как меткий стих — отточена, и лаконична, и проста — Жестокость глаз, холодная, как блики на топаза гранях. Потягиваясь медленно и хищно, злой, Играя мышцами под блеском толстой шкуры. Ложится на ковёр травы сухой. Саванну погрузила в сон безмолвная жара, На лапах шёлковых курносая недвижна голова, Но зоркий глаз — невозмутим, неумолим, спокоен, — Подстерегает тех, кто убаюкан зноем, И скрытую угрозу выдаёт Лишь нервный хвост, что в нетерпенье землю бьёт. Охота близко, жертве не спастись. Тигр этот — моя ненависть[281].Но такие обороты впечатляют, очевидно, далеко не всех. Огден Нэш в одной из своих комических поэм острил по поводу того, что «От Гомера до Теннисона, все поэты, постоянно делали это»:
Какой же можем мы извлечь урок Из строчки «Ассириец подступал, как к стаду волк»? Во-первых, — что такому, как Лорд Байрон, не годится Не знать, что был там не один, а много ассирийцев![282]Впрочем, в шутке Нэша заключён вполне серьёзный смысл. Однозначных метафор не существует, прочтение может варьироваться от буквального до метафизического, и ни одна из интерпретаций не является исчерпывающей. Самый известный пример тому — «Божественная комедия» Данте: она задумана так, чтоб разные уровни толкования открывали в её образах новые смыслы. Так же, по-видимому, дело обстоит и с Гомером. Его фигуры речи можно воспринимать как традиционные формулировки, реалистические описания, метафоры и аналогии одновременно.
Мадам де Сталь, талантливейшая современница Байрона, была убеждена, что величие Гомера заключается именно в созданных им поэтических образах. Смысл его поэм она считала весьма неглубоким, особенно в сравнении с мыслью христианского севера Европы, в частности Германии. «Гомер и другие греческие поэты, — писала она в 1800 году, — замечательны своими роскошными и многочисленными образами, но не отличаются глубиной мысли. Метафизика, как искусство облачения идей в рассудочную форму, сделала неизмеримо больший вклад в развитие человеческого духа. Но, стремясь быть полезной, она зачастую слишком прямолинейна и не замечает достойных внимания деталей. Гомер подмечает всё, и хотя не всегда выбирает мудро, но то, что выбирает, описывает в исключительно интересной манере»[283]. Можно сказать, что она ценила Гомера за то же, за что его ценил Поуп, — за первозданную оригинальность, но полагала, что в его мастерских и красочных сочинениях нет и в помине хоть сколько-нибудь значимых идей.
Гомер как идея
Как те учёные, что узнавали из стихов Гомера. То, чего не знал и сам Гомер.
Джонатан Свифт, «О поэзии»В 1744, год смерти Александра Поупа, Джамбаттиста Вико, профессор риторики университета Неаполя и придворный историограф, опубликовал третье, исправленное издание своей революционной книги «Новая наука». В этой книге он представил концепцию циклического развития истории. Согласно Вико, история культуры начинается с Гомера и его поэтического знания; изменяя свой облик в движении по непрерывно восходящей спирали, в определённые исторические моменты культура духовно возвращается к своему источнику.
В философии той эпохи существовали две основные теории познания. Одна теория утверждала, что к истинному знанию приходят через опыт и рациональные доказательства, другая считала основой знания внеэмпирическое мышление[284]. Вико предложил третий путь — в стремлении к истине довериться воображению, независимой силе сознания, которую он называл fantasia. Поэтические образы в каком-то смысле являются вымыслом, но они рассказывают об истинных вещах. Это не «учения об истине в поэтической оболочке», но и не ложь (как утверждал, к примеру, Платон). Universali fantastici — «универсальные картины созданные воображением» нужно описывать совсем иными понятиями. Западная философия всегда относилась скептически к сотворённому художественным воображением, ибо образ — не концепция и не формулировка идеи, а значит, и не обладает собственной философской значимостью. Вико встал на сторону Гомера в защите как от обвинений Платона, так и от метафизического рационализма, и отстаивал истинность знания, которое он называл «sapienza poetica» — поэтическая мудрость. Источник этой мудрости коренится в памяти, которую Гомер знал как богиню Мнемозину. «Память, — писал Вико, — обладает тремя различными аспектами: память как таковая запоминает вещи, воображение изменяет их облик или создаёт подобия, изобретение же создаёт новые вещи, преобразуя их внутренний порядок или отношения между ними. Поэтому древние авторы теогоний называли память матерью муз»[285]. Отголосок представлений Вико прозвучит позднее в формулировке Джеймса Джойса: «Воображение — переделка хранящегося в памяти»[286].
Во второй песне «Илиады», когда Гомер собирается перечислять по именам греческих воинов, прибывших осаждать Трою, он вдруг прерывает повествование и обращается к Музам. Это обращение можно отчасти интерпретировать как литературный приём, в средние века названный excusatio propia infirmitatis — «оправдание собственных слабых мест», отчасти как способ убедить в правдивости рассказа, указывая на более авторитетный источник: «Это не мои слова, но того, кто стоит много выше меня, и поэтому они должны быть истиной».
Ныне поведайте, музы, живущие в сенях Олимпа: Вы, божества, — вездесущи и знаете всё в поднебесной: Мы ничего не знаем, молву единую слышим: Вы мне поведайте, кто и вожди и владыки данаев; Всех же бойцов рядовых не могу ни назвать, ни исчислить, Если бы десять имел языков я и десять гортаней, Если бы имел неслабеющий голос и медные перси: Разве, небесные музы, Кронида великого дщери, Вы бы напомнили всех, приходивших под Трою ахеян[287].Поэт обретает знание только благодаря музам: они — дети памяти, поэтому могут поведать ту истину, что запечатлена в памяти. Из дочерей Мнемозины Гомер особенно почтителен к музе Урании, которую он называет музой предсказания и познания добра и зла (впоследствии Уранию также называли покровительницей астрономии). Из этой концепции Вико развил идею, что поэтическая мудрость принадлежит не одному поэту, но всем людям, и что «Гомер не есть автор своих работ в обычном смысле слова, они созданы сознанием всего греческого народа»[288]. Для Вико Гомер был не личностью, но «идеей»[289].
Пятьдесят лет спустя Фридрих Август Вольф, который, скорее всего, не читал Вико, разработал похожую теорию о поэзии Гомера. Об одном из фактов биографии Вольфа рассказывает легенда: будучи сыном скромного школьного учителя, он стал лучшим среди студентов всех германских университетов, и наставники пытались отговорить его от казавшейся им бесплодной карьеры филолога, сказав, что, когда он закончит обучение, будут вакантными только две плохо оплачиваемых должностей для профессора филологии. Вольф ответил, что его это не беспокоит, потому что ему нужна всего одна. В самом деле, в возрасте двадцати четырёх лет он стал профессором филологии в университете Галле, где он начал разрабатывать свою теорию о Гомере. В результате, книга, написанная на сложной неприступной латыни, была всё-таки опубликована в 1795 году как «Вступление к Гомеру»[290]. В то время германские читатели опирались на помощь двух возможных проводников к греческой культуре. Одним был Иоганн Йохим Винкельман, прославленный знаток античности, кто вырос из сына сапожника до одного из самых эрудированных людей своей эпохи и обобщил греческий идеал в формуле «благородная наивность и спокойное величие»[291]. Другим был Иоганн Генрих Восс, чей великолепный перевод «Одиссеи» (1781) и «Илиады» (1793) доказал, что современный немецкий язык прекрасно подходит для эпической поэзии; стремясь вложить в свою версию всё богатство германского словаря, Восс для большей свободы выражения сочетал стихи произвольной длины и дактилические гекзаметры. В своей книге Вольф критиковал как почтительно-одобряющие комментарии Винкельмана, так и заоблачно-величественное переложение Восса и призывал к необходимости серьёзного исследования фактов возникновения и становления текстов «Илиады» и «Одиссеи». Впоследствии идеи Вольфа получили широкий резонанс в учёных кругах и дали рождение новой науке классических исследований.
Примерно в то же время во Франции блестящий всезнайка Дени Дидро сделал ошеломляющее заявление: Гомера и его поэмы нужно оставить в прошлом, если общество стремится к победе Просвещения и прогресса. Не то чтобы поэзия Гомера не трогала его, или он считал, что «Илиаде» не хватает реализма, так ценимого им в искусстве. Дидро признавал, например, что Гомер мог потрясающе передать ужасы войны: «Меня восхитила сцена, где вороны, возбуждённо хлопая крыльями, слетелись на труп, и вырывали глаза из черепа»[292]. Но в целом Гомер мог быть понят как контраргумент взглядам Просвещения, основанным на вере в одну лишь рациональность, взгляд, который Дидро обосновал в книге «Сон д'Аламбера» 1769 года. Эта книга, интеллигентная и остроумная, состоит из серии философских диалогов, в которых Дидро переосмысливает историю человечества и сущность животной жизни с материалистических позиций, предполагая, что эмоции, идеи и мысли можно объяснить простыми биологическими фактами, без обращения к теологии или духовности, и выбросив из головы все некритические реверансы прошлому. Энциклопедия Дидро составила семнадцать толстых томов статей и двенадцать томов иллюстраций, изданные в сотрудничестве с д'Аламбером и публиковавшиеся с 1751 по 1772 год. Главным замыслом этого проекта была смелая идея определить «науку, искусство и ремёсла» только рациональными методами, включая, правда, под маскировкой безобидных заголовков такие опасные темы, как религия и системы правления. В разделе под общим названием «Греческая философия»[293] Дидро в ироничном тоне сообщает, что Гомер — «поэт, философ, и в своём роде теолог», но весьма сомнительного толка, в подтверждение чему приводит неясного происхождения цитаты, которые, по его мнению, демонстрировали нехватку как хорошего вкуса, так и философии в гомеровских текстах. «Так что, — заключает Дидро, — вряд ли Гомер будет популярен в будущем». Если Вико предполагал, что мифология Гомера была произведением героического «витка» в циклическом развитии общества, то для Дидро Гомер был атрибутом примитивной эпохи предрассудков, оставшейся в прошлом.
Фридрих Вольф в ходе своих строгих исторических и филологических исследований пришёл к выводам, схожим с концепцией Вико. Согласно Вольфу, книги, создание которых мы приписываем Гомеру, были плодом долгого развития, в котором приняли участие многие поэты и сказители, и поэтому можно только предполагать, но нельзя точно определить источник их происхождения. Вольф воспринимал «Илиаду» и «Одиссею» скорее как «археологический объект», который необходимо подвергнуть раскопкам и тщательно исследовать, чтобы должным образом описать каждый пласт сложной, многоуровневой конституции этого творения. Не Гомер является автором этих текстов, но наоборот, сами поэмы в каком-то смысле создали его; когда легенды проходят через многие поколения бардов, их сюжеты ветвятся, детализируются, объединяются, и уже начинают тяготеть к форме цельного эпоса — они нуждаются в не менее легендарном имени создателя, чтобы обрести должное единство и авторитет. Итак, для Вольфа Гомер тоже был «идеей», — но не задающей движение, а ставшей венцом и завершением творческого процесса.
Критические аргументы Вольфа не на шутку взволновали не только литературоведов, но и теологов. Ведь если происхождение «древнегреческой библии» можно поставить под вопрос, значит, можно посеять сомнение и относительно самой Библии?
Священное Писание должно учить истине, а не рассказывать сказки, как сказал бы Цицерон, «не осмеливаться произнести ни одного лживого слова»[294]; а это значит, что Библия должна пройти и научное испытание на подлинность, — но к чему это может привести? Иоганн Вольфганг фон Гёте полагал, что это могло зайти слишком далеко, что необходимо положить конец критике гомеровских текстов и Слова Божьего. «Они теперь раздирают на части Пятикнижие Моисеево! — жаловался он в поздние годы жизни своему другу Иоганну Петеру Эккерману. — Критика — полезнейшая вещь, но только не для религии! Ведь в религии всё зависит от веры, и критика может легко погубить её, а если вера однажды утеряна, её уже не вернёшь»[295].
Гёте был довольно близко знаком с Вольфом и его работами. Летом 1805 года он останавливался в Галле и решил посетить одну из лекций Вольфа. Дочь Вольфа любезно согласилась проводить знаменитого гостя в аудиторию отца, но Гёте ответил ей, что предпочёл бы не сидеть среди студентов в классе, а спрятаться за занавеской. Этому любопытному жесту есть своё объяснение. Дело в том, что Гёте встречался с Вольфом десятью годами ранее, незамедлительно после прочтения его «Вступления к Гомеру». Автор понравился ему настолько же, насколько не понравилась книга. Он писал Фридриху Шиллеру, что «Вступление» было «довольно интересным, но очень уж мне не по душе. Идея, возможно, хороша и дерзкая попытка заслуживала бы уважения, если б только предпринявший её джентльмен не разорял богатейшие сады королевства эстетики и не превращал их в скучные укрепления»[296]. Но Гёте умолчал в этом письме о том, что вольфовское разоблачение Гомера зародило в Гёте идею самому обратиться к эпическому жанру. Если, как утверждал Вольф, «Илиада» и «Одиссея» были подобны сундуку, набитому всякой всячиной, то обладающий пониманием и талантом поэт имел полное право покопаться в нём, чтоб найти материал для собственных шедевров. Гёте попытался пристальным исследовательским взглядом на Гомера отыскать для себя эпический сюжет. В результате в 1799 году он задумал и начал поэму «Ахиллес», но так и не закончил её: «Я нахожу в Гомере только трагический материал… на самом ли деле это так или я просто не способен отыскать эпический? Историю жизни и смерти Ахиллеса вполне можно облечь в эпическую форму, но встаёт вопрос, правильно ли это — оформлять трагический, в сущности, материал как эпический рассказ?»[297] Гёте считал свой замысел таким дерзким, что в письме Вильгельму фон Гумбольдту о своей работе он воздержался от упоминания подробностей, чтоб не показаться «слишком самоуверенным»[298]. Возможно, по той же причине он не хотел быть замеченным на лекции Вольфа.
Если Гомер, как заключил Вольф, был идеей, собирательным именем, концептом, то, мог бы добавить Гёте, он был идеей, изменяющейся во времени. Отношение к Гомеру отражало дух эпохи, её заботы и потребности: образ Гомера в эпохе мог бы быть её символом. Гёте чувствовал, что, несмотря ни на какую критику, воображаемый, но прекрасный мир Гомера мог бы стать для его современников желанной заменой их реальному миру, несовершенному, раздробленному в последствиях французской революции, в котором и Германия была на краю распада, разрываемая внутренними разногласиями. Иоганн Готфрид Гердер в своей «Истории европейской философии», Кристофер Мартин Виланд в исторических романах и воображаемых диалогах, Вильгельм Гейнзе в утопических повестях, Фридрих Шлегель в очерках по классической античности, Карл Филипп Моритц в путеводителе по античной мифологии и даже Гельдерлин в каждой из книг — все они, как бы ни были различны их взгляды, находили во Вселенной Гомера модель для идеальной Германии, где мужи, благородные и храбрые, посвящали бы свою жизнь поэзии и занятиям философией[299].
Для Гёте Гомер был идеальным, вещим зеркалом, отразившим у истока времён истину своего народа, чтобы потом озарить светом этого идеала историю будущих поколений, историю иных, неведомых пока эпох. Художники как Гомер — неважно, жил ли он во плоти и крови или был духом — стояли вне времени, ибо обладали божественной природой и были посредниками между богами и людьми. К поэтическому мастерству (Гомера и собственному) Гёте относил слово Schöpfertum «созидательная деятельность»[300], акт воображаемого порождения, который выносит на поверхность бытия сокровенные желания и устремления народа, — поэтому характер поэзии определяется характером эпохи и нации. Как идея, устремлённая к воплощению, Гомер мог бы произнести слова, которые Гёте в одном из своих произведений приписал Христу: «О мой народ, как я тоскую по тебе!»[301] — слова Бога в поиске верующих. Божественный Гомер приносил каждому новому поколению возможность воплотить в своей культуре идеалы его мира, и сам Гёте стремился подвигнуть к этому германский народ. Возможно, немного преувеличивая, историк Эрнст Роберт Кёртис однажды заявил: «Герой-основатель европейской литературы — Гомер. Её последний универсальный автор — Гёте»[302].
Вечная женственность
Причина заварушки всей как день ясна: рогатый муж и блудная жена. Уильям Шекспир, «Тройлий и Крессида»Гёте начал знакомство с поэмами Гомера в совсем юном возрасте: «Илиада» и «Одиссея» были среди его первых книг, как и «Сказки тысячи и одной ночи» и «Приключения Телемаха» Фенелона[303]. В 1770 году, когда Гёте исполнился двадцать один и он уже был студентом Страсбургского университета, покровительствующий ему Иоганн Гердер убедил его совершенствовать познания в древнегреческом, читая Гомера параллельно в оригинале и в переводе на латынь. Эти занятия, как мы сможем убедиться, нашли отражение в литературном творчестве самого Гёте. Тремя годами позже Гёте меньше чем за девяносто дней создал ставший сенсационно популярным роман в письмах «Страдания юного Вертера». Когда главный герой — юный Вертер — приезжает в деревню, где позднее впервые встретит любовь всей своей жизни (девушку, увы, уже отдавшую своё сердце другому), в одном из писем он просит не присылать ему книг: он не тоскует по книгам, ибо не нуждается в наставниках и не ищет воодушевления. Всё, что ему нужно, — это «колыбельная песня, а такой, как мой Гомер, второй не найти»[304]. Можно предположить, что юный автор от лица Вертера высказал собственное отношение к Гомеру, признавшись, что тот был ему не столько учителем или предметом осмысления, сколько приносящим удовольствие видением, переживанием вместе с героями всех их эмоций — от радости до скорби, от сладкой меланхолии до разрушительной страсти.
Двадцатью годами позже различие между поучающими и убаюкивающими книгами очень хорошо описал Шиллер в статье «О наивной и сентиментальной поэзии»[305]. Статья была опубликована в журнале «Оры», одним из основателей которого был Гёте. В этой работе Шиллер разделил писателей на две категории: одни счастливо пребывают в единстве с природой, достоверно изображая её в произведениях, другие осознают себя оторванными от природы, чуждыми ей, и в их творчестве читается тоска по возвращению. И Гомера, и Гёте Шиллер относил к первой категории, в то время как себя он идентифицировал со второй. Более века спустя, в записях 1921 года, Карл Густав Юнг отмечал, что идея Шиллера гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Различие, о котором говорил Шиллер, имеет отношение не к конкретным поэтам, но к «определённым характеристикам или качествам индивидуального самовыражения. К примеру, поэт-интроверт будет склонен к наивности и сентиментальности». Как утверждал Юнг, Шиллера интересовали не «типы», но «типичные механизмы».
«Гомер, наивный поэт, — писал Шиллер, — позволяет природе безгранично владеть им»[306]. В интерпретации Юнга это высказывание означало: Гомер бессознательно отождествлял себя с природой, ассоциируя по аналогии субъект поэзии (то есть себя, поэта) и тематический объект (то есть природу), при этом передавая объекту свою творческую силу и репрезентируя его определённым образом, потому что этим же образом объект сам формируется внутри него. «Он сам есть природа: природа создаёт в нём произведение». То есть, по мнению Юнга, Шиллер считал, что Гомер есть его поэмы.
Гёте, как и Шиллер, идентифицировал Гомера с его произведениями, но для него это отношение не было замкнутым кругом. Каждое новое прочтение «Илиады» и «Одиссеи» открывало что-то новое из гомеровского дара, как бы освобождая поэта, снова и снова, от этой «безграничной охваченности», — и собственные сочинения Гёте считал подтверждением продуктивности этого обмена смыслами. Поэмы Гомера обеспечили наивного (и сентиментального) Гёте образцом для его пьес, и даже для серии объединённых сюжетов — «Улисс и фокейцы», «Улисс и Цирцея», для его «Навсикаи», например, или, что ещё более важно — для центральной темы второго тома «Фауста».
В апреле 1827, когда Гёте было семьдесят восемь лет, он решил включить в четвёртый том авторизованного издания своих работ поэтический фрагмент, который назвал «Елена: классико-романтическая фантасмагория», с подзаголовком «Интермедия к “Фаусту”». В письме французскому издателю, который хотел включить фрагмент в переведённое издание «Фауста», Гёте подчеркнул существенность различия двух этих текстов: эта история Фауста и Елены Троянской крайне отличалась от истории Фауста и Гретхен. Гёте описывал последнюю как «отношения, обернувшиеся бедой в хаотическом круговороте непонятых идей, морального упадка, мещанских предрассудков и заблуждений»[307]. В рабочих записках, датированных годом раньше, Гёте объясняет, чем «Интермедия» отличается от самого «Фауста». «Старая легенда, — писал Гёте, — рассказывает нам (и эта сцена должным образом включена в пьесу), что Фауст, в самонадеянности своего высокомерия, требовал от Мефистофеля свести его с прекрасной греческой Еленой, и Мефистофель после некоторого колебания согласился. Создавая собственную версию, я чувствовал себя просто обязанным не упустить столь важный мотив»[308].
Гёте придаёт этой сцене сатирический оттенок. По приказу германского императора, Мефистофель колдовскими чарами вызывает Париса и Елену явиться к имперскому двору. Обсуждая прибывших, придворные разделились во мнениях: мужчины критикуют Париса, в то время как женщины так и обмирают, восхищённые его мужской красотой, а когда мужчины любуются Еленой, женщины потешаются над её большими ногами и комплекцией, хилой в сравнении со статью Париса. Фауст, безумно очарованный прекрасной Еленой, пытается вышвырнуть Париса вон, но внезапно призраки исчезают, и праздник заканчивается полной неразберихой. Фауст падает в обморок. Когда он приходит в себя, он снова требует, чтобы Мефистофель свёл его с Еленой, и оба отправляются в долгое фантастическое путешествие в царство мёртвых. Персефона, тронутая горячей красноречивой молитвой, позволяет Елене возвратиться в мир живых с условием, что она останется в воображаемом дворце, напоминающем тот, что был у Менелая в Спарте: там Фауст должен попытаться соблазнить её. Фауст соблазняет Елену, и от их союза рождается ребёнок. Но в результате несчастного случая ребёнок умирает, и его смерть разлучает Фауста и Елену. В заключительной сцене Фауст возвращается в империю, где в качестве награды за помощь в победе над соперником, император жалует Фаусту участок земли у моря. Фауст заканчивает свою жизнь ослеплённым Заботой за то, что ограбил и убил престарелую пару, поселившихся в его владениях. Мефистофель, как бы то ни было, так и не заполучил душу Фауста — она была взята таинственными духами, ведомыми душой Гретхен.
Можно сказать, что образ Елены, созданный строками Гомера, обретает завершённость в поэзии Гёте. В Илиаде она впервые появляется как прекрасная женщина «за которую столько ахеян / Здесь перед Троей погибло, далеко от родины милой»[309], родины, которая теперь кажется ей такой нереальной: «Был ли тот мир, — она вопрошает, — или всё было сном?»[310]. Но, как и другие женщины у Гомера, Елена не просто заложница мужской войны. Всё связанное с ней сложно, будто окутано неразрешимостью, даже её красота, которая никогда не описывается непосредственно, а только свидетельствами созерцавших её. В «Илиаде» есть потрясающий и трогательный момент, когда старики Трои собираются на вершине башни, чтоб увидеть греческие войска, подступившие к стенам для кровавой битвы. Осознавая, что враг может опустошить их город и отобрать жизни, и зная что их могут пощадить, если невесту Париса вернуть законному мужу, они видят Елену, проходящую вдоль бастионов, и говорят один другому:
Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы Брань за такую жену и беды столь долгие терпят: Истинно, вечным богиням она красотою подобна![311]Несмотря на то, что главные герои «Илиады» и «Одиссеи» — мужчины, в сердце каждой из поэм — экстраординарные женщины. В «Одиссее» странствия Улисса были бы бессмысленны без Пенелопы, ожидающей его, — не бездеятельно, но своеобразно поддерживая усилия героя достичь Итаки: она прядёт и вышивает, и его продвижения в пространстве будто уравновешены движениями стежков по ткани, его время в пути — оборотами вьющейся пряжи. В «Илиаде» Ахиллес называет сражение «дракой с другими, кто носит оружие, чтоб забрать их жён как награду», раз уж долгая война развернулась вокруг похищенной Елены и обострена ссорой между Ахиллесом и Агамемноном за пленённых женщин Хрисеиду и Брисеиду. Войны затеваются жаждущими битв мужчинами, но их оправданием становятся женщины: отношения сплетаются в саги, становятся движущей силой событий. Елена чудесным образом осознаёт свою знаковую роль, — она говорит Парису:
Злую нам участь назначил Кронион, что даже по смерти Мы оставаться должны на бесславные песни потомкам[312].В последние годы шестнадцатого века Кристофер Марло, вдохновлённый ранними германскими версиями истории Фауста, впервые на английском языке облёк их в художественную форму. В драме «Доктор Фауст» излагается история встречи чародея-доктора, чья «наука схожа больше с торгашеской презренной ношей, / а цели столь поверхностны и истине чужды»[313], и женщины, обладающей самой совершенной в мире красотой:
Это ли тот лик, что спустил на воду тысячный флот, И сжёг Илиона высокие башни? Милая Елена, твой один поцелуй бессмертье даёт![314]«Тысячный флот» перечислялся в песне второй «Илиады», «высокие башни» — место дозора старейшин в песне третьей и в книге второй «Энеиды», дарующий бессмертие поцелуй — память о строках в песне третьей, где о Елене говорят, что она «бессмертным богиням она красотою подобна»[315]. В интерпретации Марло, Елена — совершенный идеал, эталон красоты и женской и мужской, с которой он сравнивает и милую Зенократу в «Тамерлане», и красавца Гевестона в «Эдварде II».
Два с половиной века спустя Эдгар Алан По сравнит бессмертную красоту Елены с бессмертием самого античного мира, знание о котором достигает нас «из пространств священной земли», как бы говоря о том, что Елена может донести до усталых, истощённых интеллектуалов (Фауста или самого По) то священное знание, что мир книжных знаний (включая, предположительно, и книги Гомера) не может дать им:
Елена! Красота твоя — Никейский челн дней отдалённых. Что мчал меж зыбей благовонных Бродяг, блужданьем утомлённых, В родимые края![316]Елена, как бы то ни было, не только дарит бессмертие: она также вечная причина войны. Эта тема несколько раз рефреном повторяется в «Илиаде» (Несмотря на то, что царь Менелай говорит ей, что винит не её, но богов: «…единые боги виновны, / Боги с плачевной войной на меня устремили ахеян!»[317]). В произведении Гёте, когда Елена появляется, она с болью вспоминает все те страдания, которые приключились из-за неё, и спрашивает, не проклята ли она ужасающим даром заставлять мужчин драться за неё:
Память ли это? Или обман иллюзии мой разум охватил? Неужто это была я? Живу ли я сейчас? И неужели и теперь должна я быть Бедой, ночным кошмаром, обречённым города губить?[318]Если Гретхен в «Фаусте» — соблазнённая невинная, которая заканчивает убийством своего ребёнка, то Елена в «Интермедии к “Фаусту”» — её зеркальный двойник, невинная соблазнительница, чей сын умирает по собственной неосторожности. Из всех главных героев только Елена обречена на вечность, в которой она всегда будет, как она сама заключает, «так обожаема и так осуждаема». Елена вся — двусмысленность; созерцая её, Фауст не может понять — греза ли, реальность ли это создание «вне времени порождённое чарами»[319]. Он не знает ничего кроме любви, переполняющей его; по сути, Фауст по-настоящему живёт лишь в то время, когда пребывает в объятиях Елены, и ничто иное не приносит ему покой. Возможно, для Гёте это и есть та исполнившаяся любовь, которая оправдывает решение спасти «великого грешника Фауста» в конце. Но всё же не Елена ведёт душу Фауста к спасению. Драма заканчивается явлением «голоса свыше», объявляющего Гретхен искуплённой, и именно дух Гретхен, в финальных строчках «Интермедии» ведёт душу доктора на небеса, к «вечной женственности». Елена, другое воплощение той же «вечной женственности», должна вместо этого вернуться в мир Гомера: она может появиться, но не остаться в современном мире Гёте, мире, который, несмотря на его восхищение античностью, отказывается (словами Вертера) «быть ведомым или воодушевлённым или приведённым в восторг»[320].
Незадолго до смерти, в 1832 году, Гёте закончил последний раздел своей автобиографии. В ней он провозглашает свой век достаточно счастливым, ибо жившие в эту эпоху могли быть свидетелями возрождения Гомера. «Счастлив тот литературный век, — писал он, — в котором великие произведения искусства прошлого возвращаются к бытию и становятся частью нашей повседневной жизни, потому что тогда они воздействуют на нас по-новому. Солнце Гомера снова взошло для нас и озарило вопросы и беды нашей эпохи… Теперь мы видим в этих поэмах не жестокий и напыщенный героический мир, но скорее отражённую истину нашего времени, и мы пытаемся приблизиться к ней, насколько это возможно»[321].
Гомер как символ
Какую песню пели сирены, или каким именем называл себя Ахиллес, скрываясь среди женщин, — вопросы, конечно, непростые… Но не исключено, что мы можем обо всём этом догадаться.
Сэр Томас Браун, «Religio Medici»Фридрих Ницше не считал размышления Гёте о Гомере достойными пристального внимания. Он находил их чуждыми той стихии, из которой проистекает дионисическое искусство — стихии оргиастического. «В самом деле, я не сомневаюсь, что для Гёте было делом принципа исключить любые подобные чувства из возможностей греческой души. Как следствие — Гёте не понимал греков»[322]. Как и Гёте, Ницше прочёл Гомера в ранней юности. Одарённый сын священника, он учился в Бонне и Лейпциге и в двадцать пять лет уже возглавил кафедру классической филологии в университете Базеля. Тремя годами позже, в 1872 году, была опубликована его первая и ставшая великой книга — «Рождение трагедии из духа музыки», очерк о движущих силах древнегреческой культуры. Отголосок мыслей Вико и предзнаменование теории Юнга — вопрос, из размышлений над которым появилась эта книга, — прозвучал из уст Ницше ещё в 1869 году. В лекции, знаменующей вступление в профессорскую должность, он произнёс: «Верно ли, что человек порождает идеи? Может быть, напротив, идеи создают человека?»[323]
Ницше осознавал, что сегодня никто не может воспринимать книги Гомера непосредственно, даже зная греческий язык: современные читатели неизбежно смотрят на них через призму прошедших эпох, поэтому то, что мы видим, есть лишь наша собственная интерпретация. «Почему весь греческий мир так ликовал над сценами битв в «Илиаде»? — писал он в одном из фрагментов, опубликованном посмертно. — Боюсь, мы не понимаем этого в полном смысле «по-гречески»; в самом деле, мы бы содрогнулись, если бы поняли, какого рода чувства они испытывали»[324]. Приблизиться к этому пониманию позволяет интуитивное постижение сущности тех противоборствующих сил, что действовали в самом сердце греческого искусства. Эти силы Ницше называл аполлонической грёзой и дионисическим опьянением. Жизнь человека полна иллюзий, но убаюканный верой в то, что он видит, художник грезит наяву, создавая светлые и гармоничные образы — таково аполлоническое начало. Но в моменты наиболее сильных эмоциональных переживаний, каковым является оргиастический экстаз опьянения, индивид пробуждается ото сна собственной жизни, посреди бушующего океана разрушительных стихий; ужас переживания хаоса — исток дионисического начала в искусстве. Исходя из такого понимания, Ницше считал Гомера проводником созидательной аполлонической силы, который писал свои поэмы «чтобы убедить нас продолжать жить»[325]. Боги Гомера оправдывают человеческую жизнь своим существованием, разделяя своё прекрасное, совершенное бытие со смертными; для его героев самое страшное — покинуть эту жизнь, особенно покинуть в юности. Для Ницше произведения Гомера были «полной победой аполлонической иллюзии», иллюзии, укрепляющей веру в то, что жизнь прекрасна и достойна прославления. Венчающее жизнь бессмертие вечно юных богов — воплощение и отражение греческой мечты. И в этом смысле Ницше соглашается с Шиллером, характеризующим Гомера как наивного поэта. «Этим отражением красоты, — заключает Ницше, — эллинская воля боролась с сопутствующим художественному таланту талантом к страданию и к мудрости страдания, и как памятник её триумфу нам предстаёт Гомер, наивный художник»[326].
Через семнадцать лет после того, как Ницше написал эти слова, в 1889 году, в Турине, его поразило серьёзное психическое расстройство на почве многолетнего страдания сифилисом. К недоумению хозяев, Ницше заперся в своей комнате, день и ночь бил по клавишам фортепьяно или расхаживал голым, в подобии ритуального представления выкрикивая и распевая дионисические дифирамбы. Когда местный доктор пришёл, чтобы проверить его душевное состояние, Ницше кричал по-французски «Pas malade! Pas malade!» (He болен! He болен!). В конце концов, друзья убедили его покинуть Турин и вернуться в Базель. В 1900 году Ницше умер, находясь в Веймаре, облачённый в белую мантию и никого не узнающий[327].
Философски-поэтическая интерпретация Гомера ставила Ницше в оппозицию рациональным исследованиям Вольфа, хотя оба они полагали, что Гомер не существовал как реальная историческая личность. Ницше (а впрочем, возможно, и Вольф), в числе главных качеств античных произведений видел способность вызвать у читателя чувство свидетельства двойственной истины: очевидной неестественности поэтической формы и ощутимой реальности создаваемых ею переживаний, в терминах Ницше — аполлонической иллюзии и дионисического страдания.
Зигмунд Фрейд в записях 1915 года сформулировал предположение, что подобное двойственное восприятие мира проявляется и в отношении к смерти[328]. Но Фрейд не ссылался на Ницше: его биограф, Питер Гей, отмечал, что «Фрейд относился к работам Ницше как к текстам, от чтения которых лучше воздерживаться»[329]. Тем не менее, Фрейд оказался последователем Ницше в вопросе о ценности жизни после смерти, он также полагал, что связанные с этим образы появились после Гомера, и цитировал в поддержку своей теории те же строки, что и Ницше — а именно ответ, данный Ахиллесом Улиссу в царстве мёртвых. Для Улисса (представляющего мир живущих, тех, кто ещё не познал опыт смерти), смерть — это исполнившаяся судьба героя. Он говорит Ахиллесу, что тот не должен горевать о том, что умер, ибо
Между людьми и минувших времён и грядущих был счастьем Первый: живого тебя мы как бога бессмертного чтили; Здесь же, над мёртвыми царствуя, столь же велик ты, как в жизни[330].Ахиллес же гневно отрицает это: он не видит ничего хорошего в смерти, какими бы привилегиями она его ни одарила. Его по-прежнему интересует и заботит одна только жизнь, и он готов обменять все блага богатства, славы и почестей на возможность жить, хоть самой бедной жизнью. И это речь того же Ахиллеса, который в «Илиаде», отвечая отказом на мольбу юного сына Приама сохранить ему жизнь, внезапно осознаёт, что и сам он однажды не избегнет смерти:
Но и мне на земле от могучей судьбы не избегнуть; Смерть придёт и ко мне поутру, ввечеру, или в полдень, Быстро, лишь враг и мою на сражениях душу исторгнет. Или копьём поразив, иль крылатой стрелою из лука[331].Ахиллес знает, что он смертен, но в то же время отказывается принять этот факт окончательно. Фрейд утверждал, что наше бессознательное, как Ахиллес, «не верит в собственную смерть; оно ведёт себя так, как если бы мы были бессмертны. То, что мы называем «бессознательное» — глубочайший пласт нашего сознания, сотканный из инстинктивных импульсов — не знает отрицания, «ничто» ему тоже неведомо, в бессознательном противоположности совпадают. Поэтому оно не способно воспринять значение смерти, ибо мы можем описывать смерть только в отрицательных терминах. В нас не заложен инстинкт веры в смерть. И, — добавляет Фрейд, — может быть, это и есть секрет героизма?»
Древнегреческий эпос и трагедии обеспечили Фрейда обширным словарём так называемых «символов», ключевых слов, которые помогали ему в формулировке психоаналитических концепций. Некоторые из этих символов имели вполне конкретную форму предметов искусства, и в течение жизни Фрейд собрал из них неплохую коллекцию. Занимаясь своими исследованиями сначала в Вене, а потом в Лондоне, он всегда хранил при себе множество египетских, греческих и римских фигурок и керамических изделий, «раскладывая их на любой пригодной поверхности: они стояли тесными рядами на книжных полках, ими были завалены столы и комоды, и даже рабочий стол Фрейда, чтоб он мог любовно созерцать их, сочиняя письма или научные работы»[332]. Будто бы присутствие этих знаков из прошлого помогало ему отыскать нужные слова для определения скрытых, глубинных вещей, — таких, чтобы даже бессознательное не смогло их игнорировать. Одному из своих пациентов Фрейд объяснял, как его увлечение античным миром отразилось в методе его психоаналитической практики. «Психоаналитик, как археолог при раскопках, должен раскрывать один пласт за другим в залежах сознания пациента, прежде чем добраться до самых глубоко спрятанных, самых ценных сокровищ»[333]. Но, как отметил Питер Гей, «эта веская метафора всё же отнюдь не исчерпывает значение этого пристрастия к античности»[334]. В мире гомеровских текстов Фрейд обнаружил конгломерат смыслов — динамическое, постоянно изменяющееся внутри себя сопряжение символов, движимое, как он доказывал в своих работах, напряжением и борьбой между откровением противоположностей. И, как отзвук диалога между Андромахой и Гектором в шестой песне «Илиады», звучат слова Фрейда: «Как говорит нам старинное высказывание, Si vis pacem, para bellum. Если хочешь мира, готовься к войне. Сегодня мы можем продолжить: Si vis vitam, para mortem. Если хочешь жить, готовься к смерти»[335].
Фрейд также проводил параллель между археологическими открытиями и реалиями психологии, предполагая наличие символической связи между памятью об исчезнувших цивилизациях и психологией искусства. «Всё, что нам осталось от прошлого, — размытые и отрывочные воспоминания, которые мы называем традицией, и это имеет особую привлекательность для художника, ибо в таком случае он свободен заполнять лакуны памяти, следуя своим желаниями и воображению»[336]. Резюмируя «археологический» метод Фрейда, — его психоанализ (с чем спорил один из его наиболее одарённых последователей) сталкивает нас «с бездной хаоса внутри нас самих» и вынуждает нас к «невероятно сложному заданию укротить и подчинить контролю этот хаос»[337].
Карл Густав Юнг подкорректировал и смягчил этот метод, названный им «методом редукции». По мнению Юнга, «те присутствующие в сознании элементы, которые могут стать проводником к бессознательному, Фрейд неверно называл символами. Это не есть символы в подлинном смысле слова, в теории Фрейда они скорее играли роль знаков или симптомов процесса сублимации. Настоящий же символ должен быть понят как интуитивное выражение какой-либо идеи, когда её нельзя сформулировать или выразить никаким другим способом»[338]. Согласно Юнгу, «подлинных и истинных символов», отражающих идеи во всей сложности и противоречивости их полноты, совсем немного. К таким символам можно причислить метафоры Платона или притчи Христа. И Гомер, обладавший интуицией символического, не закончил «Илиаду» бессодержательным, по сути, образом смерти. В заключительных строфах он слил воедино скорбь побеждённых и скорбь победителей, и этот поразительный образ вызывает в нас чувство догадки об идее, заключённой в нём. Можно ли выразить эту идею лучше?
Позволяя старику Приаму забрать останки Гектора, Ахиллес сначала приказывает рабыне омыть и умастить его тело, чтобы отец не увидел тело своего сына преданным позору. А потом Ахиллес собственными руками поднимает Гектора и укладывает его на носилки, взывая при этом к своему возлюбленному другу Патроклу, за смерть которого он отомстил, убив Гектора:
Храбрый Патрокл! Не ропщи на меня ты, ежели слышишь В мрачном Аиде, что я знаменитого Гектора тело Выдал отцу: не презренными он заплатил мне дарами; В жертву от них и тебе принесу я достойную долю[339].В 1908 году английский поэт Роберт Брук попытался сблизить символическое (или «поэтическое») и историческое (или «реалистическое») прочтения Гомера в сонете из двух частей. Он задумал этот сонет как воображаемый финал «Илиады». Несмотря на то, что Брук вовсе не был так предан военному делу (хотя умер всё же на пути к месту сражения в Дарданеллах в 1915 году, от заражения крови), он вошёл в историю как военный поэт благодаря знаменитым первым строчкам его стихотворения «Солдат», написанного в год его смерти: «И если я умру, то думай обо мне, / что где-то там, в чужом краю, есть уголок земли, / что вечно будет Англией».
А вот тот самый сонет, «Менелай и Елена»:
I
В горячке победитель Менелай ворвался В дворец Приамов, чтоб мечом насытить и забыть Десятилетнюю к неверной ненависть. Через руины, трупы, дым он пробирался — Неумолим, решителен, жесток — К покоям внутренним: и вот Он пред дверями спальни ненавистной предстаёт. Пылающий как разъярённый бог. Но в спальне одна, с безмятежностью грезящей девы. На ложе высоком прекрасная дремлет Елена… Как мог позабыть он изгиб её шеи желанной? Он меч уронил, вдруг охвачен усталостью странной. И целовал её стопы, встав перед ней на колени — Преданный рыцарь подле своей королевы.II
А что же дальше? Пой, поэт! Про путь домой, про долгие супружеские годы, Про то, как мучили Елену роды: Уж так положено в законном браке — чадо за другим! Как был порою Менелай невыносим, Когда он пьяный хвастал и болтал, Что сотню Трой в былые годы осаждал: Как стала некрасивою Елена, Менелай — бессильным и глухим. Он часто думает — и что он делал в Трое? И как Парис мог соблазниться на такое? Елена часто плачет, вороша былое, Сухие губы шепчут имя дорогое… Так и живут — старик ворчит, Елена причитает. А что Парис? — Парис спокойно почивает[340].Гомер как история
…Но там, где стены Илиона я искал, Пасётся мирная овца и черепаха проползает. Лорд Байрон, «Дон Жуан»Генрих Шлиман, археолог-любитель, умерший в тот же год, что и Ницше, считал «Илиаду» не только уникальным поэтическим произведением, но и историческим документом. Хотя он был склонен считать Гомера реальной личностью, всё же подлинность его существования интересовала Шлимана гораздо меньше, чем фактическая подлинность содержания его поэм. Шлиман был уверен, что если правильно дешифровать книги Гомера, то окажется, что порождение поэтического воображения может указать нам точный путь к реальному местоположению Трои!
По словам самого Шлимана (хотя, как он сам признавался, у него была склонность привирать и преувеличивать), его страстное увлечение Гомером началось в раннем детстве, когда отец рассказывал ему перед сном о приключениях гомеровских героев. Эти истории настолько поразили воображение мальчика, что однажды на Рождество, когда ему было десять, он подарил своему отцу «плохо написанное сочинение на латыни о главных событиях троянской войны и приключениях Улисса и Агамемнона»[341]. Но семья не могла обеспечить учёбу мальчика в колледже, и вместо этого в возрасте четырнадцати лет его отдали в ученики к деревенскому бакалейщику, где он быстро позабыл большую часть из того, что учил дома.
Одной из самых ярких личностей в деревне, где жил Шлиман, был молодой человек, работавший подмастерьем у мельника, — он изучал когда-то классические дисциплины, но потом стал жалким пьяницей. Ходили слухи, что он был исключён из школы за плохое поведение, и его отец — протестантский священник — в наказание заставил его учиться мельничному делу. В отчаянии молодой человек стал выпивать, но, однако, не забыл о Гомере. Однажды вечером пьяный мельник, пошатываясь, зашёл в лавку, где работал Шлиман, и, к величайшему удивлению мальчика, прочитал добрую сотню строк на древнегреческом, выразительно и ритмично. Шлиман не понял ни единого слова, но музыкальность этих стихов настолько впечатлила его, что он расплакался и просил молодого человека повторять их снова и снова, в качестве платы подливая ему в стакан бренди. «С того самого момента, — признавался он, — я постоянно прославляю Бога, по чьей высочайшей милости я до сих пор имею счастье изучать историю и культуру Греции»[342].
Болезнь лёгких не позволила Шлиману продолжать работу в бакалее, и в поисках новой работы он отправился в Гамбург, где нашёл место дневального на судне, отправляющемся в Венесуэлу. Во время шторма судно село на мель у берегов Голландии, и Шлиман, полагаясь на милость судьбы, объявил, что будет жить в Голландии. Так он обосновался в Амстердаме и стал зарабатывать на жизнь делопроизводством. Он решил изучать языки и довольно быстро и успешно овладел английским, французским, голландским, испанским, итальянским, португальским и русским, но только в 1856 году, уже в возрасте тридцати четырёх лет, он с жаром окунулся в изучение греческого. Но через некоторое время удача в делах покинула его, и количество выгодных деловых предложений резко сократилось. Перечисляя свои многочисленные приключения, Шлиман не уточнял, что это были за выгодные деловые предложения, но из его обширной переписки выяснилось, что он был замешан в различных противозаконных предприятиях: торговле селитрой для оружейного пороха во время Крымской войны, скупке золота у калифорнийских золотоискателей в период золотой лихорадки, скупке и продаже хлопка во время гражданской войны в Америке[343]. Наконец разбогатев, Шлиман смог позволить себе осуществить свою мечту — отправиться в Грецию и исследовать места, воспетые Гомером. В этом он был на удивление удачлив. В 1873 году, используя «Илиаду» в качестве путеводителя, Шлиману удалось отыскать и раскопать легендарный город Трою под небольшим городком Хиссарлик, на северо-западе современной Турции — причём не один, а целых девять пластов троянских городов.
Открытие было поистине фантастическим. Однако, хотя сам он уверял в обратном, Шлиман не сразу нашёл верное местоположение Трои. Со времён семнадцатого века почитатели Гомера мечтали о возможности найти «Город царя Приама о шести вратах», как называл его Шекспир в драме «Тройлий и Крессида». Джон Сандерсон, посол королевы Елизаветы, писал, что он дважды пытался отправиться на поиски Трои, первый раз в 1584, а затем в 1591 годах, но, увы, безуспешно. На протяжении восемнадцатого и девятнадцатого столетий поиски время от времени возобновлялись. В 1769 году Роберт Вуд опубликовал книгу под названием «Размышление о творческом гении Гомера». Там не было точных указаний на место расположения города, но описывались возможные топографических изменения, которые могли произойти со времён Гомера[344]. Как мы знаем теперь, эта информация была вполне достоверной. Пятьдесят лет спустя археолог- теоретик Чарльз Макларен справедливо предположил, что Троя могла находиться в Хиссарлике, а первые серьёзные раскопки на этом месте начал Фрэнк Калверт, английский учёный, проживший всю свою жизнь в Турции. Поначалу Шлиман считал, что Троя находится в другом месте, но в итоге согласился с мнением Калверта, и они начали раскопки вместе.
Однако вскоре Калверт и Шлиман потерпели неудачу. Калверт публично выразил мнение, что между доисторическим периодом существования города и так называемым архаическим периодом приблизительно 700 года до н. э. существует значительный разрыв. Другими словами, не было никаких свидетельств жестоких и бурных событий, произошедших около 1200 года до н. э., — то есть ничто не могло подтвердить сам факт троянской войны. Шлиман был в ярости. Он обвинял Калверта в том, что тот «подлый злодей… клеветник и лжец». Несколько недель спустя Шлиман нашёл подтверждение своим собственным догадкам. 31 мая 1873 года он выяснил, что именно в том пласте, из-за которого случился раздор, была скрыта гомеровская Троя, хранившая несметные сокровища. Там нашли огромные медные чаши, полные золота, серебряные чаши и вазы, медные наконечники копий и изумительную коллекцию золотых украшений: кольца, браслеты, серьги, диадемы и повязку на голову, усыпанную драгоценностями. Фотография, запечатлевшая триумф дерзкого дилетанта, стала впоследствии очень знаменитой. На ней — его красавица жена София Шлиман, облачённая в «украшения Прекрасной Елены»[345]. Хотя эти сокровища учёные относят прямо к эпохе гомеровской Трои, Шлиман собирал их в течение долгих недель, в разных местах, и только потом их собрали воедино, чтобы убедиться, что они являются частями целого. К сожалению, с тех пор как фрагменты неизвестным образом исчезли в Берлине в 1945 году, дальнейшее их изучение стало невозможным. Всё, что сохранилось сегодня от легендарного золота Трои, — это пара золотых серег, ожерелье, несколько колец и пара пряжек, выставленных сегодня в Археологическом музее в Стамбуле.
Профессиональные археологи и учёные были в ярости от дерзости Шлимана и пытались помешать организованным им раскопкам. Мэтью Арнольд, к примеру, обозвал его «нахальным дилетантом». А востоковед Джозеф-Артур де Гобинье сказал, что он просто-напросто шарлатан. Эрнст Кертис, участвовавший в раскопках Олимпии, окрестил его мошенником. Так или иначе, открытие Шлимана вызвало бурные дискуссии в учёных кругах. С одной стороны, академики были возмущены наглым вторжением невежд в их профессиональную сферу, но с другой стороны, это открытие не могло не затронуть все области гуманитарного знания, оно показало, что «чистая поэзия» может быть не просто плодом воображения, но и отображать историческую действительность. Наиболее серьёзное критическое возражение состояло в том, что «Илиада» и «Одиссея» были созданы спустя века после героической эпохи Греции, а те доклассические, далёкие и смутные времена недостижимы для университетских штудий. Наконец, учёные поставили под вопрос, является ли Троя, найденная Шлиманом, той самой гомеровской Троей. Как мы знаем сегодня, «та самая» Троя — это пласт раскопок, названный Троя VIIa.
Остаётся только признать, что в сравнении с головокружительной смелостью предприятия Шлимана вся эта академическая критика больше похожа на пустые пререкания в адрес кого-то, кто обнаружил кроличью нору, ведущую в Страну Чудес, и упрёки счастливцу за то, что это не есть именно тот вход, через который Алиса сама спустилась. Но Шлиман был непоколебим. Он именовал найденные им руины «Троя — город, осаждённый Агамемноном», а драгоценности — «сокровища царя Приама». Шлиман писал, что они были «названы согласно той традиции, которая звучит у Гомера; и до тех пор, пока не докажут, что Гомер ошибался, и последнего царя Трои звали Смит, я буду называть свои находки именно таким образом»[346].
Что бы ни утверждали учёные критики, в глазах общественности Шлиман стал героем, открывшим осязаемую реальность мира, который до него принадлежал лишь реальности поэтических образов.
Мадам Гомер
Если (критик Десмонд Маккарти) искренне желает найти великую поэтессу, почему же он исключает такую возможность, что автором «Одиссеи» могла быть женщина? Насколько мне известно, Сапфо была женщиной, и, однако, Платон с Аристотелем ставили её в один ряд с величайшими поэтами Гомером и Архилохом.
Вирджиния Вульф, «Интеллектуальный статус женщины»Через двадцать пять лет после раскопок Шлимана, в 1897 году, Сэмюэль Батлер опубликовал в Лондоне брошюру под названием «Женщина, автор «Одиссеи»: кто она, когда и где она писала»[347]. Сын священника и внук епископа, Батлер пробовал свои силы в разных областях деятельности, и по большей части успешно, от фермера-овцевода в Новой Зеландии (кстати, этот опыт дал ему возможность написать фантастическое произведение-утопию «Иерихон») до художника, теолога, поэта, учёного, музыканта, антиковеда и писателя. Лучшая из его литературных работ «Путь всего сущего» была опубликована посмертно, в 1903 году. Батлер полагал, что если внимательно читать «Одиссею», то можно прийти к догадке, что её автором является не слепой умудрённый муж, а юная девица, к тому же, уроженка Сицилии. По его предположениям, она жила приблизительно между 1050 и 1000 годами до н. э. и до создания «Одиссеи» или во время работы над ней читала «Илиаду» Гомера, поэтому могла время от времени приводить из неё «вольные цитаты». Батлер отверг теорию Вирджинии Вулф о том, что над этими произведениями работал целый коллектив соавторов, и насмехался, называя её идеи «экстравагантным гомерическим кошмаром, который немецкие профессоры вытащили на свет из глубин подсознания». Но всё же признавал, что та «Одиссея», которую мы знаем сегодня, была составлена из двух разных поэм с разными сюжетами. На вопрос об основаниях его теории Батлер беспечно отвечал, что главным её источником является комментарий, прочитанный им при беглом осмотре одного из трудов филолога-классика Ричарда Бентли (который, кстати, в пух и прах раскритиковал и отверг перевод Поупа), где отмечалось, что «Илиада» была написана для мужчин, а «Одиссея» — для женщин. Батлер упорно отрицал единогласное мнение учёной общественности, что «Одиссея», несомненно, «была написана для любого, готового слушать», и приводил другие аргументы. Например, «если анонимная книга вызывает у критиков предположения, что она была написана для женщин, то невольно закрадывается мысль, и как правило, справедливая, что эта книга и написана была тоже женщиной».
Эта идея возникла у Батлера в 1886 году, в то время, когда он писал либретто (и частично музыку) для светской оратории, основанной на историях странствий Улисса. Для этой цели Батлер решил перечитать поэму «Одиссея» в оригинале, чего уже не делал много лет. «Как и в первый раз, я был восхищён лёгкостью слога и небывалой, зачаровывающей прелестью сюжета, но у меня появилось смутное чувство: что-то было не так, что-то ускользало от меня, оставалось загадкой, которую я никак не мог разгадать. Чем больше я размышлял над словами, на первый взгляд такими понятными и простыми, тем больше я чувствовал скрытую за ними тайну, которую я должен был раскрыть, чтобы познать, что было на сердце у автора; я стремился к этому, ибо самое интересное в искусстве — то, как в нём раскрывается личность творца».
Следуя своим интуициям, Батлер обнаружил в тексте «Одиссеи» факты, подтверждающие его догадки. Например, он нашёл в поэме неточности, которые, по его мнению, «легко могла допустить молодая девушка, но вряд ли мужчина». Вот некоторые примеры из составленного им списка таких ошибок: уверенность в том, что у корабля два руля, спереди и сзади (в песне девятой), что добротный строевой материал для судна можно получить из растущих деревьев (песнь пятая), что ястреб расправляется со своей жертвой на лету (песнь пятнадцатая). Кроме того, опираясь на текст, он составил подробную схему дворца Улисса и доказал тем самым, что только женщина могла бы так точно описать расположение комнат и их интерьер, а некоторые другие описания были явно составлены с трудом. Также только женщина без колебания может «слегка переместить ворота», чтобы приукрасить свой рассказ. И наконец, «Когда Улисс и Пенелопа отправляются в постель и рассказывают друг другу свои истории, Пенелопа рассказывает первой. Я же полагаю, что если бы эту поэму писал мужчина, то он бы сначала дал слово Улиссу, а потом Пенелопе»[348].
Ещё Батлер задумывался о проблеме, над которой с самых ранних времён бились все учёные комментаторы Гомера: что описанная Улиссом Итака не соответствует в точности ни одному из известных островов Греции.
В солнечносветлой Итаке живу я; там Нерион, всюду Видимый с моря, подъемлет вершину лесистую; много Там и других островов, недалёких один от другого: Зам, и Дулихий, и лесом богатый Закинф; и на самом Западе плоско лежит окружённая морем Итака, Прочие ж ближе к пределу, где Эос и Гелиос всходят[349].Эти топографические ссылки точно и красочно описывают Итаку, но они нисколько не соотносятся с тем островом Итака, который знаем сегодня. Существует довольно распространённое предположение, что, сочиняя свою поэму где-то в Малой Азии, автор никогда не видел дворец Улисса и просто придумал его или же был введён кем-то в заблуждение. Недавно была выдвинута теория, что на самом деле Итака когда-то была островом, но впоследствии стала частью материка, и сейчас это место известно как Палики — самая западная точка Кефалонии[350]. Батлер предположил, что во времена Гомера Итакой назывался совсем другой остров, расположенный вблизи Сицилии, скорее всего, неподалёку от Трапани. Батлер решил, что «недалёкий и покрытый горами остров Мареттимо»[351]является наиболее подходящим по описанию.
Историки отвечали на книжку Батлера презрительным молчанием или только крутили у виска. В 1956 году американский историк Мозес Финли упрекал Батлера в том, что тот пытался судить об античном произведении, как если бы «создатель (или создательница) «Одиссеи» жил в его время — Викторианскую эпоху, и характеры героев в поэме были схожи с душевной организацией его современников»[352]. Эта критика была вполне справедливой. Но несмотря на то, что теория Батлера была странной и неубедительной, она определённым образом повлияла на отношение многих писателей двадцатого века к античной литературе. Вместо того чтобы смотреть на тексты как на священную вершину, которую читатели никогда не смогут по-настоящему достичь, но живут у её склонов, в её тени (как видел это, например, Гёте)[353], Батлер предоставляет нам равнину, на просторах которой текст и читатель тоже равны; где читатель может свободно войти в пространство текста и оказывать влияние на него, давая героям и предметам новые имена и формы, изменяя его в бесконечном процессе обновления. Конечно, Батлер не был изобретателем такого подхода, но без зазрения совести, даже с удовольствием присвоил его. Впрочем, Батлер никогда не страдал от неуверенности в себе. Однажды в разговоре со своим другом Уильямом Баллардом он упомянул в качестве примера, что в тот момент, когда Персей пришёл освободить Андромеду, дракон чувствовал себя как нельзя лучше, пребывая в отличном здравии и боевом духе, и выглядел просто замечательно. Баллард ответил, что хотел бы, чтоб этот факт был упомянут поэтами. Батлер с укором посмотрел на него и произнёс: «Баллард, я ведь тоже “поэт”»[354].
В 1932 году Т. Э. Лоуренс в той же ироничной манере воображал Гомера (Гомера как автора «Одиссеи», потому что, как и Батлер, считал, что у «Илиады» был совсем другой автор) не прекрасной молодой сицилийской леди, а старым английским джентльменом. «Книжный червь, не молод, живёт на средства от доходного дома, замкнут, коренной житель города и домосед. Женат, но уже не впервые, любит собак, часто голоден и испытывает жажду, темноволос. Увлекается поэзией, большой ценитель «Илиады», в суждениях полагается не на чувственные интуиции, но на точный строгий взгляд. Ценитель всяческого антикварного барахла, хотя в этом он, как Вальтер Скотт, разбирается мало… Он любит деревенские пейзажи, как их может любить только горожанин. Он, конечно, не фермер, но знает, каким должно быть хорошее оливковое дерево. Когда жизнь бросает вызов, он отдаётся воле случая; но никогда не видел умирающих на поле боя. Плывя по морю, он всматривается в морскую даль с благоговением и трепетом, ведь мореплавание — не его стихия. Слегка увлекается охотой, видел диких кабанов в прерии и слышал дикий пронзительный львиный рёв… Он очень начитан, этот домосед. Его работы предназначены узкому кругу тонких ценителей литературы. Его записи изобилуют витиеватыми замечаниями, и он вставляет их в свои истории при любом мало-мальски удобном случае. Его, как Уильяма Морриса, эпоха привела к легенде, в которой люди беззаботно жили под небесами божьей благодати. Только, несмотря на то, что у него больше витиеватых слов, чем у Морриса, у него было меньше поэзии»[355].
Вслед за Батлером и Лоуренсом появились другие писатели, которые попытались завязать с миром Гомера близкие дружеские отношения. Современная писательница Маргарет Этвуд, возможно, под влиянием Батлера попыталась взглянуть на повествование о возвращении Улисса с точки зрения Пенелопы и её служанок[356]. В двадцать второй песне «Одиссеи», после того как Улисс убивает Антония, одного из двух главных поклонников Пенелопы, он разоблачает себя перед изумлённой публикой и начинает убивать непрошенных гостей одного за другим; в этом ему помогают Телемах, свинопас Евмей и пастух Филойтий. Козопас Меланфий пытается вооружить оставшихся в живых женихов, но его план вскоре раскрывают, а потом пытают до смерти.
Увернувшись от стрел, сам Улисс облачается в доспехи и расправляется с остальными соперниками копьём и мечом, а потом казнит двенадцать служанок, ставших их любовницами. После этой резни Улисс очищает дворец, особенно столовую и двор, окуривая их серой. Однако Этвуд нашла эту историю неудовлетворительной. По её словам, «остаются, по крайней мере, два вопроса, которые возникают после внимательного прочтения «Одиссеи»: почему повесили служанок и что было на уме у самой Пенелопы? Этой истории явно не хватает подробностей, и в ней слишком много противоречий»[357].
По мнению Батлера все эти «противоречия» были прямым доказательством того, что Гомер был женщиной. «Читатели оказали бы огромную услугу поэтам и писателям, воспринимая на ура все плоды их творчества, но мы всегда склонны к подозрениям и критике, так как хотим быть уверены, что автор не водит нас за нос». А сцена убийства женихов и повешения служанок, по мнению Батлера, раскрывает, что автор идентифицирует себя с Пенелопой (как, впрочем, и с Навсикаей — в другом эпизоде). «Её не волнует, насколько тяжело будет для читателя пытаться верить ей: единственное, о чём она думает — это месть. Ей нужно, чтобы все ухажёры были зверски убиты, и все провинившиеся женщины повешены, и чтоб Меланфия жестоко пытали, разрезая на куски! Всё, месть достигнута, и читателя вовсе не нужно посвящать в тонкости причинно-следственных связей этой истории»[358].
Этвуд не находит разворот событий непонятным или непоследовательным, но её не удовлетворяет сама история. По её мнению, Пенелопа допустила убийство служанок в результате ужасной ошибки. Когда Улисс просит няню Евриклею выбрать для казни двенадцать из пятидесяти домашних прислужниц, она, не зная замысла Пенелопы, выбирает двенадцать тех верных, поведение которых было продиктовано приказом Пенелопы войти в доверие к мужчинам и шпионить за ними. А что если няня знала о плане Пенелопы и всё равно указала на невинных девушек, только чтобы уверить Улисса в своей любви и преданности?[359]
Какой бы ни была причина, двенадцать девушек убиты как «дрозды длиннокрылые или как голуби, в сети / Целою стаей — летя на ночлег свой — попавшие»[360] (по трогательному описанию Гомера), и эта сцена не может не взывать читателей к различным ассоциациям с историческими событиями, говорит Этвуд. Она сама связывает с этой сценой современные явления массового насилия в отношении женщин, гонимых собственным народом — как это случилось в Боснии, Руанде, Дарфуре и при многих других конфликтах. Если, как предполагает Батлер, автором «Одиссеи» была женщина, то она несомненно остро осознавала бы то, что насилие над женщинами сопутствует любой войне, так же как ярость, месть, грабежи. По видению Этвуд, вина за убийство девушек лежит на Улиссе как вечное проклятие, Улисс гоним им и готов отправиться куда угодно и стать кем угодно, лишь бы получить избавление. И, между прочим, этот образ проклятого Улисса перекликается с Данте и Теннисоном.
Читатели, видимо, так никогда и не поймут до конца, — на самом ли деле Батлер верил в свою теорию или просто разыгрывал их. Если это был розыгрыш — значит, Батлер явно недооценивал проницательность своих читателей. Однажды он рассказал о своём открытии леди Ритчи, старшей дочери Уильяма Теккерея, — и она ответила ему, что и у неё в запасе есть парочка сенсационных теорий: например, что сонеты Шекспира написала Анна Хезевей. Батлер не понял шутки. Он только качал головой и бормотал: «Бедная леди, ну как же можно было сказать такую глупость…»[361]
Конечно же, и после выхода книжки Батлера гомеровский вопрос остался открытым для академической науки — был ли у «Илиады» и «Одиссеи» один автор или разные, или их было несколько, и т. д. Но нужно сказать, что в литературных кругах отношение к Гомеру стало меняться: его стали воспринимать как живого автора, с которым можно вступить в общение, а не как венценосного и недосягаемого жителя Олимпа, да и к античному наследию в целом стали относиться с большей степенью свободы, запросто присваивая или приписывая идеи. И если Батлер тоже был «поэтом», то его идентификация была обоюдосторонней, и Гомер стал (по крайней мере, в глазах Батлера) этаким античным Сэмюэлем Батлером. Редьярд Киплинг, для которого наше понимание настоящего было отражением наших знаний о прошлом, полагал, что такие отдалённые ассоциации не лишены смысла. Например, знание достоинств и недостатков Римской империи может открыть нам новый взгляд на империю королевы Виктории; чтение средневековых историй позволяет нам лучше понять современную эпоху и собственную жизнь в ней; у Горация и Шекспира писатели нового времени могут найти модели для собственных оригинальных творений.
Гомер все на свете легенды знал, И всё подходящее из старья Он, не церемонясь, перенимал, Но с блеском, — и так же делаю я. А девки с базара да люд простой И все знатоки из морской братвы Смекали: новинки-то с бородой, — Но слушали тихо — так же, как вы. Гомер был уверен: не попрекнут За это при встрече возле корчмы, А разве что дружески подмигнут, И он подмигнёт — ну, так же, как мы[362].Странствия Улисса
Мистер Гладстон читал Гомера для удовольствия, и, я думаю, это пошло ему на пользу.
Уинстон Черчилль, «Мои ранние годы»Если пристальному взгляду Гомер предстаёт персоной с тысячью лиц — необразованным бродягой, учёным джентльменом или молодой сицилийской женщиной, — то почему бы ему не быть ирландским эмигрантом? Его герои могли бы вести повседневные битвы обычного жителя Дублина; они могли бы путешествовать в лабиринте города от приключения к приключению, как воин, возвращающийся домой, или как сын в поисках отца. Они могли бы быть нашими современниками — ведь говорят, что Гомер предвидел всё, как сказал однажды немецкий поэт Дюрс Грюнбейн: «Настоящее — лишь виток для Гомера»[363]. Они могли бы чувствовать себя окружёнными вечным морем, дарящим вдохновению их поэтов свой цвет — тёмного вина или нефритовой зелени… Они могли бы пытаться быть если не хорошими (Джеймс Джойс использовал немецкое слово «gut»), то хотя бы «gutmütig» — пристойными[364].
Как и Батлер, Джойс причислял себя к этим «поэтам», и между прочим, в юности был не уверен, стоит ли принимать Гомера в их компанию. Писателю Патрику Колуму двадцатилетний ирландец заявил, что Гомер ему совершенно неинтересен, потому что у него сложилось впечатление, что его эпос был «вне традиции европейской культуры»[365]. По мнению Джойса, единственным европейским эпическим произведением была «Божественная комедия» Данте. Возможно, такой радикальный взгляд был результатом католического воспитания: большинство католических стран были подвержены сильному влиянию контрреформационной идеологии, с её глубоким недоверием ко всему греческому, о чём уже говорилось выше. В школе Джойс изучал латынь, позднее, когда он жил в Триесте, выучил несколько слов из современного греческого, но глубоко сожалел о своём незнании языка Гомера. Своему другу Фрэнку Баджену, государственному служащему из Цюриха, он сказал однажды: «Ну только подумай, разве это не тот самый мир, в который я бы в точности вписался?»[366]
Но Джойс хотел сделать больше, чем «вписаться» в него: он желал построить его заново на ирландской земле, воссоздать до последней черточки из ирландских материй. Когда Джойс жил в Триесте, он хранил у себя эссе Уильяма Батлера Йейтса, датированное 1905 годом: в нём Йейтс предположил, что пора уже кому-то из новых писателей снова посетить древний мир «Одиссеи». «Я думаю, что мы научимся снова, — писал он с провидческой мудростью, — описывать с величайшей пространностью скитания старого воина среди заколдованных островов, его возвращение домой, его медленно зреющую месть, мелькнувший силуэт богини и полёт стрел, и сделать так, чтоб все эти разнообразные вещи стали подписью или символом божественной игры воображения»[367]. Во вдохновляющем вызове Йейтса, как и в теории Вико, Джойс нашёл подтверждение своим мыслям. Его намерения подкрепил и один интересный топографический факт: «Одиссея» начинается с пребывания Улисса у Калипсо — на острове Огигия. Джойс обнаружил, что Огигия — это название, которым Плутарх в давние времена именовал Ирландию[368]. В 1937 году Джойс говорил Владимиру Набокову, что желание сделать поэму Гомера основой «Улисса» было всего лишь «прихотью». Своё сотрудничество со Стюартом Гилбертом в подборке аналогий с гомеровским текстом писатель назвал «ужасной ошибкой»[369] (Джойс удалил гомеровские названия глав до того, как книга была издана). Но присутствие Гомера в романе всё же было очевидным. Набоков предположил, что загадочный и не поддающийся однозначной идентификации «Человек в коричневом макинтоше», который время от времени появляется на страницах «Улисса», мог быть самим Джойсом, затаившимся среди собственных строк[370], или… Гомером, прибывшим посмотреть на невиданную реставрацию его миров.
Джойс не стал комментировать эти догадки, да и сам Набоков говорил, что вопрос о соотношении «Одиссеи» и «Улисса» был просто кормом для критиков. Невозможно не распознать продуманные параллели и знаки почтения, цитаты и заимствования непосредственно из Гомера или же обращённые к интерпретациям Данте и Вергилия. Но все эти ассоциации завуалированы своеобразием стиля, они «типично джойсовские», как, например, в блестящей игре с гомеровскими эпитетами в описании городских циклопов:
«Фигура, сидевшая на гигантском валуне у подножия круглой башни, являла собою широкоплечего крутогрудого мощночленного смеловзорого рыжеволосого густовеснушчатого косматобородого большеротого широконосого длинноголового низкоголосого голоколенного стальнопалого власоногого багроволицего мускулисторукого героя»[371].
(Здесь Джойс старается быть смешным и уважительным одновременно, не впадая в пародическое подражание, которым, например, забавлялся А. Е. Хаусман:
О ты, прекраснокожанообутая Глава пришельца! Как, какие поиски Кого, зачем, отколь тебя доставили В пределы наши славносоловьиные?[372])Джойс рассказывал Баджену о том, что он пишет книгу, основанную на «Одиссее», и она будет повествовать о восемнадцати часах из жизни некой «многогранной личности»[373]. Он утверждал, что такого рода личность никогда никто ещё не описывал. Всем великим персонажам — как Христос, Гамлет, Фауст — недоставало полноты опыта жизни. Он вычеркнул Христа как холостяка, который никогда не жил с женщиной, Гамлета, который был лишь сыном и никогда — мужем или отцом, и Фауста, который вовсе и не стар и не молод, без дома и без семьи, только «постоянно путался под ногами» у Мефистофеля.
Однако всё же отыскался тот, кто идеально соответствовал замыслам Джойса. Улисс был «сыном Лаэртия, отцом Телемаха, мужем Пенелопы, любовником Калипсо, собратом по оружию греческим воинам под Троей и царём Итаки. Он подвергся многим испытаниям, и во всех проявил мудрость и храбрость[374]. Кроме того, хотя Улисс проявил воинскую доблесть на поле боя, был момент, когда он также пытался улизнуть от участия в войне, притворяясь сумасшедшим. Улисс вспахивал своё поле на осле и быке в одной упряжке, но его обман был раскрыт военачальником, положившим младенца Телемаха перед плугом. Интересно, что этот эпизод как бы зеркально отражает историю, в которой мать Ахиллеса, стремясь защитить сына от опасности быть убитым на войне, прячет его среди женщин. Его распознаёт Улисс, когда переодетый женщиной герой выбирает в подарок щит и копьё вместо украшений[375].
Улисс и в самом деле один из самых сложных персонажей в поэмах Гомера. В «Илиаде» он — осторожный, рассудительный воин, талантливый дипломат, способный уговорить Ахиллеса принять предложение Агамемнона примириться, и мастер риторики, применяющий действенный трюк — прикидываться простаком, чтоб потом удивить своих слушателей. Старый советник Приама Антенор рассказывает, как Улисс говорил перед публикой, вначале холодно потупив глаза к земле, а потом вдруг разразившись речью:
Могли б вы подумать, что угрюм он, иль просто неумён, Но когда из груди испускал он могучий свой голос, И слова громогласные рушились, как лавины в снежную бурю, То из смертных никто б не осмелился соперником быть Одиссею![376]Цитируя это описание, мексиканский критик Альфонсо Рейес предположил, что незаурядный интеллект, ловкий и быстрый ум Улисса делали его опасным в глазах власть имущих. Один южноамериканский дипломат рассказал Рейесу, что когда бы он ни возвращался в свою страну, ему казалось, что диктатор думает про него: «Этому человеку нельзя доверять, он слишком правильно говорит»[377].
В «Одиссее» образ Улисса подобен фигуре трикстера в фольклорных рассказах: хитроумный и изворотливый, он остаётся в живых только благодаря незаурядной сообразительности. Но он никогда не обманывает злонамеренно: например, когда в песне одиннадцатой Улисс говорит циклопам, что его зовут Никто, он лжёт — но это лишь необходимая предосторожность от опасных существ. Он также и не изменяет умышленно: он на самом деле любит Пенелопу и становится любовником Цирцеи и Калипсо вовсе не по своей воле, но потому что чары богинь сильнее воли смертного (когда царевна Навсикая намекает о своём влечении, он вежливо отклоняет её притязания).
Однако когда история Улисса стала известна в Риме, восприятие его характера претерпело значительные изменения. Он стал беспринципным, тщеславным персонажем, ассоциировавшимся в римском сознании с хитроумными и проворными левантийскими греками, против которых у римлян, конечно же, были глубокие предубеждения[378]. Вергилий изобразил Улисса бессердечным разбойником, типа греческого Мориарти, «этакого мастера искусных преступлений»[379]. Но в европейскую литературу Улисс вошёл как личность третьего толка. Данте приговаривает Улисса вместе с его соратником Диомедом к восьмому кругу Ада, в котором лукавые советчики (те кто советовал другим воровать и обманывать, то есть духовные воры) корчатся, окружённые вечным пламенем: алчное вожделение, которое пожирало их изнутри, теперь пожирает их снаружи, и если в жизни они использовали язык, чтобы другие горели от жадности, то теперь языки пламени сжигают их. И здесь Данте интуитивно заставляет Улисса исполнить пророчество, поведанное ему Тиресием в царстве мёртвых, о котором Данте не знал, потому что не был знаком с греческим текстом. Предсказатель Тиресий возвещает не о том, что случится неизбежно, но о том, что может случиться: даже в предвиденном будущем всегда есть несколько возможностей, и исход зависит от выбора героя. Тиресий говорит Улиссу, что если тот выполнит определённые условия, то достигнет Итаки и покончит с женихами Пенелопы, но вот остаться дома ему не суждено. Улисс будет чувствовать непреодолимое стремление «странствовать снова»[380] и предпринять последнее, роковое путешествие. Описание последнего странствия Улисса — один из самых красивых поэтических фрагментов, когда-либо написанных Данте, и этим строкам на итальянском не может уподобиться ни один английский перевод[381].
По прошествии более чем шести веков Альфред Теннисон написал решительные, вдохновляющие строки, которые в чём-то перекликаются с описанием Данте. Это стихотворение заканчивается так:
У старости остались честь и долг. Смерть скроет всё: но до конца успеем Мы подвиг благородный совершить, Людей, с богами бившихся, достойный. На скалах понемногу меркнет отблеск: день Уходит: медлительно ползёт луна: многоголосые Глубины стонут. В путь, друзья, Ещё не поздно новый мир искать. Садитесь и отталкивайтесь смело От волн бушующих: цель — на закат И далее, туда, где тонут звёзды На западе, покуда не умру. Быть может, нас течения утопят: Быть может, доплывём до Островов Счастливых, где вновь встретим Ахиллеса. Уходит многое, но многое пребудет: Хоть нет у нас той силы, что играла В былые дни и небом и землёю, Собой остались мы: сердца героев Изношены годами и судьбой, Но воля непреклонно нас зовёт Бороться и искать, найти и не сдаваться[382].Теннисон, увлекавшийся изучением античной литературы в Кембридже, возвращает приговорённого Данте Улисса к истоку, к образам гомеровской поэмы. В этом фрагменте «неустанный странник» Улисс уже не воспринимается в роли бродяги-авантюриста, но снова почитаем как герой. «Я обрёл имя» — говорит он, подводя итоги своего долгого пути-становления от едва оставшегося в живых солдата, который называл себя «Никто», до возвратившегося царя, вновь жаждущего морских походов.
Современный греческий писатель Никос Казандзакис создал свою поэтическую версию «Одиссеи», в которой характер Улисса напоминает героический образ, созданный Теннисоном. Улисс Казандзакиса — странник, ищущий самопознания, примеряющий себя ко всему, что встречается на его пути, но так и не обретающий себя окончательно. Он царь, воин, любовник, злополучный первооткрыватель утопической страны в Африке, — но в своих предприятиях он никогда не достигает успеха. Для этого Улисса поражения важны как приобретённый опыт, познание. Обстоятельства его гибели напоминают смерть другого известного литературе персонажа, тоже «составленного из частей» — это монстр Франкенштейна, который заканчивает свои дни в ледяной пустыне Арктики. Улисс Казандзакиса выброшен на ледяной берег Антарктиды, и его последние слова звучат эхом строк из «Божественной комедии»:
И растаяла плоть, замёрзло сияние взгляда, биение сердца застыло; миг — и разум на пике свободы святой, на волнах невесомых крыл взметнулся сквозь воздух ввысь, парил высоко и вольно. И свобода — не последний предел, и её он оставил. Рассеялись вещи, как лёгкая дымка поблекли, последний крик пронёсся дерзко над ночной водой: «Братья, вперёд, продолжайте же плыть, ибо ветер доносит дыхание смерти!»[383]Южно-американский современник Теннисона, аргентинец Хосе Эрнандес, сочинил в 1872 году эпическую поэму, герой которой, бродячий пастух по имени Мартин Фьерро, уклоняющийся от военной службы, как пытался в своё время и Улисс. Компаньон Фьерро в его приключениях — сержант Круз. Он, подобно Диомеду, столкнувшемуся с храбрым Главком в «Илиаде», отказывается сражаться с Фьерро и становится его близким другом[384]. Моральные качества Фьерро, конечно, далеки от доблести гомеровского царя, и ближе скорее к прохиндею Вергилия или грешнику Данте. Миром Фьерро правит хитрость и грубая сила. Вот чему поучает циничный старый гаучо (Эрнандес называет его «старый вымогатель»):
Тому, кто в дружбу втёрся к самому судье, Уж нет причин не радым быть судьбе, И если тип такой надумает шалить — Другим придётся присмиреть, и голову склонить. Благое дело — завсегда иметь Такую печь, чтоб голый тыл пригреть[385]юДжойсовская версия царя Итаки — дублинский еврей Леопольд Блум. Он не похож ни на славного героя Теннисона, ни на искателя приключений Данте, но в его характере есть что-то и от того, и от другого. Так как Блум — еврей, его можно назвать эмигрантом по отношению к коренным ирландцам, он пребывает как бы и внутри, и снаружи ирландских реалий. Но подобное мироощущение присуще всем художественным натурам, и эти переживания были знакомы самому Джойсу. Еврейство Блума приближает его к другому Улиссу — Вечному Жиду средневековых легенд. В 1902—1903 годах Виктор Берар, один из самых оригинальных французских знатоков античности, опубликовал в двух массивных томах свой академический труд «Финикийцы и Одиссей»[386]. В нём Берар разработал теорию, что поэма Гомера имела семитские корни, а все географические названия в ней принадлежали реальным местам, которые можно идентифицировать, найдя эквивалентное слово на иврите. Например, Гомер называет остров Цирцеи либо просто «Несос Киркес» либо «Айайа». Слово «Айайа» не имеет значения в греческом, но на иврите это означает «остров Ше-Хаук» — что обратно на греческий переводится как раз «Несос Киркес» — «Остров Цирцеи»![387] Берар полагал, что сам Гомер был эллином, но так как лучшими мореплавателями в античном мире считались финикийцы, он сделал своего морехода Улисса финикийцем, то есть, по сути, приписал ему семитское происхождение. Без исследования тонкостей различия между семитскими народами Джойс оправдал теорию Берара своим Улиссом-Блумом как смягчённой версией средневекового Вечного Жида (Бык Маллиган так и называет Блума в романе[388]), по легенде именуемого Картафил или Агасфер. Джойсу была хорошо знакома эта история: она была пересказана в романе Эжена Сю, и Джойс прочёл его ещё до того как покинул Ирландию в 1904 году. По легенде, когда Христос нёс крест на Голгофу, он приостановился, проходя мимо дома Агасфера, и тот крикнул ему «Иди, что ты медлишь?» На что Христос ответил: «Я пойду, но и ты будешь бродить до моего возвращения»[389]. С этим пророчеством перекликается проклятие Посейдона, который предрекает Улиссу участь скитаться «по морю вечно гоняя»[390].
«Улисс» Джеймса Джойса — не интерпретация Гомера, не пересказ и уж точно не пародийная стилизация. Как писал ещё в 1765 году Сэмюэль Джонсон, «пифагорейские числа были открыты в своём совершенстве раз и навсегда; но поэмы Гомера не исчерпывают возможности человеческого разума. Мы способны на большее, чем просто передавать из поколения в поколение его истории, лишь давая новые имена его героям и перифразируя выражения. Обращение к возникшим в древности текстам — это не следствие простодушной уверенности в превосходящей мудрости прошлых веков или мрачных убеждений в деградации человечества, но результат сознательной и непоколебимой веры в то, что темы, дольше всего существующие и остающиеся актуальными, должны быть и обдуманы лучше всего»[391]. Джойс сделал больше, чем понял Гомера: он вообразил заново историю изначального путешествия, как если бы его заново предпринимал каждый человек в каждой эпохе. И по сути то, что объединяет Улисса и Блума, — это отражение связующей силы между Гомером и самим Джойсом, и в близости произведений отражается близость их создателей. Другие познавали Гомера через пристальное изучение, переводы, переложения, истолкования. Джойс же начал творить вместе ним, с самого начала.
Гомер в отражениях
Ни одна из античных поэм не посвящена мыльным пузырям.
Льюис Кэрролл, «Символическая логика»Каждая эпоха воссоздаёт античные тексты в присущей ей манере выражения. В 1954 году итальянский писатель Альберто Моравиа отметил, что в послевоенном мире сюжеты Гомера перевоплотили в «чисто популярное зрелище», то есть — фильмы. В его романе «Презрение» рассказчик ассоциирует различные сцены из «Одиссеи» с кинематографическими эпизодами, которые он видел: подглядывание Улисса за Навсикаей у воды становится шоу «Красотки в купальне», Циклопы — это Кинг-Конг, Цирцея — это Антинея в фильме «Атлантида» 1932 года Вильгельма Пабста.
За три года до начала Второй мировой войны, «чисто популярным зрелищем» был театр, и античные сюжеты зачастую служили основой для современных постановок. Жан Жироду — писатель, официальный представитель от мира культуры во французском министерстве иностранных дел, фаворит фашистского периодического издания «Патриот» и поклонник немецкого языка и литературы часто использовал гомеровские истории в своих драмах. Несмотря на то, что в военное время его политические взгляды были неоднозначны, после войны его почитали как патриота, и его работа была включена, например, в антологию литературы Сопротивления 1947 года[392]. Его двухактная пьеса «Троянская война не начнётся», иногда в переводах также называемая «Тигр и Ворота» — одна из самых известных французских драм XX века. Она была написана в 1935 году, когда Гитлер обнародовал антисемитские законы в Нюрнберге, и во Франции была основана фашистская организация «Огненные кресты». Сам Жироду не считал эту пьесу чем-то выдающимся, воспринимал её просто как прелюдию к полной постановке «Илиады», действие которой разворачивается во времена «когда её герои ещё не стали легендой»[393] и адресованной особой публике (Афинского театра Луиса Жувета в Париже), предположительно знакомой с античными произведениями.
«Троянская война не начнётся», — говорит Андромаха Кассандре при поднятии занавеса. Гектор убедил Париса, что Елена должна быть возвращена законному мужу. Но царь Приам и старый поэт Демок настаивают, что это «воплощение красоты» надо оставить в Трое. Прибывают греческие послы, под предводительством Улисса и Аякса, и Гектор пытается выторговать возвращение Елены. Но оскорбительное замечание Аякса в адрес Демока провоцирует троянский народ атаковать греческих посланников. В ярости Гектор убивает старого поэта, который перед смертью обвиняет Аякса в случившемся. Аякса затем убивает толпа. Последние слова Кассандры — «Троянский поэт мёртв… Теперь греческий поэт может начать свои песни»[394]. Вместо Демока на сцене появляется Гомер. Жироду останавливается там, где начинается «Илиада».
«Я хотел написать трагедию, — говорит Жироду. — Мы знаем, большинству из героев суждено быть убитыми, — если не в моей пьесе, то в ходе истории, поэтому над ними будто бы нависает некая тень»[395]. Зловещая тень воплощена в постоянном присутствии на сцене Кассандры, предвидящей неизбежность катастрофы. Герои Жироду — не такие, как у Гомера. Приам и Гекуба — отнюдь не образец семейного согласия, как в «Илиаде», они бранятся между собой: Гекуба, хладнокровная и острая на язык, намертво стоит против войны; Приам, дряхлый, но непомерно гордый, ослеплён Еленой, царской добычей своего сына, и подстрекает народ к войне. Елена — сложная фигура, в которой некоторые критики[396] видели образ абсурдной, слепой судьбы; её неописуемая, не подлежащая никаким определениям красота вызывает вожделение даже у совета старейшин, толпы высокомерных, жадных стариков, включающей и Демока. Парис — молодой щеголь, Аякс — задиристый глупец. Улисс, по замыслу Жироду, был этаким злонамеренным дипломатом, сладкоречивым, и более опасным, чем напыщенный Демок, но публика на удивление воспринимала его как воина-философа, человека крепкого слова и доброй воли. Гектор ближе по характеру к простым людям, он сторонник грубой силы, но в то же время ненавидит войну и не может определиться в своей позиции; Гектор смутно осознаёт, что его собственная судьба — часть великого замысла, который он неспособен постичь.
Несмотря на целостность и последовательность композиции, пьесе недоставало драматической силы, и даже её замечательный вариант, поставленный во время Фолклендской войны 1982 года Гарольдом Пинтером для Лондонского Национального Театра, остаётся неубедительным. У Жироду был замысел — написать трагедию, которая «раскрывает весь ужас судьбы — правящей не только жизнью каждого конкретного человека, но и всего человечества»[397]. Однако Жироду не воплотил эту идею, возможно потому, что «его персонажи больше похожи не на мифологических героев, а на их карикатуры»[398], — как выразилась писательница Маргарет Юрсенар. А как отметила Дорис Лессинг, «миф не есть нечто неистинное, напротив, миф — это концентрация истины»[399]. Возможно, в этом и заключался недостаток Жироду: его мифы были слишком слабо концентрированы, слишком упрощены.
В 1990 году карибский поэт Дерек Уолкотт попытался совершить противоположные манипуляции над мифологическими материями. Он переложил «Одиссею» на карибский лад, создав концентрацию бесконечных прочтений гомеровского «Улисса». За эту работу Уолкотт удостоился Нобелевской премии по литературе. В своей нобелевской речи Уолкотт отрицал, что его «Омерос» был эпическим в строгом смысле слова, но называл его скорее собранием эпических фрагментов в форме трёхстрочных стансов, напоминающих знаменитые терцины в «Божественной комедии» Данте[400]. Язык Уолкотта — это своеобразная смесь современного английского и креольского; его герои носят имена гомеровских героев, но ирония состоит в том, что эти имена часто давали рабовладельцы чёрному населению островов: Филоктет, Елена, Ахилл, Гектор. «Одиссея» Гомера начинается in media res — с середины, когда Улисс находился уже на полпути своих странствий; также и «Омерос» начинается на полпути прочтения «Одиссеи», с первой строки песни одиннадцатой («К морю и к ждавшему нас на песке кораблю собралися…»[401]), которая в стихах Уолкотта звучит так: «Вот так, на восходе, мы забрались в каноэ…»[402] (Этим же приёмом воспользовался Эзра Паунд[403]: первая из его «Cantos» начинается: «И тогда мы сошли к кораблю…»)[404]
Путешествие в царство мёртвых становится в «Омеросе» воображаемым путешествием в Африку, откуда родом предки главного героя, и где его посещает видение горестных событий прошлого, когда его сородичи были схвачены работорговцами. Однако гость подземного царства — не Улисс, а чернокожий Ахилл, потерявший сознание от солнечного удара; став свидетелем жестокого порабощения своих предков, он пришёл в ярость, сравнимую с яростью, терзавшей его прототипа Ахиллеса после гибели Патрокла, смешанной с ненавистью к убийце. В отношении работорговцев он чувствует «ту же / одержимость ненавистью, что под градом стрел, тот питал к Гектору»[405], а рабам сострадает горькой скорбью.
…Остывший пепел побелил его череп, покрыл тлеющие раны глаз, обугленную кожу, лёг в глубину беззубого рта, раскрытого к пепелищу.
Как срубленный кедр, чья печаль проступает смолой на стволе. Одна рука — в куче золы, кулак другой упал на барабан его груди, а рёбра были как резное каноэ, годами гниющее под сменяющейся листвой миндального дерева, в то время как мальчишки, игравшие в нём в войну, становятся мужчинами, работают, женятся, и умирают, и уже их дети, в свой черёд, раскачивают его прогнивший корпус, понарошку соревнуются в гребле, — как любил играть сам Ахилл когда-то, мальчишкой[406].Ахилл Уолкотта — это смесь нескольких героев Гомера, его образ поэта — сочетание многих характеров: конечно, это и сам Гомер, но также и Джойс. Бард «Омероса» — слепой старик из Вест-Индии, который проводит дни, напевая самому себе в тени аптеки около пляжа, с собакой-поводырём на поводке.
Слепой сидел на обломках пирог, бормоча на невнятном наречьи слепых, сложив узловатые руки на палке, чуткий на слух, как собака. Иногда он пел, и обрывки слов разлетались по ветру, когда звонкие нити её бус звучали в их саду. Старый Омер. Он утверждал, что совершил кругосветное плавание. «Месье Семь Морей» — так они называли его, взяв это имя с обёртки от масла печени трески, с извивающейся меч-рыбой. Но слов его было не разобрать. Для неё это было похоже на греческий. Или на древнее африканское щебетание[407].Для гомеровских персонажей «Омероса» греческий язык — иностранный, как и наречия Африки, а Африка для Уолкотта — это Итака, в которую Улисс никогда не вернётся. После романа Джойса «Одиссея» Гомера читается как поэма не только о возвращении домой, но и о вечном изгнании. Хотя, конечно, тень ожидаемого в тоске возвращения домой постоянно присутствует в «Омеросе», как и в «Улиссе», и в «Одиссее». На самом деле, «Одиссея» может быть прочитана как бесконечная история возвращения, которое может совершиться только через повторение рассказа о нём и в каком-то смысле уже совершилось, даже до начала приключений. За пятнадцать лет до того как «Омерос» был опубликован, итальянский писатель Итало Кальвино подметил, что «Одиссея» — это собрание многочисленных Одиссей, сложенных одна в другую, как китайские коробочки[408]. Вначале Телемах отправляется в путь в поисках истории, которая ещё не существует и только по завершению поэмы станет целой «Одиссеей». Потом Менелай передаёт Телемаху, что он слышал от морского старца, начавшего свой рассказ с того самого момента, когда сам Улисс начинает его на острове Калипсо. Когда он останавливается, Гомер возобновляет историю и следует за своим героем, пока тот не достигнет фокейского двора. Здесь слепой бард Демодок поёт своей публике (в которой присутствует и Улисс) о приключениях Улисса; Улисс плачет и, подхватывая песнь, рассказывает, как он достиг царства мёртвых, и как призрак Тиресия открыл ему будущее. Как отмечает Кальвино, подлинная история «Одиссеи» — это возвращение, и Улисс не должен о нём позабыть, несмотря на все свои приключения.
Александрийский поэт Константин Кавафис, умерший в 1933 году, также понимал, что возвращение Улисса — это ключевой мотив, предпосылка всех историй «Одиссеи». Кавафис писал на новогреческом, как прямой наследник эллинистической традиции, как тот, кто был способен проникнуть в сам источник — читать Гомера, отбросив бесчисленные переложения и истолкования. Улисс и Ахиллес произведений Кавафиса, — не современные, но и не вымышленные или собирательные фигуры. Когда, например, он говорит: «Наши усилия похожи на усилия троянцев», — он способен убедить читателя, что его опыт в самом деле добыт из первых рук, что он сам пережил испытания, выпавшие на долю троянцев. Ясно, что это один из поэтических приёмов автора, но при прочтении эти строки вовсе не кажутся метафорой:
А поражение так явно, и рыданья О нас уже звучат на стенах Трои. Там плачут о былом блаженстве нашем. И горек плач Приама и Гекубы[409].Кавафис напоминает нам, что Итака — не только пункт назначения, но также отправная точка путешествия, о чём мы зачастую забываем; Итака, как причина и цель, создала дистанцию между изгнанием и возвращением. Чем продолжительнее и труднее путешествие, тем более ценна далёкая конечная цель.
Ты знай: ни лестригонов, ни циклопов, ни Посейдона буйного не встретишь, пока душа твоя не примет их в себя, пока душа сама их пред тобою не поставит. Итака отдала тебе так много. Не будь её, ты не отправился бы в путь. Чего ж ещё ты хочешь? Больше нечего дарить. Ты бедною Итакой не обманут. Такой мудрец, с таким глубоким знанием, теперь понять ты сможешь, что все эти Итаки значат[410].Итака, дом, который Улисс лелеет в своей памяти, позволил «Одиссее» совершиться. Итака оставлена потому, что жизнь на ней не обещала ни достижений, ни наград и не могла предложить Улиссу ни приключений, ни опыта, ничего, кроме препятствий без путешествия. В стихотворении «Город» Кавафис намекает, что исходный пункт, откуда хочется бежать в поисках лучшего, не так-то легко оставить позади.
Но не бывает новых мест, других морей не знаешь ты приметы. Твой город за тобой пойдёт. По тем же улицам кругом ты побредёшь. В кварталах тех же станешь стариком. В домах таких же спрячешь голову седую. Прибудешь только в город свой. К другому же — не жди впустую — ни корабля ты не получишь, ни пути. И если жизнь свою не смог ты обрести здесь, в этом уголке — её проспал на всей земле ты[411].Как Итака в «Одиссее», так и Троя в «Илиаде» стали символами историй, строгая хронология которых, начало и конец, не записаны. Меньше семи недель, всего лишь сорок два дня засчитаны из кажущейся бесконечной войны, но и эта фактически краткая, фрагментированная летопись, как мы уже убедились, может отчётливо отразить конфликты нашей многострадальной эпохи.
Действие романа канадского писателя Тимоти Финдли «Знаменитые последние слова» разворачивается в этой вечной битве[412]. Он рассказывает историю группы мужчин и женщин, затерянных в кошмарном месте, напоминающем безымянный город Кавафиса. Все они послушно и безысходно подчинены какой-то движущей силе и не понимают цели или назначения их движений. Время действия — Вторая мировая война, главный герой и рассказчик — Хью Сельвин Маберли, фигура поэта, изначально вымышленная Эзрой Паундом для его собрания полуавтобиографических стихов, опубликованных в 1920 году[413]. «Я не знал, как мне следует изложить этот сюжет, — признавался Финдли. — Но вдруг осознал, что если бы я был Гомером, то понял бы, что это была не просто история мужчин и женщин — но история мужчин и женщин и богов, которым они повинуются, — и рассказал её как нельзя лучше через обращение к мифологическим образам. Я пересказал этот сюжет, который есть сама история, в другом ключе — который есть мифология»[414].
Финдли избрал мифологическую модель «Илиады». В интерпретации Финдли каждый из наших конфликтов, будь то противостояние между Англией и Германией, демократией и фашизмом, или элитой и низшим классами, — это та же война между греками и троянцами, символическая битва, которая в воображении её летописца Гомера-Маберли растворяется в частных историях мужчин и женщин, борющихся под давлением прихотей и страстей безумных богов. В этом сложном романе Маберли — это Гомер, уполномоченный превратить исторических персонажей из объектов газетных сплетен в мифологические образы. Миссис Симпсон — это подневольная Елена, идущая на поводу у нерешительного Париса (его прообраз — Эдуард VII), которую будут спасать многие, жестокие или справедливые Менелаи и Агамемноны. Гера и Зевс — это Черчилль и Гитлер, Афина — это Эзра Паунд, кровожадный Ахиллес — это нацист Гарри Рейнхардт, кто вместо того, чтобы обнажить предательскую пятку, щеголяет туфлями из крокодиловой кожи и (задав новый виток в истории) убьёт своего создателя, засадив мотыгу прямо в глаз Маберли, тем самым сделав его таким же слепым, как традиционно изображаемый Гомер.
Но остальное в характере этого Гомера далеко от традиции: он вовсе не мудр и не справедлив. Он поклонник абсолютной власти и готов сотрудничать при установлении фиктивного правительства, в котором Герцог и Герцогиня Винздорские должны играть роль короля и королевы, участвует в интриге под кодовым названием «Пенелопа», злом плане, выжидающем подходящий для запуска момент; способен с лёгкостью отказаться от своих художественных замыслов ради дешёвого сюжета с пародийными персонажами. Маберли — универсальный трансгрессор, нарушитель всех мыслимых границ в политике, сексе и литературе. Он вступает в союз с фашистами, не может определиться в сексуальной ориентации, его литературные амбиции «описать сущность прекрасного» прямо противоречат тому «помпезному рёву», который извергается из-под его пера. Маберли — жадное, преследуемое, прячущееся существо, живущее в разногласии с миром и самим собой.
«То, что делают алчные до власти люди, — сказал однажды Финдли, — может быть объединено словом «фашизм», как я его понимаю: все люди, жадные до власти, могут касаться жизни и дел своих конкурентов, таких же властолюбивых, как они, но это ещё далеко не всё. Они никогда не смогут достичь власти без могущественных кумиров и прикрывают свои злодеяния, говоря что совершают поступки для них и во имя их. Другими словами, жадные до власти герои Трои не могут достичь могущества без богов, играющих по их нотам»[415].
На стенах одной из комнат отеля «Гранд элизиум» (имя, которое в современной мифологии прославленный фильм с Гретой Гарбо даёт осаждаемой Трое[416]) Маберли записывает историю своей жизни. В своём признании он утверждает: «Всё, что я написал здесь, это правда, за исключением лжи». Историю Маберли (как гомеровскую) будут читать и судить другие, кто придёт после него, но его письмена вскоре будут обращены в пыль, вместе с разрушенными стенами отеля. «Вот так и кончится мир, — написал Т. С. Элиот в стихотворении «Полые люди», — не взрывом, а всхлипом»[417], — строчка, которую Паунд повторил в «Canto 74»[418] и потом добавил: «Чтоб построить город Диоса, где террасы цвета звёзд». Диос был царём Медеса и после того, как народ избрал его правителем за справедливые суждения, построил фантастический город, призванный быть раем на земле. Паунд, поклонник Муссолини, воображал, что итальянский диктатор способен создать, как Диос, идеальное государство после апокалипсиса войны, ввергшей мир в хаос. Мир будущего, воображаемый Маберли — как Троя Диоса, сначала разрушенная греками, а потом воскресшая в Риме Энея, Августа, эпохи Возрождения, и наконец (согласно фашистской идеологии) в Риме Муссолини, чьего триумфа Паунд-Маберли страстно желал, и чья угрожающая тень всё ещё не покинула мир. Об этом последние слова Маберли:
«Представьте себе, как что-то таинственное появляется вдруг в летний полдень — показывается и исчезает, до того как вы смогли распознать, что это было… К концу дня этот образ — чем бы он ни был — едва различимым следом остаётся в памяти. Никто не сможет абсолютно точно утверждать что это «что-то» было таким-то и действовало так-то. Ничего нельзя сказать о его размере. В конце концов видение забывается, становится только смутным ощущением, пугающим, но нереальным… Так, чем бы ни была странная тень, она теряется, безымянная, в волнах памяти; неясный образ, промелькнувший во сне. Всё, что мы помним, проснувшись, — это приводящее в трепет присутствие… В то время как эта тень, затаившаяся в сумерках, шепчет: я здесь, я жду».
Бесконечная война
Рамсфелд: Мне понравилось то, что вы сказали ранее, сэр. Война, основанная на терроре. Это хорошо. Это расплывчато.
Чейни: Хорошо.
Рамсфелд: Так мы можем сделать всё что угодно.
Дэвид Хэар, «Всякое бывает»По мнению Итало Кальвино, «Одиссея» состоит из нескольких переплетённых сюжетов, связанных подразумеваемым архетипическим мотивом возвращения. Но можно сказать, что такой мотив, или даже объединяющий первообраз, есть и в «Илиаде»: это, конечно же, война, но не только между греками и троянцами, а война как категория бытия, сама сущность войны, единое всех противостояний и конфликтов. В сентябре 2005 года, в течение трёх вечеров, почти три тысячи человек заполняли зал крупнейшего театра Рима «Rome Auditorium», чтобы послушать чтение «Илиады», поставленной по опубликованной годом ранее книге итальянского писателя и драматурга Алессандро Барикко, автора романа-бестселлера «Шёлк». Свою «Илиаду» Барикко замыслил, чтобы дать героям Гомера голос и предоставить сцену для рассказа об осаде Трои. В послесловии[419] Барикко утверждал, что «Илиада» — книга не для мирного времени и развлекательного чтения, но всегда актуальна во времена войны, каждодневных противостояний и столкновений, больших и маленьких конфликтов, «Илиада» раскрывает суть всего, что связано с войной — от убийства и пыток до деклараций доброй воли и актов героизма. «В такие времена, — говорит Барикко, — читать «Илиаду» на публике — это, казалось бы, сущий пустяк, но я убеждён, что это отнюдь не пустое занятие: ведь «Илиада» — это история войны, беспощадной и всеохватывающей. Она была сложена, чтобы прославить человека воюющего, и этот грозный гимн незабываем. Кажется, он может пройти через вечность, а его звучание достигнет наших самых последних потомков, по-прежнему воспевая торжественную красоту и невыразимый ужас чувства, что война произошла однажды и будет длиться всегда. В школе, возможно, это произведение преподносят совсем иначе. Но мы чувствуем, что в сердце этой книги лежит одно: «Илиада» — это памятник войне».
Баррико комментирует некоторые моменты поэмы, поразившие его. Он отмечает то сострадание, с которым Гомер рассказывает о потерпевших поражение. В истории, написанной с точки зрения победителей, он помнит, что побеждённые — такие же люди, достойные понимания и сострадания. Все троянские герои очень человечны — Приам, Гектор, Парис, даже такие второстепенные персонажи, как Пандарий (убитый Диомедом) и Сарпедон (убитый Патроклом). Многие голоса принадлежат не воинам, а женщинам: Андромахе, Елене, Гекубе. Разве это не поразительно, говорит Барикко, что в мужском милитаристском обществе Гомер так стойко защищает позицию женщин, их стремление к миру? Барикко отмечает, что женщины в «Илиаде» подобны Шахерезадам: они знают, что, пока они продолжают говорить, война не начнётся. Мужчины осознают, что Ахиллес откладывает своё вступление в войну, оставаясь с женщинами, и что пока они спорят о том, как нужно сражаться, они не вступают в бой. Когда Ахиллес и другие мужчины, наконец, бросаются в битву, они делают это вслепую, фанатично преданные своему воинскому долгу. Но до этого — долгое, медленно текущее время находится во власти женщин. «Слова, — пишет Барикко, — это оружие, которое женщины используют, чтобы попытаться погасить огонь войны».
Размышляя над «Илиадой», Барикко предполагает, что наше безрассудное влечение к красоте войны ничуть не ослабло с тех пор: если война это ад, то, как бы ужасающе это ни звучало, — это прекрасный ад. В наше время войну ненавидят и проклинают, но всё-таки не считают абсолютным злом. Барикко же говорит о том, что есть единственная альтернатива этому злополучному влечению — созидание иной красоты, которая могла бы возобладать над нашей жаждой войны, то, что должно создаваться день за днём тысячами художников. Если мы будем преданы этому делу, мы сможем удержать Ахиллеса от кровавых битв: не внушая страх или отвращение к борьбе, но искушая другой красотой, более блистательной и величественной, чем та, что привлекает его сейчас. Такая прелюдия к «Илиаде» просто необходима, утверждает Барикко.
Однако у обнадёживающей идеи Барикко есть серьёзный контраргумент, основание которого восходит ко временам самого Гомера. Для философа Гераклита Эфесского война была не злополучным влечением, но созидательной энергией борьбы противоположных начал, содержащей мир в единстве, и он упрекал Гомера за то, что его поэмы недостаточно воодушевляли к войне. «Гомер заслуживает того, чтобы быть изгнанным из общественных мест и высеченным розгами! Он был неправ, говоря: «Чтоб раздор исчез меж богов и людей». Не видел он, что молился о гибели мира, ибо, если б молитвы его были услышаны, всё бы пошло прахом, всё бы исчезло и прекратилась жизнь»[420]. Более того, Гераклит утверждал: «Следует знать, что война всеобща, правда есть борьба, всё происходит через борьбу и по необходимости»[421]. Своя точка зрения на это решительное заявление была у Данте: он полагал, что раз целью закона является всеобщее благо, но это не может быть достигнуто справедливыми мерами, то любая война, предпринимаемая «для общего блага», оправданна. Данте считал, что завоевание мира Римом было обосновано стремлением к справедливости в будущем, ибо «целью было не насилие, а установление закона»[422]. В наши дни, те кто говорят о «необходимых потерях» и «сопутствующем ущербе» следуют тому же аргументу.
Барикко затрагивает страшный парадокс. Мы понимаем, что кровавая жестокость войны ужасна, но всё же что-то внутри нас стремится к ней как к захватывающему зрелищу состязания. Когда Улисс и Телемах атакуют вероломных женихов, Гомер сравнивает мстительного царя и его сына с соколами, атакующими маленьких птичек:
Соколы ж гонят их, ловят когтями, и нет им пощады, Заперт и путь для спасенья, и травлею тешатся люди[423].Люди тешатся травлей… В 1939 году Симон Вейль, в одном из своих текстов размышляя о скрытых силах, действующих в «Илиаде», отметил, что преобладающее чувство во всей поэме — это горечь, «единственно заслуживающая оправдания горечь, ибо её изначальный исток нельзя преодолеть: это подчинённость человеческого духа той силе, которую в терминах категорий именуют материей. Эта подчинённость — всеобщая судьба, несмотря на то, что каждая душа будет исполнять её по-разному, следуя собственным возможностям и обстоятельствам. Никто в «Илиаде» не избавлен от этой судьбы, как и никто на земле. Все подвластны этой силе, и никто не испытывает презрения к тем, кто поддаётся её действию. Тот, кто в собственной душе и в отношении к другим людям, пытается бежать от превосходства этой силы, превозмочь её, — тот любим, но любим горькой любовью, потому что над таким человеком всегда нависает угроза быть уничтоженным, как если бы он боролся со стихией[424]. Только тот, кто прошёл через страдания войны, несправедливость, несчастье, тот, кто познал, насколько сильна может быть власть стихии, «и знает, как не признавать её власть», способен, по словам Вейля, «к любви и справедливости». Возможно, то же самое имел ввиду и Данте?
Чтобы в первый год Второй мировой войны поставить солдат перед этим парадоксом, поэт и критик Герберт Рид собрал литературную антологию «Рюкзак», достаточно маленькую, чтоб упаковать эту книжку в снаряжение. На первых страницах книги он поместил три фрагмента из Гомера в переводе Чапмена: воззвание к Аресу из «Войны мышей и лягушек», сцену вооружения Агамемнона в песне одиннадцатой «Илиады» и историю ковки щита Ахиллеса в песне восемнадцатой. Рид пояснил, что в своём выборе он руководствовался как желанием избежать «морализаторского серьёзного тона и некой абстрактности», присущих, по его мнению, другим военным антологиям, так и стремлением показать «диалектику жизни, противоречия которой мы должны осознать; философию, которая действительно работает». Рид утверждал, что на войне и в мелких конфликтах повседневной жизни каждому человеку необходимо осмыслить и принять диалектические истины, если он намерен сохранить здравый рассудок[425]. Мольба сохранить «здравый рассудок» звучит и в воззвании к Аресу в «Войне мышей и лягушек».
С одной стороны, мы не можем отказаться от идеалов, защита которых оборачивается войной, от героизма и альтруизма, с которыми их порой защищают, отречься от свободы, которую зачастую можно достичь только борьбой. Эти лучшие побуждения оправдывают Гомера, когда он любовно описывает меч, пронзающий плоть, хлестнувшую кровь, выбитые зубы, вытекающий из костей мозг. Аякса, говорящего об «отраде войны»[426]. Париса, который вступает в бой «ликующий, громко смеющийся»[427]. Но с другой стороны, кровавую резню, разрушение — всевозможные страдания причинённые войной — невозможно «извинить» благими намерениями[428], и, несомненно, Гомер ненавидел войну. «Внушающая ужас», «бич людской», «двуликая, лживая» — так он называет войну. И даже устами самого Зевса говорит об «ужасном деле войны»[429]. Жалость, скорбь, мольба о сострадании всегда недалеки от поля боя, где правят ненависть и ярость. Неслучайно именно мольба (первая, жреца Аполлона, Хрисея, за его дочь, взятую Агамемноном, и последняя, царя Приама за тело его сына Гектора) начинает и заканчивает «Илиаду».
Строки «Илиады» обладают такой необыкновенной силой воздействия именно потому, что держат напряжение между этими двумя истинами. Хотя, например, Эмиль Золя, образцовый представитель реализма девятнадцатого века, отказывал Гомеру в таких тонкостях: «Герои его книг — просто-напросто бандитские главари. Там женщин насилуют, людей одурачивают, они ругаются годами напролёт, режут друг другу глотки, издеваются над трупами своих врагов. Почитайте романы Фенимора Купера об индейцах, и вы обнаружите сходство»[430]. Золя ошибался: поэмы Гомера отнюдь не пустые описания стычек и уж точно не рассказывают о чём-то заурядном и привычном. Современному читателю легко перепутать традиционные эпитеты с однообразными описаниями, но на самом деле то, что сами эпитеты общеприняты и в чём-то схожи, не значит, что они являются синонимами: Гомер знал больше шестидесяти способов сказать «он умер так-то и так-то», и все эти описания обладают существенными различиями.
Гомер откровенно рассказывает нам, что война заключена в самом устройстве Вселенной: это изображено на щите, который бог-кузнец Гефест выковал для Ахиллеса[431]. Этот щит разделён на пять кругов. В центре — земля, небо и море. Потом следуют два города: один мирный, в нём справляют свадьбу и ведут судебную тяжбу, другой город держит осаду врага, в нём мужчины готовят засаду, в то время как старики, женщины и дети прячутся, вжавшись в городские стены. Третий круг изображает четыре времени года, четвёртый круг — ритуальный танец, и, наконец, пятый и последний — образ Океана, который, как представляли во времена Гомера, был рекой, текущей по краю земли. Порядок космоса определяет и человеческий мир, в котором искусство войны уравновешено искусством созидания. Щит Ахиллеса показывает, как глубоко и полно Гомер понимал наше двойственное, амбивалентное отношение к войне, наше влечение и ненависть к ней, красоту, которую мы приписываем ей, и ужас, который она нам внушает; как, представ перед ней, мы осознаём двойственную, диалектическую природу мира. В дополнение этой мысли можно привести два фрагмента из «Илиады».
Песнь шестая начинается с того, что греческие и троянские силы сражаются под стенами Трои, между рек Симоис и Ксантус. Один из троянцев, по имени Адраст (вообще же персонажей с таким именем трое), был схвачен Менелаем, когда его лошади понесли и он рухнул на землю со своей колесницы. Менелай грозно возвышается над ним, «тень от копья всё длиннее и ближе», и Адраст обнимает колени своего палача и умоляет пощадить его за богатый выкуп. Мольбы Адраста трогают царя, и он уже готов оставить его в живых и отправить на корабль как пленного, но тут появляется Агамемнон и бранит его за слабость. Причём, как мы помним, Менелай является главным зачинщиком войны и оскорблённой стороной, он муж Елены; Агамемнон же, брат Менелая, только командует греческой армией. Но Агамемнон говорит:
Слабый душой Менелай, ко троянцам ли ныне ты столь Жалостлив? Дело прекрасное сделали эти троянцы В доме твоём! Чтоб никто не избег от погибели чёрной И от нашей руки; ни младенец, которого матерь Носит в утробе своей, чтоб и он не избег! Да погибнут В Трое живущие все и лишённые гроба исчезнут[432].Побуждаемый своим братом, Менелай отталкивает Адраста, и Агамемнон пронзает троянца пикой «в утробу». Адраст падает мёртвым, опрокидывается, и Агамемнон «ставши ногою на перси, вонзённую пику исторгнул»[433]. Это действительно похоже на образец для прозы Фенимора Купера.
Но вот второй пример. Почти в самом конце «Илиады» Ахиллес в гневе преследует Гектора за стенами Трои. Оба они воины, оба умылись кровью в боях, оба любили тех, кто был убит, оба верили в справедливость того, что совершали. Один — грек, другой — троянец, но в этот момент их принадлежность полису не имеет значения. В этот момент они — только двое мужчин, которые хотят убить друг друга. Они выбегают за стены города и приближаются к ключам реки Скамандер. И в этот момент Гомер прерывает описание схватки и останавливается, чтобы напомнить нам:
Там близ ключей водоёмы широкие, оба из камней, Были красиво устроены; к ним свои белые ризы Жёны троян и прекрасные дщери их мыть выходили В прежние, мирные дни, до нашествия рати ахейской. Там прористали они, и бегущий, и быстро гонящий[434].Сцены войны, говорит Гомер, никогда не описывают только войну: никогда не говорится о том, что люди живут только событиями страшных дней настоящего. Это всегда также и сцена прошлого, отражение того, какими были эти люди в спокойное, мирное время, и полный смысл радостей этой простой жизни раскрывается лишь в такие экстремальные моменты. Представ перед неизбежностью смерти, мы осознаём счастье жизни, какой она могла бы быть и должна быть. Война переплетает в себе обе вещи: опыт ужасного настоящего и призрак милого сердцу прошлого.
А ещё нет войны без мысли об искупительном будущем. Приам обращает мольбу к Ахиллесу, не только следуя традиции или сентиментально проникнувшись траурными чувствами. Это происходит так, чтобы цикл войны мог быть завершён, и те, кто страдал, могли бы утешиться. В царстве мёртвых, когда Улисс встречает несчастного Ельпенора, убитого прямо перед отплытием от острова Цирцеи и оставшегося поэтому непогребённым, призрак обращается к своему прежнему капитану с такими словами:
Ныне молю (мне известно, что, область Аида покинув. Ты в корабле возвратишься на остров Цирцеи) — о! вспомни, Вспомни тогда обо мне, Одиссей благородный, чтоб не был Там не оплаканный я и безгробный оставлен, чтоб гнева Мстящих богов на себя не навлёк ты моею бедою. Бросивши труп мой со всеми моими доспехами в пламень, Холм гробовой надо мною насыпьте близ моря седого; В памятный знак же о гибели мужа для поздних потомков В землю на холме моём то весло водрузите, которым Некогда в жизни, ваш верный товарищ, я волны тревожил.Вот, в сущности, то, что наделяет войну искупительным смыслом: знание, что память о её жертвах есть также память о страшных последствиях несправедливости. Это чувство долга и памяти всегда руководит нами: от мольбы Приама о возвращении тела его сына и просьбы Ельпенора о погребении его тела до сегодняшних требований открытия военных захоронений в Латинской Америке, Боснии, Испании и многих других местах. Гомер знал о том же, о чём знаем мы: сохраняя мемориалы погибших, мы можем сожалеть о их потере, но в то же время преданно помнить и почитать жертву, принесённую ими во имя будущей жизни.
Незадолго до смерти, в 1955 году, американский поэт Уоллес Стивенс в кратком поэтическом фрагменте запечатлел то определение войны, которое можно было бы назвать и гомеровским:
У войны нет поля боя кроме сердца, Которое так гонится, и ненавидит, и боится И злобствует и превозносится, но в сердце том Любовь таится…[435]Гомер, ставший всеми людьми
Они говорят, что Улисс, устав удивляться, Снова затосковал по любви, по своей Итаке, Простой, скромной, покрытой зеленью. Искусство — как та Итака: Вечнозелёный сад, в котором, казалось бы, нечему дивиться. Хорхе Луис Борхес, «Искусство поэзии»В 1949 году, в Буэнос-Айресе, Хорхе Луис Борхес опубликовал небольшой рассказ под названием «Бессмертный», включённый впоследствии в сборник «Алеф»[436]. Возможно, этот рассказ был написан под впечатлением от прочтения «Кима» Редьярда Киплинга и «Страны слепых» Герберта Уэллса. Он начинается с эпиграфа, взятого из Фрэнсиса Бэкона: «Соломон рёк: Ничто не ново на земле. А Платон домыслил: Всякое знание есть не что иное, как воспоминание; так что Соломону принадлежит мудрая мысль о том, что всякое новое есть забытое старое».
В Лондоне, в начале июня 1929 года, княгиня Люсенж получила от антиквара Жозефа Картафила из Смирны шесть томов «Илиады» Александра Поупа. Этот Жозеф, по её словам, обладал на редкость невзрачным, незапоминающимся лицом, и с лёгкостью, но совершенно неправильно, говорил на нескольких языках. Позднее до неё дошёл слух, что он погиб в море, на борту судна «Зевс», и был похоронен на острове Иос. В последнем томе «Илиады» она нашла рукопись на английском, изобиловавшем латинскими выражениями.
В рукописи рассказывается история римского трибуна, который, неся службу в Фивах, на рассвете одной бессонной ночи увидел всадника, приближающегося с востока. Человек, изнурённый и истекающий кровью, упал с коня и спросил, как называется река, омывающая город; трибун ответил ему, что эта река — Египет. Всадник объяснил, что он ищет другую реку, тайную реку на краю земли, воды которой смывают с людей смерть, и на её берегу возвышается город бессмертных. Загадочный странник умирает, и трибуна посещает желание найти этот город. Возглавив двухсотенный отряд, он отправляется на поиски. На своём пути они пересекают дикие и странные земли; солдаты поднимают бунт, и трибун, раненый стрелой, совершает побег. Охваченный лихорадкой, он в полузабытьи скитается по пустыне; однажды, очнувшись, он обнаруживает себя лежащим со связанными руками в каменной нише, выбитой в склоне горы. У подножия горы был мутный поток; за ним возвышался город — тот самый город бессмертных. Вдоль горы и в долине он обнаружил ещё множество подобных своей ниш и неглубоких колодцев, вырытых в песке. Из этих дыр высовывались на солнце серые, грязные, голые люди. Трибун подумал, что это — троглодиты, племя, не знающее речи и питающееся змеями. Мучимый жаждой, трибун бросается вниз к источнику и жадно пьёт из потока. Прежде чем снова забыться в бреду, он почему-то произносит несколько слов по-гречески:
В Зелий, живших мужей, при подножье холмистая Иды, Граждан богатых, пьющих Эзеповы чёрные воды.После многих дней и ночей ему удаётся разорвать свои путы и постыдно выклянчить или украсть его первый кусок змеиного мяса. Но желание проникнуть в город бессмертных не покидает его. Однажды он решает сбежать от троглодитов, улучшив момент, когда большинство из них покидают свои норы и смотрят невидящими глазами на запад, на заходящее солнце. В полночь он достигает города и видит с облегчением («потому что пустыня так чужда человеку»), что один из троглодитов последовал за ним.
Но в город бессмертных, построенный на каменном плато, не вёл ни один вход, не было ни ворот, ни лестниц. Палящее солнце заставляет его укрыться в пещере. Там он обнаруживает колодец и лестницу, ведущую вниз, в темноту; он спускается и теряется в лабиринте одинаковых коридоров и комнат. После бессчётных попыток найти выход он всё же попадает в сам город и видит нависшую над ним громаду дворца. Это было здание неправильной формы и разной высоты в различных его частях. Он смутно чувствует, что этот дворец древнее человеческого рода, древнее самой земли, и он подумал, что такая старина может быть только делом рук бессмертных. Он думает: «Этот дворец — творение богов». Потом он осматривает его, и поправляется: «Боги, создавшие его, мертвы». Он присматривается к деталям и добавляет: «Боги, создавшие его, были безумны». Трибун осознаёт, что город не похож на лабиринт, в котором он блуждал под землёй. «Лабиринт был сделан для того, чтобы запутать человека; его архитектура, перенасыщенная симметрией, подчинена этой цели». Архитектура дворца абсолютно бессмысленна: его коридоры ведут в никуда, до окон не дотянуться, за дверями — колодцы, ступени и перила лестниц невероятным образом вывернуты наружу. Этот дворец поверг его в ужас, и трибун убегает прочь из города.
Когда он выходит обратно в пустыню, он видит троглодита, который лежит у входа и чертит неразличимые знаки на песке. Трибуна посещает чувство, что это существо ждало его; той же ночью, на обратном пути в селение троглодитов, он решает научить его хотя бы паре слов человеческой речи. Этот дикарь напоминает ему пса Аргоса из «Одиссеи», и он называет его Аргусом. День за днём трибун пытается научить Аргоса говорить. В безуспешных попытках прошли месяцы и даже годы. Но вот в один прекрасный вечер случилось чудо: над пустыней полился дождь. Всё племя в восторге, в исступлении встречало живительные потоки воды. Трибун позвал Аргоса, который, казалось, расплакался под струями дождя. Вдруг, как будто открывая что-то утраченное и давно позабытое, троглодит пробормотал такие слова: «Аргос, пёс Улисса». И потом, по-прежнему не глядя на трибуна: «Собака на мусорной куче». Трибун спросил его, знает ли он что-нибудь ещё из «Одиссеи». Говорить по-гречески дикарю было трудно, и трибун был вынужден повторить вопрос. «Очень мало, — ответил тот. — Меньше самого захудалого рапсода. Тысяча сто лет прошло, должно быть, с тех пор, как я её сложил».
В ту ночь всё разъяснилось. Троглодиты оказались бессмертными, мутный поток — той самой рекой, которую искал всадник. А знаменитый город бессмертные разрушили девять веков назад и воздвигли из его обломков бессмысленное сооружение: «не город, а пародия, нечто перевёрнутое с ног на голову, и одновременно храм неразумным богам, которые правят миром, но о которых мы знаем только одно: они не похожи на людей». Это было последним физическим деянием бессмертных. Они пришли к выводу, что всякое действие напрасно, и решили жить только мыслью, ограничиться чистым созерцанием. Они построили город и забыли о нём, уйдя жить в пещеры.
Гомер рассказывает трибуну историю о своей старости, о путешествии, которое он предпринял, как Улисс, чтобы достичь невиданных земель, где люди не знают моря и не едят соль. Он прожил столетие в городе бессмертных, а когда город разрушили, именно он дал совет построить другой: подобно тому, как сначала он воспел Троянскую войну, а потом войну мышей и лягушек. Или «подобно богу, который сотворил сперва Вселенную, а потом Хаос».
Трибун осознаёт, что вода из потока сделала его тоже бессмертным, и с грустью размышляет, что в бессмертии нет ничего особенного: кроме человека, все живые существа бессмертны, потому что они не знают о смерти. Божественно, ужасно, непостижимо чувствовать себя бессмертным. Самая мимолётная мысль может быть началом или венцом невидимого замысла или рисунка; злодеяние может обернуться добром в будущем или проистекать из доброго поступка, совершённого в прошлом. В бесконечном времени любое действие — справедливо, и в то же время безразлично и бессмысленно, а значит, нет и добродетелей, ни нравственных, ни интеллектуальных. Гомер сочинил «Одиссею», но в бескрайних просторах времени, где бесчисленны и безграничны комбинации обстоятельств, не может быть, чтобы ещё хоть однажды не сочинили её. Для бессмертных — ничто не случается однажды, ничто не уникально, всё повторяется снова и снова. Трибун и Гомер расстались у ворот Танжера; они даже не попрощались.
Трибун вспоминает некоторые из своих последующих приключений: как он сражался на Стэмфордском мосту в 1066 году, правда, он не помнит, на чьей стороне; как однажды в Булаке он записал историю путешествий Синбада; как играл в шахматы в тюрьме Самарканда и изучал астрологию в Биканере и Богемии. В 1714 году, в Абердине, он выписал «Илиаду» Поупа, которую читал с наслаждением; в 1729 году он обсуждал поэму с неким профессором риторики по имени Джамбаттиста. Четвёртого октября 1921 года корабль, который вёз его в Бомбей, остановился на эритрейском побережье; он сошёл в порту и неподалёку от города увидел чистый ручей. Он попил из этого ручья и, когда выбирался на берег, поцарапал веткой ладонь. Он увидел каплю крови, почувствовал боль — и понял, что снова стал смертным. В ту ночь он спал до самого рассвета.
У этой истории двойной финал. В постскриптуме говорится о комментарии к опубликованной рукописи, написанном неким доктором Кордоверо в 1950 году, утверждающим, что данный текст весь состоит из заимствований ранних авторов, а в действительности сочинён антикваром Йозефом Картафилом. В завершение самой истории трибун объясняет, что его рассказ кажется нереальным оттого, что в нём перемешаны события, происходившие на самом деле с двумя разными людьми. Римский трибун не стал бы называть, как об этом говорится в повествовании, фиванскую реку Египтом. Так её называл лишь Гомер: в «Одиссее» он неизменно именует Нил Египтом. Слова, произнесённые трибуном, когда он испил воды из источника бессмертия — это строки из второй песни «Илиады». Упоминания о записи приключений Синбада и прочтении «Илиады» Поупа — трогательные детали, но только если они описаны не римским трибуном. По-настоящему необыкновенно они звучали бы только из уст Гомера; как странно и волнующе это могло бы быть — осознать, что он переписывал историю другого Улисса, что он читал на варварском языке собственную «Илиаду»! Когда близится конец, говорит рассказчик, в сознании не остаётся образов, только слова, и неудивительно, что время путает слова одних людей со словами, принадлежащими другим. Рукопись заканчивается признанием: «Я был Гомером; скоро стану Никем, как Улисс; скоро стану всеми людьми — умру».
Гомер — это тайнопись. Раз невозможно установить, кем он был на самом деле, и в его книгах мы не находим ясного ответа о том, как они были сложены, его фигура, как «Илиада» и «Одиссея», истинна в бессчётных множествах прочтений. Гомера можно идентифицировать со всей культурой античности, в нашем самом широком понимании, и это будет, в сущности, порочным кругом, когда определение замыкается на самом себе; или с поэзией, или со всем человечеством. Гомер может предстать нам как рассказчик о древних веках нашей истории, от которых остались только несколько прекрасных артефактов, чей подлинный смысл мы не можем понять. Невозможно догадаться, как Гомер и его современники понимали, ощущали, переживали идею бессмертия, представление о том, что каждый человек исполняет своей жизнью один из эпизодов бесконечной легенды, повторяющейся в бесконечном множестве вариаций, уже созданной кем-то другим — но вечно новой, вечно юной.
Созданная нами историческая наука побуждает нас полагать, что наше понимание мира становится более глубоким, что мы ближе к истине, что наша душа и воображение становятся более совершенными, так же как развиваются и усложняются технологии. Мы склонны думать, что мы лучше, чем наши далёкие предки, — эти дикари бронзового века, которые, хоть и создавали прекрасные кубки и браслеты, и пели прекрасные песни, всё же затевали беспощадные кровавые войны, держали рабов и насиловали женщин, ели без вилок и выдумывали богов, разящих молниями. Нам сложно представить, что в те далёкие и тёмные времена мы уже знали слова, именующие наши самые спутанные и сложные переживания, наши самые глубоко скрытые и самые сильные страсти. Тот, кого мы знаем под именем Гомер, обитает где-то в неразличимой, сумеречной дали, как руины здания, бывший облик и предназначение которого остаются для нас загадкой. И возможно, что здесь и сейчас, в его книгах мы можем отыскать ключи к разгадке.
Гектор, пытаясь объяснить Андромахе, почему он должен сражаться, признаёт, как бы то ни было:
Твёрдо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем, Будет некогда день, и погибнет священная Троя, С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама…[437]Эти слова будто невольно вторят речи Ахиллеса, произнесённой ранее по ту сторону троянских стен:
Одну судьбу разделят оба — тот, кто отступает И тот, кто рвётся в бой. Одна и та же почесть ожидает И храбреца и труса: обоим кануть в Смерть, Тому, кто от сражения бежит, равно тому, кто бьётся до последней крови[438].Смерть и произвол деяний судьбы — то общее, что объединяет всех нас, всё человечество, везде и во все времена. Но и не только это: удивительным образом многие детали и «мелочи жизни», описанные у Гомера, могут показаться нам, смотрящим с расстояния больше двух с половиной тысячелетий, до боли знакомыми, интимными, почти родными. Афина, зная, что Улисс перенёс бессчётные страдания за десять долгих лет, бессердечно говорит его сыну, что «Богу легко защитить нас и издали, если захочет»[439]. Ахиллес, прирождённый воин, проклинает войну после смерти Патрокла[440]. Чудовищные циклопы доят коз и овец и нежно укладывают каждую новорождённую овечку под матку[441]. Пёс Аргос умирает от радости при виде своего возвратившегося хозяина[442]. Улисс и Пенелопа отправляются в постель и рассказывают до утра свои истории — муж и жена, не могущие уснуть, пока не наговорятся[443]. Андромаха, провожая Гектора в бой, оглядывается вслед мужу снова и снова[444]. Приам и Ахиллес, деля трапезу, восхищаются друг другом — один красотой и доблестью юноши, другой — благородством и мудростью старца[445]. Как удивительно то, что на языке, о звучании которого мы не знаем в точности, поэты, чьи лица и характеры мы не можем себе представить, жившие в обществе, о традициях и верованиях которого мы знаем не так уж много, рассказали нам так много о нашей жизни в настоящем, подметив каждую тайную радость и тайный грех.
Греческий автор, называвший себя Гераклит, по имени знаменитого философа-стоика, сочинил в первом веке нашей эры серию комментариев к Гомеру под названием «Аллегории Гомера». В первом из них говорится: «С самых ранних лет дети воспитываются и учатся у Гомера; обёрнутые пеленами его строк, мы питаем ими свою душу, как материнским молоком. Он подле каждого из нас, когда мы взрослеем и мужаем, он расцветает вместе с нами, и, дожив до старости, мы не можем насытиться им или устать от него, ибо если мы откладываем его в сторону, то вскоре снова жаждем его. Можно сказать, что это равно справедливо для Гомера и для самой жизни»[446].
Примечания
1
Samuel Butler, The Authoress of the Odissey: Who and What She Was, When and Where She Wrote [1897], Second Edition With a New Preface by Henry Festing Jones (Jonatan Cape: London, 1922).
(обратно)2
Gustave Flaubert, «Dictionnaire des idées reçues» in Bovuard et Pécuchet, introduction par Rayond Queneau (Editions du point du Jour: Paris, 1947).
(обратно)3
Cf. André Gide, Oscar Wilde: In Memoriam (Mercure de France: Paris, 1910).
(обратно)4
Virginia Woolf, «On Not Knowing Greek» in The Common Reader: First Series (The Hogarth Press, London, 1925).
(обратно)5
Emanuel Geibel, «Kriegslied» in Heroldsrufe: Zeitgedichte, Gesammelte Werke, Band 4 (Cotta: Stuttgart, 1893).
(обратно)6
Simone de Beauvoir, La femme rompue (Gallimard: Paris, 1963).
(обратно)7
«many soul-destroying things / in holded tablets», The Iliad of Homer, translated by T. S. Brandeth, 2 volumes (W. Pickering: London, 1846).
(обратно)8
«Mucho más que libros», Semana (Bogotá, 4 June, 2001).
(обратно)9
Илиада, XXIV: 594-599
(обратно)10
Илиада, XXIV: 613-620
(обратно)11
Mustafa El-Abbadi, Life and Fate of the Ancient Library of Alexandria (Unesco: Paris, 1990).
(обратно)12
Геродот, История, II:117
(обратно)13
Athenaeus, The Deipnosophists, VIII:347e, translated and edited by Charles B. Gulick (W. Heinemann: London, 1950)
(обратно)14
F. Zeitlin, «Visions and Revisions of Homer» in S. Goldhill, editor, Being Greek under Rome (Cambridge University Press: Cambridge and New York, 2001)
(обратно)15
Геродот, История, V:58
(обратно)16
Илиада, VI: 198-199
(обратно)17
Cf. Bruce Heiden, «The Placement of Book Divisions in the Iliad», in Journal of Hellenic Studies, 1998. Также Minna Skafte Jensen, «Dividing Homer: When and How were the Iliad and the Odissey Divided into Songs?» in Symbolae Osloenses, 1999.
(обратно)18
Jean Irigoin, «Homere, l'écriture et le livre» in Europe, 79e année, №865 (Paris, May 2001).
(обратно)19
«Seven cities warred for Homer, being dead, Who, living, had no roof to shroud his head» — Thomas Heywood, The Hierarchy of the Blessed Angells. Their names, orders, and offices; the fall of Lucifer with his angells [1635] (Da Capo Press: New York, 1973).
(обратно)20
Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Manca, II:74 (Edición y notas, Celina S. de Cortázar e Isaías Lerner (editorial Universitaria de Buenos Aires, 1969).
(обратно)21
«Hymn to Delian Apollo» v.175, in The Homeric Hymns, translated by Jules Cashford with and Introduction and Notes by Nicholas Richardson (Penguin Books: London and New York, 2003).
(обратно)22
[Thomas Blackwell], An Enquiry into the Life and Writings of Homer, second edition (J. Oswald: London, 1736).
(обратно)23
Herodotus, Vie d'Homére, mise en français d'Amyot par J.-J. van Dooren (Librarie Ancienne Edouard Champion: Paris, 1926).
(обратно)24
«Blind Melesigenes thence Homer call'd» — John Milton, Paradise Regained, IV:259.
(обратно)25
Héraclite, Fragments: Citations et témoignages, traduction et presentation par Jean-Francois Pradeau, 2e edition corrigée (Flammarion: Paris, 2004).
(обратно)26
Herodotus, Vie d'Homére.
(обратно)27
[Jean-Francois Pradeau ed.] Héraclite, Fragments: Citations et témoignages.
(обратно)28
Одиссея, VIII:51-99.
(обратно)29
Одиссея, VIII:302-410.
(обратно)30
Одиссея, VIII:552-584.
(обратно)31
Одиссея, I:178.
(обратно)32
Одиссея, VIII:87.
(обратно)33
E. T. «Translator's Note» in The Odyssey of Homer, translated into English prose by T. E. Shaw (Colonel T. E. Lawrence), (Oxford University Press, Galaxy Books: New York, 1956).
(обратно)34
Albert B. Lord, The Singer of Tales (Harvard University Press: Cambridge, Mass., 1960).
(обратно)35
Платон, диалог «Ион».
(обратно)36
Платон, «Ион».
(обратно)37
Claude Mosseé, La Gréce archaique d'Homére à Eschyle (Editions du Seuil: Paris, 1984).
(обратно)38
Thomas De Quincey, «Homer and the Homeridae» in The Works of Thomas De Quincey, volume 13, edited by G. Lindop et alt. (Pickering and Chatto: London, 2001).
(обратно)39
J. M. Foley, Homer's Traditional Art (Penn State University Press: University Park, Penn, 1999).
(обратно)40
Gilbert Murray, Five Stages of Greek Religion, third edition with a new introduction by the author (Doubleday: New York, 1951).
(обратно)41
Страбон, «География», 1:73.
(обратно)42
Аристотель, «Метафизика» B4, 10000a19.
(обратно)43
Paul Veyne, Les Grees ont-ils cru á leurs mythes? (Editions du Seuil: Paris, 1983).
(обратно)44
John Burnet, Early Greek Philosophy (Adam and Charles Black: Edinburgh, 1892).
(обратно)45
Cf. Jacqueline de Romily, La Grèce antique contre la violence (Editions de Fallois: Paris, 2000).
(обратно)46
Плутарх, «Алкивиад» в «Сравнительных жизнеописаниях».
(обратно)47
Платон, «Государство», Книга X.
(обратно)48
Там же.
(обратно)49
Aldous Huxley, Brave New World (Chatto and Windus: London, 1933).
(обратно)50
Платон, «Гиппий Меньший».
(обратно)51
Мигель де Сервантес, «Дон Кихот Ламанчский».
(обратно)52
Аристотель, «Поэтика», книга IV.
(обратно)53
Цицерон, «Оратор».
(обратно)54
John Milton, Areopagitica: A Speech og Mr. John Milton, first published 1644 (G. P. Punam's Song: New York and London, 1938).
(обратно)55
Страбон, «География», 13.I.45.
(обратно)56
Irad Malkin, The Returns of Odysseus: Colonization and Etnicity (University of California Press: Berckeley, California, 1998).
(обратно)57
Илиада, XI:747-753.
(обратно)58
J. Irgoin, «Les editions des poètes à Alexandrie» in Sciences exactes et sciences appliqués a Alexandrie, Actes du coloque international de St-Etienne (Université de St-Etienne: St-Etienne, 1996).
(обратно)59
Gregory Nagy, «Aristarchean Questions» in Bryn Mawr Classical Review, VII.14 (Bryn Mawr, PA, 1998).
(обратно)60
Tomas Hägg, The Novel in Antiquity (University of California Press: Berkley and Los Angeles, 1983).
(обратно)61
Horace, Epîtres II: 1 «A Auguste» in Oeuvres (Garnier Frères: Paris, 1967).
(обратно)62
Плиний приписывает эту ремарку своему другу Атилиусу. «A Novius Maximus» Lettres I-IX, [II:14] ed. A. M. Guillemin, 3 vols. (Les Belles Lettres: Paris, 1927–28).
(обратно)63
Peter Levi, Horace: A Life (Duckworth: London, 1997).
(обратно)64
Horace, Epîtres II: 1 «A Auguste».
(обратно)65
Horace, Epîtres I: 2 «A Lollius».
(обратно)66
Quitilian, The Orator's Education, Book 10, in volume IV, edited and translated by Donald A. Russel (Harvard University Press: Cambridge, Mass. and London, 1970).
(обратно)67
Илиада, II:819-821.
(обратно)68
Cf. Claudia Moatti, La Raison de Rome: Naissance de l'esprit critique à la fin de la République (Editions du Seuil: Paris, 1997).
(обратно)69
Peter Levi, Virgil: His Life and Times (Duckworth: London, 1998).
(обратно)70
Manuel Sanz Morales, Milógrafos griegos (Akal: Madrid, 2002).
(обратно)71
Tim Whitmarsh, Ancient Greek Literature (Polity: Cambridge, 2004).
(обратно)72
Вергилий, «Энеида», VI:847-853 (цитируется в переводе С. Ошерова под ред. Ф. Петровского).
(обратно)73
Hermann Broch, Der Tod des Vergil [1945] (Rhein Verlag: Zurich, 1958).
(обратно)74
Энеида, I:283-284.
(обратно)75
Илиада, XX:210-211.
(обратно)76
Среди них Стесихор Сицилийский в VI в. до н. э. и Элланикус Лесбосский в V в. до н. э.
(обратно)77
Cf. Niall Rudd, Introduction to Horace: Satires and Epistles and Persius: Satires (Penguin Books: Harmondsworth, 1973).
(обратно)78
Lucretius, On the Nature of Things, Introduction by Wendell Clausen, translated by H.A.J. Munro (Washington Square Press: London, 1965).
(обратно)79
Lewis Carroll, «What the Tortoise said to Achiless» in Mind, April 1895, in The Complete Works of Lewis Carroll (The Nonesuch Press: London, 1922).
(обратно)80
The Iliads of Homer, Prince of poets, Never Before in Any Language Truly Translated, Done According to the Greek by George Chapman (George Newnes: London and Charles Scribner's Sons: New York, 1904).
(обратно)81
Англ. цит. по Homer in English, edited with an Introduction and Notes by George Steiner (Penguin Books: London, 1996).
(обратно)82
Alexandre Pope, The Iliad and The Odyssey of Homer, edited by the Rev. H.F. Cary (George Routledge and Sons: New York, 1872).
(обратно)83
Англ. цит. по Homer in English.
(обратно)84
Iliad, in 2 volumes, with an English translation by A.T. Murray (Harvard University Press: Cambridge, Mass., and London, 1924, reprinted 2001).
(обратно)85
The Iliad: the Story of Achilles, translated by W.H. Rouse (Thomas Nelson and Sons: London, 1938).
(обратно)86
H.D.F. Kitto, The Greeks (Penguin Books: London, 1951).
(обратно)87
The Iliad of Homer, translated by Richard Lattimore (Chicago University Press: Chicago, 1951).
(обратно)88
Robert Lowell, Imitations (Faber and Faber: London, 1962).
(обратно)89
Juan de Mena, La Ilíada de Homero, Edición crítica de las Sumas de la Yliada de Omero у del original latino reconstruido, acompacada de unglosario latino-romance, por T. González Rolán, María F. del Barrio Vega у A. López Fonseca (Ediciones Clásicas: Madrid, 1996).
(обратно)90
Homer, Ilias, in der Übertragung von Johann Heinrich Voss, mit einem Nachwort von Utr Schmidt-Berger (Artemis and Winkler: München, 1957).
(обратно)91
Homère, Iliade, traducion de Leconte de Lisle (Profrance: Paris, 1998).
(обратно)92
Haroldo do Campos, Homero, Ilíada, Introduçao e organizaçao Trajano Vieira (Editora Arx: Sao Paulo, 2001).
(обратно)93
Juan Valera у Alcabá Galiano, Cartas dirigadas al Sr. D. Francisco de Paula Canalejas (Revista Ibérica: Madrid, 1864).
(обратно)94
Одиссея, XI:555-558.
(обратно)95
Nancy Sherman, Stoic Warriors: The Ancient Philosophy Behind the Military Mind (Oxford University Press: Oxford and New York, 2005).
(обратно)96
Stendal, La Chartreuse de Parme, II:18 (Le Divan: Paris, 1927).
(обратно)97
Giacomo Leopardi, Zibaldone di pensieri, vol. I §289 (Mondadori: Milan, 1997).
(обратно)98
Энеида, VXII:837-839 (прим. пер. — имеется ввиду смесь итальянской и троянской крови: ср. англ, перевод С. Д. Льюиса):
«Аll will be Latins, speaking One tongue. From this blend of Italian and Trojan blood shall arise A people surpassing all men, nay even the gods, in godliness». Virgil, Aeneid, I:847-853, A New Verse Translation by C. Day Lewis (Oxford University Press: Oxford, 1952). (обратно)99
J. Steinman, Saint Jerome (Editions du Cerf: Paris, 1958).
(обратно)100
«Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
Евангелие от Матфея 6:21 (обратно)101
Saint Jerome, «Letter to Eutochium on Guarding Virginity» in The Collected Works of Erasmus, volume 61, «Patristic Scholarship: The Edition of St. Jerome», edited, translated and annotated by James F. Brady and John C. Olin (University of Toronto Press: Toronto, Buffalo, London, 1992).
(обратно)102
Saint Jerome, «Letter to Magnus, Roman Orator» in The Collected Works of Erasmus, volume 61.
(обратно)103
Erasmus, «Life of Jerome» in The Collected Works of Erasmus, volume 61.
(обратно)104
Августин Блаженный, «Исповедь», книга I:13.
(обратно)105
Августин Блаженный, «Исповедь», книга I:13.
(обратно)106
Horace, Epîtres I:2 «A Lollius» in Oeuvres (Garnier Fréres: Paris, 1967).
(обратно)107
Августин Блаженный, «О граде Божьем», книга I:3.
(обратно)108
Августин Блаженный, «Исповедь», книга I:13 и 16.
(обратно)109
Oh, the argument will never end. Always will Truth quarrel with Beaty. The human host will always split In two halves: Greeks and the Barbarians. (пер. на англ. — А. Мангель) Heinrich Heine, Sämtliche Werke, zweiter Band, Herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Elster (Mayers Klassiker-Ausgaben: Leipzig und Wien, 1890) (обратно)110
James J. O'Donnel, Cassiodorus, (University of California Press: Berckeley, 1979).
(обратно)111
Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, volume III: 53 (Random House: New York, 1983).
(обратно)112
Michel Psellus, Fourteen Byzantine Rulers (The Chronographia), Book VI, translated, with an introduction, by E.R.A. Sewter (Penguin Books: London, 1966).
(обратно)113
William V. Harris, Ancient Literacy (Harvard University Press: Cambridge, Massachussets and London, 1989).
(обратно)114
Цит. по William V. Harris, Ancient Literacy.
(обратно)115
J.M. Wallace-Hadrill, The Barbarian West: A.D. 400–1000, The Early Middle Ages, revised edition (Harper and Brothers: New York, 1962).
(обратно)116
Armando Petrucci, «La concezione Cristiana del libro fra VI e VII secolo», in Libri e lettori nel medioevo: Guida storica e critica, a cura di Gugliermo Cavallo (Laterza: Roma, 1989).
(обратно)117
Venetus Marcianus: Facsimile of the Codex, with a Preface by John Williams White and an Introduction by Thomas W. Allen (Archeological Institute of America: Boston, Mass., 1902).
(обратно)118
Одиссея, XI:138-143.
(обратно)119
Cf. Alan James, Introduction to Quintus of Smyrna, The Trojan Epic: Posthomerica (Johns Hopkins University Press: Baltimore and London, 2004).
(обратно)120
Quintus of Smyrna, The Trojan Epic: Posthomerica, translated and edited by Alan James.
(обратно)121
Сведения о Дикте и Даресе почерпнуты из The Trojan War: The Chronicles of Dictys of Crete and Dares the Phrygian, translated with Introduction and Notes by R.M. Frazer, Fr. (Indiana University Press: Bloomington and London, 1966).
(обратно)122
Benoît de Sainte-Maure, Le Roman de Troie, extraits du manuscript Milan, Bibliothèque et Françoise Viellard (Lettres Gothiques, Librairie Génerale Française: Paris, 1998).
(обратно)123
John Lydgate, The Troy Book ([1412–1420] edited by Robert R. Edwards (Western Michigan University: Kalamazoo, 1998).
(обратно)124
Geoffrey Chaucer, Troilus and Criseyde (c. 1385] in Complete works, edited from numerous manuscripts by Walter W. Skeat (Oxford University Press: Oxford and London, 1912).
(обратно)125
Robert Henryson, The Testament of Cresseid [c. 1500] edited by Hugh MacDiarmid (Penguin Books: London and New York, 1989).
(обратно)126
William Caxton, Recuyell of the Histoyes of Troye (1474) edited with a critical introduction, index and glossary by H.O. Sommer, 2 volumes (D. Nutt: London, 1894).
(обратно)127
Ben Jonson, «to the Memory of My Beloved, the Author, Mr. William Shakespeare», in Complete Works, edited by P. Simpson and E. Simpson (Oxford University Press: Oxford and London, 1986).
(обратно)128
William Shakespeare, Troilus and Cressida (1609] in Complete Works, edited by W.J. Craig (Oxford University Press: Oxford, London, New York and Toronto, 1969).
(обратно)129
Lakhdar Souami, «Presentation», in Jahiz, Le cadi et la mouche: Antologie du Livre des Animaux (Sindbad: Paris, 1988).
(обратно)130
Mas’udi, Muruj al-Dhahab, цит. по Houari Touati, Larmoire a sagesse: bibliotheques et collections en Islam (Aubier: Paris, 2003).
(обратно)131
История рассказана учёным X века Ибн аль-Надимом в его книге аль-Фихрист, цит. по Johannes Pedersen, The Arabic Book, translated by Geoffrey French (Princeton University Press: Princeton, N.J., 1984).
(обратно)132
«размышления на смертном одре» ассоциируются с wasaya («заветом»), жанром исламской средневековой литературы. Cf. Juan Vernet, Lo que Europa debe al Islam de Espaca (El Acantilado: Barcelona, 1999).
(обратно)133
Jörg Kraemer, «Arabische Homerverse» in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Band 106, Heft 2 (Kommissionverlag Franz Steiner: Wiesbaden, 1956).
(обратно)134
Patricia Crone, Medieval Islamic Political Thought, chapter XIV (Edinburgh University Press: Edinburgh, 2004).
(обратно)135
Cf. Robert Irwin, Night and Horses and the Desert: An Anthology of Classical Arabic Literature (Allen Lane: London, 1999).
(обратно)136
Anonymous, The Subtle Ruse: The Book of Arabic Wisdom and Guile, translated by René Khawam (London, 1976), цит. в Robert Irwin, Night and the Desert.
(обратно)137
A.I. Sabra, «The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam: a Preliminary Statement», in The History of Science, Vol. 25 (1987), цит. в Patricia Crone, Medieval Islamic Political Thought.
(обратно)138
Wilhelm Grimm, «Die Sage von Polyphemus in Iceland», цит. по William Hasen, Ariadne's Thread: A Guide to International Tales Found in Classical Literature (Cornell University Press: Ithaca and London, 2002).
(обратно)139
Donald K. Fry, «Polyphemus in Iceland», in The Fourteen Century, Acta IV, 1977, quoted by Hermann Pálsson, «Eglis Saga Einhenda ok Esmundar Berserjabana» in Dictionary of the Middle Ages, volume 4, Joseph R. Stayer editor (Charles Scriber's Sons: New York, 1989).
(обратно)140
F. Gabrieli, «The transmission of Learning and Literary Influences to Western Europe» in The Cambridge History of Islam (Cambridge University Press: Cambridge, 1970).
(обратно)141
Juan de Mena, «Proemio», La Iliada de Homero.
(обратно)142
Цит. по E.R. Curtis, Europäishe Literatur und Lateinischen Mittelalter, XI (A. Francke AG: Bern, 1948).
(обратно)143
Francesco Petrarca, Familiarum rerum, edited by V. Rossi, (Florence, 1937).
(обратно)144
Данте Алигьери, «Божественная комедия», Ад, IV:80-89.
(обратно)145
Илиада, I:197.
(обратно)146
Cf. Robin Lane Fox, Pagans and Christians in the Mediterranean World from the Second Century A.D. to the Conversion of Constantine (Alfred A. Knopf: New York, 1986).
(обратно)147
Seneca, «On the Shortness of Life» in The Stoic Philosophy of Seneca, translated with an Introduction by Moses Hadas (Doubleday and Co: Garden City, New York, 1958).
(обратно)148
Albertino Mussato, Historia Augusta de gestis Henrici VII, цит. по Cristophe Carraud, Petrarque, La vie solitaire, preface de Nicholas Mann, introduction, traduction et notes de Christophe Carraud (Jerome Millon: Grenoble, 1999).
(обратно)149
Francesco Petrarca, Secretum meum in Prose, edited by Guido Martellotti et al. (R. Ricciardi: Milano, 1955).
(обратно)150
Божественная комедия. Ад, II:7-9 (цитируется в пер. М.Л. Лозинского).
(обратно)151
Энеида, I:8.
(обратно)152
Божественная комедия, Ад, II:7-9.
(обратно)153
Jean-Christophe Saladin, La Bataille du grec à la Renaissance, 2e triage revu et соrrigé (Les Belles Lettres: Paris, 2000).
(обратно)154
Francesco Petrarca, Familiarum rerum, XVIII:2.
(обратно)155
Jacob Burkhart, The Civilization of the Renaissance in Italy, translated by S.G.C. Middlemore (Random House: New York, 1954).
(обратно)156
George Steiner, «Introduction» to Homer in English.
(обратно)157
Одиссея, X:490-493 и 501-502.
(обратно)158
Одиссея, X:553-595.
(обратно)159
Одиссея, XI.
(обратно)160
Одиссея, XXIV:11-14.
(обратно)161
Pindar, fragment 129.
(обратно)162
Одиссея, XI:488-491.
(обратно)163
Одиссея, XI:37-43.
(обратно)164
Одиссея, XI:632-633.
(обратно)165
Jean le Fèvre исп. выраж. danse macabré впервые в 1376 г. в стихотворении Le resit de la mort. Cf. Paul Binski, Medieval Death: Ritual and Representation (Cornell University press, Ithaca N.Y., 1996).
(обратно)166
Hellmut Rosenfeld, Der mittelaltische Totentanz, (Böh lau Verlag: Wien, 1954).
(обратно)167
Илиада, VI:146-149.
(обратно)168
Энеида, VI:306-314.
(обратно)169
Божественная Комедия, Ад, II:112-114.
(обратно)170
André Malraux, La voie royale (Bernard Grasset: Paris, 1930).
(обратно)171
Cf. Eugenio N. Frontiga «Canto III: The Gate of Hell» in Lectura Dantis: Inferno, edited by Allen Mandelbaum, Anthony Oldcorn and Carles Ross (University of California Press: Berckeley, 1998).
(обратно)172
Потерянный Рай, I:302 (в пер. А. Штейнберга).
(обратно)173
Перевод Ксении Рагозиной. Paul Verlain, «Chanson d'Automne».
(обратно)174
Margaret, are you grieving Over Goldengrove unleaving? Leaves are like things of man, you With your fresh thoughts care for, can you? Gerald Manley Hopkins, «Spring and Fall» in Poems and Prose of Gerald Manley Hopkins, selected with and introduction and notes by W.H. Gardner (Penguin Books: Harmondworth, 1953) (обратно)175
Данте Алигьери, Le Opere di Dante. Testo critico della Societa Dantesca Italiana, ed. M. Barbi et al. (Societa Dantesca Italiana: Milano, 1921/22).
(обратно)176
Экклезиаст, I:4.
(обратно)177
Перевод Лидии Кисляковой. Percy Bysshe Shelley, Ode to Naples I:1.
(обратно)178
Об этом пишут: Е. Auerbach «Dante als Dichter der irdishen Welt (De Gruyter: Berlin, 1969); а также C.S. Singleton Introduction to The Divine Comedy (Routledge and Kegan Paul: London, 1971-75).
(обратно)179
Claude Fauriel, Dante et les origins de la langue et de la litterature italiennes: Cours faits a la Faculte de letters de Paris (Jules Mohl: Paris, 1854).
(обратно)180
Божественная Комедия, Ад, IV:143-144.
(обратно)181
Божественная Комедия, Ад, IV:76-78.
(обратно)182
Божественная Комедия, Ад. IV:37-39.
(обратно)183
John Pope-Hennesy, The Portrait in the Renaissance (Princeton University Press: Princeton, N. J., 1979).
(обратно)184
Рафаэль завершил роспись этой комнаты в 1511 году. Cf. Jean-Pierre Cuzin, Raphael, vie et oeuvre (Biblioteque desarts: Paris, 1983).
(обратно)185
Susy Marcon and Marino Zorzi, ed., Aldo Manuzio e l'ambiente veneziano 1494—1515 (Il Cardo: Venezia, 1994).
(обратно)186
Vespasiano da Bisticci, Vite di uomini illustri, ed. P. d'Ancona e E. Aeshclimann (Arnoldo Mondadori: Milano, 1951).
(обратно)187
Leonardo Bruni, «The study of Literature», §20, in Humanist Educational Treatises, edited and translated by Craig W. Kallendorf (Harvard University Press: Cambridge, Mass. and London, 2002).
(обратно)188
Battista Guarino, «А Program of Teaching and Learning» §19 in Humanist Educational Treatises.
(обратно)189
Aeneas Silvius Piccolomini, «The Education of Boys» §33 in Humanist Educational Treatises.
(обратно)190
Francisco Bethencourt, «А fundaçro» in Historia das Inquisiçxes: Portugal, Espahna e Itália, seculos XV-XIX (Companhia das Letras: São Paulo, 2000).
(обратно)191
J.N.D. Kelly, The Oxford Dictionary of Popes (Oxford University Press: Oxford and New York, 1988).
(обратно)192
Jean-Christophe Saladin provides a break-down of his terms by author in La Bataille du grec à la Renaissance.
(обратно)193
Цитировано по Jean-Christophe Saladin, La Bataille du grec à la Renaissance.
(обратно)194
Neil Kent, The Soul of the North: A Social, architectural and Cultural History of the Nordic Countries, 1700—1940 (Reaction Books: London, 2000).
(обратно)195
Pedro Mexía, Silva de varia lección, edición de Isaías Lerner (Editorial Castalia: Madrid, 2003).
(обратно)196
Isaías Lerner, «Prólogo» a Pedro Mexía, Silva de varia lección.
(обратно)197
Francisco de Quevedo, Las zahbro Platón, цитировано по Raimundo Lida, Prosas de Quevedo.
(обратно)198
Francisco de Quevedo, Defensa de Epicure, цитировано по Raimundo Lida, Prosas de Quevedo.
(обратно)199
Cf. Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, о Las trampas de la fe (Fondo de Cultura Economica: Mexico, 1988).
(обратно)200
Sor Juana Inés de la Cruz, «Еl Sueco» in Antología Роétiса, selección e introducción Jоsé Miguel Oviedo (Alianza: Madrid, 2004).
(обратно)201
Francis Bacon, «De sapientia Veterum» [1609] — «The Wisdom of the ancients» [1619] in Bacon's Essays including his Moral and Historical Works (Frederick Warne and Co.: London and New York, 1982).
(обратно)202
Michel de Montaigne, Les Essais, II:36 dans Collection de moralists français, publié avac des commentaries par Amaury Duval, vol. IV (Chez Chassériau: Paris, 1822).
(обратно)203
Charles Perrault, Parallèle des anciens et des modemes [1688—1697] (Slatkine: Geneva, 1971).
(обратно)204
Илиада, XI:558.
(обратно)205
Речь идёт о царственной Навсикае, дочери правителя Алкиноя: Одиссея, VI:57-58.
(обратно)206
Charles-Augustin Saint-Beuve, Reflexions sur les letters (Plon: Paris, 1941).
(обратно)207
Jean Racine, «Remarques sur l'Odysée» in Ouevres completes, tome II: VI, 2, presentation, notes et commentaries par Raymond Picard (Gallimard: Paris, 1950).
(обратно)208
Louis Racine, «Мémories contenant quelques particularités sur la vie et les outrages de Jean Racine», in Ouevres completes, tome I.
(обратно)209
Charles-Augustin Saint-Beuve, Port-Royal, vol. I:11 [1867] (Gallimard: Paris, 1954—55).
(обратно)210
Blaise Pascal, Pensées, II:XIV: 11, nouvelle edition revue avec soin (Imprimerie d'Auguste Delalain: Paris, 1820).
(обратно)211
Илиада, VI:486-489.
(обратно)212
Jean Racine, Andromaque, I:1 in Oeuvres completes, tome I.
(обратно)213
Raymond Picard, introduction a Jean Racine, Andromaque, in Oeuvres completes, tome I.
(обратно)214
Jean-Pierre Vernant, «Catégories de I’agent et de Taction en Grèce ancienne» in Religions, histories, raisons (François Maspero: Paris, 1979).
(обратно)215
Одиссея, XII:255-259/
(обратно)216
Одиссея, XII:338.
(обратно)217
Aldous Huxley, «Tragedy and the Whole Truth» in The Complete Essays, vol. III, 1930—1935, edited with commentary by Robert S. Baker and James Sexton (Ivan R. Dee: Chicago, 2001).
(обратно)218
Jean Racine, Andromaque, V:3 in Oeuvres completes, tome I.
(обратно)219
Одиссея, V:394-396.
(обратно)220
Одиссея, V:432-435.
(обратно)221
Одиссея, V:445-450.
(обратно)222
Jean Racine, Remarques sur l'Odysée».
(обратно)223
Anna Dacier, Des causes de la corrupcion du goût [1714] (Sladkine: Geneve, 1970).
(обратно)224
Jean-Robert Armogathe, Le Quiétisme (Presses Universitaires de France: Paris, 1973).
(обратно)225
François de Fénelon, Explication des maxims des saints, in Ouevres, 2 volumes (Gallimard: Paris, 1997).
(обратно)226
François de Fénelon, Les Aventures de Telemaque, in Ouevres.
(обратно)227
James Herbert Davis, Jr., Fénelon (Twayne: Boston, 1979).
(обратно)228
Montesquieu, Lettres persanes, XXXVI. Etablissement du texte, preface, chronologie, bibliographic et notes par Laurent Versini (GF-Flammarion: Paris, 1995).
(обратно)229
Baron Fréderic-Melchior Grimm, «Lettre du ler juin 1957», in Correspondance littéraire, II [1820] (Mercure de France: Paris, 2001).
(обратно)230
Всю информацию о картине автор почерпнул в книге Simon Schama, Rembrandt's Eyes (Alfred A. Knopf: New York, 1999).
(обратно)231
Julius S. Held, «Rembrandt's Aristotle» in Rembrandt Studies (Princeton, 1991), цит. по Schama.
(обратно)232
Плутарх, «Сравнительные жизнеописания», том II.
(обратно)233
Sir Philip Sydney, The Defence o Poesy [1595] in The Renaissance in England, edited by H. E. Rowlands and H. Baker (D. C. Heath: Lexington, Mass., 1954).
(обратно)234
Sir Francis Bacon, The Advancement of Learning [1605] edited by Michael Kiernan (Oxford University Press: Oxford and New York, 2000).
(обратно)235
T. S. Eliot, «Poetry in the Eighteenth Century» in The Pelican Guide to English Literature, volume 4, edited by Boris Ford (Penguin Books: Harmondsworth, Middlesex, 1957).
(обратно)236
Alexander Pope, The Iliad and the Odyssey of Homer, edited by the Rev. H. F. Cary (George Routledge and Sons: New York, 1872).
(обратно)237
Richard Outram, private correspondence.
(обратно)238
Edward Gibbon, Memoirs of My Life, edited by Betty Radice (Penguin Books: Harmondsworth, Middlesex, 1998).
(обратно)239
Samuel Johnson, «Pope» in Lives of the English Poets [1779—1781], volume II, with an introduction be Arthur Waugh (Oxford University Press: Oxford and London, 1912).
(обратно)240
Henry Fielding, «А Journey from This World to the Next» [1743] in The Complete Works of Henry Fielding, Esq. with an Essay on the Life, Genius and Achievement of the Author, by William Ernest Henley (William Heinemann: London, 1903).
(обратно)241
William Hazlitt, Lectures on English Poets in Selected Essays, edited by Geoffrey Keynes (The Nonesuch Press: London, 1946).
(обратно)242
Leslie Stephen, Pope (Macmillian and Co.: London, 1909).
(обратно)243
Alexander Pope, The Iliad and the Odyssey of Homer.
(обратно)244
Jorge Luis Borges, «Las versiones homéricas», in Discusion (Manuel Gleizer: Buenos Aires, 1932).
(обратно)245
На русском языке «Илиада» печатается почти исключительно в переводе Гнедича, «Одиссея» — в переводе Жуковского. Но есть и другие: в начале XX века обе поэмы были переведены Викентием Вересаевым, а впервые фрагменты «Илиады» перевёл на русский не кто иной, как М. В. Ломоносов. (Прим. перев.)
(обратно)246
Samuel Johnson, «Pope» in Lives of the English Poets.
(обратно)247
Made a poetry a mere mechanic art and ev'ry warbler has his tune by heart. William Cowper, Table Talk, I: 656 (John Sharp: London, 1825). (обратно)248
Homer in English, Edited with an Introduction and Notes by George Steiner (Penguin Books: London, 1996).
(обратно)249
Mattew Arnold, On Translating Homer (Smith, Elder & Co.: London, 1896).
(обратно)250
Ibid.
(обратно)251
Ibid.
(обратно)252
Ibid.
(обратно)253
A. E. Housman, «Introductory Lecture» [1982] in The Name and Nature of Poetry and Other Selected Prose, edited by John Carter (Cambridge University Press: Cambridge and London, 1961).
(обратно)254
John Keats, «Letter to Benjamin Bailey», 18 July 1818, in The Complete Works of John Keats, volume IV edited by H. Buxton Forman (Gowards & Gray: Glasgow, 1901).
(обратно)255
«Сонет, написанный после прочтения Гомера в переводе Чепмена», перевод Игнатия Ивановского. John Keats, On First Looking into Chapman's Homer.
(обратно)256
The Iliads of Homer, Prince of Poets, Never Before in any Language Truly Translated, Done According to the Greek by George Chapman (George Newnes: London, 1904).
(обратно)257
William Blake, «On Virgil» in The Complete Writings of William Blake, edited by Geoffrey Keynes (London and New York, 1957).
(обратно)258
William Blake, «Preface» to Milton: A Poem in 2 Books to Justify the Ways of God to Man, in The Complete Poems, edited by Alicia Ostriker (Penguin Books: London and New York, 1977).
(обратно)259
William Blake, «On Homer's Poetry» in The Complete Writings of William Blake.
(обратно)260
William Blake, «Letter to the Rvd. Dr. Trusler, 23 August 1799», The Poetry and Prose of William Blake, edited by David V. Erdman, commentary by Harold Bloom (Doubleday & Co.: Garden City, New York, 1956).
(обратно)261
William Blake, «On Boyd» in The Complete Writings of William Blake.
(обратно)262
William Blake, «On Dante» in The Complete Writings of William Blake.
(обратно)263
The Illuminated Blake, edited by David V. Erdman, (Doubleday & Co.: Garden City, New York, 1974).
(обратно)264
Cf. William Blake, «The Marriage of Heaven and Hell: The Voice of the Devil», in William Blake, «On Boyd» in The Complete Writings of William Blake.
(обратно)265
William Blake, «Public Address, pp. 60 and 20», The Poetry and The Prose of William Blake.
(обратно)266
Lord Byron, «Letter to Octavius Gilchrist, 15 September 1821» in Byron: A Self-Portrait: Letters and Diaries, 1789—1824, edited by Peter Quennell, 2 volumes (Scribner's: New York, 1950).
(обратно)267
Lord Byron, «Letter to John Murray, 17 September 1817» Byron: Self-Portrait.
(обратно)268
John Stuart Mill, «Notes on Some of the More Popular Dialogues of Plato» in The Collected works of John Stuart Mill, edited by J.M. Robinson, volume XI (Toronto University Press: Toronto, 1978).
(обратно)269
Percy Bysse Shelley, «А Defence of Poetry» in Essays and Letters, edited by Ernest Rhys (Walter Scott: London, 1887).
(обратно)270
Herbert Read, Byron (Longmarks, Green & Co.: London, 1951).
(обратно)271
Джордж Гордом Байрон, «Дон Жуан», VII:80-81 (цитируется в переводе Т. Гнедича).
(обратно)272
Дон Жуан, VII:78.
(обратно)273
Дон Жуан, VIII:9.
(обратно)274
Одиссея, IV:538.
(обратно)275
Одиссея, II:1.
(обратно)276
Jorge Lois Borges, «Las versions homericas» in Discusion.
(обратно)277
The Odyssey [1961] and The Iliad [1974] translated by Robert Fitzgerald (Farrar, Straus and Giroux: New York, 2004).
(обратно)278
Илиада, XVI:346-350 и 606-607.
(обратно)279
Илиада, XVI:352-356.
(обратно)280
«The Assyrian came down like the wolf on the fold…» Lord Byron, The destruction of Sennacherib.
(обратно)281
Enrique Banchs «El Tigre» in La urna [1911], перевод Лидии Кисляковой.
(обратно)282
Ogdon Nash, «Very Like a Whale» in Selected Verse, перевод Лидии Кисляковой.
(обратно)283
Madame de Stael, De la literature consideree dans ses rapports avec les institutions sociales [1800] ed. P. van Tieghan, 2 volumes (Geneva and Paris, 1959).
(обратно)284
Donald Phillip Verene, Vico's Science of Imagination (Cornel University Press: Ithaca and London, 1982).
(обратно)285
Giambattista Vico, La scienza nuova §819 (Torinese: Torino, 1952).
(обратно)286
Richard Ellman, James Joyce, new and revised edition (Oxford University Press: Oxford and New York, 1982).
(обратно)287
Илиада, II:484-493.
(обратно)288
Donald Phillip Verene, Vico's Science of Imagination.
(обратно)289
Giambattista Vico, La scienza nuova §873.
(обратно)290
Ulrich Joost, «Friedrich August Wolf» in Walter Killy, Literature Lexicon, Band XII (Bertelsmann: München, 1992).
(обратно)291
Johann Joachim Winkelmann, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst [1755] (Philipp Reclam: Stuttgart, 1995).
(обратно)292
Denis Diderot, «Salon de 1767» in Oeuvres completes, annotees par J. Assezat et M. Tourneux (Gamier freres: Paris, 1875—1879).
(обратно)293
Cf. Grecs (philosophic des) in L'Ecyclopedie de Diderot et d'Alembert, edition facsimile (Franco Maria Ricci: Milano, 1977—78).
(обратно)294
Cicéron, L'Orateur: Du meilleur genre d'orateurs, 11:62.
(обратно)295
Johann Peter Eckermann, Gesprache mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens [1837—1848] Herausgegeben von Fritz Bergemann, 2 Bande (Stihrkamp Verlag: Frankfurt-am-Main, 1981).
(обратно)296
J.W. von Goethe, «Brief an Schiller», 17 mai 1795, in Werke, Band 2, textkritisch durchgesehen von Erich Trunz (C.H. Beck: München, 1981).
(обратно)297
J.W. von Goethe, «Brief an Schiller», 27 December 1797, in Werke, Band 2.
(обратно)298
J.W. von Goethe, «Brief an Humbolt», 26 Mai 1799, in Werke, Band 2.
(обратно)299
Кроме того, и многие другие: Herder's Auch eine Philosophic der Geschichte zur Bildung der Menschheit (1774), Alteste Urkunde des Menschengeschlechts (1774), Ideen zur Philosophie der Menschheit (1784—91) etc., Wieland's Geschichtedes Agaton (1766—67), Die Abderiten (1774), Neue Götter-Gesprache (1791) etc., Heinse's Ardinghello (1789), Schlegel's Über die Diotima (1795), Über das Studium der griechischen poesie (1797), Die Griechen und Rõmer (1798) etc., Karl Philipp Moritz, Götterlehre (1791), Hölderlin Hyperion (1797—99), Empedocles (1797—1800) etc.
(обратно)300
Cf. E.R. Curtis, Europäische Literatur und Lateinishen Mittelalter XVIII (A. Francke AG: Bern, 1948).
(обратно)301
J.W. von Goete, «Der ewige Jude» in Goethes Poetische Werke, Band 2 (J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger: Stuttgart, 1950—1954).
(обратно)302
E.R. Curtis, Europäische Literatur und Lateinishen Mittelalter, I.
(обратно)303
Nicholas Boyle, Goethe, the Poet and the Age, vol. I «The poetry of Desire».
(обратно)304
J.W. von Goethe, Die Leiden des Jungen Werher, I, in Werke, Band 6, textkritisch durchgesehen von Erich Trunz und kommentiert von Benno von Wiese (C.H. Beck: München, 1981).
(обратно)305
Friedrich Schiller, «Über naive und sentimentalische Dichtung» in Schillers Werke, herausgegeben von Ludwig Bellermann, Achter Band (Bibliographisches Institut: Leipzig und Wien, 1905).
(обратно)306
Carl Gustav Jung, Schiller's ideals on the Type Problem in Psychological Types, a Revision by R.F.C. Hull of the Translation by H.G. Baynes, Volume 6 of the Collected Works (Princeton University Press: Princeton, N. J., 1971).
(обратно)307
Friedrich Schiller, «Über naive und sentimentalische Dichtung».
(обратно)308
Цит. по David Luke's Introduction to Goethe, Faust Part II, translated by David Luke (Oxford University Press: Oxford and New York, 1994).
(обратно)309
Илиада, II:177-178.
(обратно)310
Iliad, III:219 [цит. по англоязычной версии Р. Фаглза, перевод на русский Лидии Кисляковой].
(обратно)311
Илиада, III:156-158.
(обратно)312
Илиада, VI:357-358.
(обратно)313
Christopher Marlowe, Doctor Faustus (1588?, first published 1604), lines 62-63, in The Plays of Christopher Marlowe (Oxford University Press: Oxford and New York, 1939).
(обратно)314
Christopher Marlowe, Doctor Faustus, lines 1354-65.
(обратно)315
Илиада, III:158.
(обратно)316
Перевод В. Я. Брюсова. (Edgar Alan Рое, «То Helen», 1848).
(обратно)317
Илиада, III:164-165.
(обратно)318
J.W. von Goethe, Faust Part II, lines 8838-8840.
(обратно)319
J.W. von Goethe, Faust Part II, line 6197.
(обратно)320
J.W von Goethe, Die Leiden des Jungen Werther, I.
(обратно)321
J.W von Goethe, Dichtung und Wahrheit in Werke, Band 9, textkritisch durchgesehen von Liselotte Blumenthal und kommentiert von Erich Trunz (C.H. Beck: München, 1981).
(обратно)322
Friedrich Nietzsche, «What I Owe to the Ancients» 2, in Twillight of the Gods, in The Portable Nietzsche, edited and translated by Walter Kaufman (Penguin Books: Harmondsworth, Middlesex, 1954).
(обратно)323
Friedrich Nietzsche, «Homer und die klassische Philologie» in Werke in drei Banden, herausgegeben von Karl Schlechta (Carl Hanser Verlag: München, 1973).
(обратно)324
Friedrich Nietzsche, «Homer Contest» in The Portable Nietzsche.
(обратно)325
Friedrich Nietzsche, Birth of Tragedy Out of the Spirit of Music, translated by Shaun Whiteside, edited by Michael Tanner, new revised edition (Penguin Books; London and New York, 2003).
(обратно)326
Friedrich Nietzsche, Birth of Tragedy.
(обратно)327
Leslie Chamberlain, Nietzsche in Turin (Quartet Books: London, 1996).
(обратно)328
Sigmund Freud, «Our Attitude Towards War» in Civilization, Society and Religion, Group Psychology, Civilization and its Discontents and Other Works, translated from the German under the general editorship of James Strachey (Penguin Books: Harmondsworth, Middlesex, 1958).
(обратно)329
Peter Gay, Freud: A Life for Our Time (W.W. Norton and Co.: New York and London, 1988).
(обратно)330
Одиссея, XI:484-486.
(обратно)331
Илиада, XXI:110-113.
(обратно)332
Peter Gay, Freud: A Life for Our Time.
(обратно)333
Цит. по: Peter Gay, Freud: A Life for Our Time.
(обратно)334
Peter Gay, Freud: A Life for Our Time.
(обратно)335
Sigmund Freud, «Our Attitude Towards War».
(обратно)336
Sigmund Freud, «Moses and Monotheism» [1939] in The Origins of Religion translated from the German under the general editorship of James Strachey (Penguin Books: Harmondsworth, Middlesex, 1985).
(обратно)337
Bruno Bettelheim, Freud and Man's Soul (Alfred A. Knopf: New York, 1983).
(обратно)338
Carl Gustav Jung, «On the Relation of Analytical Psychology to Poetry» in The Spirit in Man, Art and Literature, translated by H.G. Baynes (Princeton University Press: Princeton, 1966).
(обратно)339
Илиада, XXIV:592-595.
(обратно)340
Перевод Лидии Кисляковой (Rupert Brook, The Collected Poems).
(обратно)341
Heinrich Schliemann, Troy and Its Remains: A Narrative of Researches and Discoveries Made on the Site of Illium and in the Trojan Plain, edited by Philip Smith [translated by L. Dora Schmitz, 1875] (Arno Press: New York, 1976).
(обратно)342
Ibid.
(обратно)343
Michael Wood, In Search of the Trojan War (BBc Books: London, 1985).
(обратно)344
Ibid.
(обратно)345
Ibid.
(обратно)346
Цит. по: Philip Smith's Introduction to Heinrich Schliemann, Troy and Its Remains.
(обратно)347
Samuel Butler, The Authoress of the Odyssey: Who and What She Was, When and Where She Wrote [1897], Second Edition With a New Preface by Henry Festing Jones (Jonathan Cape: London, 1922).
(обратно)348
Ibid.
(обратно)349
Одиссея, IX:21-26.
(обратно)350
Robert Bittlestone, Odysseus Unbond: The Search for Homer's Ithaca (Cambridge, Massachusetts and London, 2006).
(обратно)351
Samuel Butler, The Authoress of the Odyssey.
(обратно)352
Moses Finley, The World of Odysseus [1956] {Pelican Books: Harmondsworth, Middlesex and New York, 1962).
(обратно)353
J.W. von Goethe, Dichtung and Wahrheit.
(обратно)354
Samuel Butler, The Notebooks, Selections arranged and edited by Henry Festing Jones (Jonathan Cape: London, 1912).
(обратно)355
T. E. Lawrence «Translator's Note» in The Odyssey of Homer.
(обратно)356
Margaret Atwood, The Penelopiad: The Myth of Penelope and Odysseus (Canongate: Edinburgh and New York, 2005).
(обратно)357
Ibid.
(обратно)358
Samuel Butler, The Authoress of the Odyssey.
(обратно)359
Margaret Atwood, The Penelopiad.
(обратно)360
Одиссея, XXII:468-469.
(обратно)361
Mary Josefa MacCarthy, A Nineteenth-Century Childhood (William Heinemann: London, 1924).
(обратно)362
Пер. А. Щербакова (Rudyard Kipling, «When ‘Omer Smote ‘Is Bloomin’ Lyre» in The Seven Seas).
(обратно)363
Durs Grunbein, Galilei vermisst Dante Holle und bleibt an den Massen Hangen (Suhrkamp Verlag: Frankfurt am-Main, 1996).
(обратно)364
Цит. по Richard Ellman, James Joyce, new and revised edition (Oxford University Press: Oxford and New York, 1982).
(обратно)365
Ibid.
(обратно)366
Ibid.
(обратно)367
W.B. Yeats, «The Autumn of the Body» in Ideas of Good and evil, quoted by Richard Ellmann, The Consciousness of Joyce (Oxford University Press: Oxford and New York, 1977).
(обратно)368
Cf. Richard Ellmann, James Joyce.
(обратно)369
Ibid.
(обратно)370
Vladimir Nabokov, «Ulisses» in Lectures on Literature, edited by Fredson Bowers, introduction by John Updike (Harcourt Brace Jovanovich: New York and London, 1980).
(обратно)371
Пер. С. Хоружий, В.А. Хинкис, эпизод 12.
(обратно)372
Пер. М.Л. Гаспарова (А.Е. Housman, «Fragment of a Greek Tragedy» [1883]).
(обратно)373
Цит. по Richard Ellmann, James Joyce.
(обратно)374
Ibid.
(обратно)375
Neither story is in Homer: Ulisses' is told by Hyginus, Fabulae 95, Achiles' in Apollodurus (attr.) The Library. Cf. Robert Graves, The Greek Myths, revised edition (Penguin Books: Harmondsworth, Middlesex and New York, 1960).
(обратно)376
Odyssey, III:265-268 [цит. по англоязычной версии Р. Фаглза, перевод на русский Лидии Кисляковой].
(обратно)377
Alfonso Reyes, «Odiseo» en Algunos ensayos, prologo у seleccion Emmanuel Carballo (Universidad Nacional Autonoma de Mexico: Mexico, 2002).
(обратно)378
Michael Grant, History of Rome (Weidenfeld and Nicholson: London, 1978).
(обратно)379
Virgil, Aeneid, II.
(обратно)380
Одиссея XI:122
(обратно)381
Dante Alighieri, Commedia, Inferno, XXVI:90-142.
(обратно)382
Пер. Илья Мандель (Alfred, Lord Tennyson, «Ulisses»).
(обратно)383
Пер. Лидии Кисляковой (Nikos Kazantzakis, The Odyssey: A Modern Sequel).
(обратно)384
Илиада, VI.
(обратно)385
Пер. Лидии Кисляковой (José Hernández, Martin Fierro, «La vuelta de Martin Fierro» 15:2319-2324).
(обратно)386
Victor Bérard, Les Pheniciens et I'Odysee 2 volumes, (Armand Colin: Paris, 1902—1903).
(обратно)387
Richard Ellmann, The Consciousness of Joyce.
(обратно)388
James Joyce, Ulysses.
(обратно)389
George K. Anderson, The Legend of the Wandering Jew, third printing (Brown University Press: Hanover and London, 1991). По мнению Андерсона, ассоциировать Блума с Вечным Жидом — это чрезмерное упрощение.
(обратно)390
Одиссея, I:73-74.
(обратно)391
Samuel Johnson, A Preface to Shakespeare [1765] in The Major Works, edited by Donald Greene (Oxford University Press: Oxford and New York, 2000).
(обратно)392
Jean Paulhan and Dominique Aury, ed. La partie se fait tous jours (Editions de Miniut: Paris, 1947).
(обратно)393
Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu in Théatre complet, ed. Jacques Body (Gallimard: Paris, 1982).
(обратно)394
Ibid.
(обратно)395
Цит. по Colette Weil in «Preface» in Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu.
(обратно)396
Cf. Marie-Jeanne Durry, L'Universde Giraudoux (Mercure de France: Paris, 1961).
(обратно)397
Jean Giradoux, «Bellac et la tragedie» quoted in Colette Weil in «Preface» in Jean Giradoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu.
(обратно)398
Marguerite Yourcenar, Lesyeux ouverts: entretiens avec Mathieu Galey (Editions du Centurion: Paris, 1980).
(обратно)399
Doris Lessing, African laughter: Four Visits to Zimbabwe (Harper Collins: London, 1992).
(обратно)400
Derek Walcott, The Antilles: Fragments of Epic Memory: The Nobel Lecture (Farrar, Straus and Giroux: New York, 1993).
(обратно)401
Одиссея, XI:1.
(обратно)402
Derek Walcott, Omeros, I:1 (Faber and Faber: London, 1990).
(обратно)403
Эзра Лумис Паунд — американский поэт XX века, один из основоположников англоязычной модернистской литературы, издатель и редактор (прим. пер.).
(обратно)404
Ezra Pound, The Cantos, I:1, revised edition (Faber and Faber: London, 1975).
(обратно)405
Derek Walcott, Omeros, III:27.
(обратно)406
Пер. Лидии Кисляковой (Derek Walcott, Omeros, III).
(обратно)407
Пер. Лидии Кисляковой (Omeros, I).
(обратно)408
Italo Calvino, Perche leggere I classici (Arnoldo Mondadory: Milano, 1991).
(обратно)409
Пер. А. Калининой (C. P. Cavafy, «Trojans»).
(обратно)410
Пер. Лидии Кисляковой (C. P. Cavafy, «Ithaca»).
(обратно)411
Пер. В. Некляева (C. P. Cavafy, «The City»).
(обратно)412
Timothy Findley, Famous Last Words (Clarke, Irwin & Co.: Toronto and Vancouver, 1981).
(обратно)413
Ezra Pound. Hugh Selwyn Mauberley (Faber and Faber: London, 1920).
(обратно)414
Timothy Findley, «Famous Last Words» in Inside Memory: Pages From a Writer's Workbook (Harper Collins: Toronto, 1990).
(обратно)415
David Ingham, «Bashing the Facists: The Moral Dimensions of Findley's Fiction» in Studies in Canadian Fiction 15, 2 (1990).
(обратно)416
Эдмунд Гулдинг, «Гранд отель» (Edmund Goulding «Grand Hotel», MGM, 1932).
(обратно)417
T. S. Eliot «The Hollow Men».
(обратно)418
Ezra Pound, The Cantos, 74.
(обратно)419
Alessandro Baricco, Omero, Iliade (Feltrinelii: Milano, 2004).
(обратно)420
Цит. по Диоген Лаэртский, «Жизнь и высказывания знаменитых философов», Книга IX.
(обратно)421
Celso, El Discurso verdadero contra los cristianos, introduccion у notas de Serafin Bodelon (Alianza: Madrid, 1988).
(обратно)422
Dante Alighieri, De monarchia, II: 5:22 in Le Opere di Dante. Testo critico della Societa Dantesca Italiana, ed. M. Barci et al. (Societa dantesca Italiana: Milano, 1921—22).
(обратно)423
Одиссея, XXII:305-306.
(обратно)424
Simone Weil, The Iliad, or the Poem of Force, translated by Mary McCarthy (Pendle Hill Pamphet: Wellingford, Pennsylvania, 1956).
(обратно)425
Herbert Read, editor, The Knapsack (George Routledge & Sons: London, 1939).
(обратно)426
Илиада, XV.
(обратно)427
Илиада, VI.
(обратно)428
Впрочем, некоторые считают это возможным. В лондонском периодическом издании The Spectator, от 30 июля 2005 года, в статье «Спасибо Хиросиме» Эндрю Кенни (Andrew Kenny) опубликовал скандальную защиту бомбардировки Хиросимы, утверждая что в перспективе это спасло больше жизней, чем погубило.
(обратно)429
Илиада, VIII.
(обратно)430
Emile Zola, Ouevre critique, II (Francois Bernouard: Paris, 1929).
(обратно)431
Илиада, XVIII:478.
(обратно)432
Илиада, VI:55-60.
(обратно)433
Илиада, VI:65.
(обратно)434
Илиада, XXII:153-157.
(обратно)435
Перевод Юлии Баядиловой. (Wallace Stevens, «Phases» XI in Opus Posthumous).
(обратно)436
Jorge Luis Borges, El Aleph (Losada: Buenos Aires, 1949).
(обратно)437
Илиада, VI:447-449.
(обратно)438
Iliad, IX:385-388 (цит. по англоязычной версии Р. Фаглза, перевод на русский Лидии Кисляковой].
(обратно)439
Одиссея, III:231.
(обратно)440
Илиада, XVIII:107.
(обратно)441
Одиссея, IX:341-343.
(обратно)442
Одиссея, XXIII:326-327.
(обратно)443
Одиссея, XXIII:395-343.
(обратно)444
Илиада, VI:495-496.
(обратно)445
Илиада, XXIV:629-633.
(обратно)446
Цит. по F. Buffière, Les mythes d'Homère et la pensée grecque (Les belles letters: Paris, 1973).
(обратно)
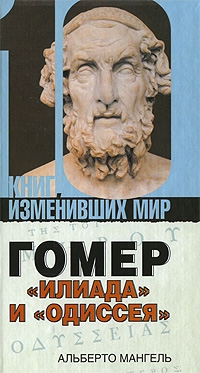

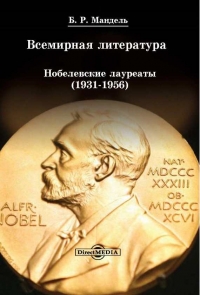

Комментарии к книге «Гомер: «Илиада» и «Одиссея»», Альберто Мангель
Всего 0 комментариев