Торил МОЙ Сексуальная/текстуальная политика ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ И ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ ГЕНДЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ - ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА Проект инициирован и поддержан Женской сетевой и Издательской программами Института «Открытое общество» (Фонд Сороса - Россия) ФЕМИНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ТОРИЛ МОЙ Книга Торил Мой, предлагаемая Вашему вниманию, стала одним из классических трудов в области феминистского литературного критицизма. Зародившаяся около тридцати лет назад в Америке и странах Западной Европы эта область научного знания с тех пор не только сумела сформировать свою теоретическую и методологическую исследовательскую базу, но и превратилась в академическую дисциплину. Курсы по женской литературе и женской/феминистской критике читаются практически в каждом западном университете. Их внедрение, во-первых, является свидетельством возросшей активности женщин в общественной, социальной и творческой сферах и, во- вторых, становится показателем степени демократизации общества, демонстрируя его готовность к соблюдению принципа политической корректности. Ведь то, как государство предполагает решать «женский вопрос» (как, впрочем, и «мужской»), наряду с национальным, религиозным, классовым и др., свидетельствует об уровне его политической зрелости.
Однако термин «политика», вынесенный в название книги Торил Мой, уже вполне далек от Аристотелевского его понимания. В контексте феминистской теории он имеет свое поле истолкований, сложившееся в результате пересмотра двух направлений анализа. С одной стороны, социально-критического, делающего акцент на проблемах гегемонии и иерархии, и с другой, дискурсивного анализа власти. В первом случае политика рассматривается как реализация отношений господства и подчинения. Это направление развивали, преимущественно исследовательницы англоязычного мира, что позволило условно назвать эту школу критического анализа англо-американской. Второе выросло из наследия европейской философии, центром которой к 60-м годам XX века стала Франция. Так, например М. Фуко существенно повлиял на дальнейшее развитие феминистского критицизма. Ему мы обязаны сознанием новой теории власти, согласно которой власть имеет распыленный, «капиллярный» характер, реализуясь через «микро-практики» повседневности, в частности через область сексуального. Соответственно и обобщающее универсальное понятие «политики» теряет свою актуальность и распыляется на микро-политики отдельных индивидуумов, групп, явлений и пр.
Собственно феминистская литературная критика представляет собой одно из направлений теории литературы, позволяющее обнаружить, высветить, концептуализировать целую матрицу вопросов и проблем, связанных с половой/гендерной дифференциацией. Тех вопросов и проблем, которые, по словам Н.Бердяева, составляют «проклятую загадку пола». Ни одна из существовавших прежде в истории критической мысли школ не ставила перед собой цели увидеть окружающий мир глазами женщины и понять, что представляет собой собственно женский мир, и вследствие этого не обладала необходимым механизмами и средствами анализа. Так феминистская критика встала перед необходимостью создания собственного понятийного аппарата, категориального и методологического инструментария, позволившего бы, во-первых, сделать, наконец, проблему видимой, и, во-вторых, вывести ее на уровень научной и общественно-культурной актуализации. Это помогло бы подготовить почву для адекватного (в смысле непредвзятого) восприятия женского опыта, женских стратегий самовыражения, женского языка, т.е. всего того, что воплощает в себе идею об особой форме существования и организации женского бытия. А раз таковое существует, оно должно иметь и свою литературу, и свою критику, и свою историю. Поиск путей решения этих очень непростых задач способствовал развитию большого разнообразия теоретических подходов феминистской критики.
Крайне важным для понимания природы гендерного/феминистского дискурса, является то, что он не строится на остове теории в традиционном значении этого понятия. Феминизм не является единой и целостной системой, его политика реализуется в микро-политиках: сколько существует феминисток, столько существует и феминизмов, то есть теорий. Феминистский критицизм представляет собой внутренне сложную структуру, произрастающую и самоорганизующуюся в подвижной среде критики критики. Лучшим тому подтверждением является тот факт, что, активно критикуя феминизм, Юлия Кристева становится одним из главных теоретиков феминизма. Подобная форма воплощает в себе сопротивление феминистского анализа авторитаризму теории как системы универсального знания. Этим также утверждается важнейший для феминистской теории тезис о том, что никакое утверждение не бывает нейтральным. Оно всегда принадлежит конкретному субъекту и определенному контексту. На этих принципах строится и книга Торил Мой, более того, автор видит задачу книги «Сексуальная/текстуальная политика» в утверждении и внедрении этих принципов.
Жанр книги «Сексуальная/текстуальная политика» определяется автором как введение в феминистскую литературную теорию, то есть в первую очередь является учебным пособием, расчитанным не только на студентов и специалистов, но на самый широкий круг заинтересованных в данной проблематике читателей. И при этом книга является примером определенного способа чтения женских текстов (а именно так рассматриваются автором исследуемые ею критические работы), иллюстрацией теоретических и методологических подходов феминистского анализа.
Написанная в 1985 году, она посвящена анализу работ, созданных в 1970-85 г., то есть по сути дела относящихся к «первому периоду» развития феминистской критики. Важнейшей задачей критики этого времени была выработка стратегических и методологических подходов. Рассматривая данный период, Торил Мой выделяет два этапа развития англо-американской феминистской критики.
На первом этапе произошло зарождение англо-американской школы феминистской критики в рамках феминистского проекта. Ее роль виделась в том, чтобы распространить общую политическую деятельность на сферу культуры. Критики этого этапа были глубоко убеждены в политической сущности любого критического дискурса и стремились учитывать все исторические и социологические факторы в своем анализе. В качестве классических работ этого этапа Мой рассматривает книги «Мысли о женщинах» Мэри Эллманн (1968) (Mary Ellmann, Thinking About Women), «Сексуальная политика» Кейт Миллетт (1969) (Kate Milieu, Sexual Politics), а также сборник Сьюзан Корнийон «Образы женщин в литературе: феминистские точки зрения» (1972). По утверждению Миллетт, для правильного понимания литературы необходимо изучение социального и культурного контекста. Причем она стремится обосновывать все культурные явления исключительно в терминах политики власти. Центральное для феминистской критики понятие «политика» определяется ею через понятие «власть», которая, в свою очередь, реализуется через сексуальную сферу, ставшую, по ее мнению, идеологией нашей культуры. Сексуальную политику она определяет, как «процесс, посредством которого правящий пол стремится удержать и расширить свою власть над подчиненным полом». Женщину Миллетт считает угнетенным существом, развивая теорию сексуального угнетения на основании тезиса об осознанном сплоченном заговоре против женщин. Это порождает соблазнительно оптимистические и абсолютно наивные надежды на возможность полного освобождения.
Миллетт уделяет большое значение проблеме способа чтения «большой» литературы. Она резко критикует иерархический метод чтения, наделяющий автора почти богоподобным авторитетом над почтительно внимающим читателем/критиком. Ее политический проект заключается в отстаивании права читательницы отказаться от привычной иерархии текста и читателя и утверждать свою позицию. Тем самым ее подход призван разрушить традиционный образ читательницы/критика как пассивной/женственной потребительницы авторитарного дискурса.
Книга Эллманн «Мысли о женщинах» также не обходит стороной проблему чтения текста. По ее мнению, западная культура на всех ее уровнях пронизана, тем, что она называет «мышлением по половой аналогии». Феномен этот реализуется в тенденции «понимать все вокруг, как бы оно не было изменчиво, в терминах наших изначальных и простых половых различий; и ... классифицировать практически любой опыт с помощью половых аналогий». Целью исследования Эллманн является разоблачение этого «абсурдного и нелогичного» способа мыслить и говорить в категориях пола.
В отличие от Миттчелл Эллманн не верит в целостный характер таких систем, как политика или идеология и показывает, как разные их составляющие вступают в конфликт друг с другом. Эллманн отстаивает мысль о том, что сами концепции мужественности и женственности являются социальными производными, отсылающими нас к представлению о мире, как о природной данности. Выбирая прием иронии, она показывает, как описываемые ею стереотипы женского неизменно деконструируют сами себя.
К настоящему этапу Мой относит и развитие направления, получившего название «критика образов женшин». Его анализ Мой проводит на основе сборника Корнийон «Образы женщин в литературе». Этот сборник еще раз подтвердил глубокую приверженность англо-американской феминистской критической школы реалистической традиции. Для ее представителей категории «реальности» и «опыта» классифицируются как наивысшие критерии истинной литературы, как изначальная истина, которую необходимо донести в любой литературной форме. Феминистская критика определяется в этом сборнике как «материалистический подход в литературе, который стремится разрушить формалистскую иллюзию относительно того, что литература не имеет ничего общего с действительностью». Вне всякого сомнения подобная точка зрения нередко приводит к почти абсурдному «ультра-реализму», критикуемому Торил Мой.
Как стремятся доказать критики, изучение «образов женщин» равноценно изучению ложных образов женщин в литературе, описанных авторами обоего пола. Ложные, потому что недостоверные, считают критики. В этой связи Чери Реджистер формулирует политический заказ женской литературе на создание в литературе не просто достоверных женских образов, но образцов для подражания, так как «Литературное произведение должно ... прививать позитивное осознание женской идентичности, изображать женщин «самореализующихся, чье самосознание не зависит от мужчин».
Провозглашая тезис о том, что никакая критика «не свободна от оценочных суждений», что все мы выступаем с собственных позиций, обусловленных культурными, политическими и личностными факторами, авторы сборника настаивают на уточнении роли автора текста. По их мнению, только изначальное предоставление автором читателю всей необходимой информации о себе и своей позиции будет отвечать истинным демократическим принципам. В целом же Корнийон видит задачу новой области феминистских литературных исследований в «стимулировании личностного роста и развитии самосознания личности через связь литературы с жизнью, особенно с опытом самого читателя».
Признавая похвальный пафос этих критических работ, Мой критикует их за нечувствительность к литературным ценностям текста, недостаточный уровень формального анализа и чрезмерную политическую ангажированность.
Второй этап, выделяемый Торил Мой, характеризуется переходом к женско-центрированной позиции. Она исследует его на материале таких трудов, как «Литературная женщина» Эллен Моэрс (Ellen Moers, Literary Women, 1976), «Их собственная литература» Элейн Шоуолтер (Elaine Showalter, A Literature of Their Own, 1977), а также ее статьям: «Сознание и достоверность: к вопросу о феминистской эстетике» и «О феминистской поэтике» (1979) и «Феминистская критика в пустыне» (Feminist criticism in the wilderness 1981) и «Безумная на чердаке» Сандры Гилберт и Сюзан Губар (Sandra Gilbert and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic, 1979). По мнению Мой, с появлением этих работ, ставшими базовыми, профилирующими исследованиями о женщинах-писательницах в британской и американской истории литературы, наступила зрелость англо-американской феминистской критики. На этом этапе радикальная англо-американская феминистская критика стремится разрешить конфликт между феминистской политикой и патриархатной эстетикой. А именно, как оценивать произведение искусства, которое является эстетически ценным, но политически неприемлемым, и наоборот.
Дискуссия в критике прежнего этапа, развернутая вокруг вопроса, рассматривать ли творчество писательниц индивидуально или как отдельной группы, здесь получила однозначный ответ. И если вначале критиков сдерживали опасения, что подобное выделение таит в себе угрозу очередного геттоизирования женщин-писательниц, то к середине 70-х в целом их мнение склонилось в пользу подобного подхода. В трактовке Э. Шоуолтер, эта позиция обосновывается следующим образом: «Исследование творчества женщин-писательниц как отдельной группы не должно основываться на предположении, что они пишут похоже, или их объединяет специфический женский стиль. Но у женщин все же есть своя история, открытая для анализа. Она включает в себя такие сложные факторы, как экономические отношения с литературным рынком; персональное воздействие общих социальных и политических изменений в положении женщин; навязывание писательницам стереотипов женского; и ограничение их творческой самостоятельности».
Этот метолодогический вопрос был важен для рассмотрения проблемы отношений женской литературы с каноном «большой» или Отцовской литературы. Не секрет, что канон предпочитает не оставлять в истории литературы женских имен, те же, которым удаётся прйти его тщательный отбор, призваны скорее подчеркнуть исключительность каждого подобного случая, в смысле его исключения из правила. В другом случае канон апроприирует писательницу, объявляя ее не писательницей, а писателем, не поэтессой, но поэтом, не критикессой, но критиком, тем самым, переводя ее как бы из низшей лиги женской литературы в высшую лигу общечеловеческой литературной традиции, и отторгая ее, тем самым, от ее гендерной авторской субъективности. Неизменность ситуации, при которой женское оттесняется на периферию научного и художественного дискурса, привело феминистских критиков к выводу о необходимости пересмотра традиционных взглядов на литературу и практики письма, а также обнаружения своеобразия женской литературы. На это и направили свои силы критики.
Элейн Шоуолтер уточняет основной тезис книги Моэрс «Литературная женщина» о том, что женская литература представляет собой «быстрый и мощный поток», текущий рядом или под основным потоком мужской литературной традиции. В своей книге «Их собственная литература» Шоуолтер ставит задачу «описать женскую литературную традицию в английском романе от поколения сестер Бронте до наших дней и показать, что формирование этой традиции сходно с формированием любой литературной субкультуры».
Так как литературный канон «великой литературы» призван обеспечить, чтобы будущим поколениям передавался только «показательный опыт» (выбранный мужскими буржуазными критиками), а не те неправильные, не репрезентативные опыты, которые можно обнаружить в большинстве женских, этнических и пролетарских произведений, англо-американская феминистская критика выступила против подобной канонизации мужских ценностей среднего класса. Однако само понятие канона редко подвергается ею сомнению. Так Шоуолтер выдвинула идею о необходимости создания отдельного канона женского письма. Мой критикует подобную инициативу, справедливо замечаея, что сама структура канона имеет репрессирующий характер.
Два типа методологии анализа литературы, сформулированные Шоуолтер, были призваны решить поставленную исследовальницей задачу: «феминистская критика» и «гинокритика». «Феминистская критика» имеет дело с работами авторов-мужчин и описывает женщину как читателя. По словам Шоуолтер, этот критический подход подразумевает «историческое исследование, рассматривающее идеологические постулаты литературных явлений». «Гинокритика» исследует творчество авторов-женщин, соответственно, она должна быть «напрямую связана с феминистскими исследованиями в области истории, антропологии, психологии и социологии, которые все вместе развивают гипотезы о женской субкультуре». Основной интерес «гинокритики» должен быть сосредоточен вокруг «истории, тем, жанров и структуры в литературе, созданной женщинами», равно как и «психодинамики женского творческого процесса» и «изучения конкретных писательниц и их трудов».
Методология «гинокритики» позволила Шоуолтер выделить три стадии развития женской литературы, или, как показали дальнейшие исследования, три практики женского письма, а именно женственную, феминистскую, женскую (фемин- ная, феминистская, фемальная).
Книга Гилберт и Губар «Безумная на чердаке» предложила новую теорию женского литературного творчества. Она отталкивается от предпосылки, что творчество является мужской прерогативой, и, соответственно, доминирующие литературные женские образы также представляют собой мужские фантазии. Основную бинарную оппозицию мужского видения женщины составляют образы ангела и ведьмы. Женщины лишены права творить и создавать собственные образы женского, все, что от них требуется — соответствовать навязанным им патриархатным стандартам. Бунт против подобной стратегии в женской литературе XIX века видится Гилберт и Губар в создании образа женщины-чудовища - женщины, которая не приемлет роли, отведенной ей патриархатом. У нее есть своя история, она отказываться следовать путем «само-отречения» и действует по собственной инициативе.
Концептуализация нового образа женской литературы поднимает проблему женского стиля письма. Истинно женская речь, согласно теории Гилберт и Губар, двулична, но при этом она правдива. Женская стратегия создания текста, по их мнению, состоит в том, чтобы постоянно «критиковать и видоизменять, деконструировать и реконструировать литературные образы, унаследованные от мужской литературы, в особенности ... классических антиподов ангела и чудовища». Это, по теории исследовательниц, и составляет анти-патриархатную стратегию женского письма.
Другой своей стороной эта теория затрагивает дискурсивную проблему женского авторства. Следуя образцам женского, писательницы с одной стороны, находятся под влиянием патриархатных стратегий и кострукций, а с другой, сопротивляются им, что вызывает неизбежный конфликт. По мнению Гилберт и Губар, это находит свой выход в возникновении такого феномена женского авторства, как «женская писательская шизофрения» или «безумный двойник». Так формулируют они особую идентичность женщины-писательницы.
По мнению Торил Мой слабость данной теории заключается в попытке исследовательниц следовать традиционному идеалу цельности, который они стремятся воспроизвести, говоря о женском авторстве, женской литературе и женском стиле.
Аннет Колодны основывается на предположении, что в женском письме есть что-то уникальное и соответственно женская практика письма должна изучаться как отдельная категория. При этом она настаивает на важности феминистского компаративизма. Она считает, что «если мы обязательно хотим обнаружить нечто, что можем четко обозначить как «женственный способ [письма], в этом случае долг чести обязывает нас вычленить и «мужественный способ» как его противоположность».
Колодны выделяет несколько типичных приемов женского письма, среди которых наибольшую важность имеют «рефлексивное восприятие» и «инверсия». Задачу критики она видит в поиске отличий в опыте и переживании. Главным достижением Колодны в контексте дискуссии 80-х Торил Мой считает ее тезис о необходимости отделять политическую идеологию от эстетических суждений. Принципиально важной задачей, стоящей перед феминистскими критиками, Колодны провозглашает уточнение ценности их эстетических суждений: «Каким целям служат эти суждения, спрашивает феминистка; сохранению каких представлений о мире или идеологических позиций они (пусть ненамеренно) способствуют?»
Колодны уже далеко не так убеждена, что феминистская теория должна представлять собой стройную, последовательную структуру, характеризующую любую патриархатную систему, подобно психоанализу или марксизму, перспективу она видит в плюралистичности подходов и контекстов.
Мира Джелен выдвинула теорию о том, что женские исследования должны стать «исследованием всего с позиций женщин». Шоуолтер соглашается с ней в этом, уточняя, что изучение женской традиции в литературе, в первую очередь должно отражать не позицию, а методологический выбор. Однако в дальнейшем Джелен встает перед закономерной дилеммой: если не существует места за пределами патриархата, где женщины могли бы говорить свободно, как объяснить существование феминистского, анти-патриархатного дискурса? Подобно Колодны она настаивает на использовании сравнительного метода для выявления различий между женским письмом и мужским. Различий, которые не сможет выявить исследования исключительно женского письма.
В анализе традиции англо-американской школы феминистской критики Торил Мой также ссылается на работы Марсии Холли, Каролин Хейлбрен, Мишель Барретт, Маркус, Сары Кофман и Ульрике Прокоп, Жанин Шассеге-Смиргель, Коры Каплан, Мэри Якобус, конечно же, на написанный ранее бесценный труд Симоны де Бовуар «Второй пол» (1949).
Хотя, как отмечает Мой, французская феминистская критика достигла расцвета к 1974 году, широко известной она стала только в 80-х. Одной из причин относительно ограниченного влияния французской теории на англо-американских феминисток она считает высокий интеллектуальный уровень этой теори- тической школы. Французские феминистские теоретики были воспитаны на европейской философии (в частности, концепциях Маркса, Ницше и Хайдеггера). Считая Симону де Бовуар своей великой матерью, они выросли вместе с теорией деконструкции Деррида и лакановским пост-структуралистским психоанализом. Все это делало их теорию отчасти «элитарной».
В отличие от англо-американской школы французские теоретики исключительно редко занимаются собственно феминистской литературной критикой. Они предпочитают работать в области философии, текстологии, лингвистики, семиотики или психоаналитической теории. Причем особую значимость в их работе приобретает сам текст исследования, который становится экспериментальным и доказательным полем женских моделей субъективности и женских практик письма. Несмотря на открыто декларируемые феминистские взгляды в своей методологической стратегии эта школа не оспаривает понятие и характер существующего канона и сугубо мужского пантеона французского модернизма (от Лотреамона до Арто или Батая). Если теоретики англо-американской школы феминистской критики рассматривали все через призму политических практик и значительно преуспели в выработке средств сопротивления патриархатным институтам власти, то «француженки» перевели исследования в дискурсивную плоскость. Соответсвенно обе школы имеют в своем багаже принципиально разные подходы к теории и методологии феминистской критики. Они взаимно дополняют общее представление о феминистском литературном критицизме, но при этом остаются абсолютно открытыми для критики с позиций друг друга. Этим приемом и пользуется Торил Мой для того, чтобы наглядее продемонстрировать сильные и слабые стороны стороны этих направлений. Так, работы англо-американских исследовательниц она прочитывает преимущественно с позиций критики Юлии Кристевой, а, например, теории Иригарэ с позиций социально и политически ориентированных критиков. Обращаясь к творчеству Элен Сиксу, Торил Мой рассматривает следующие ее работы: Le Rire de la Meduse» (1975), («Хохот Медузы» (1976)), «Le Sexe ou la tete» (1976), («Кастрация или обезглавливание» (1981)) и La Venue a recriture (1977) и др. Каждая из этих работ была посвящена исследованию отношений между женщинами, женственностью, феминизмом и производством текстов. В целом Сиксу стремится не давать определения, так как они сковывают смысл. Она отвергает и такие практики, как теория и анализ, хотя как теоретик не имеет другого средства для изложения своих идей.
В центре ее критики оказывается феномен, называемый ею «патриархатным бинарным мышлением». Сиксу выстраивает следующий список бинарных оппозиций: Активность/Пассивность, Солнце/Луна, Культура/Природа, День/Ночь, Отец/Мать, Разум/Эмоции, Познаваемое/Ощущаемое, Логос/Патос. Эти понятия, по ее утверждению, соотносятся с лежащей в их основании оппозицией «мужчина/женщина». Далее эти бинарные оппозиции плотно заполняют всю патриархатную систему ценностей: каждую оппозицию можно рассматривать как иерархию, в которой «женская» сторона всегда оказывается негативной, безвластной инстанцией. Все в окружающем мире неизменно, по аналогии возвращается к фундаментальной дуальности «мужское/женское». Таким образом, она становится «главным полем битвы, где вновь и вновь бесконечно разыгрывается борьба за превосходство в означивании». Победа связывается с активностью, а поражение — с пассивностью. Теоретический проект Сиксу направлени на то, чтобы деконструировать эту идеологическую модель. Она меняет знаки: объявляет женщину и символы женского жизнеутверждающими, полными силы и энергии и утверждает открытие новых возможностей с пришествием женского языка.
Согласно теории Сиксу стратегия женского письма, стремящегося к различию, направлена на то, чтобы разрушить фаллогоцентрическую логику и выйти из кристаллической решетки бинарной оппозиции. Причем эмпирический пол автора в этой концепции теряет всякое значение и заменяется «полом письма», поэтому она говорит о «письме, называемом женским» (или мужским).
А раз письмо имеет пол, оно обладает телесностью и сексуальностью, выражает желание. По ее мнению, язык, «называемый мужским», несет в себе фаллическую моносексуальность. В противовес ей Сиксу выдвигает теорию «другой бисексуальности» — письмо, которое не исключает ни различия (более того, оно стремится к нему), ни одного из полов, но отражает множественность и изменчивость.
Несмотря на то, что Сиксу деконструирует бинарную оппозицию женственности и мужественности, она разграничивает «мужскую» и «женскую» либидинальные экономики. В ее теории они возникают, как Царство Свойственного и Царство Дара. Мужественность или мужские системы ценностей структурированы в соответствии с «экономикой свойственного» (Свойственное — собственность — присвоение (proper — property — appropriate)). По ее мнению, настояние на свойственном, на должном возврате объясняет мужскую приверженность к классификации, систематизации и иерархизации.
Сиксу говорит о двух разных видах дара. В первом случае акцент делается на том, как дар воспринимается мужчинами. Как утверждает Сиксу, для мужской психики получение дара таит в себе опасность, потому что символизирует наступление дисбаланса власти. Акт дарения в данном случае становится изысканным средством агрессии, возможностью подвергнуть другого угрозе своего превосходства. В другом своем значении, соотносимом с определением письма, предложенным Деррида, Царство Дара, как женственная/женская либидинальная экономика, открыто различию, готово к «пересечению с другим», характеризуется спонтанной щедростью. «Царство Дара это на самом деле вообще не царство, а охваченное деконструкцией пространство наслаждения и оргазмического обмена с другим».
Не удивительно, что для Сиксу вода видится преимущественно женской стихией, восходящей к доэдипальной стадии нахождения в околоплодных материнских водах. Именно в этом пространстве «говорящий субъект» Сиксу может перемещаться от одной субъектной позиции к другой, или же подобно волне сливаться с миром. Всякое различие здесь отсутствует. В своей собственной текстуальной практике Сиксу словно намерена упразднить все различия, совместить все противоречия, нивелировать разрывы и разграничения, заполнить разломы с избытком, объединить в себе все, пенис и сосок.
Как считает Торил Мой, представление Сиксу о женском письме как о способе установить заново непосредственное отношение к физическому jouissance женского тела может прочитываться позитивно как утопическое видение женской творческой способности в свободном от угнетения и сексизма обществе. Однако при этом мы сталкиваемся с тем, что, деконструктивистскому отношению к текстуальности противопоставляется, и тем самым подрывает его, столь же страстное изображение письма как женской субъективности.
Если для Сиксу водная стихия воплощала в себе идею женского, то для Люс Иригарэ стихией, деконструирующей упрощенческие классификации мужского мышления, был воздух. Образ воздуха удачно отражал тезис Иригарэ о том, что в нашей культуре женщина находится вне репрезентации, она - отсутсвие, темный континент. И вот почему: в трактовке Иригарэ философский мета-дискурс возникает в результате процесса созерцания себя анализируюшим/спекуляризирующим субъектом. Она подчеркивает нарциссичный характер спекуляции философа. Под видом рефлексии над проблемами Бытия человека, то есть мужчины, философ по сути дела саморефлексирует, т.е участвует в процессе спекуляризации, и то, что выходит за рамки результата его саморефлексии кажется ему неприемлемым. Соответственно Иригарэ делает вывод о неспособности западного философского дискурса репрезентировать женственность/женщину иначе, чем как негатив своей собственной рефлексии. Более того, согласно Иригарэ, мужчина неспособен мыслить вне этой спекулярной структуры желания воспроизводства себя на женщину. Так возникает феномен, называемый ею логикой того же самого. Таким образом женщина в концепции Иригарэ не просто Другой, какой видела ее Симона де Бовуар, а Другой мужчины: его зеркальный образ или, точнее, негатив. С этих позиций Иригарэ подвергает серьезной критике терию Фрейда, а частности о зависти к пенису.
Дискурсивный способ женского противостояния Иригарэ видит в женской истеричности. Так, имитирая высокую мужскую трагедию, женщина может выразит хоть часть своего собственного желания. Другая сфера относительно нерепресси- рованной женственности видится ей в мистическом дискурсе.
Большой интерес одновременно с жесткой критикой встретила ее теория о женском наслаждении (Jouissance). В противовес единичному подтверждению пола у мужчины, пол женщины не единичен, а составлен из многих элементов, анатомических и морфологических (губы, вагина, клитор, шейка матки и матка, груди), и поэтому ее jouissance множественно, не унифицировано, оно бесконечно. Женская речь «le parler femme» и письмо в трактовке Иригарэ напрямую связана с теорией наслаждения и определяет женский стиль письма через его связь с жидкостью и осязанием.
Возвращение Иригарэ женщины к ее анатомическому полу вызвало критику среди исследовательниц. Торил Мой также указывает на то, что женщина в концепции Иригарэ представляет собой «простое, неизменное единство, сталкивающееся с монолитным патриархатным угнетением всегда одного и того же типа», что приуменьшает значение ее феминистской теории.
В своем анализе теории Юлии Кристевой Торил Мой обращает внимание на следующие ее исследования: La Revolution du langage poetique [«Революция в поэтическом языке» [1], (1974), Des Chinoises (переведена на английский под названием About Chinese Women [«О китаянках»] (1974), Pouvoirs de l'horreur (1980, на английском вышла под названием Powers of Horror [«Силы ужаса»] в 1982) и Histoires d'amour («Истории любви», 1983).
Кристева внесла существенный вклад в развитие структурной лингвистики. Она предложила видение языка как гетерогенного означивающего процесса, локализованного в говорящих субъектах и между ними. Соответственно она предлагает изучать конкретные лингвистические стратегии в конкретных ситуациях. Это приводит нас к изучению языка как отдельных дискурсов, а не как универсальной языковой системы. Кристева вводит термин «интертекстуальность», призваный продемонстрировать как одни знаковые системы вовлекаются в другие. Как и Бахтин (на работы которого под псевдонимом Волошиннов ссылается Мой), Кристева стремится разрушить традиционные дисциплинарные барьеры между лингвистикой, риторикой и поэтикой, чтобы сконструировать исследовательское поле нового типа: семиотику или теорию текста.
Согласно ее теории, оказавшей огромное влияние на феминистскую критику, мы все используем один и тот же язык, преследуя при этом разные политические и властные интересы. Значение знака остается открытым, таким образ, знак становится «полисемичным», а не «однозначным». Конечно, доминирующая властная группа в каждый произвольно взятый момент контролирует интертекстуальное производство значения, но из этого не следует, что ее оппозиция должна безмолвствовать. Значение знаков можно и нужно менять. Так, например, в современном контексте слова «ведьма» и «стерва» уже получили положительные коннотации. Это доказывает, что изначально язык не несет в себе сексизма, он лишь воспроизводит тот образ, который в данный момент создает социум.
Кристева настаивает на том, что анализ должен разворачиваться не вокруг пола/гендера говорящего, а вокруг того множества дискурсов (включая сексуальность и гендер), которые и создают субъективность.
Исследовательница обходит стороной вопрос о женском и женственном, взамен развивая теорию маргинальности и диссидентства, и соответственно, рассматривая женщин как маргинальную группу. Акцент Кристевой на маргинальности открывает возможность рассматривать женское в терминах не сущностей, но позиций. Это переводит разговор в плокость роли женщины в символическом порядке. Кристева предлагает свою теорию полового различия, связанную с моментом вступления девочки в символический порядок. Так, перед женщиной стоит выбор. С одной стороны, она может отождествлять себя с матерью. Это будет способствовать укреплению доэдипальных компонентов ее психики, но при этом превратит ее в маргинала по отношению к символическому порядку. С другой стороны, — отождествление с отцом. В этом случае идентичность женщины достигает соответствия с господствующим символическим порядком в ущерб женской субъективности. Поэтому в определении Кристевой женственность - это в первую очередь выбор символического порядка, выбор, который стоит как перед женщиной, так и перед мужчиной.
Как и другие французскиетеоретики, Кристева подвергается критике за слабость политической стратегии. Однако это никак не умаляет вклада французских теоретиков в развитие феминистской критики. Книга Торил Мой «Сексуальная/текстуальная политика» принадлежит второму периоду развития англо-американской школы феминистской литературной критики, охватывающему вторую половину 1980-х - конец 90-х годов. Таким образом, она отражает состояние теоретической и методологической практики литературного феминизма конкретного этапа. В этом смысле настоящая книга, имея своим предметом историю литературной критики, сама уже принадлежит ее дальнейшей истории. И в такой же мере, в какой она критически анализирует предшествующие концепции, сама она стала предметом пересмотра и критики последующих исследователей. Переводческий проект книги Торил Мой в целом был направлен на воспроизведение мировоззренческого и понятийного контекста того исторического периода, когда писалась эта книга. Последующее уточнение многих понятий и гипотез, приведенных в этой книге, нисколько не снижает ценность этого исследования. Ведь за тридцать лет своего существования феминистская литературная критика добилась значительных результатов. Критиками был создан новый аппарат литературной теории, со своей понятийной и методологической базой. Ими разработаны новые стратегии анализа классической и женской литературы, мужских и женских текстов. Любое западное исследование в области теории письма и чтения не будет полным без гендерной интерпретации. Гинокритики обнаружили и вернули в литературу имена множества незаслуженно забытых или недооцененных писательниц и провели исследования их творчества, реабилитирующие их наследие. Феминистская литературная критика стала академической дисциплиной, неотъемлемой частью учебного процесса в большинстве демократических стран мира. Иными словами, она сложилась как научная область, в рамках которой проводятся исследования и создаются тексты и которая имеет образовательную ценность. Значительную роль в этом сыграла и книга Торил Мой.
Татьяна Ровенская
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемое Вашему вниманию введение в феминистское литературоведение, на мой взгляд, представляет собой первое серьезное исследование в этом направлении, опубликованное на английском языке. Оно предназначено не только для студентов, изучающих литературу, но для самого широкого круга читателей. Я намеревалась представить два основополагающих подхода, практикуемых в феминистской литературной теории - англоамериканской и французской, подробно рассмотрев работы их главных разработчиков с обеих сторон. Надеюсь, что мне удалось в полной мере раскрыть основные тенденции в этой научной сфере. Вместе с тем, моя работа не претендует на исчерпывающее освещение феминистских критических работ, опубликованных с конца 1960-х годов. В ней также отсутствует детальный обзор различных феминистских прочтений или интерпретаций литературы. Главная задача данного исследования заключалась в рассмотрении методов, принципов и политик в практике феминистской критики.
Один из основных принципов феминистской критики заключается втом, что ни одно суждение не может быть нейтральным. Следовательно, мой собственный взгляд на эту область феминизма базируется на критической позиции. Выступая же с позиций, которые часто приводят меня к несогласию с другими феминистками, я, вероятно, рискую вызвать обвинения в недостатке солидарности с другими женщинами. Должны ли феминистки вообще критиковать друг друга? Если феминистская критика сегодня задыхается от отсутствия серьезных критических дискуссий о политических последствиях своих методологических и теоретических предпочтений - а я считаю, что дело обстоит именно так - ответ на этот вопрос будет, безусловно, утвердительным. Запрет на дискуссии в нашем лагере аналогичен мужской политической позиции левого толка, многократно осуждаемой феминистками. Феминистское движение серьезно проиграет, если идее сестринства удастся заглушить дискуссии по поводу своих политик. Когда Симону де Бовуар спросили, стоит ли критиковать женщин так же строго, как мужчин, онаответила: «Я думаю, каждый должен быть в состоянии сказать: «Нет, нет, так не пойдет! Напиши что-то еще, попытайся сделать лучше. Подними планку требований к себе выше! Быть просто женщиной недостаточно». (Симона де Бовуар сегодня, 117).
Основная задача феминистской критики всегда лежала в области политики: не поддерживать, более того, постоянно разоблачать патриархатные практики. Поэтому я попыталась изложить свою критику теоретических позиций других феминисток в контексте феминистской политики: в конечном итоге именно на этой территории мы, как феминистки, должны узаконивать свою деятельность. Феминизм, преследующий созидательные цели, должен обозначать позиции, с которых он выступает; просто сказать, что выступаешь как феминистка, недостаточно ответственное заявление. Подобно многим феминисткам из академической среды, я говорю как женщина, занимающая весьма шаткое положение в мужском профессиональном мире. Я также говорю как норвежка, преподающая французскую литературу в Англии, как чужак и для Франции, и для англоязычного мира, а значит, как женщина, пишущая на иностранном языке о проблемах, по отношению к которым она остается в положении маргинала. Разумеется, любая маргинальность относительна: я говорю и как белая европейка, получившая традиционное западное образование. И именно поэтому я считаю, что проблемы, поднятые континентальным, британским и американским феминизмом, все еще имеют ключевое значение для моей критической и политической деятельности.
И последнее: понятия «англо-американский» и «французский» не принадлежат национальному контексту: они не указывают на место рождения критиков, а маркируют интеллектуальную традицию, в рамках которой они работают. Поэтому я избегаю считать многих британских и американских женщин, на которых оказала сильное влияние французская теоретическая школа, «англо-американскими» критиками.
Я хотела бы поблагодарить Кембриджский колледж Клэр Холл за стипендию Хамбро, предоставленную мне в 1981/2 учебном году; хотя я не писала эту книгу там, этот год, проведенный в Кембридже, дал мне время осмыслить многие идеи, рассмотренные в настоящем тексте. Благодаря активной поддержке Кейт Белей этот проект впервые «встал на ноги». Я также признательна за искренний отклик моих австралийских слушателей в разных аудиториях в 1983 году: они вдохновили меня, дали необходимую поддержку и чувство уверенности. Также я хотела бы поблагодарить Пенни Бумела, Лору Браун, Терри Иглтон и моего редактора, Теренса Хоукса за их конструктивную критику.
Леди Маргарет Холл, Оксфорд
ВВЕДЕНИЕ Кто боится Вирджинии Вулф? Феминистическое прочтение Вулф
Если ограничиться кратким ответом на вопрос, поставленный в заглавии этой части, он был бы таков: довольно многие феминистские критики. Совершенно не удивительно, что большинство критиков-мужчин считали Вулф легкомысленной богемной дамой, праздной эстеткой из Блумсбери, однако неприятие этой великой феминистской писательницы многими из ее англо-американских дочерей феминисток — факт, требующий серьезного объяснения. Например, негативное отношение к Вулф такого известного феминистского критика, как Элейн Шоуолтер, выдает использование ею в измененном виде заглавия очерка писательницы. Под пером Шоуолтер «Своя комната» (A Room of One's Own) становится «Их собственной литературой» (A Literature of Their Own), как будто Шоуолтер хотела подчеркнуть наличие проблемы и дистанцированность от традиции тех писательниц, творчество которых она хочет вернуть читателю.
Эту главу я начну с анализа некоторых негативных феминистских откликов на творчество Вулф. Наиболее показательна в этом отношении большая, хорошо аргументированная статья Элейн Шоуолтер о Вирджинии Вулф, опубликованная в ее книге «Их собственная литература». Далее я отмечу некоторые отправные точки для другого, более позитивного феминистского прочтения Вулф, чтобы в заключение обобщить наиболее характерные черты феминистской реакции на творчество Вулф. Моя задача — прояснить специфику взаимоотношений между феминистским критическим прочтением и часто неосознанными теоретическими и политическими установками, которые его инспирируют.
Против Вулф
Элейн Шоуолтер отводит большую часть главы, посвященной Вулф, обзору ее биографии и обсуждению эссе «Своя комната». Уже в самом названии этой главы, «Вирджиния Вулф и бегство в андрогинность», проявляется ее отношение к текстам писательницы. Она стремится доказать, что для Вулф концепция андрогинности, определяемая Шоуолтер как «полное равновесие и контроль над эмоциями, включающими в себя элементы мужского и женского» (263), явилась «мифом, который помогал ей избегать конфронтации с собственной болезненной женскостью и давал возможность заглушить и подавить гнев и честолюбие» (264). По мнению Шоуолтер, самым страшным грехом Вулф перед феминизмом было то, что «даже в момент отображения феминистского конфликта Вулф стремилась выйти за его пределы. Ее желание пережить опыт было, в сущности, желанием забыть переживания» (282). Шоуолтер считает, что Вулф настаивает на андрогинной сущности как необходимой черте большого писателя, чтобы убежать от «беспокойного феминизма» (282), и именно этот момент бегства воплощает в себе эссе « Своя комната».
Приступая к исследованию этого очерка, Шоуолтер заявляет:
Нарративная и структурная организация этой книги более всего поражает своей энергией, шармом, живостью, своей разговорной интонацией... В эссе «Своя комната» Вулф использует те же технические приемы, что и в своей беллетристике, в частности, в «Орландо», над которым она работала в это же время, а именно: повторы, гиперболы, пародию, изменчивость и множественность точек зрения. С другой стороны, невзирая на иллюзию спонтанности и интимности, «Своя комната» — это предельно обезличенная книга, написанная с оборонительных позиций. (282)
Шоуолтер дает понять, что Вулф использует в «Комнате» «повторы, гиперболы, пародию, изменчивость и множественность точек зрения» только для того, чтобы создать впечатление «энергии и шарма», а значит, неким образом уводит внимание от того смысла, который Вулф пытается донести до читателя в своем очерке. Она резко осуждает обезличенность «Комнаты». По ее мнению, подобный эффект обезличенности достигается тем, что Вулф использует множество различных персонажей для озвучивания «я» рассказчика, и это приводит к часто повторяющимся сдвигам и смене позиций субъекта. Таким образом автор не помогает критику в формировании единой, цельной позиции, но заставляет его иметь дело с множественностью перспектив. Более того, Вулф отказывается полно и ясно раскрыть собственные переживания, но, напротив, настойчиво маскирует и пародирует их в тексте, вынуждая Шоуолтер делать уточнения для читателя, что «Фернхэм» на сомом деле Ньюнхэм-колледж, что «Оксбридж» на самом деле Кембридж, и так далее.
Постоянно смещающиеся, множественные перспективы, выстроенные при помощи этих приемов, очевидно, раздражают Шоуолтер, которая в конке концов заявляет, что «книга в целом, по-своему провоцирующая, лукавая, уклончивая; Вулф играет со своими читателями, не желая быть совершенно серьезной, отказываясь от каких-либо далеко идущих намерений» (284). По мнению Шоуолтер, феминистка может правильно прочесть эту книгу, только «отстранившись от ее повествовательных стратегий» (285); и у нее это получается, она приходит к выводу, что «Комната» никоим образом не является текстом, призывающим к освобождению:
Если рассматривать «Свою комнату» как пример воплощения женской эстетики в литературной истории и отстраниться от ее повествовательных стратегий, то концепции андрогинности и собственной комнаты не становятся призывом к свободе или такими уж бесспорными, какими кажутся на первый взгляд. В них есть темная сторона, а именно место изгнания и положение скопца. (285)
Творчество Вулф, по мнению Шоуолтер, ежеминутно избегает критической позиции, ее невозможно свести к одному общему углу зрения. И именно эта ее способность уклоняться трактуется как отрицание истинно феминистских взглядов, а именно «гневных и отверженных» (287), и как верность идеалам Блумсбери, когда «политика и искусство существуют раздельно» (288). Для Шоуолтер это расхождение очевидно, поскольку Вулф «уклонилась от описания собственных переживаний» (294). И раз такая уклончивость делает невозможным для Вулф создание настоящего феминистского текста, Шоуолтер, естественно, приходит к выводу, что «Три гинеи» и «Комната» не состоялись как феминистские очерки.
На мой взгляд, отстраняться от повествовательных стратегий «Комнаты» равноценно тому, чтобы не читать ее вовсе. Нетерпимость Шоуолтер по отношению к очерку мотивируется в большей степени его формальными и стилистическими особенностями, нежели идеями, которые она приписывает его содержанию. Но для более глубокой аргументации этой позиции необходимо прежде всего подробнее рассмотреть теоретические взгляды Шоуолтер, касающиеся взаимосвязи эстетики и политики.
Непосредственно, теоретические позиции Шоуолтер в статье «Их собственная литература» никак не проясняются. Однако на основе тех положений, которые мы рассмотрели, разумно было бы предположить, что, по ее мнению, текст должен отражать опыт автора, и, чем более достоверным сочтет его читатель, тем большую ценность он будет иметь. По словам Шоуолтер, очерки Вулф не способны передать какой-либо непосредственный опыт читателю в силу того, что Вулф принадлежала к высшему обществу и не располагала необходимым негативным опытом, достаточным для хорошей феминистской писательницы. Это, по утверждению Шоуолтер, становится особенно очевидным в «Трех гинеях»:
Вулф подводит ее собственная изоляция от общего женского опыта. Многие были возмущены классовым высокомерием, проявленным в книге, равно как и политической наивностью. Но что более важно, Вулф была отчуждена от повседневной жизни тех женщин, которых хотела вдохновить; она протестовала против тех аспектов женского опыта, которые не были знакомы ей лично, избегая при этом описания собственного опыта. (294)
Далее Шоуолтер выстраивает свой анализ, опираясь на «предельно точный "Детальный разбор" К.Д. Ливис (Q.D.Leavis, Scrutiny review), "поскольку Ливис рассматривает проблему женского опыта, давая ясно понять, что, он был практически неизвестен Вулф"» (295).
Таким образом, Шоуолтер безапелляционно определяет полезное феминистское произведение как труд, воплощающий в себе яркое проявление личного опыта в социальном контексте. Исходя из этого определения, очерки Вулф также не могут считаться политическими произведениями. Как мы видим, Шоуолтер, не признавая реальной ценности модернизма Вирджинии Вулф, является, в сущности, сторонницей литературного жанра, широко известного как критический или буржуазный реализм. Не случайно Шоуолтер в своей статье о Вулф ссылается только на одного из ведущих литературных теоретиков — марксиста Георга Лукача (296). Учитывая то, что саму Шоуолтер вряд ли можно заподозрить в приверженности марксизму, эта отсылка может удивить многих читателей. Но Лукач был одним из главных поборников реалистического романа, считая его высшей формой прозаического произведения. Великие реалисты, такие как Бальзак и Толстой, по его мнению, сумели раскрыть всю полноту человеческой жизни в социальном контексте, сформулировав тем самым основополагающую историческую истину: «непрерывное эволюционное восхождение человечества» (Лукач, 3). Объявив себя «пролетарским гуманистом», Лукач утверждает, что «целью пролетарского гуманизма является реконструкция полноценной человеческой личности и ее освобождение от последствий насилия, которому она подвергалась в классовом обществе» (5). Он трактует великую классическую традицию в искусстве как попытку утвердить идеал полноценной человеческой личности даже в тех исторических условиях, которые препятствуют ее реализации вне искусства.
Необходимый уровень объективности в изображении человеческого субъекта — как индивидуума, так и гражданина — возможен в искусстве только через изображение определенных типичных образов. Лукач утверждает, что типичный образ являет собой «некий синтез; то, что органически связывает общее и специфическое в персонажах и ситуациях» (6). Далее он приходит к выводу, что «истинный великий реализм» превосходит все другие формы искусства:
Истинный великий реализм раскрывает не отдельные стороны человека и общества, он воссоздает их как полноценные сущности. С позиции этого критерия цельности, художественные направления, основанные либо исключительно на самоанализе, либо на поверхностных суждениях, одинаково обедняют и искажают действительность. Следовательно, реализм — это трехмерное всестороннее отображение реалистических персонажей и человеческих взаимоотношений.
В контексте подобного восприятии искусства можно предположить, что для Лукача любое искусство, которое представляет «разделение цельной человеческой личности между общественной и личной сферами» способствует «расчленению сущности человека» (9). Именно эта сторона эстетической теории Лукача оказывается наиболее привлекательной для многих феминисток. Особый протест у Патриции Стаббс вызывает отсутствие полноценного отображения частной и трудовой жизни женщин во всех романах, написанных мужчинами и женщинами в период между 1880 и 1920 годами. Стаббс соглашается с неодобрительной оценкой Шоуолтер творчества Вулф, заявляя, что у Вулф «отсутствует последовательное стремление создавать новые идеалы, новые образы женщин» и что «эта неспособность внедрить свои феминистские взгляды в свои романы, вероятно, происходит, пусть отчасти, из ее эстетических теорий» (231). Однако эта потребность в новых, реалистических образах женщин изначально предполагает, что феминистские писательницы хотят использовать исключительно реалистические литературные формы. На этом основании и Стаббс, и Шоуолтер не приемлют присущее, по их мнению, Вулф стремление облекать все в «туман субъективных ощущений» (Стаббс, 231). Тем самым они невольно следуют сталинистским убеждениям Лукача относительно «реакционной» природы модернистской литературы. Лукач утверждал, что модернизм символизирует крайнюю форму раздробленного, субъективистского, индивидуалистского психологизма, присущего угнетенному и эксплуатируемому субъекту капитализма [1]. Он считал футуризм и сюрреализм, равно как Джойса и Пруста, декадентским, реакционным наследием великого антигуманиста Ницше, а искусство этих писателей поставленным на службу фашизму. Только сильная вера в гуманистические ценности и преданность им может сделать искусство мощным оружием в борьбе с фашизмом. Именно эта приверженность Лукача к единой гуманистической эстетике уже в 1938 году привела его к убеждению, что только Анатоль Франс, Ромен Роллан, Томас и Генрих Манны могут считаться великими писателями первой половины двадцатого века.
Шоуолтер, в отличие от Лукача, конечно же, не пролетарский гуманист. Несмотря на это, в ее литературном анализе прослеживается стойкая, непоколебимая вера в ценности если не пролетарского гуманизма, то традиционного буржуазного гуманизма либерально-индивидуалистического толка. Там, где Лукач обнаруживает гармоничное развитие «цельной личности», изможденного и угнетенного бесчеловечными социальными условиями капитализма, Шоуолтер исследует безжалостное угнетение женского потенциала сексизмом патриархатного общества. Сам Лукач никогда не проявлял интереса к специфическим проблемам, затрудняющим развитие женщин как цельных и гармоничных личностей в условиях патриархата. Несомненно, он наивно полагал, что, как только будет построен коммунизм, все, включая женщин, станут свободными личностями. В свою очередь, Шоуолтер не интересуют проблемы борьбы с капитализмом и фашизмом. Задача политического искусства ограничивается для нее борьбой против сексизма. В результате она оказывается неспособной оценить достижения Вирджинии Вулф в разработке весьма оригинальной теории о связи сексизма и фашизма в «Трех гинеях». Более того, она не одобряет попытку Вулф связать в том же очерке идеи феминизма с пацифизмом:
«Три гинеи» звучат фальшиво. Слишком часто это просто пустые лозунги и клише; стилистические приемы — повторы, гиперболы и риторические вопросы, — столь органичные в «Своей комнате», здесь звучат истерично и вызывают раздражение. (295)
Традиционный характер гуманизма Шоуолтер явственно проявляет себя, когда она сначала критикует Вулф за излишнюю субъективность, пассивность и желание убежать от женской тендерной идентичности, спрятавшись за идеей андрогинности, а затем упрекает Дорис Лессинг за то, что в ее поздних произведениях «женское «я» сливается с обобщенным коллективным сознанием» (311). Обе писательницы, по ее мнению, совершают ошибку, отвергая основную потребность личности — обретение цельной идентичности. И Вулф, и Лессинг радикальным образом подрывают концепцию автономной личности, важнейшую концепцию западного мужского гуманизма, столь важную для феминизма Шоуолтер.
Стаббс и Шоуолтер открыто поддерживают взгляды Лукача на суть политики — как на правильное содержание, нашедшее воплощение в корректной реалистической форме. По мнению Стаббс, Вирджиния Вулф терпит неудачу из-за своей неспособности дать «правдивое изображение женщин», изображение, которое в равной степени воссоздаст личное и публичное. Шоуолтер, со своей стороны, сетует на отсутствие у Вулф чувствительности к тому, «как [женский опыт] придает [женщинам| силу» (185). Из этих критических замечаний следует, что хорошая феминистская литература должна изображать правдивые образы сильных женщин, с которыми читательница могла бы себя отождествлять. Подобную позицию излагает в своей статье «Сознание и достоверность: к вопросу о феминистской эстетике» Марсия Холли. По ее мнению, новая феминистская эстетика может отказаться «от формалистской критики и настаивать на оценке на основе принципа достоверности» (4). Также ссылаясь на Лукача, Холли заявляет, что как феминистки,
мы ищем истинно революционное искусство. Содержание произведения, разумеется, может не быть феминистским, но если оно гуманистическое — оно революционное. Революционное искусство — это то, которое вычленяет самую суть человеческих проблем, а не навязывает лживые идеологии. (42)
Из такой универсалистской гуманистической эстетики, по мнению Холли, непосредственно вытекает потребность в литературном изображении сильных, энергичных женщин. Это невольно воскрешает в памяти то, как Съезд советских писателей в 1934 году требовал утверждения социалистического реализма. Как будто теперь вместо счастливых трактористов и заводских рабочих нам стали нужны сильные и счастливые трактористки. «Реализм, — пишет Холли, — прежде всего требует последовательного (непротиворечивого) осмысления тех проблем (эмоций, мотиваций, конфликтов), которым непосредственно посвящено произведение» (42). Позиция Холли в целом повторяет аргументы Шоуолтер, настаивающей на однозначном видении и раздражающейся оттого, что Вулф использует подвижные, плюралистические точки зрения и отказывается принять на себя любое из многих «я», населяющих ее текст. Так аргументация прошла весь путь своего развития и вернулась к исходной точке.
Как мы видим, феминистки, подобные Шоуолтер и Холли, оказались не способны осознать тот факт, что традиционный гуманизм, ценности которого они отстаивают, является, в сущности, частью патриархатной идеологии. В центре ее располагается «цельнокроеный», единый субъект —индивидуум или коллектив, — который обычно определяется как «Мужчина». Как сказали бы Люс Иригарэ или Элен Сиксу, в действительности это фаллическое существо, сконструированное по модели самодостаточного могущественного Фаллоса. Он полностью автономен и неуязвим для любых конфликтов, противоречий и неопределенностей. С позиций гуманистической идеологии это существо — единственный автор истории и литературного текста: гуманистический творец — мужчина. Он могущественен, фаллоподобен, он — Бог по отношению к своему миру, автор по отношению к своему тексту [2]. История текста становится не чем иным, как «самовыражением» этого уникального существа: вся сфера искусства становится его автобиографией, единственным окном, через которое мы смотрим на это существо и на окружающий мир, не имеющий другой реальности. Тексту отводится функция «женского рода» — пассивно отражать безусловный, данный свыше, «мужской» мир этого субъекта.
Спасение Вулф для феминистской политики: альтернативное прочтение
До сих пор мы обсуждали те аспекты теории Лукача, которые нашли свое отражение во многих современных критических работах феминисток. Однако данный подход имеет существенный недостаток: благодаря ему творчество величайшей писательницы Великобритании нашего столетия оказалось отторгнутым феминизмом, несмотря на то что Вулф была не только исключительно одаренной романисткой, но и признанной феминисткой и преданной читательницей других авторов-женщин. Но если феминистские критики не могут предположить позитивного литературного и политического осмысления творчества Вулф, то закономерным было бы предположение, что ошибка кроется в их собственном критическом и теоретическом подходе, а не в текстах Вулф. Существует ли альтернатива негативному прочтению Вулф? Может быть, оперируя другим теоретическим подходом, мы сумеем реабилитировать Вирджинию Вулф в глазах феминистской политической идеологии [3]?
По мнению Шоуолтер, литературный текст должен гарантировать читателю определенную степень надежности, прочное основание, позволяющее судить об окружающем мире. Вулф, в свою очередь, использует то, что мы сегодня могли бы назвать «деконструктивным» способом письма, который воплощает в себе, и тем самым обнажает, двойственную природу дискурса. В своей практике письма Вулф намеренно выбирает приемы, позволяющие убедиться в том, что язык отказывается быть привязанным к основному, изначальному значению. С точки зрения французского философа Жака Деррида, язык структурирован как многократное откладывание смысла, и, следовательно, любой поиск изначального, абсолютного, устойчивого смысла следует считать метафизикой. Не существует конечной сути, главной единицы измерения, нет трансцендентного (универсального) означающего, обладающего собственным смыслом, а значит, и свободного от непрерывного взаимодействия лингвистического откладывания, как и от различий. Свободная игра означающих никогда не производит конечного, универсального значения, которое, в свою очередь, могло бы обосновать и объяснить другие. Данная лингвистическая и текстуальная теория позволяет увидеть в подвижной перспективе и чередовании ракурсов — в художественных произведениях Вулф — и в «Комнате» нечто большее, чем сознательное стремление раздражить серьезно настроенного феминистского критика. Делая сознательный выбор в пользу игривой, чувственной природы языка, Вулф отвергает метафизический эссенциализм, лежащий в основе патриархатной идеологии, провозглашающей Бога, Отца или Фаллос своим трансцендентным означающим.
Но Вулф не просто оспользует не-эссенциалистскую форму письма. Она идет дальше, демонстрируя весьма скептическое отношение к мужской гуманистической концепции человеческой сущности (essential human identity). Ибо чем может быть эта самотождественная сущность, если все смыслы и значения есть непрерывная игра различий, если отсутствие является обоснованием смысла в той же мере, что и присутствие? Гуманистическая концепция сущности (идентичности) критикуется и в психоаналитической теории, которая, несомненно, была известна Вулф. Издательство «Хогарт Пресс», основанное Вирджинией и Леонардом Вулф, напечатало первые английские переводы главных трудов Фрейда, и когда Фрейд приехал в Лондон в 1939 году, Вирджиния Вулф нанесла ему визит. Фрейд, как нам загадочно сообщают, подарил ей нарцисс.
И Вулф, и Фрейд понимали, что подсознательные порывы и желания оказывают сильное влияние на наши осознанные мысли и действия. С позиций психоанализа человеческий субъект — сложное существо, и его сознание являет собой лишь верхушку айсберга. Если согласиться с таким представлением о субъекте, то под сомнение ставится и тезис о том, что наши даже осознанные желания и чувства порождены некой единой, нераздельной сущностью (unified self). Мы не можем это утверждать, поскольку не обладаем знанием о возможно безграничных подсознательных процессах, формирующих наше сознание. В таком случае сознание следует рассматривать как «сверхдетерминированное» (overdetermined) проявление множественности взаимовлияющих конструкций, формирующих то зыбкое состояние, которое либеральные гуманисты называют «личностью». Эти конструкции не только подвержены подсознательным сексуальным желаниям, страхам и фобиям, но находятся под влиянием массы противоречий, социальных, политических и идеологических факторов, которые мы также мало осознаем. С позиции антигуманиста, именно это весьма сложное переплетение конфликтующих друг с другом конструкций формирует субъекта и его опыт, а не наоборот. Такое убеждение, разумеется, ни в коем случае не предполагает, что любой индивидуальный опыт менее реален или ценен; но из этого следует, что подобные опыты нельзя понять иначе, кроме как осмысляя их множественные определяющие факторы — факторы, лишь одним из которых является сознание, в этом случае потенциально обманчивое. Если применить настоящий подход к литературному тексту, то поиск унифицированной человеческой сущности, или тендерной идентичности, и даже лирического «я» в литературном произведении следует воспринимать как предельно упрощенный.
И в этом смысле предлагаемая Шоуолтер тактика отрешения от повествовательных стратегий текста равноценна отказу от его прочтения. Ведь, только детально исследуя стратегии текста на всех его уровнях, мы получаем шанс обнаружить отдельные конфликтующие, противоречивые элементы, благодаря которым создается именно этот текст, именно с этими словами и в этих сочетаниях. Гуманистическое пристрастие к общности взглядов или мыслей (или, как у Холли, «непротиворечивому восприятию мира») на самом деле оборачивается призывом к упрощенному пониманию литературы — пониманию, которое, особенно в случае писательницы-экспериментатора Вулф, не позволит проникнуть в суть основных проблем, поднятых новаторскими формами повествования. Бертольт Брехт, оппонент марксиста Лукача, считал идею «непротиворечивого восприятия мира» наиболее опасной и реакционной.
Французский философ и феминистка Юлия Кристева утверждает, что модернистская поэзия Лотреамона, Малларме и других является «революционной» формой письма. Модернистское стихотворение с его резкими переходами, опущениями, разрывами и намеренным отсутствием логического построения — это способ письма, при котором ритмы тела и бес сознательного способны пробить мощные преграды рационального стандартного социального мышления. Для Кристевой, считающей подобное стандартное мышление структурой, поддерживающей весь символический порядок, то есть все социальные и культурные институты человечества, дробление языка символического в модернистской поэзии — явление равное по своему значению всеобщей социальной революции и служащее ее прообразом. Другими словами, Кристева утверждает особый способ письма, который сам по себе «революционен», аналогичен сексуальным и политическим преобразованиям, и самим фактом своего существования свидетельствует о возможности преобразования символического порядка традиционного общества изнутри [5]. На этом основании можно утверждать, что отказ Вулф в своих очерках хранить верность так называемой рациональной или логической традиции письма, свободной от художественных изысков, означает такой же разрыв с символическим языком. Эта же тенденция распространяется и на приемы, разрабатываемые ею в романах.
Как утверждает Кристева, многие женщины способны разрушить свой язык при помощи так называемой «спазматической силы» (spasmodic force) бессознательного, поскольку у них сохраняется сильная связь с до-эдиповым образом матери. Но если эти подсознательные пульсации полностью завладевают субъектом, субъект может впасть в до-эдиповый, или воображаемый, хаос и заболеть психически. Другими словами, субъект, чей язык открывается силам, способным разрушить символический порядок, рискует впасть в безумие больше, чем другие. В этом смысле периодические приступы психического расстройства Вулф можно связать и с ее нарративными стратегиями, и с феминизмом. Ибо символический порядок — это патриархатный порядок, регулируемый Законом Отца, и любой субъект, пытающийся его нарушить, тот, кто позволяет силам подсознательного проскользнуть сквозь репрессии символического, неизбежно протестует против этого режима. Вулф испытала на себе жестокое патриархатное давление психиатрических учреждений, и в романе «МиссисДэллоуэи» мы встречаем блестящие сатирические нападки на представителей этого социального института (в лице сэра Уильяма Брэдшоу). Одновременно писательница стремится изобразить сознание, погружающееся в хаос «воображаемого», с великолепной проницательностью воплощенное в фигуре Септимуса Смита. Поистине, Септимуса можно считать антиподом Клариссы Дэллоуэй, которая сама избегает кошмарной пучины безумия только ценой подавления собственных страстей и желаний, превратившись в холодную, но блестящую женщину, вызывающую восхищение патриархатного общества. Для Вулф это способ продемонстрировать, с одной стороны, опасность, таящуюся в бессознательных импульсах, и с другой стороны, ту цену, которую вынуждена заплатить героиня за сохранение «здравого рассудка», за сохранение шаткого равновесия между преувеличенным страхом перед так называемым «женским» безумием и слишком поспешным отказом от ценностей символического порядка [6].
Очевидно, что для Юлии Кристевой не биологический пол человека определяет его революционный потенциал, но субъективная позиция, которую она или он занимают. Ее представления о феминистской политике несут в себе отрицание биологизма и эссенциализма. Она считает, что феминистская борьба исторически и политически должна рассматриваться как трехступенчатый процесс, который схематически может выглядеть следующим образом:
1. Женщины требуют равного доступа к символическому порядку. Либеральный феминизм. Равенство. 2. Женщины отказываются от символического порядка во имя различий. Радикальный феминизм. Возвышение всего женского. 3. (Это позиция, выработанная Кристевой). Женщины отвергают дихотомию мужского и женского как метафизическую.
Третий тезис деконструирует противопоставление мужественности и женственности и тем самым неизбежно подвергает сомнению само понятие идентичности. Кристева пишет:
Согласно третьему положению, которое я активно отстаиваю — которое я придумала? — саму дихотомию мужчина/женщина как противопоставление двух противоборствующих сущностей следует отнести к метафизике. Что может означать «идентичность», даже «сексуальная идентичность» в новом теоретическом и научном пространстве, где само понятие идентичности под вопросом? («Women's time», 33-34)
Связь между вторым и третьим положениями требует дополнительного разъяснения. Если отстаивание третьего положения подразумевает отказ от второй стадии (но я думаю, что это не так), это было бы прискорбной политической ошибкой.
Для того чтобы противостоять патриархатному угнетению, поскольку оно принижает женщин как женщин, феминисткам все еще политически необходимо защищать женщин как женщин. Но «недеконструированная» форма феминизма второго этапа, не осознающая метафизической природы тендерных идентичностей, рискует обернуться перевернутой формой сексизма. Это может произойти при некритичном принятии метафизических категорий, установленных патриархатом для того, чтобы указывать женщинам их место, невзирая на все попытки увязать новые феминистские ценности со старыми категориями. Тем самым принятие «деконструктивистского» феминизма Кристевой, с одной стороны, оставляет все на своих местах — наша позиция в политической борьбе не изменилась, — с другой же, радикально трансформирует наше представление о сущности этой борьбы.
Прочтение с этих позиций романа «На маяк» позволяет увидеть деструктивную сущность метафизической веры в стойкие, непоколебимые, фиксированные гендерные идентичности, представленные образами мистера и миссис Рэмзи, в то время как Лили Бриско (художница) является субъектом, деконструирующим это противопоставление. Лили осознает его разрушительное влияние и пытается, насколько возможно, жить в соответствии со своими представлениями, невзирая на те ущербные определения половой идентичности, которые навязывает ей общество. Именно в этом контексте следует рассматривать ключевую концепцию андрогинности Вулф. Это не бегство от жестких тендерных определений, как считает Шоуолтер, но понимание их ложной метафизической сущности. Она избегает четких тендерных определений не из страха перед ними, Вулф отказывается от них, потому что видит их истинную природу. Она поняла, что главная цель феминистской борьбы заключается в деконструкции убийственного бинарного противопоставления мужественности и женственности.
В своей замечательной книге «К вопросу об андрогинности» (Carolyn Heilbrun, Toward Androgyny), опубликованной в 1973 году, Каролин Хейлбрен дает свое собственное, но близкое Кристевой определение андрогинности как «безграничной, и, следовательно, изначально не определяемой сущности» (nature) (xi). Но далее, когда ей требуется провести различие между ан- дрогинностью и феминизмом, она безоговорочно объявляет Вулф не феминисткой. Таким образом, ее разграничение, очевидно, основывается на представлении, что только первые две стадии из трех, выделенных Кристевой, можно рассматривать как феминистские стратегии. Она признает, что в современном обществе трудно отделить сторонниц идеи андрогинности от феминисток, «из-за власти, которая сейчас находится в руках мужчин, и из-за политической слабости женщин» (xvi—xvii). Но при этом она исключает возможность того, что феминистки на самом деле могут стремиться к андрогинности. Возражая Хейлбрен, я бы руководствовалась тезисом Кристевой о том, что теория, требующая деконструкции половой идентичности, является подлинно феминистской. Что касается Вулф, вопрос, скорее, ставится так: не помешало ли очевидно продвинутое понимание феминистских целей занять Вулф прогрессивную политическую позицию в феминистской борьбе того времени? Если вспомнить «Три гинеи» (и «Свою комнату»), ответ будет, несомненно, отрицательным. В «Трех гинеях» писательница демонстрирует глубокое понимание тех опасностей, которые несет в себе либеральный и радикальный феминизм (положения один и два у Кристевой), и, наоборот, приводит доводы в пользу «стадии три». Однако, несмотря на несогласие, в конечном итоге она приходит к твердому убеждению о необходимости прав женщин на финансовую независимость, образование и профессиональный труд — что было основными феминистскими требованиями в 1920-х и 1930-х годах.
Нэнси Топпинг Бейзин (Nancy Topping Bazin) толкует андрогинную концепцию Вулф как единство мужественности и женственности — позиция, в сущности, прямо противоположная деконструкции этой двойственности. Для Бейзин мужественность и женственность у Вулф — это понятия, несущие в себе первичный заряд значения. На этом основании она утверждает, что Лили Бриско в романе «На маяк» столь же женственна, как и миссис Рэмзи, и что проблема андрогинности в романе разрешается в попытке найти равновесие между мужским и женским «пониманием истины» (138). Герберт Мардер (Herbert Marder) в своей работе «Феминизм и искусство» {Feminism and Art), напротив, прибегает к традиционной аргументации, настаивая на том, что образ миссис Рэмзи нужно рассматривать как идеал андрогинности: «Миссис Рэмзи как жена, мать, хозяйка — андрогинный художник, творящая самой своей жизнью» (128). Хейлбрен справедливо отвергает такое толкование, утверждая, что:
...только продравшись сквозь сентиментальный туман и вызывающую некоторое недоумение биографическую информацию, нам удается обнаружить, что миссис Рэмзи отнюдь не андрогинное и цельное существо, она, как и ее муж, однобока и не любит жизнь. (155)
Множество критиков, считающих вместе с Мардер миссис Рэмзи и миссис Дэллоуэй идеалом женственности, воплощенным Вулф, тем самым обнаруживают либо свой рудиментарный сексизм — два пола принципиально различны и должны оставаться таковыми, — либо свою приверженность тому, что Кристева назвала бы «феминизмом второй стадии»: женщины отличаются от мужчин, и давайте прославим превосходство этого пола. И то и другое является ошибочным толкованием текстов Вулф, как и в том случае, когда Кейт Миллетт пишет:
Вирджиния Вулф идеализировала двух домохозяек, миссис Дэллоуэй и миссис Рэмзи, описала самоубийственные страдания Роды в «Волнах», даже не объясняя их причин. Она пыталась быть убедительной, раскрывая на примере Лили Бриско неудовлетворенность женщины-художника, впрочем, безуспешно. Вероятно, из-за собственного неверия. (139-140)
По всей видимости, наилучшие перспективы феминистскому прочтению Вулф открывает сочетание теорий Деррида и Кристевой. Важно при этом осознавать политическую ограниченность аргументации Кристевой. Хотя ее представления о «политиках субъекта» (politics of the subject) вносят значительный вклад в революционную теорию, ее вера в то, что революция внутри субъекта служит прообразом последующей социальной революции, делает глубоко проблематичным любой материалистический анализ общественных проблем. Сильной стороной теории Кристевой являются ее исследования в области языковых политик как телесных и социальных конструктов, но в то же время она не уделяет должного внимания другим, конфликтующим между собой, идеологическим и материальным конструктам — необходимым составляющим любого радикального преобразования. Эти и другие проблемы будут рассматриваться в главе, посвященной теории Кристевой. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что «решение» поставленных Кристевой проблем не означает поспешного возвращения к идеям Лукача, оно предполагает переоценку ее идей с целью включения их в более широкий контекст феминистской теории и идеологии.
Мишель Барретт (Michele Barrett) — феминистский марксистский критик указывала на материалистические аспекты политических убеждений Вулф. Во вступлении к своей работе «Вирджиния Вулф: Женщины и литература» она пишет: «Критические эссе Вирджинии Вулф представляют для нас не имеющую себе аналогов картину развития женской литературы, всестороннее исследование творчества ее предшественниц и современниц. При этом они демонстрируют должное внимание к материальным условиям как фактору, формирующему женское сознание. (36) Однако Барретт воспринимает Вулф только в качестве эс- сеистки и критика, полагая, что, когда дело доходит до беллетристики, эстетические теории Вулф, особенно концепция ан- дрогинного искусства, «упорно противоречат материалистическим взглядам, которые она демонстрирует в эссе «Своя комната» (22). Но, как я уже говорила, прочтение Вулф с позиции теории Кристевой отвергает подобное бинарное противопоставление эстетики, с одной стороны, и политики — с другой. В ее трактовке политика письма Вулф раскрывается именно через приемы письма (textual practice), и эти приемы достигают гораздо большей выразительности в романах писательницы, чем в ее очерках.
Другая группа феминистских критиков, объединившихся вокруг Джейн Маркус (Jane Marcus), последовательно отстаивает радикальное прочтение произведений Вулф, не апеллируя ни к марксистской, ни к постструктуралистской теории. Джейн Маркус считает Вулф «партизанкой в викторианской юбке» (1) и видит в ней борца за идеи социализма и феминизма. Однако статья Маркус «Осмысляя прошлое через наших матерей» (Thinking back through our mothers) со всей очевидностью дает понять, что убедительно доказать данный тезис исключительно трудно. Статья начинается со следующего утверждения:
Писательство само по себе было для Вирджинии Вулф революционным жестом. Ее отчужденность от британской патриархатной культуры, всех капиталистических и империалистических установок и ценностей была настолько велика, что пропитывала страхом и решимостью даже сам процесс ее творчества. Партизанка в викторианской юбке, она дрожала от страха, готовясь к нападению, к рейдам на врага. (I)
Должны ли мы думать, что связь между первым и последующими предложениями случайна — что писательство было революционным жестом для Вулф, потому что ее видели дрожащей в процессе работы над текстом? Или же этот абзац следует понимать как развернутую метафору, как отображение страхов любой женщины, пишущей в условиях патриархата? Но в последнем случае это ничего не скажет нам о специфике авторского стиля Вулф. Быть может, первое предложение претендует на то, что последующие должны лишь подкрепить сказанное? Но и в этом случае аргумент неубедителен, так как Маркус без доли сомнения апеллирует к биографическим фактам с целью подкрепить свой тезис о характере литературного стиля Вулф: читателя убеждают не при помощи текста, но находя опору в биографических обстоятельствах. Так ли важно знать, имела ли Вулф привычку дрожать за письменным столом? Может быть, гораздо важнее, что она писала? Подобного рода эмоциональная аргументация снова всплывает в пространном исследовании, посвященном мнимому сходству Вулфс немецким марксистским критиком Вальтером Беньямином («С наступлением фашистской тирании и Вулф, и Беньямин предпочли самоубийство изгнанию» (7)). Как бы мы ни хотели придать политическое содержание ее частной жизни, самоубийство Вулф в собственном саду в неоккупированной Англии нужно рассматривать в ином контексте, чем самоубийство Беньямина на испанской границе, куда он, немецкий еврей, бежал, спасаясь от нацистской оккупации Франции, боясь быть выданным в руки гестапо. Пользуясь биографическими аналогиями, Маркус пытается доказать исключительность личности Вулф. В связи с этим она обращается к приемам традиционной историко-биографической критики, бывшей в моде до появления американских Новых Критиков в 1930-х. Вопрос же о том, насколько радикальный феминизм может опираться на такие традиционные методы, не модифицируя их, остается дискуссионным.
Как мы могли убедиться, современная англо-американская феминистская критика склонна рассматривать творчество Вулф в традиционных эстетических категориях, в основном опираясь на либерально-гуманистическую версию эстетики Лукача, с которой Брехт столь успешно полемизировал. Нам еще только предстоит написать свою антигуманистскую версию прочтения Вулф, позволившую бы, как я пыталась показать, выявить политическое содержание ее эстетики. Единственное исследование творчества Вулф, включающее в себя элементы постструктуралистского анализа, написано мужчиной, Перри Майзелем (Perry Meisel), и, хотя оно, несомненно, антифеминистское, или, точнее, не-феминистское, в нем немало внимания уделяется влиянию на Вулф Вальтера Патера. Майзель — единственный из известных мне критиков, кто понял радикальный, деконструктивный характер текстов Вулф:
Существование «различия» как главенствующего принципа в творчестве Вулф и Патера не дает возможности для утверждения каких-либо природных или неотъемлемых свойств, даже у представителей разных полов, потому что любой персонаж, любой язык, даже язык сексуальности, возникает в самом себе через различие. (234)
Майзель также отмечает, что этот принцип различия не позволяет отдать предпочтение той или иной работе Вулф как более характерной для нее, более «вулфовской», чем другие, так как явное расхождение ее текстов между собой «не позволяет ни на минуту поверить в то, что одно достижение Вулф важнее другого» (242). По мнению Майзеля, мы не вправе настаивать на логической взаимосвязи автора и авторского «я» в дискурсе, который смещает или децентрализует их обоих, искажает категории, на которые мы пытаемся ссылаться». (242)
Итак, наше исследование особенностей феминистского восприятия творчества Вулф приходит к парадоксальному выводу: ей еще предстоит получить должное признание у своих феминистских дочерей в Англии и Америке. До сегодняшнего дня они либо отвергали ее как несостоявшуюся феминистку, либо превозносили, но на основаниях, не имеющих отношения к ее творчеству. Своей вольной или невольной приверженностью гуманистическим эстетическим категориям традиционной мужской академической иерархии критики-феминистки значительно снизили результаты своей борьбы с этим институтом. В этом случае единственным различием между феминистским и не-феминистским критиком становится лишь формальная политическая позиция критика. Следовательно, критик-феминистка невольно сама ставит себя в положение, в котором восприятие Вирджинии Вулф как прогрессивной и гениальной писательницы-феминистки, каковой она, несомненно, была, становится невозможным. Поэтому нашей задачей становится формирование феминистской критики, которая сможет восстановить справедливость и выказать должное уважение своей великой матери и сестре.
ЧАСТЬ I Англо-американская феминистская критика
Глава 1 Два классика феминизма
В 1960-х годах, впервые после того, как было завоевано право голоса для женщин, феминизм снова проявил себя как важная политическая сила западного мира. Многие женщины сегодня считают книгу Бетти Фридан «Мистика женственности» (Betty Fridan, Feminine Mystique), опубликованную в 1963 году, первым сигналом растущего недовольства женщин своим положением в стремительно развивающемся послевоенном обществе. Первые инициативы по созданию отдельных женских организаций феминистского толка исходили от активисток движения за гражданские права, равно как позже от женщин, участвовавших в акциях протеста против Вьетнамской войны [1]. Следовательно, «новые» феминистки были в первую очередь политическими активистками, не боявшимися оказывать сопротивление и бороться за свои взгляды. Объединение феминизма и движения по борьбе женщин за гражданские права и мир было не ново и не случайно. Многие американские феминистски XIX века, такие как Элизабет Кейди Стентон и Сьюзен Би Энтони, начинали с борьбы за отмену рабства. И в XIX, и в XX веках женщины, участвовавшие в кампаниях против расизма, вскоре обнаруживали, что категории и стратегии, применявшиеся для ограничения свободы негров, воспроизводили категории и стратегии, используемые для подчинения женщин мужчинам. Участницы движения за гражданские права были справедливо возмущены, когда черные и белые мужчины — борцы за освобождение негров — начали яростно возражать против распространения тех же либе ральных идей на женщин. Высказывания вроде тех, которые позволял себе Стокли Кармайкл в 1966 году: «У женщин в СНКК положение может быть только на спине» или Элдридж Кливер (лидеры освободительного движения. — Прим. перев.). «Женщины? Я полагаю, что их власть лежит в пространстве между ног» (1968) [2], побудили многих женщин уйти из правозащитных маскулиинистски-ориентированных организаций. В других прогрессивных политических движениях (в антивоенном, в марксистских группах разного толка) женщины сталкивались все с тем же несоответствием между декларациями мужчин-активистов о равенстве и их грубым сек- сизмом в отношении женщин-соратниц. К концу 1960-х годов женщины активно начали создавать собственные группы по борьбе за равноправие, как параллельно, так и в качестве альтернативы другим формам политического движения.
К 1970 году в рамках «нового» женского движения уже сформировалось немало различных течений политической мысли. Робин Морган дала очень точную характеристику Национальной организации женщин (NOW), основанной Бетти Фридан, как либеральной, реформистской организации женщин среднего класса. По ее мнению, «единственной надеждой для нового феминистского движения может быть нечто вроде рождающейся на наших глазах политики революционного феминизма» (xxiii). И хотя определение «революционности» у Морган довольно туманно (означает л и это анти-капитализм, сепаратизм или все вместе?), очевидно, что в широком спектре женского движения выкристаллизовывалисьдве противоречивые тенденции, дающие начало двум основным направлениям феминизма. Библиография и список контактных адресов в книге «5 сестринстве сила: Антология литературы женского освободительного движения», вышедшей в 1970 году под редакцией Робин Морган (Robin Morgan, Sisterhood is Powerful: An Anthology of Writings from the Women's Liberation Movement), насчитывала 26 страниц. Это убедительно доказывает, что женское движение в том виде, в котором мы знаем его сегодня, сформировалось в США уже к 1970-м годам.
Какова же была роль литературной критики в этом движении? Напечатанные практически без интервалов страницы библиографии в книге «В сестринстве сила» содержат только пять ссылок на труды, частично или полностью относящиеся к литературе. В этот список включены: «Своя комната» Вирджинии Вулф (1927), «Второй пол» Симоны де Бовуар (1949), «Хлопотливая помощница» Кэтрин М. Роджерс (1966) 46 (Katharine M/ Rogers, The Troublesome Helpmate), «Мысли о женщинах» Мэри Эллманн (1968) (Магу Ellmann, Thinking About Women) и «Сексуальная политика» Кейт Миллетт (1969) (Kate Milieu, Sexual Politics). Эти работы и стали основой для последующего мощного развития англо-американской феминистской критики. Работа «В сестринстве сила» содержит всего одну статью, посвященную литературе (первую главу очерка Кейт Миллетт). В целом, судя по библиографии Робин Морган, литературная критика едва ли играла значимую роль на ранней стадии нового женского движения. Феминистские критики, впрочем, как и критики других радикальных течений, появляются в процессе борьбы за социальные и политические изменения; их роль заключается в попытке распространить эту общую политическую деятельность на сферу культуры. Такая культурно-политическая борьба осуществляется в двух направлениях: она должна, с одной стороны, добиваться своих целей через посредство институциональных изменений, с другой, — средствами литературной критики. Основная проблема, с которой сталкивались многие феминистские критики, заключалась в попытке совмещения политических убеждений с тем, что принято считать «хорошей» литературной критикой. Ведь если существующие критерии «хорошего» выработаны белыми буржуазными мужчинами, то феминистская работа практически лишена шансов на то, чтобы отвечать тем самым критериям, которые ставятся ею под сомнение и ниспровергаются. Очевидно, что тогда у честолюбивой феминистки-критика остается только две возможности. Во-первых, можно попытаться реформировать эти критерии изнутри и рамках академических институтов, формируя благоразумный критический дискурс, позволяющий сохранить свои феминистские взгляды, не нанося серьезного ущерба академическому истеблишменту. И второй путь — отказаться от академических критериев оценки как реакционных и, соответственно, не имеющих значения для ее работы.
На ранних стадиях развития феминистской критики некоторые феминистки, такие, как Лилиан С. Робинсон, сознательно выбрали второй путь:
Некоторые пытаются сделать из феминистского критика «женщину с принципами» (an honest woman), требуют, чтобы на каждой кафедре имелось по одной такой. Меня не особенно интересует, станет ли феминистская критика достойной частью академической науки; но для меня очень важно, чтобы феминистки-критики стали действенной частью женского движения. (35)
Однако это была отнюдь не типичная реакция на столь очевидную дилемму. В 1980-х годах подавляющее большинство феминисток-критиков, как и остальные литературоведы, работали в академических институтах и тем самым были неизбежно вовлечены в профессиональную борьбу за место, постоянную должность при университетах за продвижение по службе. Такая профессионализация феминистской критической мысли не обязательно негативное явление, но, как мы увидим позже, реальное или мнимое противоречие между критическими нормами и политическими взглядами в работах феминистских критиков периода 1970—1980-х годов в том или ином виде возникает постоянно. Наибольшего успеха среди других феминистских критиков добилась Кейт Миллетт. Ее исследование «Сексуальная политика» стало самой популярной из опубликованных диссертаций в мире благодаря тому, что ей удалось свести воедино институциональную и внеинституциональную критику. Эта книга обеспечила Миллетт академическую степень в известном университете и одновременно оказала мощное политическое влияние на читателей множества стран, не важно, принадлежали они женскому движению или нет.
Кейт Миллетт
Книга «Сексуальная политика» состоит из трех глав: «Сексуальная политика», «Исторические предпосылки» и «Литературные размышления». В первой главе представлены теоретические рассуждения Миллетт о природе властных отношений между полами, во второй рассматривается судьба феминистского движения и его противников в XIX и XX веках. Последняя глава иллюстрирует, как реализуется сексуальная политика власти, описанная в предыдущих главах, на примере произведений Д. Г. Лоуренса, Генри Миллера, Нормана Мейлера и Жана Жене. Эта книга положила начало новому феминистскому подходу в литературе как мощному критическому инструменту, с которым нельзя не считаться. То огромное влияние, которое оказала эта работа на последующее развитие феминистской критики в англо-американской традиции, позволяет считать ее «матерью» и предтечей всех более поздних работ в данном направлении. Феминистки 1970-х и 1980-х годов никогда не упускали случая отдать ей должное или же выразить несогласие с новаторским произведением Миллетт. Ее критический подход демонстрирует серьезное расхождение с идеологией Новой Американской Критики, которая в то время по- прежнему сохраняла ведущие позиции в литературных научных кругах. Отважно полемизируя с Новыми Критиками, Миллетт заявляла, что для правильного понимания литературы необходимо изучение социального и культурного контекста. Эта позиция объединяет ее со многими последующими феминистскими критиками, несмотря на расхождения в других вопросах.
Однако самой поразительной чертой критических изысканий Миллетт является та смелость, с которой она прочитывает литературный текст «против шерсти». Ее подход к Миллеру или Мейлеру полностью игнорирует то, что в 1969 году считалось необходимой данью уважения к авторитету и замыслу автора. В своем анализе она открыто выстраивает ракурс, отличный от авторского, и показывает, как именно этот конфликт между читателем и автором/текстом может вскрывать предпосылки, лежащие в основе произведения. Значимость Миллетт как литературного критика заключается в ее непреклонном отстаивании права читательницы утверждать свою точку зрения, в отказе от общепринятой иерархии текста и читателя. Как читательница Миллетт ни покорна, ни благовоспитанна: ее стиль напоминает бывалого уличного мальчишку, бросающего вызов авторитету автора на каждом шагу. Ее подход разрушает распространенный образ читательницы/критика как пассивной/женственной потребительницы АВТОРитарного дискурса, именно этим отвечая основным феминистским политическим целям.
К сожалению, для многих более поздних феминистских критиков положительные стороны работы Миллетт перекрываются некоторыми тактическими просчетами, наносящими серьезный ущерб «Сексуальной политике» как феминистскому литературному исследованию. Признавая значимость Миллетт, многие феминистки с возмущением отмечают ее упорное нежелание отдать должное собственным феминистским предшественницам. Не оставляет сомнений тот факт, что ее представления о патриархатной политике сформированы под сильным влиянием теоретических разработок Симоны де Бо- вуар и ее книги «Второй пол», но Миллетт не признает этот факт и делает только две косвенные ссылки на работу Бовуар. Хотя в работе Мэри Элл манн «Мысли о женщинах» содержится немало рассуждений о творчестве Нормана Мейлера, нередко с приведением тех же самых цитат, которые Миллетт позже использует в своей книге, последняя лишь вскользь упоминает «остроумное эссе» Элманн (329) и не признает ее непосредственного влияния. Исследование Катарин М. Роджерс о женоненавистничестве в литературе упомянуто в общих сносках (45), но, несмотря на то что ее тезис о культурных истоках мужского женоненавистничества поразительно схож с позицией Миллетт, этот факт обойден последней молчанием.
Столь поразительное непризнание феминистских предшественниц у автора-феминистки подкрепляется и отношением Миллетт к женщинам-писательницам. Мы уже видели, как она списывает со счетов Вирджинию Вулф одним коротким абзацем; более того, за исключением одной Шарлотты Брон- те, «Сексуальная политика» посвящена практически только авторам-мужчинам. Миллетт как будто сознательно или бессознательно хочет замолчать существование более ранних анти- патриархатных трудов, в особенности если ее предшественницы — женщины: например, она много рассуждает о Джоне Стюарте Милле, но не о Мэри Уоллстоункрафт. Это впечатление усиливается тем, что для демонстрации перверсивного представления о тендерных ролях она выбирает тексты французского гомосексуалиста Жана Жене, но вовсе не упоминает таких писательниц, как Эдит Уортон или Дорис Лессинг. Как будто для того, чтобы родить собственный текст, Миллетт должна была любыми средствами избавиться от какого бы то ни было «образа матери».
Существуют, впрочем, и более конкретные причины поверхностного отношения Миллетт к другим женщинам — писательницам и теоретикам. Миллетт определяет «сущность политики» через власть и ищет доказательства того, что «как бы ни было завуалировано ее нынешнее присутствие, сексуальная сфера тем не менее становится едва ли не самой распространенной идеологией нашей культуры и воплощает в себе базовые концепции власти» (25). Она предлагает следующее определение сексуальной политики: это процесс, посредством которого правящий пол стремится удержать и расширить свою власть над подчиненным полом. Вся ее книга развивает это основное утверждение, риторика направлена на то, чтобы продемонстрировать устойчивость и распространенность этого процесса в культуре. Выбор тем и примеров у Миллетт определяется их способностью проиллюстрировать данный тезис. В этом смысле, как риторическое утверждение, книга являет собой удивительно цельное произведение, мощный кулак, направленный в солнечное сплетение патриархата. Каждая деталь органически подчинена политической миссии, и мы можем предположить, что это и явилось реальным мотивом для отказа Миллетт признавать своих сильных предшественниц. Поскольку, если бы она отвела большую часть своей книги анализу способов борьбы у женщин-писателей, это невольно ослабило бы ее собственный тезис о безжалостной, вездесущей природе сексуальных политик власти. Представления Миллетт о сексуальной идеологии не позволяют признать, что на протяжении истории несколько выдающихся женщин действительно нашли способ сопротивляться огромному давлению па- триархатной идеологии, прийти к осознанию собственного угнетения и заявить о своем неприятии мужской власти. И вместе с тем, только понимание об идеологии как противоречивой конструкции, с зазорами, сдвигами и несоответствиями, поможет феминисткам объяснить, как даже самое жесткое идеологическое давление порождает собственные лакуны.
Нежелание исследовательницы признать вклад Катарин М. Роджерс в развитие теории сексизма в литературе также объясняется ограниченностью взглядов самой Миллетт на проблему патриархатного угнетения. В своем исследовании мужского женоненавистничества Роджерс приводит несколько культурных обоснований этого явления: 1) отрицание секса или чувство вины по отношению к нему; 2) негативная реакция на идеализацию, призванную возвысить женщин; 3) па- триархатные чувства, желание держать женщин в подчинении мужчин. Последняя причина, считает Роджерс, «главная основа существования женоненавистничества, наиболее широко и глубоко укоренившаяся в обществе» (272). Позиция самой Миллетт крайне близка третьему тезису Роджерс, — это факт, который ей следовало бы признать. Миллетт, напротив, не упоминает соответствующую часть работы Роджерс и продолжает развивать собственную теорию о единственной причине патриархатного угнетения. Такое ограниченное толкование вынуждает ее обосновывать все культурные явления исключительно в терминах политики власти, как, например, в описании традиций любовного ухаживания:
Следует понимать, что рыцарское поведение — это игра, которую затевает господствующая группа и в процессе которой она возвышает своих подданных до уровня пьедестала... Как заметил социолог Хьюго Бейгел, и почтительная, и романтическая версии любви — это всего лишь «подачки», «дотации» выделяемые мужчинами от своей абсолютной власти. И то, и другое служит для маскировки па- триархатного характера западной культуры. Но все ее попытки приписать женщинам невероятные достоинства заканчиваются тем, что женщин загоняют в крайне узкие рамки жестко определенного поведения. (37)
Идеологическая обусловленность исследования Миллетт порой также способствует неточному или сокращенному изложению тех теорий, которым она оппонирует. Ее весьма популярная версия изложения фрейдистской и постфрейдистской теории предназначена продемонстрировать, что «Зигмунд Фрейд, несомненно, стал главным контрреволюционером в сфере идеологии сексуальной политики своего времени» (178). Но в случае с Фрейдом любая попытка замаскировать противоречия риторикой обречена на неудачу, поскольку его тексты очень трудно свести к одной, общей трактовке — не только благодаря его теории бессознательного, но и потому, что он сам постоянно пересматривал свои позиции. Миллетт довольно бесцеремонно пытается отмести все признания самого Фрейда о блужданиях и неуверенности как всего лишь «моменты полного замешательства» (178). Далее она, как ей кажется, в пух и прах разбивает психоанализ, однако, как мы видим теперь, это разоблачение скорее основано на неправильном прочтении и толковании теории с ее стороны. В заключительном обвинении против Фрейда и психоанализа, безоговорочно игнорируя нюансы, она утверждает, что психоанализ — это своего рода эссенциализм, то есть теория, которая низводит поведение человека к врожденным половым характеристикам:
Теперь, вооружившись научной теорией, можно утверждать, что женщина по природе склонна подчиняться, а мужчина властвовать и, следовательно, при большей сексуальности, имеет право сексуально подавлять женщину, которая наслаждается подчинением и заслуживает его, поскольку по своей природе она бесполезна, глупа и вряд л и лучше, чем варвар, если вообще человек. Как только этот предрассудок перейдет в ранг научного аргумента, контрреволюция может идти полным ходом. (203)
Неприятие исследовательницей Фрейда опирается в основном на ее антипатию к собственному тол кованию его теорий зависти к пенису, женского нарциссизма и мазохизма. Но подобная трактовка Фрейда сегодня подвергается глубокой критике со стороны других феминисток. Джулиет Митчел и Жаклин Роуз убедительно доказывали, что Фрейд не считает половую идентичность врожденной, биологической сущностью и что фрейдистский психоанализ понимает под половой идентичностью постоянно меняющееся состояние субъекта, которое конструируется в процессе вхождения ребенка в человеческое общество. Трактовку Миллетт понятий зависти к пенису и женского нарциссизма и мазохизма опровергали и другие исследовательницы: Сара Кофман и Ульрике Прокоп (Sarah Kofman, Ulrike Prokop) видели в теории нарциссизма у женщин утверждение женской власти, а Жанин Шассеге-Смиргель (Janine Chasseguet-Smirgel) довольно убедительно показала, что женская зависть к пенису может быть демонстрацией потребности маленькой девочки отделиться от собственной матери, что Шассеге-Смиргель считает важнейшим фактором для дальнейшего развития творческих способностей женщины.
В оценке Фрейда Миллетт обращает на себя внимание еще одно любопытное обстоятельство. Она всячески замалчивает все упоминания о его наиболее признанном фундаментальном открытии: влиянии подсознательного желания на осознанные действия. Как убедительно доказывала Кора Каплан (Кога Kaplan), теория Миллетт о сексуальной идеологии как наборе ошибочных представлений, используемых против женщин в обдуманном и хорошо организованном мужском заговоре, не принимает во внимание, что не все проявления женоненавистничества бывают осознанными и что даже женщины могут усвоить сексистское поведение и желания. В своих рассуждениях о «Сексуальной политике» Каплан демонстрирует, как позиция Миллетт определяет выбор авторов для своего анализа:
Гендерные ренегаты вроде Милля и Энгельса могут позволить себе противоречия, но Феминизм как теория должен быть позитивистским, полностью осознанным, морально и политически корректным. Он всегда знает, чего хочет, и, поскольку желания многих женщин весьма противоречивы и неясны, все еще замутнены тем, чего хочет от них или за них патриархат, Миллетт не дает женщинам возможности демонстрировать свою «слабость». (10)
В первой половине 1970-х, по крайней мере до опубликования в 1974 году работы Джулиет Митчелл «Психоанализ и феминизм» (Juliet Mitchell, Psychoanalysis and Feminism), неизменно негативная трактовка психоанализа со стороны Миллетт почти не вызывала возражений у феминисток Англии и Америки. И даже в 1976 году Патрисия МейерСпакс (Patricia Meyer Spacks) (35) превозносила оценку психоанализа в «Сексуальной политике» как одну из наиболее сильных сторон книги. И хотя на сегодняшний день существует многообразное, весьма развитое поле феминистских толкований теории Фрейда и использования ее в феминистской критике, аргументация Миллетт в осуждение психоанализа по-прежнему активно разделяется многими феминистками как внутри, так и за пределами женского движения. Возможно, популярность ее взглядов объясняется тем, что теория сексуального угнетения как осознанного сплоченного заговора против женщин порождает соблазнительно оптимистические надежды на возможность полного освобождения. Миллетт считает женщину угнетенным существом, без навязчивого подсознания, которое можно не учитывать; ей просто нужно разобраться в сути лживой идеологии правящего мужского патриархатного общества, чтобы освободиться от нее и стать свободной. Однако если мы согласимся с Фрейдом, что все люди (даже женщины) способны усваивать взгляды собственных угнетателей, что они могут болезненно отождествлять себя с собственными гонителями, в этом случае освобождение уже не видится простым логическим следствием рациональной дискредитации лживых представлений, на которых стоит власть патриархата.
Литературный анализ Миллетт грешит тем же настойчивым стремлением к риторическому упрощению, которое вредит ее критическим работам по теории культуры. Это касается, в частности, и ее трактовки романа Шарлотты Бронте «Виллетт». Как отмечала Патрисия Спакс, в ней обнаруживается несколько элементарных, но принципиальных неточностей в прочтении: Миллетт пишет, что «Люси не выйдет замуж за Поля даже после того, как тиран подобрел» (146), хотя у Бронте Люси принимает предложение Поля Эммануэля; она также замечает, что «даже от подобревшего тюремщика нужно сбежать; Поль, превратившийся в возлюбленного, утоплен» (146), тогда как Бронте оставляет читательницу в тревожном неведении о возможной судьбе Поля, чтобы она смогла сама придумать окончание текста. Можно, впрочем, согласиться с мнением Спакс, полагавшей, что недостатки Миллетт в стиле и точности компенсируются ее страстностью и увлеченностью. Сила убедительных, гневных обличений Миллетт в ее исследовании изображений мужского сексуального насилия против женщин в современной литературе не оставляет читателя равнодушным: нет сомнения, что авторы, на которых она нападает (главным образом Генри Миллер и Норман Мейлер), действительно проявляют агрессивный интерес к унижению мужчинами женской сексуальности. Но литературная критика Миллетт, как и ее культурологический анализ, руководствуется непоколебимой концепцией сексуальной идеологии, что делает ее невосприимчивой к нюансам, непоследовательности и неопределенностям в работах, которые она исследует. Создается впечатление, что для Миллетт все двойственно (дихотомично) или противоположно друг другу (оппозиционно), либо черное, либо белое. Даже понимая, что героиня «Виллетт» Люси Сноу поймана в западню сексуальных и культурных противоречий своего времени, она все равно громит Бронте за «изощренность ее писательской фантазии, постоянное блуждание в дебрях сентиментальности, куда загоняют ее всплески чувствительности» (146). Она не приемлет, как слишком условный прием, вторжение романтического («сентиментального») дискурса в преимущественно реалистический роман, тогда как более поздние феминистские критики, в особенности Мэри Якобус (Mary Jakobus) («The buried letter») продемонстрировала, как именно через разломы и смещения, образованные этим вторжением, мы можем порой обнаружить в романе более сложные коннотации сексуальности и женственности.
Как литературный критик Миллетт практически не уделяет внимания формальной структуре литературного текста: она предпочитает чистый контент-анализ. Также без колебаний она утверждает тождественность автора, рассказчика и героя, и поэтому работа изобилует утверждениями вроде «Поль Морель — это, разумеется, сам Лоуренс» (246). Заглавие основного литературного раздела «Сексуальной политики» — «Литературное отражение», казалось бы, предполагает простое тео- 55 ретизирование на тему связи между литературой и социальными и культурными влияниями, о которых она говорит ранее. Однако Миллетт не удается точно показать, что или как именно отражает литература. Заглавие оставляет читателя в недоумении, утверждая взаимосвязь между литературной и некоей другой средой, — связь, которая ею не определяется и не исследуется.
Таким образом, «Сексуальная политика» вряд ли может служить примером для следующих поколений феминисток-критиков. И даже радикальная критика Миллетт иерархического метода чтения, наделяющего автора почти богоподобным авторитетом над почтительно внимающим читателем/критиком, по-своему ограничена. Миллетт удалось создать свой уникальный иконоборческий способ прочтения лишь потому, что ее исследование посвящено текстам, которые она справедливо считает глубоко отвратительными, написанными авторами- мужчинами и демонстрирующими мужское сексуальное превосходство. Феминистская критика в 1970-х и 1980-х, напротив, выбирала в качестве своих объектов в основном женские тексты. Поскольку Миллетт избегает любых феминистских или женских текстов (за исключением «Виллетт»), ей не приходится сталкиваться с проблемой прочтения женских текстов. Можно ли читать их при помощи того же блестящего антиавторитарного подхода? Или женщины, читающие женские тексты, должны занимать прежнюю, почтительно-зависимую позицию по отношению к автору? Критика Кейт Миллетт, полностью озабоченная, как мы видим, мерзкими мужчинами, ничем не может нам помочь в этих вопросах.
Мэри Эллманн
Книга «Мысли о женщинах» (1968) Мэри Эллманн была напечатана до «Сексуальной политики» Кейт Миллетт. Мое решение рассмотреть ее после книги Миллетт отчасти объясняется тем, что великолепная работа Эллманн не нашла столь же широкого отклика среди большинства феминисток. Меньшая популярность исследования Эллманн во многом происходит от того, что «Мысли о женщинах» не рассматривают политические и исторические аспекты патриархата вне связи с литературным анализом. Как пишет в предисловии сама Эллманн: «Женщины прежде всего интересуют меня как слова» (xv), эта позиция делает ее книгу значимой в первую очередь для феминисток с литературными интересами. В целом же эта работа предназначена скорее для широкого читателя, чем для академических специалистов. В то время как исследование Миллетт изобилует ссылками и библиографическими данными, относительно редкие ссылки Эллманн в основном насмешливы и саркастичны. Своим академически ориентированным читателям она не предлагает никакой библиографии. Вместе с исследованием Миллетт книга Эллманн может по праву считаться вдохновительницей направления, которое часто называют «критикой образов женщин». Она подразумевает под собой выявление женских стереотипов как в текстах писателей-мужчин, так и в том категориальном и понятийном аппарате, на который опираются мужчины-критики при рассмотрении женских произведений. Это направление критического анализа будет подробнее рассмотрено в следующей главе. Основной тезис «Мыслей о женщинах» заключается в следующем: западная культура на всех уровнях пронизана тем, что Эллманн обозначает как «мышление по половой аналогии» (thought by sexual analogy). По ее мнению, этот феномен реализуется в нашей общей тенденции «понимать все вокруг, как бы оно ни было изменчиво, в терминах наших изначальных и простых половых различий; и... классифицировать практически любой опыт с помощью половых аналогий» (6). Эта традиция мышления глубоко влияет на наши представления о мире: «Обычно не только половые термины, но и убеждения, сформировавшиеся на основе пола, переносятся на внешний мир. Все вокруг нас определяется в соответствии с нашим представлением о мужском и женском темпераменте» (8). Целью исследования Эллманн является разоблачение подобного абсурдного и нелогичного способа мыслить в категориях пола. И прежде чем противопоставить ему нашу реальную ситуацию, она дает пример общества, где мышление по половой аналогии может быть оправдано:
Мужчины сильнее женщин, а репродуктивная жизнь женщин длится дольше и гораздо тяжелее, чем у мужчин. Общество, в котором этот фактор был бы структурообразующим, где все мужчины и женщины были бы полностью заняты проявлением этих свойств, то есть применением силы и донашиванием беременностей, — оказалось бы весьма целесообразным (хотя и не идеальным). Оба пола жили бы в соответствии со своим непрерывным циклом, что позволило бы осознать его монотонность или, что вероятнее, замаскировать свои чувства описанием сложного очарования своего бытия... Но досуг, как правило, способствует размышлению, и, как только мы избавляемся от бремени половых ролей, мы с большим энтузиазмом потворствуем склонности к половым аналогиям. Теперь, когда сами роли стали беспрецедентно неважными, внутренняя структура этих ролей приобрела гротескные формы. Странным образом мы попали в ситуацию, когда нам приходится уделять физиологии пола чрезмерное значение, и в то же время его повсеместное страстное и щедрое проявление приобретает все больше комичных черт. (2-3)
В современном социальном мире репродуктивная способность женщин стала практически ненужной, впрочем, как и физическая сила мужчин оказалась в целом не востребованной. Следовательно, нам уже не нужно мыслить в категориях половых стереотипов, таких, как: «мужчина = сильный, активный», а «женщина = слабая и пассивная». Но исследование «Мысли о женщинах» убедительно доказывает, что эти и подобные половые категории влияют на все аспекты человеческой жизни и в немалой степени на характер интеллектуальной деятельности, ведь, как показывает Эллманн, метафоры оплодотворения, созревания, беременности и рождения имеют особенное значение для человека.
Вторая глава работы Эллманн «Фаллическая критика» посвящена рассмотрению феномена половых аналогий в сфере литературной критики. Суть ее подхода к этому явлению можно понять из следующей цитаты:
С каким-то извращенным постоянством при обсуждении женских произведений мужчины в обязательном порядке доходят до своего любимого пункта — женского пола автора. Книги, написанные женщинами, рассматриваются, как будто они и есть сами женщины, и у критика наступает счастливый момент — интеллектуальный обмер бюстов и бедер. (29)
Одним из наиболее комичных примеров «фаллической критики» может служить пародия Эллманн на отношение мужчины-обозревателя к Франсуазе Саган. Ради краткости я сначала приведу цитату из критической статьи и сразу сопоставлю ее с ответным выпадом Эллманн:
Бедная старушка Франсуаза Саган. Еще одна старомодная ветеранка, обойденная вниманием в гонке за литературной славой и молодостью. Со стороны ее карьера в Америке напоминает жизненный путь средневековых красавиц, которые расцветали в 14, теряли цвет девственности в 15, старели к 30-ти и превращались в каргу к 40.
Из обзора нового романа известного французского романиста Франсуа Сагана:
Бедный старый Франсуа Саган... Со стороны его карьера в Америке напоминает жизненный путь средневековых трубадуров, которые мастурбировали в 14, спаривались в 15, становились импотентами к 30-ти и наживали простату к 40. (30)
В самом обширном разделе книги на основании текстов мужчин — писателей и критиков Эллманн выделяет одиннадцать основных стереотипов женственности: бесформенность, пассивность, неуравновешенность, ограниченность, добродетельность, материальность, духовность, иррациональность, покладистость и, наконец, «два неисправимых персонажа» — Ведьма и Мегера. Четвертая глава, названная «Различие оттенков», посвящена обсуждению тезиса о том, что «мужское тело обеспечивает уверенность суждений, а женское отнимает ее» (148). Идея Эллманн состоит в том, что мужчины традиционно предпочитали писать в уверенной, авторитетной манере, тогда как женщинам приходилось пользоваться языком эмоций. Однако с начала 1960-х годов литература активно пыталась сопротивляться авторитарным стилям письма и даже ниспровергать их, что создало условия для формирования нового типа женского письма:
Я надеюсь найти те пути, которые позволят женщинам писать хорошо. Говоря проще, поскольку женщины не обладали прежде ни физическим, ни ин- 59 теллектуальным авторитетом, у них нет причин сопротивляться литературе, которая не приемлет авторитетов. (166)
Если принять во внимание, что любимые авторы Эллманн среди современных писательниц — это Дороти Ричардсон, Айви Комптон-Барнетт и Натали Саррот (но не Вирджиния Вулф, как ни странно), то можно понять, в чем она видит альтернативу авторитетному и традиционному реализму.
Тезис Эллманн о нашем сознательном или бессознательном предпочтении мужского авторитета женскому прекрасно проиллюстрирован датской феминистской писательницей и критиком Пил Далруп в статье «Подсознательные реакции рецензентов», опубликованной в Швеции в 1972 году. В ней Далруп приводит в качестве примера реакцию одного из мужчин-критиков на стихи датской поэтессы Сесил Бодкер. Поскольку имя Сесил в датском языке гендерно нейтрально, критик в своем обзоре первого сборника стихов (1955) традиционно предположил, что имеет дело с поэтом-мужчиной. Его восторженная рецензия изобилует глаголами действия и содержит относительно мало прилагательных, те же, которые он использует, окрашены исключительно позитивно: «радостный», «энергичный», «богатый» и так далее. Годом спустя тот же критик рецензировал второй сборник Сесил Бодкер. К этому времени он уже знал, что имеет дело с автором-женщиной, и, хотя продолжал относиться к ее поэзии с теплым сочувствием, словарь его похвалы подвергся любопытным изменениям: теперь поэзия Сесил Бодкер стала не более чем «симпатичной», в тексте встречается в три раза больше прилагательных, характер которых принципиально изменился («прелестный», «здоровый», «приземленный»). Критик начинает проявлять излишнее пристрастие к вводным смягчающим конструкциям («неким образом», «своего рода», «возможно»), ни одна из которых не появлялась в первой рецензии. Более того, такие прилагательные, как «маленький» или «небольшой», неожиданно заняли центральную позицию в дискурсе критика, тогда как в «мужском» варианте появились всего один раз. Как комментирует это Далруп, «совершенно очевидно, что поэт-мужчина не написал ни одного «маленького» стихотворения». По ее мнению, как и по мнению Мэри Эллманн, реакция упомянутого критика подсознательно раскрывает тот факт, что мужчины-критики просто не могут относиться с тем же пиететом к мнению, если знают, что оно исходит от женщины. Даже если они пишут хороший отзыв об авторе-женщине, они автоматически отбирают те грамматические и лексические конструкции, которые позволяют изобразить женскую поэзию милой и симпатичной (каковыми и должны быть женщины) в отличие от серьезной и значимой (каковыми должны быть мужчины).
Заключительная глава книги Эллманн, озаглавленная «Ответная реакция», посвящена различным стратегиям, к которым прибегают писательницы для отражения патриархатных атак, описанных в предыдущих главах. Она показывает, как писательницы учились использовать в своих интересах те самые, созданные мужчинами, стереотипы о женщинах и их творчестве. Например, остроумие и ирония помогают Джейн Остин снижать авторитетность писательской позиции, или, как пишет об этом Эллманн, «мы допускаем, что авторитет и ответственность несовместимы с весельем» (209). Но восхищение Эллманн прозой Джейн Остин может быть с полным основанием распространено и на ее собственную манеру письма. «Мысли о женщинах» — шедевр иронии, и остроумие, которое Эллманн проявляет в книге (в меньшей степени в разделе «Ответная реакция»), становится, как мы увидим далее, важной составляющей ее аргументации. Сардонический юмор Эллманн во многом обеспечил книге теплый прием в среде критиков, хотя, как это ни забавно, некоторые рецензенты не смогли устоять перед соблазном изложить свои похвалы в тех самых стереотипных понятиях, которые Эллманн высмеивает в своей книге. Задняя обложка книги, вышедшей в издательстве «Харвест», помещает следующий образчик восторженной похвалы: «Никогда прежде не было так ярко продемонстрировано невежественное отношение к полу, искажающее наши представления о женщине. Но высшую и самую восторженную похвалу прибережем напоследок: Мэри Эллманн написала смешную феминистскую книгу». Другими словами, мы все знаем, что феминистки — занудные пуританки, поэтому есть все основания похвалить Эллманн за то, что она — исключение из правил. Эллманн разъясняет, как конструкция «половой аналогии» заражает похвалу произведению, заслуживающему «бесполого» одобрения:
В этом случае особый энтузиазм вызывает желание объяснить, что в произведении отсутствуют те моменты, которые критик особенно не любит в женских произведениях. Он уже отчаялся когда-либо 61 увидеть скворечник, сделанный женщиной; но вот вам — скворечник, сделанный женщиной. Удовольствие может даже спровоцировать признание в мужской зависти к качеству осмотренной работы: и надо же, исключительно крепкий скворечник! (31)
Но какую роль играет столь широко используемый прием иронии в теоретических текстах самой Эллманн? Патрисия Мейер Спакс считает, что Эллманн говорит «характерным женским голосом» (23) и особая женская составляющая ее дискурса проявляется в «специфически женском типе остроумия и его использовании» (24). Спакс продолжает:
Новые категории сами предлагают формы своего выражения: не пассивность аморфности или бесцельность непостоянства, но женский ресурс уклончивости. Противник, намеревающийся ее атаковать, обнаруживает ее не там, где она была в тот момент, когда он целился. Она воплощает женщину подобную ртути, находящуюся в постоянном сверкающем, неопределенном движении. (24)
Спакс уклоняется от упоминания о приеме иронии, возможно, потому, что его никогда не считали специфически женским. Вместо этого она упрекает Эллманн в «уклончивости» и пытается изобрести новый женский стереотип, к которому можно было бы отнести манеру письма Эллманн. Нотакая версия как раз упускает из виду суть ее стиля. Я попытаюсь показать, что именно при помощи средств сатиры Эллманн удается, во-первых, продемонстрировать, что сами концепции мужественности и женственности есть социальные производные, отсылающие нас к несуществующей природной составляющей мира, и, во-вторых, что описываемые ею стереотипы женского неизменно деконструируют сами себя. Доказать это положение можно на примере стереотипа «матери»:
Образ матери особенно удобен для иллюстрации тенденции к взрыву (explosive tendency): каждый стереотип имеет свои пределы; дойдя до них, стереотип взрывается. Его останки принимают две формы: (1) абсолютная вульгаризация и (2) реорганизация достоинств, теперь состоящих из осколков, собирающихся вокруг новой сердцевины недостатков. Во втором случае новая анафема формируется из тех же самых элементов, которые составляли прежний идеал. (131)
Этот отрывок — один из немногих, в которых Эллманн предельно точно формулирует суть теории, стоящей за риторической стратегией ее книги. Свою задачу она видит в том, чтобы показать на конкретных примерах, что стереотип несет в себе взаимоисключающие начала, являясь и идеалом, и кошмаром, включающим и исключающим одновременно. На примере образа матери она демонстрирует, как стереотип плавно редуцируется от почитаемого идола до кастрирующей и агрессивной стервы. И далее:
Но наше недоверие к материнству лишь невинный предрассудок по сравнению с враждебностью к тем, кого оно обошло стороной. Нет более испытанного оружия, чем желчность разнообразных упоминаний о затянувшейся девственности: в прошлом и в будущем нас неизменно сопровождали и будут сопровождать нескончаемые реки брани и оскорблений в адрес засидевшихся в девках, старых дев, училок, перезрелых девиц, и т.д., и т.п. (136)
В этом случае использование местоимений множественного числа «наше», «нас» мягко намекает на то, что рассказчица не более чем упоминает, чем «все мы» грешим, в то время как подтекст первого предложения с его убийственным парадоксом дает понять, что «мы» либо свихнулись, либо глупы, если следуем столь нелогичной практике. Используемые здесь тактики письма необходимы для того, чтобы читатель («мы») признал совершаемую глупость, но в то же время автор смягчает удар утешительными «наше» и «нас». Если Эллманн распространяет и на себя этот пример злоупотребления, «мы», по крайней мере, не должны ощущать себя одинокими в нашей глупости. Но это не единственный результат тактического использования Эллманн формы первого лица множественного числа. Для читателя становится невозможным отрицание парадокса в первом предложении: поскольку автор не отделяет себя от «нас», а, наоборот, находится среди «нас», «мы» лишаемся подходящей внешней мишени для нашей агрессии. В этих высказываниях нет ни одного момента, который мы могли бы при желании использовать для атаки на злобную мужененавистницу и кастрирующую стерву. Так что стойкие подозрения читателя в том, что рассказчица все равно пытается морочить ему (или ей) голову и что на самом деле она не считает себя одной из «нас», не находят мишени. В результате ее или его растущая агрессия гасится, не успев воспламениться.
Такая повествовательная техника, на мой взгляд, не может называться «женской уклончивостью», поскольку является неотъемлемой частью общего риторического проекта, который стремится деконструировать половые категории, равно как и механизм подпитывания и одновременного заглушения читательской агрессии. Прием иронии Эллманн направлен на то, чтобы выявить два различных аспекта патриархатной идеологии. В первом абзаце, процитированном выше, она в довольно отвлеченной форме определяет, в силу каких причин любой стереотип саморазрушителен, легко превращается в собственную неустойчивую противоположность. Таким образом, она демонстрирует, что такие стереотипы существуют лишь как вербальные конструкции, призванные служить правящей патриархатной идеологии. Но в отличие от Миллетт Эллманн ни на минуту не становится жертвой иллюзии, что эта правящая идеология являет собой единое и нерушимое целое. Наоборот, оба отрывка ярко иллюстрируют, какой клубок внутренних противоречий может возникнуть, как только один аспект этой идеологии будет противопоставлен другому. «Мысли о женщинах» изобилуют примерами подобного де- конструирующего, расфокусирующего стиля. Любимый прием Эллманн — сопоставить противоположные утверждения и не дать читателю никакого авторского пояснения, как, например, в следующем отрывке: «Когда мужчины ищут правды, женщины удовлетворяются ложью. Но когда мужчины ищут развлечений или разнообразия, женщины вдруг выступают со смешной претензией об ответственности». Здесь отсутствие узнаваемого голоса рассказчика исполняет роль, схожую с утешительным присутствием, пусть и обманчивых, «мы» в отрывке, рассмотренном ранее: лишенная авторитетного объяснения, какую из предложенных позиций, по мнению рассказчицы, должна принять читательница, последняя вынуждена читать дальше в надежде найти руководство для толкования. На самом деле подобные «точки отсчета» в «Мыслях о женщинах» найти можно. Только что процитированному абзацу предшествует довольно прямолинейное утверждение: «В любом случае противопоставление лживости и набожности является всего лишь еще одним необходимым отказом от логики в пользу наглядного примера». Хотя на первый взгляд кажется очевидным, что рассказчица считает подобные противопоставления неуместными и что логика приносится в жертву, такую оценку нельзя принять без возражений: отказ от логики почему-то называется «необходимым», и этого прилагательного достаточно, чтобы читательница снова почувствовала себя неуверенно. Необходимо для кого? Или для какой высшей цели? Согласна ли рассказчица с этой необходимостью? Здесь ирония выражена слабее, поскольку оценочному понятию «противопоставление» дано право доминировать в первой части предложения, но она все равно присутствует. Даже если Эллманн допускает конкретные высказывания, она ухитряется избежать полного бессилия: в ее сентенциях всегда находится место для остроумной провокации.
Когда Патрисия Спакс определяет стиль Эллманн как изначально женский, как пример того, что «женшина-критик может продемонстрировать победу женского очарования над мужской силой» (26), она попадает в ту самую метафизическую ловушку, которую Эллманн стремится разоблачить. «Мысли о женщинах» на самом деле — книга об опасных последствиях привычного способа мышления по половым аналогиям, а не пособие по его применению. С целью убедиться, что читательница) усвоила ее идеи, Эллманн недвусмысленно заявляет, что «вычленение предложения, в котором закодирована информация о поле, кажется невозможным» (172), и для усиления эффекта цитирует Вирджинию Вулф. То есть для Эллманн сексуальность, половой контекст невидимы на уровне конструкции предложения или риторических стратегий. И поэтому она превозносит иронию Джейн Остин за ее способность показать способ мыслить вне (или где угодно) половых аналогий: «В воображении Джейн Остин... всегда был наготове сюжет, который сегодня может показаться нам слишком монистическим: оба пола ни плохи, ни хороши».
Одним словом, Эллманн предлагает для наших политических целей использовать половые стереотипы во всей их полноте как один из инструментов деконструктивистского проекта. Именно это она и делает в «Мыслях о женщинах». Когда Патрисия Спакс утверждает, что стиль Эллманн уклончив, она имеет в виду, что «пленительный» фасад текста исследовательницы скрывает за собой немалую толику «женского гнева» (27). По мнению Спакс, если гнев Кейт Миллетт проявляется через запальчивость и туманность формулировок, у Мэри Эллманн тот же гнев прячется за элегантным остроумием. Подобное толкование возникает из двух предположений: что феминистки всегда должны испытывать гнев и что любая неоднозначность текста, обусловленная, например, иронией, объясняется в конечном итоге общей, важной для всех задачей. Однако, как показал известный русский мыслитель Михаил Бахтин в своем исследовании о Рабле («Творчество Франсуа Рабле»), гнев — это не единственное оружие революции. Сила смеха может обладать не меньшей взрывной мощью, когда карнавал переворачивает систему иерархии с ног на голову, стирает старые различия и создает новые, столь же неустойчивые.
Нас смешит отточенный юмор Эллманн. Но в конечном итоге это не тот смех, который вызывает Рабле. Как же нам оценить воздействие этой работы? Ирония с трудом поддается какой-либо критике с политических позиций. В ироническом дискурсе любое положение ставит под сомнение самое себя, и политически ориентированный автор рискует оказаться на развалинах собственных политических взглядов. Мэри Эллманн справляется с этой проблемой посредством расстановки «точек отсчета», свободных от иронии. В этих «точках» она вполне четко излагает свои идеи. Настоящий способ, однако, чреват недооценкой сатирического аспекта, который все же дорог автору. Поэтому Эллманн предпочитает изложение последней главы «Ответная реакция» в «прямолинейной манере», оставив иронию там, где она рассматривает мужской взгляд на женщин. Но поскольку последняя глава, написанная в более традиционном стиле, исследует иные проблемы, нежели иронические главы книги, возникает пробел, место для неопределенности иронического дискурса [1].
Итак, нет причин доказывать, что сардоническая проза Мэри Эллманн изначально менее действенна, чем откровенный гнев Кейт Миллетт. «Женщина — евнух» Джермен Грир (1970) (Germaine Greer, The Female Eunuch) — британский бестселлер, успешно конкурировавший с книгой Миллетт, также во многом построен на приеме иронии. Нельзя не отметить, что он имел немалое влияние на женское движение4. Реакцию Патри- сии Спакс на исследование Эллманн можно охарактеризовать следующим образом: с одной стороны, исследовательница объявляет стереотип сущностной категорией, с другой — определяет гнев как непременную феминистскую эмоцию. Это весьма распространенная позиция феминистской реакции в отношении книги «Мысли о женщинах». И хотя феминистские критики, разработавшие в начале 1970-х годов феминистскую критическую теорию, известную сегодня как «Критика образов женщин», считают Эллманн своей предшественницей, они неизменно используют в своем литературном анализе те самые категории, которые Эллманн пыталась разрушить.
Глава 2 Критика «Образов женщин»
Исследование «Образов женщин» в литературе оказалось исключительно плодотворным направлением в феминистской критике, по крайней мере, по количеству написанных работ: библиографии специалистов насчитывают сотни, если не тысячи статей под этим названием. Чтобы ограничить количество библиографических ссылок в данной главе, я буду ссылаться в основном на статьи, опубликованные в самом значительном сборнике, озаглавленном соответственно: «Образы женщин в литературе: феминистские тонки зрения» (Image of women in Fiction: Feminist perspectives). В начале 70-х годов в американских колледжах подавляющее большинство курсов, посвященных проблеме женщины в литературе, делало акцент на исследовании стереотипов женского образа в мужской литературе (Register, 28). Сборник «Образы женщин в литературе» был опубликован в 1972 году как первый учебник в твердой обложке, отвечающий потребностям быстро расширяющегося академического рынка. Книга пользовалась неизменной популярностью среди преподавателей и студентов, поскольку многократно переиздавалась весьма внушительными тиражами1. Какие же точки зрения представлены в этой книге в качестве «феминистских»? В своем предисловии редактор Сьюзан Коппельман Кор- нийон (Susan Cappelman Cornillon) утверждает, что идея книги возникла у нее в процессе чтения курса женских исследований:
На всех курсах, где я преподавала, я ощущала острый недостаток книг, которые бы исследовали литературу как произведения о людях. Данный сборник является попыткой возместить этот недостаток... Представленные в сборнике статьи вводят нас в мир художественной литературы, а затем возвращают обратно к реальности, к нам самим, в нашу жизнь ... Эта книга поможет пробудить самосознание не только у студентов в учебной аудитории, но и у не включенных в академический мир людей, стремящихся к личностному росту.
Составитель видит задачу новой области феминистских литературных исследований в стимулировании личностного роста и развитии самосознания личности через связь литературы с жизнью, особенно с опытом самого читателя. Эта основополагающая мысль отражена во всех статьях сборника, включившего в себя работы 21 автора (19 из которых женщины и 2 — мужчины). В настоящих статьях рассматриваются работы авторов — мужчин и женщин, XIX века. И те и другие подвергаются жесткой критике за создание женских персонажей, «не имеющих отношения к действительности». Редактор в своей вступительной статье «Вымысел и/или литература?» (The Fiction of Fiction) обвиняет в этом в первую очередь писательниц, считая, что они хуже писателей-мужчин, поскольку, в отличие от мужчин, они предают свой собственный пол.
В критике «Образов женщин» сам процесс чтения рассматривается как акт коммуникации между жизнью («опытом») автора и жизнью («опытом») читателя. Когда читательница превращается в критика, ее обязанностью становится изложение собственной жизни, и это дает возможность ее читателям составить представление о ее позиции. В одной из статей в «Образах женщин в литературе» Флоренс Хоуи (Florence Howe) говорит об автобиографичности как о необходимом качестве женской критики:
Я начинаю с автобиографии, потому что именно в этот момент, в момент осознания своей жизни, зарождается связь между феминизмом и литературой. В процессе жизни мы в обязательном порядке учимся глобальному приятию литературы и тех учителей- критиков, которые говорят через посредство нее. (255)
Отстаивание права читателя знать о жизненном опыте писателя проистекает из фундаментального феминистского тезиса о том, что никакая критика «не свободна от оценочных суждений», что все мы выступаем с собственных позиций, обусловленных культурными, политическими и личностными факторами. Подача такого ограниченного видения в качестве универсального манипулятивно и авторитарно, утверждают феминистки. Только изначальное предоставление автором читателю всей необходимой информации о себе и своей позиции будет отвечать истинным демократическим принципам. Важность данного тезиса нельзя переоценить: он и по сей день остается одним изосновополагающих положений феминистской критики.
Однако наш излишний оптимизм в оценке реальной возможности прояснить собственную позицию неизбежно повлечет за собой целый ряд проблем. Теория герменевтики, например, доказывает, что мы не способны полностью обозреть собственные «горизонты понимания»: всегда остаются темные зоны, базовые исходные предпосылки и «пред-понимания», которые мы не осознаем. Психоанализ, в свою очередь, утверждает, что самыми сильными внутренними мотивациями нередко становятся именно те, которые вытесняются наиболее глубоко. Таким образом, мы не можем утверждать, что способны полностью осознавать собственную позицию. Именно по этой причине те предубеждения, которые человек способен сознательно сформулировать, скорее всего, являются наименее важными. Эти теоретические проблемы — не простая формальность для феминистских философов: они возникают снова и снова, заявляя о себе со всей очевидностью в текстах феминистских критиков, пытающихся воплотить автобиографический метод в своей работе. Стремясь использовать собственный опыт в качестве основы для актуализации своих исследовательских интересов, критик сталкивается с тем, например, что количество «значимых» деталей, которые необходимо принимать во внимание в данном контексте, бесконечно. В этом случае критик рискует превратить чтение в более или менее невольный эксгибиционизм, что ставит под сомнение возможность оставаться поборником эгалитарного критицизма. Пример подобной крайности можно обнаружить в феминистском исследовании, посвященном Симоне де Бовуар. В середине книги мы вдруг обнаруживаем шестнадцать страниц автобиографического изложения автором собственной жизни и личных чувств по отношению кде Бовуар [2]. Такое нарцисстическое погружение в себя, проявляющееся в столь карикатурном виде, лишь подтверждает важность тезиса феминистской критики о том, что никакая критика не может быть нейтральной, и, следовательно, мы должны по возможности ясно донести свою позицию до читателя. Будут ли автобиографические откровения критика наилучшим способом общения с читателем — вопрос весьма дискуссионный.
Сборник «Образы женщин в литературе» дает очень ясное понимание того, что изучение «образов женщин» равноценно изучению ложных образов женщин в литературе, описанных авторами обоего пола. «Образ женщины» в литературе неизменно противопоставляется «реальной личности», которую литература каким-то необъяснимым образом никогда не способна раскрыть читателю. В сборнике Корнийон категории «реальности» и «опыта» классифицируются как наивысшие критерии истинной литературы, как изначальная истина, которую необходимо донести в любой литературной форме. Эта точка зрения нередко приводит к почти абсурдному «ультрареализму», как, например, в случае, когда Корнийон упоминает, что значительная часть жизни современной американской женщины тратится на бритье ног и удаление волос с различных частей тела. Она справедливо подчеркивает унизительность и деспотичность требования со стороны мужчин, чтобы женщины были хорошо выбриты, но затем приводит свой главный литературный аргумент: «И все же, несмотря на то, что рабское бритье ног имеет непосредственное отношение к жизни практически каждой женщины, я ни разу не встречала литературной героини, которая бы брила или выщипывала волосы» (117).
Возможно, Корнийон и была права — подстригание ногтей на ногах и выбрасывание гигиенических прокладок как литературные сюжеты, похоже, также игнорируются, но ее протест базируется на весьма сомнительном представлении о том, что искусство может и должно со всей точностью и достоверностью отображать жизнь. Крайний рефлекционизм (reflectionism) (или «натурализм» в терминологии Лукача), пропагандируемый в «Образах женщин», мог бы принести заметную пользу в изучении условий и принципов отбора писателями тех моментов, которые они хотят использовать в своих текстах. Но вместо того, чтобы признать в этом один из основных факторов литературного процесса, рефлекционизм утверждает, что избирательное по своей природе творчество художника должно соотноситься со шкалой «реальной жизни». Из этого следует, что стеснять творческую свободу писателя может только его или ее представление о «реальном мире». Такая позиция категорически отрицает возможность рассмотрения процесса производства текста как чрезвычайно сложного, «сверх-обусловленного», с множеством различных и противоречивых литературных и внелитературных детерминант (исторических, политических, социальных, идеологических, институциональных, жанровых, психологических и так далее). Вместо этого под литературным процессом подразумевается более или менее верное воспроизведение той действительности, к которой мы все имеем равный и непосредственный доступ. Следовательно, это позволяет нам критично относиться к автору на том основании, что он или она создали неточную модель действительности, так или иначе известной нам всем. Однако такой подход, будучи эмпирическим по сути, не учитывает того обстоятельства, что действительность не только представляет собой результат нашей деятельности, но и несет в себе все противоречия подобной конструкции.
Литературные произведения могут и, разумеется, должны подвергаться критике зато, что отбирают и формируют свое воображаемое пространство на основе жестких и спорных идеологических предпосылок, но это не следует путать с неспособностью передавать «правду жизни» или давать «достоверное отображение реального жизненного опыта». Такое настойчивое требование соблюдения достоверности не только низводит всю литературу к весьма упрощенным формам автобиографии, но оказывается вынужденным «дисквалифицировать» огромную часть мировой литературы. Критики данного направления игнорировали очевидное: несмотря на то что Шекспир никогда в своей жизни не ощущал себя сумасшедшим и не оказывался голым в степи, для многих «Король Лир» все равно остается вполне «достоверным» произведением. Важно отметить, что все авторы сборника Корнийон (за исключением Джозефин Донован) при работе с литературным текстом придерживаются довольно упрощенной формы контент-анализа. Крайний ре- флекционизм попросту не способен вместить в себя идею об общих формообразующих ограничениях, под воздействием которых формируется текст, поскольку допущение факта существования таких ограничений равноценно признанию изначальной невозможности достичь абсолютного воспроизведения действительности в художественном произведении.
Более детально в сборнике рассматривается проблема противопоставления реализма и модернизма. Как и можно было ожидать, несколько статей издания набрасываются на модернизм и его «попутчика», несколько туманно обозначенного в терминах «формализма». Всякий модернист обвиняется в пренебрежении к «таким категориям, как класс, раса и пол» и в стремлении «спрятаться за своими формалистскими идеями в безмятежном убеждении, что остальные проблемы не важны» (286). Более того,
модернизм, напротив, стремится углубить изоляцию. Он вытесняет произведение искусства, художника, критика и публику из истории. Модернизм отказывает нам в возможности воспринимать себя в качестве агентов материального мира, поскольку все переместилось в абстрактный мир идей, где взаимодействие можно свести к минимуму или лишить смысла и результата. Менее, чем когда-либо, мы имеем возможность интерпретировать окружающий мир, и еще меньше — изменять его. (300-301)
В другой статье феминистская критика определяется как «материалистический подход в литературе, который стремится разрушить формалистскую иллюзию, что литература не имеет ничего общего с действительностью» (326)4. Под критиками-формалистами, о которых упоминается в приведенной цитате, подразумеваются, вероятно, Новые Американские Критики, занимавшиеся вопросами формы в литературном творчестве и не уделявшие внимания историческим и социологическим факторам. Здесь, однако, имеет смысл заметить, что, невзирая на постоянные нападки американских феминистских критиков, начиная с Кейт Миллетт, на внеисторич- ность Новых Критиков, они тем не менее переняли эстетические идеалы тех самых Новых Критиков, причем совершенно некритично.
Отторжение как «модернистской» литературы, так и «формалистской» критики в сборнике «Образы женщин в литературе» высвечивает глубокую приверженность англо-американской феминистской критической школы к реалистической традиции. Отстаивание достоверности и правдивого воспроизведения «действительности» как высших литературных ценностей неизбежно ставит феминистскую критику во враждебную позицию по отношению к нереалистическим формам литературы. Однако не существует прямой связи между требованием абсолютно точного воспроизведения всей полноты «реального» и тем, что принято считать «реалистической» литературой. По меньше мере две знаменитые литературные попытки зафиксировать действительность во всей ее полноте — «Тристрам Шенди» и «Улисс» — заканчиваются радикальным и неожиданным уходом в сторону от традиционного реализма, именно из-за обреченной на провал попытки охватить все возможное. Некоторые феминистки, например, не одобрили описание Джойсом ночного горшка и менструального цикла Молли Блум (о бритье ног там не упоминается), аргументируя тем, что несмотря на их явный реализм, упоминание этих фактов демонстрирует биологически обусловленную, приземленную сущность героини, что не может привести в восторг ни одну из читательниц.
В данном случае требование реалистичности вступает в конфликт с другим требованием: репрезентации женских образцов для подражания в литературе. Современная читательница-феминистка не только хочет видеть отражение собственного жизненного опыта в литературе, но жаждет отождествления с сильными, выразительными женскими персонажами. Чери Реджистер (Cheri Register) в статье, опубликованной в 1975 году, недвусмысленно формулирует это требование: «Литературное произведение должно предлагать образцы для подражания, прививать позитивное осознание женской идентичности, изображать женщин самореализующихся, чье самосознание не зависит от мужчин» (20). Однако здесь кроется противоречие с требованием «достоверности» (отметим лишь, что немногие женщины могут считаться «подлинно» слабыми и невыразительными). На это Реджистер отвечает вполне недвусмысленно: «Несмотря на то что читательницы нуждаются в литературных образцах для подражания, персонажи не должны идеализироваться до неправдоподобия. Необходимость достоверности превыше всех остальных требований» (21).
Особенность лексики, используемой здесь Реджистер («должны», «требования», «необходимость»), отражает жесткий нормативный (или, по ее собственному определению, — «рекомендуемый») подход, отличавший наиболее распространенный стиль ранней феминистской критики. В своем сборнике критики развенчивают те литературные произведения, которые, на их взгляд, лишены «достоверности» и «реального жизненного опыта», и делают это в соответствии с собственными представлениями о том, что считать «реалистичным». Если произведение вызывает сомнение относительно степени своей достоверности, Реджистер рекомендует несколько способов оценки. «Наиболее очевидный способ для читательницы определить достоверность произведения заключается в сравнении жизни персонажа с жизнью автора» (12), — предлагает она. Для того чтобы оценить социальные аспекты в работе автора, можно использовать социологические данные, в то время как мир эмоций должен подвергаться иной форме контроля:
Если перед нами встает задача убедиться, насколько точно произведение отражает женскую занятость, образовательный уровень, семейный статус, уровень рождаемости и тому подобное, у нас всегда есть возможность собрать статистические данные по текстам, относящимся к интересующему нас периоду времени, однако измерить достоверность внутренних переживаний героини невозможно. Окончательной проверкой должна стать субъективная реакция читательницы, которая сама знакома с «женской действительностью». Обнаружит ли она сходные примеры из своего опыта? (13)
Хотя Реджистер и торопится предостеречь нас от излишне упрощенных выводов, поскольку «женская действительность не однородна, но имеет множество нюансов и вариаций» (13), демонстрируемый ею менталитет наставницы (синдром «большая сестра наблюдает за тобой») должен восприниматься как один из, пожалуй, неизбежных перегибов в новой, быстро развивающейся области исследований. В 1970-х годах этот подход породил огромное количество опубликованных и неопубликованных работ, в которых литература анализировалась с позиций вывернутой наизнанку социологии: художественные тексты прочитывались с целью сравнения эмпирических социологических фактов в литературном труде (например, количество женщин, работающих вне дома или моющих посуду) с соответствующим эмпирическим опытом в «реальном» мире при жизни автора.
Сегодня нам легко подвергнуть критике данный подход: осудить за непризнание «художественности» литературы, за опасную тенденцию антиинтеллектуальности, за чрезмерную наивность представлений о связи литературы и действительности, автора и текста и за неумеренность цензорского пыла в отношении работ писательниц-женщин, которые часто творили в идеологических условиях, не дававших им возможности ответить на запросы феминистских критиков начала 1970-х. И хотя нельзя не сожалеть о столь массовом недостатке теоретической (или даже литературной) подготовки ранних феминистских критиков, их энтузиазм и приверженность феминистскому делу достойны подражания. Для поколения, получавшего знания во внеисторическом эстетизированном дискурсе Новой Критики, твердая убежденность феминисток в политической сущности любого критического дискурса и их стремление учитывать все исторические и социологические факторы должны были казаться чем-то новым и увлекательным; в огромной степени это именно те качества, которые по- прежнему стремятся сохранить современные феминистские критики.
Глава 3 Женская литература и литература о женщинах Движение в сторону женско-центрированной позиции
Однако вскоре стало очевидно, что упрощенный, не чувствительный к различиям метод критики «Образов женщин» начал исчерпывать свой потенциал. Начиная примерное 1975 года интерес сфокусировался практически исключительно на работах авторов-женщин. Еще в 1971 году Элейн Шоуолтер призывала выделять работы женщин-писательниц в отдельную группу.
Исследование творчества женщин-писательниц как отдельной группы не должно основываться на предположении, что они пишут похоже или их объединяет специфический женский стиль. Но у женщин все же есть своя история, открытая для анализа. Она включает в себя такие сложные факторы, как экономические отношения с литературным рынком; персональное воздействие общих социальных и политических изменений на положение женщин; навязывание писательницам стереотипов женского; и ограничение их творческой самостоятельности [1].
Позиция Шоуолтер постепенно получала признание. Интересно, что в книгу «Образы женщин в литературе» вошли работы двух исследователей-мужчин, в ней уделяется больше внимания работам писателей-мужчин и часто дается негативная оценка работам писательниц. К 1975 году ситуация значительно изменилась. Когда Черил Л. Браун (Cheryl L. Brown) и Карен Олсон (Karen Olson) начали в этом же году составлять антологию «Феминистская критика: статьи о теории, поэзии и прозе» (Feminist Criticism: Essays on Theory, Poetry and Prose), их удивило и обеспокоило то, что «исследования женщин-критиков, посвященные женской литературе, не публиковались в необходимых количествах и не были доступны интересующимся этим вопросом студентам и преподавателям» (предисловие, xiii). Их антология (которая не могла увидеть свет вплоть до 1978 года) была направлена на исправление сложившейся ситуации: в нее не были включены мужские работы и в ее статьях рассматривались либо теоретические проблемы, либо работы женщин-писательниц. Этот подход, делающий акцент на авторах-женщинах, стал сегодня преобладающим в англо-американской феминистской критике.
Прежде чем приступить к более детальному рассмотрению основных работ этого важнейшего «второго этапа» развития феминистских исследований, необходимо отметить, что далеко не все книги женщин-критиков о писательницах написаны с феминистских позиций. На первых этапах становления феминистского критического подхода из-за путаницы понятий (женское и феминистское. — Прим. перев.) немало женских работ получало признание в качестве феминистских исследований, как, например, книга Патрисии Бир (Patricia Beer) «Хрестоматия: я вышла замуж» (Reader. (l) Married Him), опубликованная в 1978 году. В предисловии к книге автор решительно отделяет свою книгу от других работ «на тему женского движения» (ix), поскольку все они грешат серьезным недостатком:
С какой бы целью они ни писались, в них литература рассматривается как набор трактатов, к которым обращаются для иллюстрации собственной теории. Какими бы ошибочными и недальновидными ни были аргументы, они считаются важнее, чем произведение самого автора. Подобный высокомерный подход удручает, поскольку романы и пьесы могут открыть нам гораздо больше, если не рассматривать их механически как средство достижения целей автора или читателя. (ix)
Книга самой Бир предполагает отсутствие подобной предвзятости, поскольку «в особенности роман сам, без помощи дополнительных аргументов, может точно отобразить окружающий мир» (ix). Другими словами, автор предпочитает тот тип «безоценочного» познания, который феминистки отвергают как поставленный на службу существующим иерархиям и властным структурам. Бир, похоже, убеждена, что именно она может понять истинную реальность, отображенную в исследуемых ею романах, и именно вследствие того, что не руководствуется феминистскими теориями. Вероятно, другие политические пристрастия, с ее точки зрения, не способны исказить истинное отображение действительности, которое ищет Бир. Так или иначе, но о них она не упоминает. Ее книга написана не для фанатиков, а для восприимчивого читателя: «[Мне казалось), что книга может стать полезной читателям, которые, даже не изучая английскую литературу и не будучи сторонниками «женского движения», просто интересуются романами и вопросом эмансипации женщин» (ix).
Ярлык «женского движения» одновременно привлекает и отталкивает писательницу, она явно стремится избежать присутствия этого термина в книге и в то же время использует его (дважды на одной странице), так как понимает, что найдет своих читательниц в первую очередь в феминистской среде. Если считать феминистскую критику одной из форм политической критики, предназначенной для борьбы со всеми формами патриархата и сексизма, книга Патрисии Бир едва ли отвечает ее критериям. В предисловии к книге и в характере аргументации, используемой автором, прослеживается явное стремление удержаться на грани либеральных позиций. Согласно высказанным ею собственным взглядам, близким взглядам «хороших либералов», она ни поддерживает «женское движение», ни оппонирует ему; напротив, она признается в том, что ее «волнуют» и проблемы литературы, и «вопросы эмансипации женщин». Псевдофеминистская критика подобного рода не представляет серьезного интереса для изучения феминистских подходов в литературе.
В конце 1970-х годов увидели свет три важнейших исследования о женщинах-писательницах, которые принято относить к специфически женской литературной традиции или «субкультуре»: «Литературная женщина» Эллен Моэрс (Ellen Moers, Literary Women, 1976), «Их собственная литература» Элейн Шоуолтер (Elaine Showalter, A Literature of Their Own, 1977) и «Безумная на чердаке» Сандры Гилберт и Сюзан Губар» (Sandra Gilbert and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic, 1979). Появление этих трех книг свидетельствует о наступлении зрелости англо-американской феминистской критики. Теперь стало возможным говорить о базовых, профилирующих исследованиях о женщинах-писательницах в британской и американской истории литературы. Написанные компетентными специалистами, разделявшими феминистские идеи и стремившимися распространить их, эти работы вскоре заслуженно обрели большую заинтересованную аудиторию в среде студенток и исследовательниц. Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что работы Моэрс, Шоуолтер, Гилберт и Губар заняли свое место среди классических трудов феминистской критики.
Все три книги ставили перед собой задачу выявить специфическую женскую литературную традицию. Как говорит об этом Элейн Шоуолтер, «женская литературная традиция вытекает из особенностей взаимоотношений между писательницами и обществом, которые находятся в постоянном развитии» (12). По мнению этих критиков, общество, а не биология формирует иное литературное восприятие мира. Однако этот общий для них базовый подход не должен помешать нам увидеть интересные расхождения и отличия в позициях, предлагаемых тремя столь значимыми работами.
«Литературная женщина»
Исследование «Литературная женщина» Эллен Моэрс — результат длительного процесса размышлений о женщинах и литературе, берущего свое начало в 1963 году, когда увидела свет книга Бетти Фридан «Мистика женственности» (Betty Friedan, Feminine Mystique) — книга, заставившая Моэрс изменить свою точку зрения на необходимость рассматривать женщин-писательниц как отдельную группу. «Когда-то, — пишет она, — я наивно считала, что выделение ведущих писательниц из общей истории литературы на основании их пола бессмысленно, но некоторые вещи повлияли на изменение этой позиции» (xv). Причины столь радикального пересмотра позиции в первую очередь заключались в том, что такое разделение давало убедительные результаты и приводило к более глубокому пониманию реальной истории женщин. Не стоит и обманываться, «в своих внутренних системах классификации мы незаметно для себя обособляем ведущих писательниц» (xv). На примере Моэрс можно пронаблюдать эволюцию взглядов многих представительниц академической школы. От опасений, что все попытки выделить женщин из господствующей тенденции исторического развития обернутся одной из форм внедрения неравноправия, к середине 1960-х они пришли к признанию политической необходимости выделения женщин в отдельную группу. Это позволило бы успешно противостоять патриархатной стратегии лишения женщин голоса через включение их в общую категорию «человек».
Книга «Литературная женщина» была первой попыткой описать историю женского письма как «быстрого и мощного потока» (63), текущего рядом или под основным потоком мужской литературной традиции, и, поскольку она описывала малознакомую территорию, она получила восторженный прием. Тилли Олсен (Tillie Olsen) считала «Литературную женщину» «катализатором, поворотной точкой», книгой, которая «убедительно демонстрирует размах, глубину, разнообразие написанных женщинами произведений... никто из читателей не избежит ее влияния»2. Эллен Моэрс поистине заслужила эти похвалы в 1977 году, но темпы, которыми шло развитие феминистской критики, доказывают, что читатель, взявший эту книгу в руки в 1985 году, мог не разделить всех восторгов Тилли Олсен. «Литературная женщина» по-прежнему остается хорошо написанной, интересной книгой, однако впадающей временами в сентиментальные преувеличения, как, например, в оценке Моэрс работ Жорж Санд и Элизабет Баррет Браунинг:
Какими удивительными существами они были! Нас очаровывают их жизненные истории, та неотразимая власть, которая притягивала к ним внимание всего мира, — и все то хорошее, благое, что создает и украшает жизнь женщины в литературе. (5)
Как известно, первоначальный энтузиазм по поводу открытия новых территорий постепенно проходит, и читатели 1985 года могут посчитать, что книга Моэрс далеко не идеальна, ни с точки зрения истории литературы, ни как феминистское исследование. Она слишком перегружена подробностями и деталями, слишком слаба в литературной теории, чтобы претендовать на серьезную критику, и слишком ограниченна в концепции увязывания истории с литературой, чтобы быть убедительным историографическим трудом.
Моэрс считает историю прежде всего хорошим рассказом или захватывающим сюжетом, с которым нужно идентифицироваться и которому следует сопереживать:
Главное, что изменило мой взгляд на историю женщин в литературе, была сама история, драматически разворачивающиеся передо мной живые литературные события периода, рассматриваемого мною в книге. Я усвоила ее урок: для того чтобы понять историю литературы, необходимо знать историю женщин. (xvi)
История для нее подобна средневековым хроникам: тщательная регистрация всего, что летописец считает важным исходя из своих позиций. В этом смысле летописец убежден, что его версия событий, часто представленных как сырые, неупорядоченные «факты», и есть «история». По той же причине Эллен Моэрс считает, что она, автор своей истории, никак на историю не повлияла: «Сами писательницы, а вовсе не моя теория направляли развитие моей книги — их собственные интересы, их собственный язык» (xii). Эта вера в возможность беспристрастного изложения событий выглядит особенно неуместной в работе, которая в принципе считается признанным феминистским произведением.
Приверженность Моэрс традиционным эстетическим и литературным канонам, в особенности ее вера в то, что мы попросту знаем, какие писатели «великие» (подзаголовок к «Литературной женщине» — «Великие писательницы»), мешаетей увидеть, что понятие «великое» всегда оспаривалось феминистками, поскольку именно критерии «великого» активно препятствовали включению женщин в литературный канон. Книга «Литературная женщина» с ее пересказом сюжетов, акцентом на подробностях личной жизни и биографическими анекдотами успешно отвечает задаче предварительного ознакомления и может рассматриваться как хороший обзор английской, американской и французской женской литературы периода, охватывающего конецXVIII—XX в. Нос позиций сегодняшнего дня она воспринимается как первая проба, отправная точка для более зрелых феминистских трудов по истории литературы, появившихся через год-два после ее публикации.
«Их собственная литература»
Элейн Шоуолтер не соглашается с основным тезисом Моэрс о том, что женская литература — это международное движение, «отдельное от основного потока, но не подчиненное ему: подводное течение, мощное и быстрое» (цитирует Шоуолтер в «Их собственной литературе» (10)). Как и Жермен Грир (Germaine Greer), она обращает внимание на «быстротечность женской литературной славы», то есть на то, что писательницы, удостоившиеся славы при жизни, исчезали практически без следа из памяти следующих поколений. Шоуолтер пишет:
Каждое новое поколение писательниц оказывалось в каком-то смысле без истории, оно должно было заново открывать для себя прошлое, снова и снова формулировать понимание, особенности самосознания женщин. При таком постоянно прерывающемся процессе и нелюбви к самим себе, которая не давала писательницам шанса прийти к коллективному сознанию, кажется невозможным говорить о каком-либо «движении». (II-12)
В книге «Их собственная литература» Шоуолтер ставит задачу «описать женскую литературную традицию в английском романе от поколения сестер Бронте до наших дней и показать, что формирование этой традиции сходно с формированием любой литературной субкультуры» (11). Расставляя «литературные вехи» «пиков Остин, откосов Бронте, горных цепей Элиот и холмов Вулф» (viii), она выявляет три основных этапа развития, которые считает общими для всех литературных субкультур:
Сначала идет длительный этап подражания основным формам доминирующей традиции, усвоения норм и критериев искусства, его позиций по отношению к социальным ролям. Второй этап — протест против этих критериев и ценностей и отстаивание прав и ценностей меньшинства, включая требование независимости. И наконец, этап самораскрытия, обращение к себе, освобождение от потребности противостояния, поиск собственной индивидуальности. В отношении к женщинам-писательницам правильно было бы назвать эти стадии: женственная, феминистская, женская (феминная, феминистская, фемальная). (13)
Женственный (феминный) этап берет свое начало с появлением в 1840-х годах мужских псевдонимов и завершается с кончиной Элиота в 1880-м; феминистский этап продолжается с 1880-хдо 1920-х года; женский (фемальный) —с 1920-х годов длится до наших дней, однако в 1960-х годах, с возникновением женского движения, начинается его новый виток.
Так вкратце выглядит основное содержание экскурсии, проведенной Шоуолтер по просторам британской женской литературы начиная с 1840-х годов. Ее главным вкладом в историю литературы в целом и в феминистскую теорию, в частности является особое внимание к именам забытых или непризнанных писательниц. Немалая заслуга Шоуолтер состоит в том, что с ее легкой руки многие ранее неизвестные писательницы получили известность и признание: «Их собственная литература» — это кладезь информации о малоизвестных женщинах-авторах указанного периода. Эту эпохальную книгу отличают широта эрудиции, огромный энтузиазм и уважение к объекту исследования. Ее недостаток — в другом: в отсутствии теоретических посылок о взаимосвязи литературы и действительности, феминистской политики и литературной ценности. Эти вопросы уже поднимались мной ранее, при обсуждении главы из книги Шоуолтер, посвященной Вирджинии Вулф. Поскольку Шоуолтер, в отличие от Гилберт и Губар также написала несколько отдельных статей по феминистской теории, я не сочла нужным развивать далее теоретические обоснования ее критической практики в «Их собственной литературе». Ее теоретические позиции будут рассмотрены более подробно в ходе исследования различных «теоретических подходов» в главе 4.
«Безумная на чердаке»
Массивный том Сандры М. Гилберт и Сюзан Губар предлагает феминистским читательницам собрание глубоких и острых исследований, посвященных ведущим писательницам XIX века. Критики подробно анализируют творчество Джейн Остин, Мэри Шелли, сестер Бронте (в особенности Шарлотты), Джорджа Элиот, Элизабет Баррет Браунинг, Кристины Росетти и Эмили Дикинсон. Но «Безумная на чердаке» представляет собой нечто большее, чем «просто» сборник для чтения. С одной стороны, книга предполагает дать нам новое понимание сущности «особой женской литературной традиции» (xi) XIX века, но она также претендует на создание новой теории женского литературного творчества. В первом большом разделе, озаглавленном «О феминистской поэтике», авторы ставят своей целью «показать на примерах, как формировалась женская литературная реакция на мужские литературные суждения и ограничения» (xii).
Согласно исследованию Гилберт и Губар, в XIX веке (впрочем, как и сейчас) доминирующая патриархатная идеология представляет способность к художественному творчеству как исключительно мужское качество. Писатель является «отцом» текста и как Автор — единственная первопричина и смысл произведения — выступает в образе Божественного Творца. И здесь Гилберт и Губар ставят ключевой вопрос: «Что, если такой величественно мужественный космический Автор является единственной узаконенной моделью для всех ранних авторов?» (7). На их взгляд, в условиях патриархата действительность является именно таковой, и поэтому творческие женщины неизбежно сталкиваются с трудностями, связанными с фаллоцентрическим мифом о творчестве:
И патриархат, и его тексты подчиняют и ограничивают женщин еще задолго до того, как женщины пытаются посягнуть на то перо, трогать которое им категорически воспрещено. И при этом женщины должны избегать мужских текстов, объявленных «Тайнописью» и лишающих их независимости, необходимой для создания альтернативы власти, которая держит их взаперти и не подпускает к перу. (13)
Поскольку творчество считается мужской прерогативой, доминирующие литературные женские образы тоже представляют собой мужские фантазии. Женщинам не дано право творить собственные образы женского, и они вынуждены пытаться соответствовать навязанным им патриархатным стандартам. Гилберт и Губар демонстрируют, как модель «вечной женственности» XIX века облекалась в образ ангельской красоты и благодати: от Беатриче у Данте и гетевской Гретхен и Макарии, до «Ангела домашнего очага» Ковентри Пэтмора. Идеальная женщина выступает как пассивное, покорное и, что главное, само-отреченное существо:
Самоотреченность — это не только благородство, это отказ от себя, это смерть. Жизнь без истории, подобная жизни гетевской Макарии, это жизнь смерти, смерть-при-жизни. В сущности, идеал «созерцательной чистоты» ассоциируется и с небесами, и с могилой одновременно. (25)
Но за спиной ангела притаилось чудовище: обратной стороной мужской идеализации женщины является мужской страх перед женской сущностью. Женщина-чудовище — это женщина, которая не желает идти по пути самоотречения, действует по собственной инициативе, у которой есть своя история и которая не приемлет роли, отведенной ей патриархатом. Гилберт и Губар иллюстрируют свою мысль примерами таких персонажей, как шекспировские Гонерилья и Регана, Бекки Шарп Теккерея, а также приводят канонический ряд «ужасных колдуний-богинь, таких как Сфинкс, Медуза, Цирцея, Кали, Далила и Саломея, владевших магией двуличия, позволявшей им одновременно соблазнять мужчин и лишать их производящей энергии» (34). Женщина-чудовище у Гилберт и Губар двулична именно в силу того, что ей есть что сказать: но при этом она оставляет за собой право не сказать или рассказать другую историю. Двуличная женщина — это та, чье сознание непрозрачно для мужчины, чье мышление не допускает фаллического вторжения в себя мужской мысли. Так Лилит и Королева из «Белоснежки» в мужском представлении становятся классическими образцами женщины-чудовища.
Вслед за этим авторы «Безумной на чердаке» переходят к обсуждению положения женщины-художницы в условиях патриархата: «Жизненно важный процесс самоопределения женщины-художницы осложняется множеством мужских установок, которые вклиниваются между ней и ею самой» (17). Тяжелым следствием этой ситуации неизбежно становятся изнуряющие муки авторства. Если автор всегда мужчина и он уже описал ее как собственное творение, как она может рискнуть взять в руки перо? Гилберт и Губар поднимают этот вопрос, но не отвечают на него. Но они все же формулируют свой взгляд на важнейшие задачи женской литературной критики:
Поскольку голос Короля остается главным, должна ли Королева пытаться говорить как он, подстраиваясь под его тон, его модуляции, лексику, точки зрения? Или же лучше «возражать ему», отстаивать собственные позиции, используя собственный словарь, тембр голоса? Мы считаем, что это главные вопросы, на которые должна ответить феминистская литературная критика, как в теории, так и в практике, и поэтому мы будем снова и снова возвращаться к этим вопросам не только в данной главе, но на протяжении всего исследования литературного творчества женщин девятнадцатого века. (46)
Ответ на эти вопросы у Гилберт и Губар довольно сложен. Прослеживая те «трудные пути, которыми шли женщины девятнадцатого века, чтобы преодолеть «муки авторства», отказаться от патриархатных установок, возродить или вспомнить забытых праматерей, которые бы смогли помочь им открыть особую женскую силу» (59), авторы верят в то, что существует «особая женская сила», но эта сила или голос вынуждены пользоваться неким кружным путем, чтобы выразить или противопоставить себя в условиях патриархатного литературного угнетения. Основной тезис «Безумной на чердаке» можно свести к следующему: пользуясь словами Эмили Дикинсон, женщины предпочли «говорить Правду, но говорить обиняками». Как формулируют это в ключевом пассаже своей книги Гилберт и Губар:
От Джейн Остин и Мэри Шелли до Эмилии Бронте и Эмили Дикинсон женщины создавали литературные произведения в каком-то смысле по принципу палимпсеста. Это произведения, чье внешнее оформление скрывает или затуманивает более глубинные, менее доступные (и менее социально допустимые) уровни смысла. Таким способом писательницы решили сложную задачу — добились истинно женской власти в литературе, приспособившись к патриархатным литературным канонам и, одновременно, ниспровергая их. (73)
Другими словами, женская речь, по теории Гилберт и Губар, двулична, но в то же время она правдива, и это истинно женская речь. Женская стратегия создания текста, по их мнению, состоит в том, чтобы постоянно «критиковать и видоизменять, деконструировать и реконструировать литературные образы, унаследованные от мужской литературы, в особенности... классических антиподов: ангела и чудовища» (76). Так в исследовании появляется образ безумной, вроде Берты Мэйсон из «Джейн Эйр», давший название книге:
В каком-то смысле она является двойником автора, отображением ее собственных страхов и ярости. Большинство поэтических и прозаических произведений, написанных женщинами, активно использует этот образ безумной, как будто писательницы стремятся разобраться в своем внутреннем ощущении женской раздробленности и фрагменти- рованности, чтобы понять, кто они на самом деле в сравнении с тем, чего от них требуют. (78)
Такое явление, как «безумный двойник» или «женская писательская шизофрения» (78), — общая черта всех романов XIX века, рассматриваемых в этой книге. Гилберт и Губар считают, что не менее значимым оно становится и для женских романов XX века (78). Согласно их теории, образ безумной становится прямым ответом на поставленный вопрос о женском творчестве:
Проецируя свой гнев и болезненный дискомфорт на ужасные образы, создавая мрачных двойников самих себя и своих героинь, писательницы одновременно отождествляют себя с теми идентичностями, которые приписывает им патриархатное общество, и пересматривают их. В литературе XIX и XX веков все писательницы, которые населяли свои романы и стихи женщинами-чудовищами, благодаря отождествлению себя с ними кардинально меняли смысл произведения. Ведь в большинстве случаев именно из-за чувства неполноценности этот образ ведьмы-чудовища-безумной становится ключевым для воплощения собственного «я» писательницы. (79)
Фигура безумной обретает символическое значение в сложной литературной стратегии, которая, по мнению Гилберт и Губар, придает революционную остроту женской беллетристике XIX века: «Пародийное, коварное, невероятно изощренное женское письмо того времени, — реформаторское и революционное одновременно, даже если оно создано авторами, которых мы привыкли считать образцами ангельского смирения» (80). Ангел и чудовище, прелестная героиня и неистовая безумная — две стороны собственного образа автора и в то же время составные части ее коварной антипатриархатной стратегии. Гилберт и Губар продолжают этот ряд двойных противопоставлений, указывая на частое употребление в исследуемой литературе образов заточения и бегства, болезни и здоровья, раздробленности и целостности. Их, несомненно, изобретательные и оригинальные трактовки, глубокая теория женского творчества вдохновили немало феминистских критиков на продолжение той скрупулезной работы над текстами, которую они инициировали [3].
Гилберт и Губар показали себя серьезными теоретиками. Созданная ими теория феминистской критики привлекает своей изысканностью, особенно на фоне общего уровня теоретических дискуссий в англо-американской феминистской среде. Но какие теоретические позиции они отстаивают? Какова политическая подоплека их рассуждений? Первый проблематичный аспект их теории — настойчивое стремление отождествить автора с персонажем. Гилберт и Губар, как прежде Кейт Миллетт, многократно подчеркивают, что персонаж (в особенности безумная) выступает двойником автора, «прообразом ее собственных метаний и ярости» (78):
...именно через безумную ярость своего двойника женщина-автор выражает собственное неистовое желание совершить побег из мужского дома и мужского текста. Но через ту же ярость двойника автор открывает для себя и разрушительный потенциал силы гнева, подавляемого до такой степени, что сдерживать его уже невозможно. (85)
Их критический подход предполагает, что за патриархат- ным фасадом текста скрывается реальная женщина, и задача феминистского критика заключается в том, чтобы раскрыть ее правду. Мэри Якобус в своей весьма язвительной статье, посвященной книге «Безумная на чердаке», справедливо критикует авторов за «тайное соучастие в «фаллическом автобиографизме» (autobiographical «phallacy»), извечном заблуждении критиков-мужчин, которые считают, будто женское письмотеснее связано с собственным женским опытом, чем мужское, и что женский текст — это и есть сам автор, или, по крайней мере, продолжение ее бессознательного» (520). Таким образом, хотя оба критика избегают примитивизации выводов, временами их положения грешат излишней простотой: под написанным текстом, который является ничем иным, как «внешним оформлением», которое «скрывает и затуманивает более глубокие, менее доступные... смыслы» (73) находится истинное содержание текста.
Это несколько напоминает упрощенческие подходы фрейдистского или марксистского анализа, хотя речь идет не об эдиповом комплексе писательницы и не о классовой борьбе, а о ее постоянной, неизменной феминистской ярости (feminist rage). Вульгаризованный вариант подобного подхода получил довольно широкое распространение в современной англоамериканской феминистской критике. Согласно данному подходу, все тексты, написанные женщинами, являются феминистскими текстами, поскольку любой без исключения женский текст может тем или иным образом, в том или ином смысле воплощать «женскую ярость», направленную против патри- архатного угнетения. Как следствие этого, при рассмотрении Гилберт и Губар произведений Джейн Остин им не удается добиться той же убедительности, какую они демонстрировали при прочтении Шарлотты Бронте. Объясняется это в первую очередь тем, что они считают гнев единственным признаком феминистского сознания. Тонкая ирония Остин не поддается им, в то время как явно выраженный гнев и перепады настроений в текстах Бронте дают им реальные основания для подтверждения собственных тезисов.
Помимо упрощения отдельных положений теории, анти-патриархатную позицию Гилберт и Губар подрывает настойчивое утверждение о том, что женское авторство гарантирует единственно верный смысл текста (а смысл, в сущности, — это гнев писательницы). Процитировав «Начала» Эдварда Сэда (Edward Said, Beginnings) с его «утонченными размышлениями по поводу слова авторство» (4), соединяющего в себе «и автора, и авторитарность любого литературного текста» (5), они приводят утверждение Сэда о том, что «гармоничность или целостность текста достигается благодаря целому ряду генеалогических соединений: автор-текст, завязка-кульминация-развязка, текст-содержание, читатель-трактовка и так далее. За всем этим стоит образ преемственности, отцовства, иерархии» (5)4. Но эта позиция, по меньшей мере, непоследовательна: принять формулировку Сэда об иерархической и авторитарной природе отношений автора и текста, чтобы затем написать книгу из 700 страниц, где ни разу не говорится об авторитете женщины-атора. Ведь если мы действительно отказываемся от фигуры автора как Бога Отца, творящего текст, было бы явно недостаточно просто отвергнуть патриархатную идеологию, заложенную в образе отцовства. Не менее важно отказаться от той критической практики, которой она оперирует, той практики, которая определяет автора кактансценденталь- ного означаемого (transcendental signified) его или ее текста. Для патриархатного критика автор является источником, основой и значением текста. Если мы хотим разделаться с практикой авторитарности авторства, необходимо сделать еще один шаг и объявить, вслед за Роланом Бартом, о смерти автора. В этом контексте определенно стоит процитировать слова Барта о роли автора:
Коль скоро Автор устранен, совершенно напрасными становятся и любые притязания на «расшифровку» текста. Присвоить текст Автору означает ограничить этот текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо. Такой взгляд вполне устраивает критику, которая считает своей важнейшей задачей обнаружить в произведении Автора (или же различные его ипостаси, такие, как общество, история, душа, свобода): если Автор найден, значит, текст «объяснен» и критик одержал победу. («Смерть Автора», 389)
Актуальность приведенной здесь критики Барта в отношении исследователей, признающих авторитарность автора, в частности Гилберт и Губар, очевидна. Но какова же альтернатива? По мнению Барта, следует принять множественность текста, когда «все приходится распутывать (disentangle), но расшифровывать (deciphee) нечего» («Смерть Автора», 389):
Пространство текста предназначено для блуждания, а не для прорыва; текст непрестанно порождает смысл, но он тут же и улетучивается, происходит систематическое высвобождение смысла. Тем самым литература (отныне правильнее было бы говорить «письмо»), отказываясь признавать за текстом (и за всем миром как текстом) какую-либо «тайну», то есть окончательный смысл, открывает свободу контртеологической, революционной по сути своей деятельности, так как не останавливать течение смысла — значит в конечном счете отвергнуть самого Бога и его ипостаси — рациональный порядок, науку, закон. (389-390)
Вера Гилберт и Губар в то, что истинный авторский голос женщины являет собой сущность всех текстов, скрывает проблемы, поднимаемые их собственной теорией патриархатной идеологии. В их трактовке, как и у Кейт Миллетт, идеология превращается в монолитную унифицированную концепцию, которой неведомы противоречия; и против нее должна выступать пресловутая, волшебным образом нетронутая «женская сущность» (femaleness). Если патриархат формирует собственные всепроникающие идеологические структуры, трудно представить, как женщины XIX века смогли развить в себе или сохранить феминистское сознание, не тронутое доминирующими патриархатными структурами. Как отметила Мэри Якобус, обманчивая стратегия женщины-писательницы, согласно Гилберт и Губар, принуждает ее «к уловкам за счет свободы, к которой так стремились поэтессы XX века: свободы считаться чем-то большим, нежели выдающимися жертвами патриар- хатного заговора» (Рецензия на «Безумную на чердаке», 522).
Иными словами, как женщины вообще могли писать, если учесть беспрестанное патриархатное идеологическое влияние, которое окружало их со всех сторон с момента рождения? Гилберт и Губар так вопрос не ставят, ограничившись в заключении первой главы замечанием что, «несмотря на препятствия в виде двойственного образа ангела и чудовища, несмотря на страх бесплодия и авторские метания, целые поколения писательниц сумели создать свои тексты» (44). Это так, но в силу каких причин? Только более углубленное исследование противоречивого, несовершенного характера патриархатной идеологии помогло бы Гилберт и Губар ответить на этот вопрос. В этом контексте также существенны аргументы Коры Каплан в ее споре с Кейт Миллетт [5].
Если феминистки хотят ответа на коварный вопрос о том, почему некоторые женщины смогли противостоять патриархатным стратегиям, несмотря на все трудности, им следует учитывать парадоксально продуктивные аспекты патриархатной идеологии (те моменты, когда она направлена против себя самой), равно как и очевидные моменты угнетения. Например, следует признать, что в XIX веке либеральный гуманизм, взятый на вооружение в качестве «легитимирующей идеологии» буржуазным патриархатом, снабдил растущее буржуазное феминистское движение новыми аргументами и средствами борьбы. Если считалось, что права личности священны, то становилось все труднее соглашаться с тем, что это не касается прав женщин. И если статья Мэри Уоллстоункрафт о правах женщин стала возможной благодаря освободительным, пусть и буржуазно-патриархатным, идеям liberte, egalite, eraternite, то статья Джона Стюарта Милля о подчиненном положении женщин была результатом патриархатного либерального гуманизма. Гилберт и Губар упускают эти моменты, упоминая Милля лишь дважды, en passant, и оба раза в сравнении с Мэри Уоллстоункрафт. Их теория скрытого, невыраженного гнева, лежащего в основе «женской сущности» XIX века, не стыкуется с «мужским» текстом, который открыто обсуждает проблему угнетения женщин.
Эта загвоздка в работе Гилберт и Губар одновременно обостряется и усложняется из-за их упорного использования эпитета «женский» (female). В феминистской среде давней и распространенной практикой стало употребление определения «фемининный» (и «маскулинный») для демонстрации социального аспекта конструирования половых различий (нормы поведения и сексуальности, предписанные культурой и обществом), оставив за понятиями «женский» и «мужской» (female, male) только биологические аспекты пола. Таким образом, «фемининное» являет собой заботу, уход, воспитание, а «женское» — природу, биологию. «Женственность» — это культурная конструкция: женщиной не рождаются, ею становятся, как сказала об этом Симона де Бовуар. С этой точки зрения патри- архатное угнетение состоит в навязывании определенных социальных стандартов женственности биологическим женщинам именно для того, чтобы мы поверили, будто предложенные стандарты «женственности» — это природная норма. Тогда женщина, отказавшаяся подчиниться им, становится неженственной и ненормальной. В интересах патриархата, чтобы два этих понятия (женственность и женскость) постоянно подменял ись одно другим. Феминистки же, наоборот, должны разоблачать такую подмену и всегда доказывать, что, хотя все женщины, без сомнения, женского рода (female), это вовсе не означает, что они обязаны быть женственными (feminine). Это одинаково верно и в отношении традиционных, патриархатных определений фемининности, и в отношении нового феминистского определения.
Нежелание Гилберт и Губар признать различия между природой и заботой на уровне лексики делает их позицию малопонятной. Что это за творчество «женского рода», которое они исследуют? Толи это природное, изначальное, врожденное качество всех женщин? Или это «фемининное» творчество, то есть творчество, соответствующее определенным социальным стандартам женского поведения, или творчество, свойственное женскому подчиненному положению в психоаналитическом смысле? Гилберт и Губар, похоже, склоняются к первой гипотезе, хотя и с поправкой на исторический контекст: в конкретном патри- архатном обществе все женщины (поскольку они биологически женского рода) используют определенные стратегии, чтобы противостоять патриархатному угнетению. И эти стратегии считаются «женскими», потому что они одинаковы для всех женщин, оказавшихся в таком положении. Эти доводы, безусловно, предполагают, что воздействие патриархатной идеологии однородно и всеобъемлюще. Они также не помогают понять, насколько женщинам поистине трудно добиться «абсолютной фемининности» (full femininity), или какими путями они могут занять маскулинную субъективную позицию — то есть, стать активными поборницами патриархатного статус-кво.
В заключительной главе теоретической преамбулы («Притча о пещере») Гилберт и Губар рассматривают «Предисловие автора» к «Последнему человеку» Мэри Шелли, где писательница говорит нам о том, как, зайдя в пещеру Сибиллы, она нашла разбросанные листья ее записей [6]. Тогда писательница решает посвятить жизнь расшифровке и пересказу этих разрозненных листьев в более последовательной форме. Гилберт и Губар используют этот рассказ как притчу, поясняющую их понимание положения писательницы в условиях патриархата:
Эта последняя притча о женщине-авторе, которая входит в пещеру собственного сознания и обнаруживает разрозненные листья не только собственной силы, но и тех преданий, которые породили эту силу. Плоть творчества ее предшественниц, как и плоть ее собственного творчества, разбросана вокруг нее по кусочкам, расчленена, разорена, предана забвению. Как может она возродить ее в памяти, стать ее частью, соединиться и вос-соединиться с нею, стать единым целым с ней, и обрести тем самым собственную цельность, свое «я»? (98)
В этой притче Гилберт и Губар декларируют и свои феминистские эстетические позиции. Они подчеркивают целостность — составление единого целого из записок Сибиллы (никто, однако, не спрашивает, почему же мифологическая Сибилла захотела рассеять свою мудрость): женское письмо может существовать только как структурированное и воплощенное целое. Целостность текста соответствует целостности женской личности; сущностью творчества является гуманистический идеал цельной личности. Раздробленная концепция личности или сознания для Гилберт и Губар равноценна больной или неполноценной личности. Хороший текст — это органичное целое в противопоставление изощренному аппарату, использованному авторами «Безумной на чердаке» при чтении работ, которые они исследовали.
Но стремление авторов к идеалу целостности и завершенности в работах пишущих женщин легко подпадает под критику именно как патриархатная — или же точнее — фаллическая концепция. Как доказывали Люс Иригарэ и Жак Деррида, патриар- хатное мышление формирует свои критерии «позитивных» ценностей на основе Фаллоса и Логоса как трансцендентных означающих западной культуры [7]. Следствия этого мышления порой до удивления просты: все, что так или иначе воспринимается сходным с «позитивными» характеристиками Фаллоса, считается хорошим, истинным или прекрасным, а все то, что не соответствует форме Фаллоса, считается хаотичным, разрозненным, негативным или несуществующим. Фаллос нередко воспринимается как цельная, единая и простая форма в сравнении с пугающей хаотичностью женских гениталий. Исходя из этого можно утверждать, что приверженность Гилберт и Губар к нерушимой целостности напрямую соответствует этим фаллическим эстетическим критериям. Как мы увидели на примере феминистского отношения к наследию Вирджинии Вулф, предпочтение некоторыми феминистками реализма модернизму можно толковать в этом же ключе. Отсюда следует, что многие представительницы англо-американского феминизма — и Гилберт и Губар здесь не исключение — все еще работают в традиции патриархатной эстетики Новой Критической Школы. Это предположение подтверждается высказанной в книге надеждой Гилберт и Губар на то, что их труд будет способствовать воссозданию утраченной «женской» (female) целостности:
Нам кажется, что эта книга сродни мечте Кристины Росетти о возрождении «родины матери» (mother country). В этом нам видится попытка восстановить утраченные листья Сибиллы, листья, которые взывают к нам, чтобы быть собранными в единое целое, и тогда они расскажут нам историю жизни той единой женщины-творца, «нашей общей матери», как сказала Гертруда Стайн, женщины, расчлененной и преданной забвению патриархатной поэтикой, которую мы постарались не забыть. (101)
Далее отрывок продолжается пересказом в общих чертах истории этой единой женщины-творца от Джейн Остин и Марии Эджворт до Джорджа Элиота и Эмили Дикинсон. Идея целостности, концепция, трактующая женщину-писательницу как содержание самих текстов, доводится здесь до логического конца: желания пересказать историю могущественной пер- во-женщины («Ур-женщины»).
С одной стороны, это похвальная идея, ведь феминистки всегда хотели, чтобы женщины заговорили; с другой же, это влечет за собой сомнительные политические и эстетические последствия. Во-первых, можно ли брать на себя право говорить за другую женщину, ведь именно этим и занимались всегда чревовещатели патриархата: мужчины постоянно говорили за женщин или от имени женщин. Вправе ли женщины занимать ту же самую маскулинную позицию по отношению к другим женщинам? Другими словами, у нас есть основания считать, что Гилберт и Губар сами претендуют на пресловутую авторитарность авторства, которой наделили всех писательниц. Что касается «пересказа истории», то он сам по себе может стать автократическим действием. Как мы уже отмечали, Гилберт и Губар цитируют Сэда, соглашаясь с ним в том, что в структуре текста под «началом-серединой-окончанием» скрывается «образ преемственности, отцовства, иерархии» (5). Но история со времен Аристотеля это как раз то, что всегда имеет начало, середину и конец. Может быть, это не слишком удачная для феминизма идея рассказать всю, единую и законченную историю Великой Праматери-писательницы? Как отметила Мэри Якобус:
Эта невероятно энергичная, порой остроумная, проницательная и изобретательная книга, мне кажется, много теряет именно из-за излишнего пристрастия к сюжету; пусть хитрости, используемые 96 в ней, не те традиционно женские, которыми пользуется злая Королева, они тоже по-своему простоваты. Они подобны тугому корсету, который сковывает игру смыслов в текстах, чьи скрытые замыслы пытаются раскрыть [исследовательницы]. Вновь и вновь они пытаются обнаружить не просто «сюжет», но «автора», безумную на чердаке из их заглавия... Как история Белоснежки, это сюжет, обреченный на повторение; их книга (многословная, отчасти из-за вынужденных повторов) бесконечно проигрывает один и тот же сценарий борьбы, отпирая тайны женского текста одним и тем же ключом. (Рецензия на «Безумную па чердаке», 518-519)
Как утверждает Якобус, в конечном итоге это постоянное возвращение к «подлинной, изначальной «истории» угнетения женщин патриархатом» происходит из-за потери политических позиций самими критиками: «Если культура, письмо и язык по сути своей репрессивны, что можно доказывать, то такова же интерпретация; и тогда критик-феминистка должна задаться вопросом: в чем специфика этой репрессии по отношению к женщине-автору?» («Рецензия», 520). Якобус подводит итог: «...история, читаемая между строк, возможно, рассказывает о проблематичности попыток пересмотра патриархатного анализа феминистской критикой» («Рецензия», 522). Похоже, нам следует спросить себя, не пора ли пересмотреть те аспекты феминистской эстетики, которые ведут в тот же самый патриар- хатный тупик авторитарности. Другими словами, пришло время признать, что главная проблема англо-американской феминистской критики состоит в радикальном конфликте между феминистской политикой и патриархатной эстетикой.
Глава 4 Развитие теории
До недавнего времени англо-американские феминистские критики в большинстве своем были равнодушны и даже недружелюбны по отношению к литературной теории, считая ее безнадежно абстрактным мужским изобретением. Теперь отношение стало меняться, и есть все основания полагать, что 1980-е станут периодом прорыва в области теории феминистской критики. В этом разделе я проанализирую деятельность некоторых исследовательниц, подготовивших почву для более углубленного феминистского осмысления целей и назначения литературной критики. Для этого я решила остановиться на теоретических работах трех, на мой взгляд, наиболее представительных англо-американских феминистских критиков: Аннет Колодны (Annette Kolodny), Элейн Шоуолтер и Миры Джелен (Myra Jehlen).
Аннет Колодны
Одним из первых текстов, нарушивших теоретическое молчание в феминистской среде, стала работа Аннет Колодны «Несколько заметок на тему: что такое «феминистская литературная критика» (Some notes on defining a "feminist literary criticism", опубликованная сначала в журнале Critical Inquiry (Критические исследования) в 1975 году. Уже в первом абзаце Колодны заявляет о новаторстве своего подхода: «До сих пор никто еще не дал точного определения понятию "феминистская критика"» (75). После краткого обзора разных видов феминистской критики Колодны обращается к главной теме: изучению женского письма как отдельной категории. Показав, что такого рода критика основана на «предположении, что в женском письме есть что- то уникальное» (76), она выражает беспокойство по поводу того, что такой подход может навести на слишком поспешные выводы о женской природе или вызвать бесконечные споры о «достоинствах природных качеств по сравнению с воспитанными» (76). Она также выражает озабоченность «упорным стремлением (распространенным в феминистской критической среде) выявить, что же отличает женское письмо от мужского (если таковое различие существует)» (78); если гендер существует лишь по отношению к чему-либо, то совершенно невозможно обнаружить разницу в стиле или содержании, не прибегая к сравнению. «Если мы обязательно хотим обнаружить нечто, что можем четко обозначить как «женственный способ» [письма], в этом случае долг чести обязывает нас вычленить и «мужественный способ» как его противоположность» (78). Следовательно, Колодны призывает к своего рода феминистскому компаративизму — теоретическому подходу, основанному на сравнении. Этим путем пойдет шесть лет спустя Мира Джелен.
Впрочем, несмотря на отдельные оговорки, Колодны верит в то, что мы можем, постепенно накапливая материал, прийти к некоторым выводам относительно природы фемининного стиля в литературе, если мы
станем воспринимать каждого автора и каждую отдельную работу каждого автора как уникальное и индивидуальное явление. Затем, постепенно, спустя какое-то время и по прочтении множества работ мы увидим, встречаются ли общие моменты и, что более важно, существуют ли такие общие моменты.
(79) Однако подобная методология довольно противоречива. Хотя Колодны, с одной стороны, предлагает нам отказаться от всех предубеждений относительно женского письма («Мы... должны подходить не с предположениями (обоснованными или нет), а с вопросами» (79)), трудно представить себе, что наши более или менее неосознанные предубеждения не будут влиять на восприятие каждого «уникального, индивидуального» автора и на отбор конкретных черт и характеристик для сравнения. Колодны обнаруживает несколько типичных сти- 99 листических моделей в женской беллетристике, две из которых наиболее важны: «рефлексивное восприятие» (reflexive perception и «инверсия» (inversion). Рефлексивное восприятие имеет место, когда персонаж «обнаруживает себя, или некую часть себя, делающей что-то, что она не собиралась, или в ситуации, не до конца ей понятной» (79). Инверсия случается, когда стереотипные, традиционные образы женщин... вдруг полностью видоизменяются в женской литературе, либо преследуя комические цели,... чтобы обнаружить их скрытую сущность [либо!... чтобы представить свою противоположность» (80). Инверсия в трактовке Колодны похожа на выдвинутую ранее теорию Гилберт и Губар о разрушительных стратегиях женской литературы, глубоко скрытых в текстах писательниц.
Колодны считает, что «боязнь застывших фальшивых образов или неестественных ролей» — «самый непреодолимый страх в современной женской литературе» (83), но тут же признает, что это вряд ли специфически женская проблема. Тем не менее она настаивает на том, что при использовании женщинами этих образов задачей критика является поиск отличий в опыте и переживании. По мнению Колодны, феминистские критики всегда за вымыслом ищут действительность, а значит, должны «продвигаться очень осторожно и не торопиться с утверждениями, что гротескное, порой даже явно эксцентричное восприятие действительности в работах писательниц и у их женских персонажей является какой-либо формой искажения» (84). Ее глубокая убежденность в том, что «за текстом» всегда стоит реальный опыт, проявляется с особой силой в следующем отрывке, где она, кстати, отмечает возможное различие в использовании одного и того же образа у мужчин и женщин:
Возможно, ощущения мужчины, что он связан работой, и ощущения женщины, что она связана домом, в конечном итоге подходят под один психиатрический диагноз, но язык литературы, если он честен, откроет нам все мелкие детали, поминутное переживание этого чувства несвободы в столь различных пространствах. (85)
Феминистская критическая программа Колодны в целом вырастает из основных положений Новых Критиков:
Так, первостепенной задачей серьезной феминистской критики в моем представлении является усвоение методов строгого анализа стилей и образов с целью последующего применения этих методов к отдельным произведениям безо всяких предубеждений и поспешных умозаключений. Только тогда мы сможем научить наших студентов и коллег правильному прочтению произведений писательниц и пониманию их намерений и конкретных достижений (цели, которым, по моему убеждению, должна следовать любая правомерная литературная критика, независимо от предмета анализа). (87)
Однако, несмотря на использование «мужских» прилагательных, таких, как «серьезный» и «строгий», для описания «правильной» феминистской критики, Колодны не удается удержаться в рамках традиционного подхода именно в силу того, что она пытается анализировать произведения писательниц без предубеждения (как будто это возможно!), чтобы дать им надлежащеетолкование. Мятежные феминистки, предпочитающие изучать литературу не надлежащим образом (например, Кейт Мил- летт), читать «против шерсти» и оспаривать установки «правомерной литературной критики» (зачем феминисткам отказываться оттого, что считается неправомерным?), вряд ли найдут для себя место в теоретическом пространстве, открытом такими критиками, как Колодны, Шоуолтер и Джелен. Колодны даже советует феминистской критике «непременно отделять политическую идеологию от эстетических суждений» (89), поскольку по ее словам, политические пристрастия могут превратить нас в «нечестных» критиков [1]. В заключение своей статьи она призывает феминистскую критику постараться «вернуть творчество писательниц в основные академические программы, оценивая его без предвзятости, справедливо, не делая половую принадлежность автора критерием своей оценки» (91). Хотя врядли кто будет оспаривать подобную постановку вопроса, она тем не менее выглядит слишком упрощенной задачей для феминистской борьбы в рамках академических институтов. Имеет смысл подумать, является ли подобный реформизм неизбежным результатом феминистского анализа, основанного на безответном принятии многих положений доктрины Новых Критиков.
Спустя пять лет в статье под названием «Танцы на минном поле. Некоторые наблюдения относительно теории, практики и политики феминистского литературного критицизма», напечатанной в Feminist studes (Феминистские исследования), Колодны возвращается к некоторым вопросам, поднятым ею в 1975 году. Автор сетует на то, что через десять лет активного развития новой научной области феминистской критике все еще не предоставили «достойного места в интеллектуальном путешествии, которое в академии условно именуется «критическим анализом». Вместо того чтобы пригласить нас на поезд, нас заставляют вести переговоры относительно минного поля» (6). По мнению Колодны, агрессивная реакция на феминистскую критику со стороны академических учреждений может быть «превращена в искренний диалог» (8), если мы проясним наши методологические и теоретические позиции; и именно это она пытается сделать. Доказывая, что феминистская критика в основе своей избирает «подозрительную» позицию в отношении литературы, Колодны в качестве принципиально важной задачи, стоящей перед феминистскими критиками, выделяет уточнение ценности их эстетических суждений: «Каким целям служат эти суждения, спрашивает феминистка; сохранению каких представлений о мире или идеологических позиций они (пусть ненамеренно) способствуют?» (15). Это поистине одно из самых значительных ее достижений.
Проблема возникает, когда она переходит к широкому набору рекомендаций относительно важности плюрализма для определения правильных феминистских позиций. Феминистская критика не обладает систематической последовательностью, утверждает она, и этот факт («факт нашей разнородности») должен «обеспечить нам безопасное место там, где нам всегда следовало быть: на дальних окраинах минного поля вместе с другими плюралистами и плюрализмами» (17). Феминистки не могут, и вовсе не должны следовать «внутренней последовательности, характеризующей систему», которая, по мнению Колодны, присуща психоанализу и марксизму. В ее представлении эти две теоретические формации выглядят как монолитные угнетающие конструкции, возвышающиеся над многообразным антиавторитарным феминистским полем. Однако едва ли верно то, что марксизм и психоанализ являют собой однозначное унифицированное теоретическое поле; весьма сомнительной представляется и идея об исключительном многообразии феминистской критики2. Колодны признает, что в основе феминистской критики лежит феминистская политика; следовательно, хотя мы и можем спорить о том, что является истинной феминистской политикой и теорией, эти дискуссии все равно происходят в рамках феминистской политики, точно так же, как и дискуссии современных марксистов. Признаваемая в качестве таковой феминистская критика попросту не может существовать без общей политической базы. В таком контексте «плюралистический» подход Колодны рискует выплеснуть ребенка вместе с водой:
Принятие ярлыка «плюрализма» вовсе не означает, однако, что мы перестанем расходиться во взглядах; это означает возможность признания нами того, что различные толкования, даже одного текста, могут быть равно полезны, более того, приносить новые открытия в рамках различных исследовательских подходов. (18)
Но если мы станем настолько плюралистичны, чтобы считать феминистскую позицию всего лишь одной из многих «полезных» концепций, нам придется предоставить право на существование большинству «маскулинистских» критических подходов: они также могут оказаться «полезными» в целях, совершенно отличных от наших.
В системе взглядов Колодны отводится незаслуженно мало места роли политики в критической теории. По ее справедливому утверждению, «главное, что феминистская критика ставит под сомнение, — это тот самый затертый миф об интеллектуальном нейтралитете» (intellectual neutrality) (21). Однако при этом она как будто закрывает глаза на то, что даже критическая теория обладает собственным политическим контекстом. Феминистская критика не может просто:
инициировать живой, подвижный плюрализм, приемлющий возможности множества критических школ и методов, ничему не отдавая предпочтения, понимая, что многие инструменты, необходимые нам для анализа, будут неизбежно заимствованы, и лишь часть из них создана нами самими. (19)
Феминистки также в обязательном порядке должны проделать политическую и теоретическую переоценку существующих методов и инструментов критического анализа, чтобы быть уверенными в том, что они не подведут.
Элейн Шоуолтер
Элейн Шоуолтер справедливо считается одной из ведущих феминистских критиков Америки, поэтому ее теоретические наблюдения представляют для нас особый интерес. Я хочу рассмотреть здесь две ее статьи по феминистской литературной теории — «О феминистской поэтике» {Towards a feminist poetics, 1979) и «Феминистская критика в пустыне» (Feminist criticism in the wilderness, 1981).
В первой статье Шоуолтер проводит черту между двумя типами феминистской критики. Первый — описывает женщину как читателя, и Шоуолтер называет его «феминистской критикой». Второй — относится к пишущим женщинам, и Шоуолтер называет его «гинокритикой». «Феминистская критика» имеет дело с работами авторов-мужчин. По словам Шоуолтер, этот критический подход подразумевает «историческое исследование, рассматривающее идеологические постулаты литературных явлений» (25). Подобный «подозрительный» (suspicious) подход к литературному тексту практически отсутствует во втором типе, выделенном Шоуолтер, поскольку среди основных интересов «гинокритики» она называется «историю, темы, жанры и структуры в литературе, созданной женщинами», «психодинамику женского творческого процесса» и «изучение конкретных писательниц и их трудов» (25). Ничто не указывает здесь на то, что критик-феминистка, занимающаяся женщинами-писательницами, должна проявлять что-либо, кроме сочувствующего, нацеленного на поиск идентичности отношения к текстам, написанным женщинами. «Герменевтика подозрения», которая предполагает, что текст это не то, или не только то, чем он кажется, и, следовательно, ищет в тексте подспудные противоречия и конфликты, равно как отсутствия и умолчания, относится, похоже, только к текстам, написанным мужчинами. Другими словами, критик-феминистка должна понимать, что текст, созданный женщиной, получает совсем иной статус, чем «мужской» текст.
Шоуолтер пишет:
Одна из проблем феминистской критики заключается в том, что она ориентирована на мужчину. Если мы будем изучать стереотипные образы женщин, сексизм критиков-мужчин и те немногие роли, которые женщины играют в литературной истории, мы не узнаем, что чувствовали и переживали женщины, а только то, какими мужчины хотели видеть женщин. (27)
Здесь подразумевается, что критик-феминистка не только должна стать «гинокритиком» и изучать женское письмо, именно для того, чтобы понять, «что чувствовали и переживали женщины», но и то, что эти переживания и опыт непосредственно присутствуют в текстах, написанных женщинами. Иными словами, текст исчезает или становится прозрачной средой, которая позволит ухватить «переживание» (опыт). Такое представление о тексте, передающем истинное «человеческое» переживание, присуще, как мы уже видели, традиционному западному патриархатному гуманизму. В случае Шоуол- тер этот гуманистический постулат носит еще и явную окраску эмпиризма. Она отрицает теорию как мужское изобретение, которое применимо только к текстам мужчин (27-28). «Гино- критика» освобождается от пристрастия к мужским ценностям и пытается «сосредоточиться... на заново открытой женской культуре» (28). Применение в исследовании жен щины-автора и ее творчества антропологических теорий приносит наилучшие результаты в поиске «заглушённой» (muted) женской культуры: «Гинокритика напрямую связана с феминистскими исследованиями в области истории, антропологии, психологии и социологии, которые все вместе развивают теории о женской субкультуре» (28). Другими словами, феминистские критики должны заниматься историческими, антропологическими, психологическими и социологическими составляющими «женского» текста, то есть всем, кроме самого текста. Единственное, чему Шоуолтер придает значение, — это эмпирические, экстра-литературные параметры текста. Эта позиция, в сочетании с ее страхом перед «мужской» теорией и апеллированием к «человеческому» опыту, в результате ставит ее в опасную близость от мужской критической иерархии, патриархатные ценности которой она оспаривает.
В статье «Феминистская критика в пустыне» Шоуолтер склонна развивать те же идеи. Новым компонентом этой статьи становится многословное изложение ее концепции о четырех основных направлениях современной феминистской критики: биологическом, лингвистическом, психоаналитическом и культурном. Хотя мы можем усомниться в правомерности подобного деления теоретического поля, становится очевидным, что Шоуолтер начала признавать важность теории. Она по-прежнему придерживается тезиса о необходимости разделения «феминистской критики» (которую также называет здесь «феминистским прочтением») и «гинокритикой». Феминистская критика, или прочтение, говорит она, это «по сути дела способ интерпретации». И далее: «Сложно ожидать теоретической последовательности от действия [т.е. интерпретации), которое само по себе столь эклектично и всеобъемлюще, тем не менее феминистское прочтение как критическая практика несомненно имеет большую важность» (182). Так она избегает упрямых «мужских» вопросов вроде: «Что такое интерпретация? Что означает чтение? Что такое текст?» Шоуолтер по-прежнему не допускает любого вмешательства «мужской критической теории», объясняя это так: «мы вынуждены от нее зависеть, и она тормозит наше развитие в разрешении наших собственных теоретических проблем» (183). Ее разграничение «мужской критической теории» и «наших собственных теоретических проблем» не обсуждается и не рассматривается в подробностях, нам остается только самим сделать вывод, что, отвергая «белых отцов» — Лакана, Машере (P. Macherey) и Энгельса (183-184), она превозносит культурную теорию, разработанную Эдвином Арденером (Edwin Ardener) и Клиффордом Гирцем (Klifford Geertz), как наиболее перспективную для дальнейших «гинокритических» изысканий. Несмотря на довольно символическую непоследовательность (« Я не... намерена возвеличивать Арденера и Гирца в роли новых белых отцов вместо Фрейда, Лакана и Блума» (205)), она ухитряется смутить этим жестом читателя, проследовавшего за ней до этого места. Должны ли увлеченные «гинокритики» использовать «мужские» теории или нет? Окончательный ответ Шоуолтер на этот вопрос откровенно уклончив, она прибегает к сомнительному противопоставлению «теории» (theory) и «(по)знания» (knowledge): «Никакая теория, самая замысловатая, не может заменить глубокого и всеобъемлющего познания женских текстов, которые создают основной предмет нашего осмысления» (205). Но какое же «(по)знание» может существовать без теоретических посылок?
Итак, мы вернулись к тому, с чего начали: отсутствие необходимой теоретической школы феминистской критики стало серьезной проблемой. Чрезмерное теоретизирование помешает нам достичь «глубокого и всеобъемлющего познания женских текстов», которое сама Шоуолтер так явно демонстрирует в «Их собственной литературе». Ее страх перед текстом и его проблематичностью вполне оправдан, поскольку любое реальное вхождение в данное исследовательское поле рискует обнажить скрытую взаимосвязь между эмпирической и гуманистической версией феминистской критики и мужской академической иерархией, которой она обоснованно сопротивляется.
Я постараюсь вкратце обрисовать суть данной проблемы. Гуманист верит в литературу как в первостепенный инструмент воспитания: читая «великие труды», ученик становится более достойным человеком. Великий автор велик, потому что он (порой даже она) сумел передать истинное видение жизни; роль читателя или критика заключается в том, чтобы почтительно вслушиваться в голос автора, звучащий сквозь текст. Литературный канон «великой литературы» обеспечивает, чтобы будущим поколениям передавался именно этот «показательный опыт» (выбранный буржуазными критиками-мужчинами), а не те неправильные, не репрезентативные опыты, которые можно обнаружить в большинстве женских, этнических и пролетарских произведений. Англо-американская феминистская критика объявила войну этой самодовольной канонизации мужских ценностей среднего класса. Но она редко подвергала сомнению само понятие подобного канона. В конечном итоге целью Шоуолтер становится создание отдельного канона женского письма, а не отказ от всех канонов. Но новый канон не может быть менее жестким, чем прежний. Задача феминистских критиков вновь сведется к тому, чтобы тихо сидеть и слушать голос учительницы, которая поведает ей об истинном женском опыте. Феминистской читательнице не дозволено выступить против этого женского голоса; женский текст правит с тем же деспотизмом, что и прежний мужской текст. Как бы в компенсацию за послушание, феминистке-критику будет разрешено заняться переоценкой «мужской» литературы, если только она сумеет сдержать свой критицизм в отношении писательниц-женщин. Но если рассматривать текст как процесс означивания, а письмо и чтение понимать как производство текста, вполне возможно, что даже тексты, написанные женщинами, подвергнутся непочтительному анализу феминистских критиков. И если такое случится, очевидно, что шоуолтерские «гинокритики» столкнутся с острой дилеммой, оказавшись между «новыми» феминистками с их «мужскими» теориями и мужчинами — гуманистами и эмпириками с их патриархатной политикой.
Ограниченность подобной концепции феминистской критики становится особенно очевидной, когда она сталкивается с женским произведением, которое отказывается соответствовать гуманистическим ожиданиям, которое не стремится отобразить истинный реалистический «человеческий» опыт. Не случайно англо-американская феминистская критика занималась преимущественно литературой, созданной в великий период расцвета реализма между 1750 и 1930 годом, отдавая особое предпочтение Викторианской эпохе. Произведение Моники Виттиг «Les guerillures» (Monique Wittig, Воительницы, 1969) — пример текста совершенно иного рода. Это утопическое произведение состоит из нескольких фрагментов, описывающих жизнь амазонок, воюющих против мужчин. Война заканчивается победой женщин, и они празднуют победу вместе с молодыми побежденными мужчинами. Это произведение, состоящее из нескольких частей, систематически перемежается другим текстом: набором женских имен, напечатанных заглавными буквами в центре чистой страницы. В дополнение к сотням имен, текст включает пару стихотворений и три больших круга, обозначающих женские гениталии, — символизм, отвергнутый ближе к концу книги как форма перевернутого сексизма. Книга Виттиг не описывает отдельных персонажей, в ней нет психологизма или узнаваемого «опыта», которому сочувствовали бы читатели. Однако феминистский контекст книги очевиден, и англо-американские феминистские критики всегда воспринимали ее как таковую.
Нина Ауэрбах (Nina Auerbach) в своей работе «Женские сообщества» (Communities of Women) предлагает свое толкование появлению в тексте женских имен.
Имена женщин, которые произносятся ритуальным распевом, воспринимаются как шутка, поскольку они не привязаны к персонажам, с которыми мы познакомились:
ДЕМОНА ЭПОНИНА ГАБРИЭЛА ФУЛЬВИЯ АЛЕКСАНДРА ЖЮСТИНА (43)
И так далее. И хотя эти имена живут в виде заклинания, пустой отголосок их звучания предполагает еще и смерть реальных людей, которых мы искали, читая романы. (190-191)
В тексте Виттиг нигде не указывается, что имена произносятся кем-либо: «ритуальный распев» — это попытка самой Ауэрбах привязать разрозненный текст к единому человеческому голосу. Когда текст перестает создавать отдельную лич- 108 ность, призванную стать первоосновой языка и опыта, гуманистические феминистки должны сложить оружие. Ауэрбах все-таки страстно надеется, что для гуманистических феминисток наступят лучшие времена: «Может быть, когда женщины докажут самим себе свою силу, можно будет вернуться к конкретным Мег, Джо, Бет и Эми или к человечным взаимоотношениям и любезностям Крэнфорда» (191). Если ностальгический возврат к «Крэнфорду» (Cranford) и «Маленьким женщинам» (Little Women) — это все, по чему тоскует данная критическая школа, англо-американским феминистским критикам необходимо заняться другими, более теоретически апробированными критическими практиками.
Мира Джелен
Статья Миры Джелен «Архимед и парадокс феминистской критики» (Archimedes and the Paradox of Feminist Criticism), судя по всему, озвучила проблему, волновавшую многих американских феминисток: опубликованная впервые летом 1981 года, она уже дважды включалась в критические сборники4. Ее эссе затрагивает важные темы, касающиеся противоречий между так называемыми «восприимчивым и политическим прочтениями» (appreciative and political readings) (579). Джелен не ограничивается исследованием этой фундаментальной проблемы в рамках феминистской критики, но настаивает на необходимости «радикального компаративизма» (585) в феминистских исследованиях вообще. По ее мнению, работы Спакс, Моэрс, Шоуолтер, Гилберт и Губар, делающие основной акцент на женской литературе, страдают именно оттого, что посвящены изучению исключительно женской литературной традиции. Сетуя на склонность феминисток создавать «альтернативный контекст, некий женский анклав в стороне от мира маскулинистских установок» (576), Джелен хочет, чтобы женские исследования стали «исследованием всего с позиций женщин» (577). Это само по себе амбициозное и многообещающее начинание. Феминистская критика действительно начиналась с исследования доминирующей мужской культуры (Эллманн, Миллетт), и у феминисток нет причин сегодня отказываться от этих аспектов феминистской работы. Но Джелен идет дальше. Предлагая использовать сравнительный метод для того, чтобы выявить «различия между женским письмом и мужским, которые не сможет описать ни одно исследо- 109 вание исключительно женского письма» (584), она выделяет «Сексуальную политику» Кейт Миллетт в качестве примера работы, где «все посвящено сравнению». Но это абсолютно неверно: в книге Миллетт, как мы видели, исследование посвящено мужскому письму.
Однако в процессе своей аргументации Джелен снижает задачу, и, вместо того чтобы отстаивать тезис об относительной природе тендера, рекомендует феминисткам вернуться к изучению традиционного патриархатного канона в литературе. Двусмысленность ее рассуждений отражает ее убежденность в том, что «феминисткам в первую очередь нужно занять позицию, с которой мы сможем обозревать все наше концептуальное пространство, но которое все же твердо стоит на мужском основании» (576). Эта двусмыслица в немалой степени объясняется некоторыми весьма путаными риторическими маневрами с образом Архимеда и точки опоры. Объясняя особенности феминистского мышления «радикальным скептицизмом» (375), создающим невероятные трудности для его последовательниц, Джелен пишет:
Подобно тому, как Архимеду для того, чтобы перевернуть землю с помощью рычага, требовалось другое место для его точки опоры, феминистский протест против существующего порядка природы и истории — то есть попытка убрать землю из-под ног — также потребует другой опорной точки. (575-576)
Джелен ссылается здесь на главный парадокс феминизма: если не существует места за пределами патриархата, где женщины могли бы говорить свободно, как мы вообще можем объяснить существование феминистского, антипатриархатного дискурса? Использование Джелен образа точки опоры («Архимеду была нужна точка опоры на земле» (576)) неизбежно наводит на мысль, что такая попытка изначально обречена на провал (точка опоры на земле никогда не позволит перевернуть землю). И вместо того, чтобы переворачивать землю, Джелен хочет вернуть феминизм на «мужскую землю». Но именно там и обретался феминизм во все времена — и тот, что выбирал своим объектом женскую культуру, и всякий другой. И если не существует места, не зараженного патриархатом, где женщины могли бы свободно выражать себя, значит, нам и не нужна точка опоры: идти попросту больше некуда. по Шоуолтер возражает Джелен в ответ на ее предложение перейти к «радикальному компаративизму» на том основании, что «такой переход может привести к отказу от феминистской инициативы, которая все еще пугает нас своей дерзостью» («Комментарии к Джелен», 161). Шоуолтер отстаивает необходимость изучения женской традиции в литературе скорее как «методологический выбор, а не позицию» (belief):
Мы знаем, что ни одна женщина не отрезана от реального мужского мира; но в мире идей мы можем очертить границы, которые откроют новые горизонты нашей мысли, помогут увидеть проблему по-новому. (161)
Однако изучение женской традиции в литературе совсем не обязательно — попытка создать «женский анклав», и оно представляет собой все же нечто большее, чем методологический выбор: это насущная политическая необходимость. Если патриархат угнетает женщин как женщин, навязывая им «женственность» независимо от индивидуальных различий, феминистская борьба должна разрушить патриархатную стратегию, которая делает «женственность» неотъемлемой частью биологической женщины, и в то же время защищать женщин именно как женщин. В патриархатном обществе, дискриминирующем женщин-писательниц, потому что они женщины, нетрудно обосновать необходимость исследования их как отдельной группы. Более насущная проблема заключается в том, как избежать влияния патриархатных представлений об эстетике, истории и традиции на «женскую традицию», которую мы решили создать. Сама Шоуолтер не избежала этих просчетов в «Их собственной литературе», впрочем, и Джелен едва ли осознает эту проблему: как мы убедимся в дальнейшем, она демонстрирует поразительную для исследовательницы, называющей себя феминисткой, приверженность наиболее традиционным патриархатным эстетическим категориям.
Джелен подходит к проблеме противопоставления «критической восприимчивости» (critical appreciation) и «политического прочтения» (political reading) следующим образом:
Особая противоречивость феминистской литературной критики проистекает из специфической природы литературы в отличие от объектов физического или социального научного исследования. По сравнению с ними литература сама по себе уже является интерпретацией, которую должен расшифровать критик. Ни для кого не новость, что литературное произведение предвзято, именно в этом и заключается его ценность. Критическая объективность возникает только на следующем уровне, чтобы обеспечить тексту достоверность прочтения, хотя многие считают, что само чтение — это тоже тренировка в области творческой интерпретации. (577)
Из этого утверждения следует, что всякий литературный текст является объектом для расшифровки. Но как доказывал Ролан Барт, «коль скоро Автор устранен, то совершенно напрасными становятся и всякие притязания на «расшифровку» текста» («Смерть автора», 147). Джелен убеждена, что тексты — это закодированные послания голоса автора: следовательно, «критическая объективность» заключается в достоверном воспроизведении закодированного послания в более доступной форме. Статусы автора и текста остаются в статье Джелен неясными. Вполне справедливо утверждая, что феминизм как «философия Другого» должен отказаться от романтических представлений о том, что «быть великим поэтом означает говорить абсолютную правду, быть Единственным пророческим голосом для всего Человечества» (579), она, тем не менее, заявляет, что цель критики — в создании «четкого видения» (distinct vision) литературного субъекта и тем самым в «восстановлении справедливости» по отношению к автору.
Следовательно, мы должны начать с признания самостоятельности и целостности литературного субъекта, формирования его четкого видения, которое может не отвечать нашему видению, — с того, о чем не раз говорили нам формалисты: с его неприкосновенности. Мы должны также признать, что наиболее полноценному, насыщенному прочтению будут способствовать уважение к этой целостности и неприкосновенности, отказ от тех вопросов тексту, которые он сам не поднимает, и уточнение у самого текста, какие вопросы ему следует задать. (579)
Из этого вытекает, что Джелен должна призвать Кейт Миллетт к ответу в связи с тем, что ее «заведомо тенденциозный подход исказил смысл произведений Генри Миллера» (579) и «нанес ущерб его архитектуре» (580). С позиций Джелен, подход Мил- летт был некорректным и агрессивным', ее прочтение подобно насилию над девственностью текста Генри Миллера. Как будто упомянутая работа содержала набор объективных фактов, которые при определенном старании мог увидеть каждый и которые в любом случае ставятся выше, чем соображения критика — любого критика. Настойчивое требование Джелен корректного прочтения, которое должны усвоить феминистки под угрозой изгнания во тьму «некорректной» или «нечестной» критики, созвучно взглядам Аннет Колодны. Сью Уоррик Додерляйн (Sue Warrick Doederlein) оказывается права, когда утверждает, что:
...новые открытия в лингвистике и антропологии показали ложность представлений об автономности произведений искусства, чью священную неприкосновенность мы не имеем права нарушить и в чье пространство мы можем войти (с нашей убогой объективностью) только для «обеспечения достоверного прочтения». Феминистские критики могут (с осторожностью) воспользоваться некоторыми постулатами современных, одобренных мужским миром гипотез, которые позволят нам уже никогда не извиняться за «неправильное прочтение» или «неверное толкование» текста. (165-166)
Патрочинио Швайкарт (Patrocinio Schweickart), также вступая в дискуссию с Джелен по этому поводу, подчеркивает близость ее теории доктрине Новой Критики и замечает:
Важно отметить, что формалистская подоплека аргументации Джелен — идея искусства как веши в себе и сопутствующая ей идея, что при чтении литературы только как литературы (а не, скажем, социологического документа) следует оставаться в рамках понятий, присущих тексту (т.е. санкционированных им), — серьезно оспаривалась структурализмом, деконструктивизмом и некоторыми теориями чтения-реагирования. Я не говорю, что мы должны слепо следовать критической моде. Я просто хочу из сказать, основы доктрины Новой Критики в настоящее время считаются по меньше мере сомнительными. Нам не следует принимать их за аксиому. (172)
Но поскольку Джелен разделяет «критическую восприимчивость» и «политическое прочтение» на основе традиционного определения первой, то с феминистской точки зрения именно ее желание сохранить это разделение немедленно порождает более сложные политические вопросы. Ведь разница между феминистской и нефеминистской критикой не в том, как, похоже, считает Джелен, что первая политически ангажирована, а вторая нет, а в том, что феминистка открыто декларирует свои политические позиции, тогда как нефеминистка может либо не осознавать свою систему ценностей, либо пытаться обобщить ее как «неполитическую». Особенно поражает то, что Джелен, которая пишет спустя пятнадцать лет после возникновения феминистской критики в Америке, не раздумывая, отказывается от одного из важнейших достижений феминистского анализа.
Джелен отстаивает разделение политики и эстетики, пытаясь разрешить извечную проблему радикальной критики: проблему оценки произведения искусства, которое воспринимается как эстетически ценное, но политически неприемлемое. И если она в результате все-таки приходит к отказу от феминистской позиции по этой проблеме, это происходит потому, что она не может понять и то, что эстетические ценностные суждения исторически относительны, и то, что они тесно связаны с политическими ценностными суждениями. Например, эстетика, призывающая к органичному единству и гармоничному взаимодействию всех частей поэтической конструкции, не является политически невинной. Феминистка может задаться вопросом, почему вообще кому-то нужно ставить на первое место порядок и целостность и не связано ли это с общественными и политическими идеалами сторонников подобных критических теорий. Разумеется, было бы безнадежным упрощением утверждать, что все эстетические категории автоматически несут в себе политическую окраску. Но не меньшим упрощением будет утверждение, что эстетические конструкции всегда и неизменно являются политически нейтральными, или «внеполитичными», как считает Джелен. Суть в том, что одно и то же эстетическое средство может быть политически многовалентным, варьируясь в зависимости от политического и литературного контекста, в котором оно возникает. Только с недиалектических позиций, как это делает Джелен, можно утверждать, что в представлениях Пьера Машере об «относительной автономии» продуктов культуры от исторического и социального контекста, в которых они произведены, скрыто изначальное противоречие: предлагать простой и непроблематичный ответ на весьма сложную проблему взаимосвязи политики и эстетики — самый упрощенческий подход из всех возможных.
Джелен считает, что «идеологическая критика» (которая для нее равноценна «политической» или «предвзятой» критике) — это упрощение. Современная критическая теория говорит нам, что все толкования до определенной степени являются упрощением, поскольку до определенной степени накладывают ограничения на текст. Если все толкования также в каком-то смысле политизированы, бинарное противопоставление упрощенного политического прочтения, с одной стороны, и эстетического богатства, утверждаемое школой Новой Критики, с другой, утрачивает силу. Если эстетика поднимает вопрос о том, воздействует ли текст (и каким образом) на аудиторию, она неизбежно связана с политикой: без эстетического не будет и политического воздействия. И если феминистская политика затрагивает, помимо всего остального, человеческий «опыт», то она уже имеет отношение к эстетике. Теперь вам должно стать очевидным, что одним из основных положений, отстаиваемых в этой книге, является то, что феминистская критика пытается деконструировать такое противопоставление политики и эстетики: являясь политическим критическим подходом, феминизм должен осознавать политический контекст эстетических категорий, равно как и эстетическую составляющую политического подхода к искусству. Вот почему мне кажется, что взгляды Джелен подрывают некоторые базовые принципы феминистской критики. Если феминизм не восстает против патриархатных представлений о культурной критике, как якобы свободной от «ценностных категорий», он неизбежно рискует утратить последние крупицы политического доверия [5].
Некоторые феминистки могут спросить, почему в своем обзоре я ничего не сказала о черной или лесбийской (или черной-лесбийской) феминистской критике в сегодняшней Америке. Ответ прост: задачей этой книги было рассмотрение теоретических аспектов феминистской критики. До сих пор лесбийская и/или черная феминистская критика выдвигали те же самые методологические и теоретические проблемы, что 115 и остальная англо-американская феминистская критика. Бон- ни Циммерман (Bonnie Zimmerman) в своем блестящем обзоре лесбийской критической теории подчеркивает сходство между феминистской и лесбийской критикой. Лесбийские критики занимаются выстраиванием лесбийской литературной традиции, анализируя образы и стереотипы лесбиянок, осмысливая концепцию «лесбиянки». Это позволяет говорить о том, что они сталкиваются с абсолютно теми же теоретическими проблемами, что и «натуральные» феминистские критики. Различие заключается только в содержании работы, но не в методе. Вместо того чтобы исследовать «женщин» в литературе, критик-лесбиянка исследует «женщин-лесбиянок», равно как и черная феминистка-критик будет иметь предметом своих исследований «черных женщин» в литературе [6].
Я хочу подчеркнуть, что, если говорить о теории текста, здесь нет видимой разницы между этими тремя сферами исследования. Это не значит, что черная и лесбийская критика не имеет политической значимости; наоборот, высвечивая различные ситуации и нередко противоречивость интересов различных групп женщин, эти критические подходы вынуждают некоторых белых гетеросексуальных феминисток пересмотреть их собственные, порой тоталитарные представления о «женщинах» как однородной категории. Эти «маргинальные феминизмы» должны помешать белым обеспеченным феминисткам Первого мира выдавать собственные предвзятые идеи за всеобщие женские (или феминистские) проблемы. В этом смысле недавно появившиеся работы о женщинах Третьего мира могут многому научить нас [7]. Если же говорить о сложных взаимодействиях категорий класса и тендера, англо-американские феминистские критики также пока не уделяют им должного внимания [8].
В этом обзоре англо-американской феминистской критики я попыталась пролить свет на наличие преемственности между традиционной гуманистической, патриархатной и современной феминистской критической школами. Несмотря на заявления о том, что англо-американская литературная критика активно развивает новые методы и аналитические технологии, я нашла этому мало доказательств. Радикально новое влияние феминистской критики можно обнаружить не на уровне теории или методологии, но в политической сфере. Феминистки политизировали существующие критические методы и подходы. Если феминистская критика перевернула установленные критические позиции, то только потому, что подняла радикально новый вопрос о сексуальной политике. Именно на основе своей политической теории (которая привнесла тендерный аспект в разнообразные типы политической стратегии) феминистская критика выросла в новое направление литературных исследований. Феминистки, таким образом, оказываются в положении, отчасти сходном с положением других радикальных критиков: выступая с маргинальных позиций и располагаясь на задворках академических кругов, они стремятся раскрыть сущность политики так называемых «нейтральных» или «объективных» работ своих коллег, одновременно действовать в качестве культурных критиков в самом широком смысле этого слова. Как и социалисты, феминистки могут, до определенной степени, позволить себе плюрализм и толерантность в выборе литературных методов и теорий именно потому, что считают приемлемым любой подход, успешно служащий их политическим целям.
Ключевое слово здесь «успешно»: политическая оценка критических методов и теорий является неотъемлемой частью феминистского критического начинания. Поэтому мои сомнения в отношении большей части англо-американской феминистской критики обусловлены не столько тем, что она продолжает развиваться в рамках мужского гуманизма, но что в ней при этом отсутствует глубокое осознание серьезных политических последствий такого подхода. Следовательно, главный парадокс англо-американской феминистской критики заключается втом, что, несмотря на порой сильную, явную политическую подоплеку, она в конечном итоге оказывается недостаточно политичной; не в том смысле, что заходит недостаточно далеко в своих политических суждениях, но потому, что ее радикальный анализ все еще переплетается с деполитизиру- ющими теоретическими парадигмами. В этом нет ничего удивительного: все направления радикальной мысли неизбежно остаются заложниками тех исторических категорий, которые они стремятся перерасти. Но, даже осознавая историческую неизбежность этого парадокса, мы не должны пассивно содействовать увековечиванию патриархатного порядка.
ЧАСТЬ II Французская феминистская теория
Глава 5 От Симоны де Бовуар к Жаку Лакану Симона де Бовуар и марксистский феминизм
Вне всяких сомнений, Симона де Бовуар является величайшей феминисткой нашего времени. Однако в 1949 году, даже после опубликования книги «Второй пол», она была уверена, что одно лишь пришествие социализма способно покончить с угнетением женщин, и, следовательно, считала себя социалисткой, а не феминисткой. На сегодняшний день ее точка зрения несколько изменилась. В 1972-м она примкнула к MLF («Движение за освобождение женщин») и впервые открыто назвала себя феминисткой. Она объяснила свое запоздалое признание феминизма радикализмом нового женского движения, имели в основном реформистскую и правовую направленность. У меня не было желания к ним присоединяться. Новый феминизм, напротив, радикален» (Simone de Beauvoir Today, 29). Однако даже подобное смещение акцента не привело ее к отрицанию социализма:
«В заключении «Второго пола» я сказала, что я не феминистка, поскольку верила, что проблемы женщин автоматически разрешатся в контексте социалистического развития. Под «феминистской» я понимала деятельность, направленную на решение сугубо женских вопросов, независимую от классовой борьбы. Этого взгляда я придерживаюсь и сегодня. По моему определению, феминистки это женщины — или даже мужчины, — которые сражаются за изменение положения женщин, параллельно с классовой борьбой, но также и независимо от нее, не считая те изменения, за которые они борются, полностью зависимыми от изменения всего общества. Я бы сказала, что в этом смысле сегодня я феминистка, поскольку осознала, что мы должны бороться за улучшение положения женщин здесь и сейчас, не дожидаясь, когда осуществятся наши мечты о социализме» (Simone de Beauvoir Today, 29).
Несмотря на преданность идеям социализма, «Второй пол» основывается не на традиционной марксистской теории, но на сартровской философии экзистенциализма. Основное положение этой эпохальной работы Бовуар выражается просто: на протяжении всей истории женщин низводили до положения объектов для мужчин — «женщина» конструировалась как Другой относительно мужчины, ей было отказано в праве на собственную субъективность и ответственность за свои действия. Или, если перейти на язык экзистенциализма, патриархатная идеология представляет женщину как имманентность, а мужчину как трансцендентность. Бовуар показывает, как эти основополагающие предпосылки реализуются во всех аспектах общественной, политической и культурной жизни и, что не менее важно, как сами женщины усваивают эти объектизиру- ющие представления и потому живут в состоянии постоянной «не-аутентичности» или «нечестности» («дурной веры» bad faith), как выразился бы Сартр. Тот факт, что женщины часто исполняют роли, предписанные им патриархатом, не доказывает бесспорности патриархатного анализа: бескомпромиссный отказ Бовуар от любого утверждения о наличии женской природы или сущности лаконично выражен в ее знаменитой фразе «женщиной не рождаются, ею становятся» [1].
Хотя большинство феминистских теоретиков и критиков 1980-х годов признают свой долг перед Симоной де Бовуар, кажется, сравнительно немногие из них разделяют ее веру в то, что социализм является необходимым контекстом для феминизма. Наверное, наиболее верных в этом отношении ее последовательниц мы найдем в Скандинавии и Великобритании. Во внутренней полемике женского движения скандинавских социал-демократий никогда не было явного противостояния феминисток-социалисток феминисткам не социалистической направленности, зато немало энергии было потрачено на обсуждение того, какой тип социализма должны выбрать феминистки. Так, в начале 1970-х в Норвегии установились весьма враждебные отношения между централизованным маоистским «Женским фронтом» и не признающими иерархий «Неофеминистками», чьи сторонницы представляли весь политический спектр от социал-демократии правого толка, до более радикального, левого социализма и марксизма [2]. Скандинавская феминистская критика отражает эту приверженность социализму, особенно это касается тенденции сопровождать анализ текста тщательным исследованием классовых структур и классовой борьбы того времени, к которому относится исследуемый литературный текст [3]. Недавний приход к власти консервативных политических партий во многих Скандинавских странах лишь поверхностно изменил эту картину: несмотря на появление умеренно-консервативного феминистского истеблишмента, подавляющее большинство скандинавских феминисток по-прежнему видят себя скорее с левой стороны политического спектра.
Британский феминизм традиционно более восприимчив к социалистическим идеям, чем его американский аналог. Однако большинство марксистских феминистских работ, написанных в Великобритании, не относятся к литературной теории и критике как к отдельной области науки. В начале 1980-х наиболее интересный политический и теоретический анализ осуществляется женщинами, работающими в таких недавно оформившихся областях, как культурные исследования, исследования кино и СМИ, или же в области социологии или истории. Хотя такие авторы марксистского или социалистического феминистского направления, как Розалинд Ковард (Rosalind Coward), Аннетт Кун (Annette Kuhn), Джулиет Митчелл (Juliet Mitchell), Терри Лавел (Terry Lovell), Джэнет Волф (Janet Wolff) и Мишель Барретт (Michele Barrett) затрагивали литературную тематику, их наиболее важные и богатые новыми идеями работы все же выходят за рамки данной книги4. Мой проект заключется в разработке критического представления о современных дебатах в феминистской литературной критике и теории. Печально, но марксистско-феминистская проблематика в этой полемике не занимает центрального места. Возможно, мою книгу можно упрекнуть в том, что она не оспаривает современное засилье англо-американских и французских критических подходов.
Но обратимся собственно к литературоведению. В новаторской статье «Женское письмо»: «Джейн Эйр», «Ширли», «Городок», «Аврора Ли»» марксистско-феминистский литературный коллектив, развивая теорию маргинализации женщины-писателя и ее творчества в терминах как класса, так и тендера, опирается на теории французских марксистов Луи Альтюсера и Пьера Маршере. Этот подход получил дальнейшее развитие в превосходном анализе идеологии пола в творчестве Томаса Харди, который предложила Пенни Бумела (Penny Boumelha) в своей книге «Томас Харди и женщины» (Thomas Hardy and women), почерпнув базовую теорию идеологии также у Альтюсера. Кора Каплан (Cora Kaplan), ранее входившая в коллектив, также продемонстрировала приверженность данному подходу в предисловии к книге «Аврора Ли и другие стихи» (Aurora Leighund other poems). Сочетанию классовой и тендерной проблематики в английской литературе девятнадцатого века посвящена книга «Женщины, власть и свержение власти» (Women Power and Subversion) американки Джудит Лоудер Ньютон (Judith Lowder Newton).
Подход Маршере, принятый, в частности, Пенни Бумелой и марксистско-феминистским литературным коллективом, обещает открыть феминистским критикам поле для продуктивного исследования. Согласно Маршере, литературное произведение не является ни единым целым, ни неоспоримым «сообщением» Великого Автора/Творца. На самом деле, считает Маршере, умолчания, разрывы и противоречия в тексте раскрывают его идеологические установки гораздо лучше, чем четко сформулированные утверждения. Терри Иглтон (Terry Eagleton) дает следующую краткую оценку доводов Маршере в этом отношении:
Именно в значимых умолчаниях текста, в его разрывах и пропусках можно отчетливее всего ощутить идеологию. Именно эти умолчания критик должен заставить «говорить». На текст словно наложен идеологический запрет; пытаясь, например, высказать истину на свой собственный лад, автор оказывается вынужденным раскрыть характер идеологии, в рамках которой он пишет. Он вынужден раскрывать ее разрывы и умолчания, которые не может проартикулировать. Поскольку текст содержит эти разрывы и умолчания, он всегда остается незавершенным. Отнюдь не составляя замкнутого, внутренне упорядоченного целого, текст демонстрирует конфликт и противоречие смыслов; и значимость произведения заключена скорее в различиях смыслов, чем в их единстве... Согласно Маршере, произведение всегда «де-центрировано»; у него нет никакой основной сущности, есть лишь постоянный конфликт и взаимное несоответствие смыслов». (Марксизм и литературный критицизм, 34-35)
Исследование умолчаний и противоречий в литературном произведении позволяет критику связать это произведение с конкретным историческим контекстом, в котором пересечение целого ряда различных структур (идеологических, экономических, социальных, политических) приводит к появлению именно этих текстуальных структур. Таким образом, личные обстоятельства и намерения автора оказываются не более чем одной из многих составляющих той противоречивой конструкции, которую мы называем текстом. Поэтому данный тип марксистско-феминистской критики проявляет особое внимание к изучению исторического конструирования категорий тендера и к анализу роли культуры в выражении и трансформации этих категорий. В этом смысле марксистско-феминистская критика предлагает альтернативу как усредняющим толкованиям англо-американских критиков, сосредоточенным на авторе произведения, так и категориям французских феминистских теоретиков, зачастую неисторичным и идеалистическим.
Однако ради справедливости следует отметить, что в большинстве марксистско-феминистских критических работ, будь то английских, американских или скандинавских, «класс» просто добавляется к прочим темам, обсуждаемым в общих рамках, установленных англо-американской феминистской критикой. И столь же верно, к сожалению, что до настоящего времени очень немногие феминистские критики обращались к работам таких теоретиков-марксистов, как Антонио Грамши, Вальтер Беньямин или Теодор Адорно. Между тем стоило бы проверить, не пригодятся ли феминизму их взгляды на проблемы репрезентации традиции угнетенных.
Французский феминизм после 1968 года
Новый французский феминизм — это дитя студенческого мятежа, разгоревшегося в мае 1968 года в Париже, мятежа, который чуть не привел к падению одного из наиболее репрессивных режимов из числа, так называемых, западных демократий. Некоторое время осознание того, что «Май 68» почти достиг того, что казалось прежде невозможным, внушало левым французским интеллектуалам бурный политический оптимизм. «Les evenements» [«События»] позволили им верить, что перемены близки и что интеллектуалам отведена в них реальная политическая роль. Поэтому в конце 1960-х и начале 1970-х годов политический активизм и вмешательство в политику казалось студентам и интеллектуалам Левого Берега важным и уместным.
Именно в таком политизированном интеллектуальном климате, где царили различные отголоски марксизма, в частности маоизм, и сформировались первые французские феминистские группы. Во многих отношениях тот непосредственный опыт, который привел к образованию первых французских женских групп летом 1968 года, поразительно похож на тот, что способствовал зарождению американского женского движения5. На майских баррикадах женщины сражались плечом к плечу с мужчинами, но обнаружили, что в придачу к этому товарищи- мужчины все так же рассчитывают на их сексуальные, секретарские и кулинарные услуги. Неудивительно, что они поняли намек американок и начали образовывать свои собственные группы, предназначенные только для женщин. Одна из первых таких групп решила назвать себя «Psychanalyse et Politique» [«Психоанализ и политика»]. Позже, когда политический феминизм достиг более продвинутого уровня, эта группа, к этому времени основавшая влиятельное издательство des femmes («женщины»), сменила название на «politique et psychanalyse», уточнив приоритеты и раз и навсегда избавившись от иерархических больших букв. Интерес к психоанализу свидетельствует об определенных предпочтениях парижской интеллектуальной среды. И если американские феминистки 1960-х годов начали с решительных обвинений в адрес Фрейда, француженки не сомневались в том, что психоанализ может открыть новые перспективы теории освобождения личности и предложить путь к исследованию бессознательного, что одинаково важно для анализа угнетения женщин в патриархатном обществе. В англоговорящем мире феминистские аргументы в защиту Фрейда не были слышны, пока в 1974 году Джулиет Митчелл не опубликовала свою знаменитую работу «Психоанализ и феминизм», которую выпустило на французском языке издательство «Des Femmes».
Хотя к 1974 году французская феминистская теория уже достигла своего расцвета, потребовалось немало времени для того, чтобы с ней познакомились женщины за пределами Франции. Одной из причин относительно ограниченного влияния французской теории на англо-американских феминисток является серьезный интеллектуальный багаж этой теории. Воспитанные на классике европейской философии (в частности, концепциях Маркса, Ницше и Хайдеггера), деконструкции Деррида и ла- кановском психоанализе, французские феминистские теоретики, по-видимому, рассчитывали на аудиторию своей, парижской выделки. Хотя они редко допускали нарочитую неясность, отсутствие просветительских уступок читателю, не владеющему «правильной» системой интеллектуальных координат, их теория все же создавала у непосвященных впечатление элитарности. Это касается и замысловатых каламбуров Элен Сиксу, и раздражающей страсти Люс Иригарэ к греческому алфавиту, и обескураживающей привычки Юлии Кристевой ссылаться на всех подряд от св. Бернара до Фихте и Арто в одном предложении. Неудивительно, что читатель порой раздражается, сталкиваясь со столь бескомпромиссным интеллектуализмом. Однако когда англоязычным читательницам удалось преодолеть последствия этого культурного шока, они быстро осознали, что французская теория существенно помогает феминисткам разобраться в природе угнетения женщин, конструировании различия полов и особенностях женского отношения к языку и письму.
Впрочем, одна из проблем, с которой сталкиваются англоязычные читатели, связана с французским словом «feminin». Во французском языке существительному «femme» [«женщина»] соответствует только одно прилагательное, «feminin» [«женский»] [6], тогда как в английском слову «woman» [«женщина»] отвечают два прилагательных: «female» и «feminine» [«женский», «женственный»]. Среди многих англо-говорящих феминисток давно принято использовать прилагательное «feminine» [«фемининный»] (и «masculine» [«маскулинный»]) для обозначения социальных конструктов (тендера), a «female» [«женский»] (и «male» [«мужской»]) относить к исключительно биологическим аспектам (к полу). Проблема в том, что этого фундаментального политического разграничения нет во французском языке. Например, какое письмо обозначается термином ecriture feminine — женское в биологическом («female») или социальном («feminine») смысле? Как мы можем понять, относится это или любое другое выражение к полу или к тендеру? Стандартного ответа на этот вопрос, разумеется, нет: в дальнейшем тексте мои прочтения французского слова «feminin» будут являться интерпретациями, основанными на контексте и моем личном понимании рассматриваемых работ.
Многих англо-американских феминистских критиков может привести в замешательство тот факт, что во Франции очень редко занимаются феминистской литературной критикой. За исключением немногих авторов, таких, как Клодин Эрр- манн (Claudine Herrmann) и Анн-Мари Дардинья (Anne-Marie Dardigna) [7], французские феминистские критики предпочитают работать над проблемами текстологии, лингвистики, семиотики или психоаналитической теории или производить тексты, в которых поэзия и теория сплетаются так, что эти тексты невозможно классифицировать с точки зрения принятого разделения жанров. Вопреки своим политическим взглядам, эти теоретики, к нашему удивлению, намеренно принимают устоявшийся патриархатный канон «великой» литературы, в частности сугубо мужской пантеон французского модернизма от Лотреамона до Арто или Батая. Несомненно, англо-американская феминистская традиция преуспела значительно лучше в своем противостоянии стратегиям социального и политического подавления со стороны литературного истеблишмента.
В своем дальнейшем рассмотрении французской феминистской теории я решила сосредоточиться на работах Элен Сиксу, Люс Иригарэ и Юлии Кристевой. Я выбрала именно этих авторов отчасти потому, что их работы лучше всего репрезентируют основные направления французской феминисткой теории, и потому, что они глубже интересуются особыми проблемами, связанными с женским отношением к письму и языку, чем многие другие феминистские теоретики во Франции. Поэтому я решила не выносить на обсуждение работы таких исследовательниц, как Анни Леклерк (Annie Leclerc), Мишель Монтреле (Michele Montrelay), Эжени Лемуан-Луччиони (Eugenie Le- moine-Luccioni), Сара Кофман (Sarah Kofman) и Марсель Ма- рини (Marcelle Marini). Многие американские феминистские критики также находят источник своего вдохновения в теориях Жака Лакана и Жака Деррида, но объем этой книги не позволяет мне отдать должное действительно глубоким работам таких исследовательниц, как Джейн Гэллоп (Jane Gallop), Шошана Фельман (Shoshana Felman) и Гайатри Спивак (Gayatri Spivak) [8].
Принято считать, что новое поколение французских феминистских теоретиков полностью отвергает экзистенциалистский феминизм Симоны де Бовуар. Объяснение этому утверждению таково: отвернувшись от бовуаровского либерального желания равенства с мужчинами, эти феминистки подчеркивают категорию различия. Превознося женское право пестовать свои особые женские ценности, они отвергают «равенство» как завуалированную попытку принудить женщин стать похожими на мужчин [9]. Однако реальная ситуация оказывается несколько сложнее. Не- 125 смотря на весь ее экзистенциализм, Симона де Бовуар остается для французских феминисток великой материнской фигурой, и символическое значение ее открытой поддержки новому женскому движению огромно. Было бы также ошибочным считать, что у ее идей социалистического феминизма во Франции не осталось последователей. В 1977 году Бовуар совместно с другими женщинами основала журнал Questions feministes, цель которого — предоставить пространство для дискуссий как раз различным видам социалистического и анти-эссенциалистского феминизма [10]. И марксистско-феминистский социолог Кристин Дельфи (Christine Delphy), считающая, что женщины составляют общественный класс, стала одной из основательниц этого журнала.
В своих теоретических воззрениях Юлия Кристева полностью расходится с Бовуар, и тем не менее многие ее интересы из числа основных (желание сформулировать теорию социальной революции, основываясь на понятии тендера так же, как и на понятии класса, акцент на конструируемой природе женственности) имеют гораздо больше общего со взглядами Бовуар, чем с идеализированным видением женского тела как зоны женского письма, пропагандируемым Элен Сиксу. Также и впечатляющая критика подавления женщины в патриархатном дискурсе, которую осуществляет Люс Иригарэ, зачастую прочитывается как постструктуралистское переписывание предложенного Бовуар анализа женщины как Другого для мужчины. (Это неудивительно, если учесть, что общим источником «Другого» лакановского психоанализа, повлиявшего на исследовательский стиль Иригарэ, и экзистенциалистского «Другого» Бовуар стали, по-видимому, работы Хайдеггера.) Хотя экзистенциализм в целом был вытеснен на обочину, когда в 1960-х произошел переход к структурализму и постструктурализму, наверное, ничто не старит «Второй пол» больше (по отношению к новому женскому движению во Франции), чем негативное отношение Бовуар к психоанализу. Сиксу, Иригарэ и Кристева очень многим обязаны лакановскому (пост-) структуралистскому прочтению Фрейда, и потому дальнейшее изучение их работ требует некоторого знания основных идей Лакана [11].
Жак Лакан
Воображаемое и Символический Порядок составляют один из наиболее важных рядов взаимосвязанных понятий в теории Лакана, и объяснять их лучше по отношению друг к другу. Воображаемое соответствует до-эдиповому периоду, когда ребенок считает себя частью матери и не чувствует себя отделенным от всего остального мира. В Воображаемом нет различия и отсутствия, только тождество и присутствие. Эдипов кризис означает вхождение в Символический Порядок. Это вхождение связано в первую очередь с обретением языка. В эдиповом кризисе отец расщепляет двусоставное единство матери и ребенка и запрещает ребенку дальнейший доступ к матери и материнскому телу. Фаллос, репрезентирующий Закон Отца (или угрозу кастрации), начинает означать для ребенка отлучение и утрату. Претерпеваемая утрата или нехватка — это утрата материнского тела, и с этого момента [его] желание матери или воображаемого единства с ней должно вытесняться. Это вытеснение Лакан называет первичным, и именно оно открывает бессознательное. В Воображаемом бессознательного нет, поскольку нет нехватки.
Функция этого первичного вытеснения становится особенно очевидной, когда ребенок начинает использовать новооб- ретенный язык. Когда ребенок учится говорить «я есть» и отличать эту [грамматическую] форму от «ты есть» или «он есть», это равнозначно признанию того, что он занял предназначенное ему место в Символическом Порядке и больше не претендует на воображаемое тождество со всеми остальными объектами. Говорящий субъект, произносящий «я есть», фактически произносит «я есть тот, который что-то утратил» — и претерпеваемая утрата есть утрата воображаемого тождества с матерью и миром. Таким образом, выражение «я есть», согласно Ла- кану, наилучшим образом переводится как «я есть то, чем я не являюсь». Подобного рода переписывание подчеркивает тот факт, что говорящий субъект начинает существовать только вследствие вытеснения [его] желания утраченной матери. Следовательно, говорить как субъект — то же самое, что репрезентировать существование вытесненного желания: говорящий субъект и есть нехватка, именно поэтому Лакан говорит, что субъект есть то, чем он не является.
Войти в Символический Порядок означает принять фаллос как репрезентацию Закона Отца. Над всей культурой человечества и всей жизнью в обществе господствует Символический Порядок, и, следовательно, — фаллос как знак нехватки. Субъекту может нравиться или не нравиться такой порядок вещей, но выбора у него нет: остаться в Воображаемом равнозначно тому, чтобы стать психотиком, неспособным жить в человеческом обществе. При необходимости мы легко могли бы найти аналогии между Воображаемым и фрейдовским принципом удовольствия, между Символическим Порядоком и предложенным им же принципом реальности.
Подобное видение перехода от Воображаемого к Символическому Порядку нуждается в дальнейших комментариях. Воображаемое, согласно Лакану, ознаменовывается вступлением ребенка в Стадию Зеркала. Видимо, Лакан принимает здесь сторону Мелани Кляйн во взглядах на развитие ребенка, поскольку он постулирует, что самый ранний опыт восприятия ребенком себя — это опыт фрагментации. Можно было бы сказать, что изначально ребенок чувствует свое тело разъятым на куски, если бы это не приводило к тому ошибочному представлению, что на этой ранней стадии ребенок реально обладает чувством «собственного» тела. Ребенок вступает в Стадию Зеркала в возрасте от 6 до 8 месяцев. Принципиальная функция Стадии Зеркала заключается в том, чтобы наделить ребенка единым образом тела. Однако это «телесное эго» (body ego) — глубоко отчужденная сущность. Глядя на себя в зеркало — или на себя, находящегося на руках у матери, или просто на другого ребенка, — ребенок воспринимает всего лишь другое человеческое существо, с которым он сливается и отождествляется. Следовательно, в Воображаемом нет ощущения отделенной самости, поскольку «самость» (self) уже отчуждена в Другом. Значит, на Стадии Зеркала возможны только дуальные отношения. Только после внедрения третьего элемента в эту структуру, триангуляции (что происходит, как мы видели, когда вмешивается отец, разбивающий диадическое единство матери и ребенка), ребенок оказывается способным занять свое место в Символическом Порядке и тем самым начинает определять себя как отделенного от других.
Лакан делает различие между Другим (Autre) с большой буквы и другим с маленькой буквы. Нам полезно будет проследить некоторые из значений, придаваемые этим понятиям в текстах Лакана. Самыми важными случаями использования понятия Другого являются те, в которых Другой репрезентирует язык, область означаемого, Символический Порядок или любой третий элемент в триангулярной структуре. Несколько иначе это понятие выражается, когда о Другом говорят как о ключевой точке составления субъекта или структуры, производящей субъекта. В еще одной формулировке Другой становится дифференциальной структурой языка и общественных отношений, которые в первую очередь составляют субъекта и внутри которых субъект должен занять свое место.
Если, согласно Лакану, вхождение в Символический Порядок открывает бессознательное, это означает, что первичное вытеснение желания символического единства с матерью создает бессознательное. Иными словами, бессознательное возникает как результат вытеснения желания. В некотором смысле бессознательное и есть желание. Знаменитое утверждение Лакана «бессознательное структурировано как язык» содержит в себе важную догадку о природе желания: согласно Лакану, желание «ведет себя» точно так же, как язык, — оно непрерывно перемещается от одного объекта к другому или от одного означающего к другому и никогда не находит полного и реального удовлетворения, так же как невозможно уловить значение как его присутствие. Лакан называет различные объекты, которые мы инвестируем своим желанием (в символическом порядке) objet a («objet petit a» — здесь «а» обозначает другого (autre) с маленькой буквы). Не может быть окончательного (final) удовлетворения нашего желания, поскольку не существует окончательного означающего или объекта, который может быть тем, что утрачено навсегда (воображаемой гармонии с матерью и миром). Признав, что конец желания есть логическое следствие удовлетворения (будучи удовлетворены, мы оказываемся в позиции, в которой больше не желаем), мы поймем, почему Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия» полагает смерть последним объектом желания — Нирваной, или обретением утраченного единства, окончательным исцелением расщепленного субъекта.
Глава 6 Элен Сиксу: воображаемая утопия Противоречу ли я себе? Ну что ж, отлично... Я противоречу себе; Я обширен... Я вмещаю в себе мириады. (Уолт Уитмен)
Во многом благодаря усилиям Элен Сиксу вопрос об ecriture feminine занял центральное место в политических и культурных дискуссиях во Франции в 1970-х годах. Между 1975 и 1977 годами она создала целую серию теоретических (и полутеоретических) работ, каждая из которых была посвящена исследованию отношений между женщинами, женственностью, феминизмом и производством текстов: La Jeune Nee (в соавторстве с Катрин Клеман (Catherine Clemente), 1975), «Le Rire de la Meduse» (1975), переведена на английский как «Хохот Медузы» (1976)'·, «Le Sexe ou la tete» (1976), переведена как «Кастрация или обезглавливание» (1981) и La Venue a recriture (1977). Эти тексты тесно взаимосвязаны: например, в «Sorties» (что составляет основную часть вклада Сиксу в La Jeune Nee) вошли главные фрагменты работы «Хохот Медузы», опубликованной отдельно. Многие центральные идеи и образы Сиксу постоянно повторяются, благодаря этому ее творчество выглядит неким сплошным, непрерывным текстом, что стимулирует нелинейные формы чтения [1]. Ее письмо насыщено метафорами, оно поэтично и недвусмысленно антитеоретично, а центральные образы создают плотную сеть означающих, без всяких очевидных границ, за которые мог бы ухватиться аналитически настроенный критик. Нелегко прорубать свой путь сквозь текстуальные джунгли Сиксу, находить в них тропки или составлять их карту; более того, сами тексты не оставляют и тени сомнения в том, что это сопротивление анализу оказывается совершенно преднамеренным. Сиксу не верит ни в теорию, ни в анализ (хотя практикует и то, и другое — вспомним, например, ее докторскую диссертацию L'Exil de James Joyce ou l'art du replacement (1968), переведенную на английский в 1972 году как «Изгнанничество Джеймса Джойса, или Искусство замещения», или книгу Prenoms de personne, 1974). Она также не одобряет феминистские аналитические дискурсы: ведь это она та женщина, которая сначала решительно заявила «я не феминистка» (RSH, 482), а потом сказала «я не обязана производить теорию» (Conley, 152). Обвиняя феминистских исследователей-гуманитариев в том, что они отворачиваются от настоящего, уделяя основное внимание прошлому, она отвергает их усилия как чистые «системы». Согласно Сиксу, такие феминистские критики неизбежно запутаются в сети иерархически организованных, подавляющих бинарных оппозиций, которые плодит патриархатная идеология (RSH, 482-3). Надеюсь, феминистским аналитикам «теории литературы» Сиксу это может и не грозить.
Однако такое описание позиции Сиксу не вполне справедливо. Приведенные цитаты, вырванные из контекста интеллектуальной и политической жизни современной Франции, дают слишком узкое представление о ее взглядах. Ее неприятие ярлыка «феминизм» основано в первую очередь на определении «феминизма» как буржуазного, эгалитарного требования дать женщинам власть в существующей патриархатной системе; согласно Сиксу, «феминистки» — это женщины, которые хотят власти, «места в системе, почтения, законного признания в обществе» (RSH, 482) [2]. Сиксу не отвергает того, что она предпочитает называть женским движением (что противопоставлено статической жесткости так называемого «феминизма»); напротив, она целиком на его стороне, и между 1976 и 1982 годами все ее работы выходили в издательстве des femmes, что демонстрирует ее политическое участие в борьбе против патриархата. Однако многие французские феминистки, а также многие феминистки вне Франции считают, что такие схоластические пререкания по поводу слова «феминизм» в политическом смысле наносят вред женскому движению в целом. Во Франции эти разногласия привели к тому, что группа «политика и психоанализ» в Международный женский день вышла на улицы с плакатами «Долой феминизм!», что спровоцировало всплеск враждебности и сарказма внутри женского движения и вдобавок продемонстрировало широкой общественности его раскол. Главным следствием «анти-феминистской» инициативы группы «политика и психоанализ» стало, по-видимому, впечатление, что французский феминизм охвачен злобой и хаосом. Поэтому я не буду следовать позиции Сиксу в данном вопросе: согласно общепринятому английскому значению этого слова, она феминистка; об этом свидетельствует ее не вызывающая сомнений поддержка борьбы за освобождение женщин во Франции и серьезная критика патри- архатных способов мышления. Вместе с тем здесь уместно и необходимо рассмотреть, феминистскую теорию и политику какого именно типа она представляет.
Патриархатное бинарное мышление
Одна из наиболее популярных идей Сиксу вытекает из ее анализа того, что можно назвать «патриархатным бинарным мышлением». Под заголовком «Где она?» Сиксу выстраивает следующий список бинарных оппозиций:
Активность/Пассивность Солнце/Луна Культура/Природа День/Ночь Отец/Мать Голова/Сердце Познаваемое/Ощущаемое Логос/Пафос (JN, 115)
Соотносясь с лежащей в их основании оппозицией «мужчина/женщина», данные бинарные оппозиции плотно заполняют всю патриархатную систему ценностей: каждую оппозицию можно рассматривать как иерархию, в которой «женская» сторона всегда оказывается негативной, безвластной инстанцией. Согласно Сиксу, которая в этом отношении многим обязана работам Жака Деррида, западная философская и литературная мысль пронизана (и всегда была пронизана) бесконечными рядами иерархических бинарных оппозиций, которые всегда в конечном итоге возвращаются к фундаментальной «паре» мужское/женское.
Природа/История Природа/Искусство Природа/Разум Страсть/Действие (JN, 116)
Эти примеры показывают, что какую бы «пару» мы не выделили в качестве основной, это не имеет большого значения: в качестве основополагающей парадигмы мы всегда обнаружим скрытую оппозицию мужское/женское с неизбежно присущей ей оценкой позитивное/негативное [3].
Затем Сиксу делает характерный для себя ход и заявляет, что в мышление такого типа встроена смерть. Чтобы один из терминов смог обрести значение, считает она, он должен разрушить другой. «Пара» не может остаться целой и невредимой: она становится главным полем битвы, где вновь и вновь бесконечно разыгрывается борьба за превосходство в означивании. В итоге победа уравнивается с активностью, а поражение с пассивностью; при патриархате всегда побеждает мужское. Сиксу страстно обвиняет подобное уравнивание женского с пассивностью и смертью в том, что оно не оставляет женщине никакого позитивного пространства: «Женщина либо пассивна, либо ее не существует» (JN, 118). Весь ее теоретический проект можно в каком-то смысле свести к попытке низвергнуть эту логоцентрическую [4] идеологию: провозгласить женщину источником жизни, силы и энергии и приветствовать пришествие нового, женского языка, беспрерывно опровергающего патриархатные бинарные схемы, в которых логоцентризм объединяется с фаллоцентризмом, стремясь подавить женщин и заставить их замолчать.
Различие
Всякой бинарной схеме или мысли Сиксу противопоставляет множественное, гетерогенное различие. Однако чтобы понять ее аргументацию в этом отношении, сначала необходимо ознакомиться с понятием различия (или, точнее, differance), предложенным Жаком Деррида. Многие ранние структуралисты (например, А.Ж. Греймас в «Структурной семантике») полагали, что смысл производится именно бинарными оппозициями. Так, в оппозиции мужское/женское каждый термин обретает значение только в структурном отношении к другому: «мужское» было бы лишено смысла без своей прямой противоположности, «женского», и наоборот. Предполагается, что таким образом производится всякий смысл. Очевидным контраргументом этой теории служит множество примеров прилагательных или наречий степени (много — больше — больше всего, мало — меньше — меньше всего), которые производят смысл по отношению к другим членам ряда, а не по отношению к своим бинарным противоположностям.
Однако предложенная Деррида критика бинарной логики идет в своих выводах гораздо дальше. Согласно Деррида, смысл (значение) производится не в статичной замкнутости бинарной оппозиции. Он достигается благодаря «свободной игре означающего». Чтобы проиллюстрировать аргументацию Деррида, можно обратиться к введенному Соссюром понятию фонемы, определяемой как наименьшая дифференциальная (разностная) — и потому означающая — единица в языке. Невозможно утверждать, что фонема обретает значение благодаря только лишь бинарной оппозиции. Сама по себе фонема /б/ вообще ничего не означает. Если бы существовала только одна фонема, не было бы ни смысла, ни языка, /б/ начинает означать, только когда воспринимается как отличная от, скажем, /в/ или /л/. Тогда /бес/:/вес/:/лес/ воспринимаются как разные слова, обладающие разным смыслом. Аргументация строится на том, что [звук] /б/ означает только благодаря процессу успешного перекладывания (defer on) его смысла на другие дифференциальные элементы языка. В некотором смысле другие фонемы позволяют нам определить значение /б/. Согласно Деррида, значение производится как раз в открытой вариантам игре такого рода между присутствием одного означающего и отсутствием других [6].
Таково основное значение термина Деррида differance. Написанное через «а» ради того, чтобы отличить его — на письме, не в устной речи — от обычного французского слово «различие» (difference), оно получает оттенок большей активности благодаря окончанию «-апсе», и, таким образом, может переводиться на английский и как «различие» («difference»), и как «откладывание» («deferral»). Как мы видели, производящее смысл взаимодействие между присутствием и отсутствием относится к откладыванию, смысл никогда не присутствует целиком, не явлен полностью, но конструируется только в потенциально бесконечном процессе отсылок к другим, отсутствующим означающим. «Следующее» означающее в некотором смысле придает смысл «предыдущему», и так до бесконечности. Таким образом, не существует «трансцендентального означаемого», на котором процесс откладывания каким-либо образом мог бы завершиться. Такое трансцендентальное означающее должно было бы обладать смыслом само по себе, полностью присутствовать в самом себе, не нуждаться ни в каком, помимо себя самого, начале или конце. Очевидным примером такого «трансцендентального означающего» может быть христианское понятие Бога, который есть Альфа и Омега, источник смысла и окончательное завершение мира. Сходным образом, традиционное отношение к автору как источнику и смыслу его или ее текста приписывает автору роль трансцендентального означающего.
Таким образом, анализ Деррида проблемы производства значения подразумевает фундаментальную критику всей западной философской традиции, основанной на «метафизике присутствия», что полагает значение полностью присутствующим, явленным в Слове (или Логосе). Западная метафизика стала предпочитать письму речь именно потому, что речь предполагает присутствие говорящего субъекта, которого таким образом можно счесть единым источником его или ее дискурса. Превосходно суммирует взгляды Деррида на эту проблему Кристофер Норрис:
«Голос становится метафорой истины и подлинности, источником само-присутствующей «живой» речи, противопоставляемой вторичным безжизненным эманациям письма. Предполагается, что в речи мы можем ощутить сокровенную связь между звуком и смыслом, достичь внутреннего и непосредственного осознания значения, что безоговорочно уступает совершенному, прозрачному пониманию. Письмо, наоборот, разрушает этот идеал чистого само-присутствия. Оно заслоняется чуждым, деперсонализованным посредником, обманчивой тенью, что падает между намерением и смыслом, между высказыванием и пониманием. Оно захватывает беспорядочную область общедоступного, где авторитет становится жертвой превратностей и капризов текстового «рассеивания». Короче говоря, письмо представляет собой угрозу глубоко традиционному подходу, соотносящему истину с само-при- сутствием и «естественным» языком там, где он находит свое выражение». (28)
Чтобы ухватить суть проводимого Деррида разграничения между письмом и речью, важно осознавать, что письмо как понятие тесно связано с differance; поэтому Норрис определяет письмо как «бесконечное смещение смысла, которое одновременно правит языком и навсегда выводит его за пределы досягаемости стабильного, самое себя удостоверяющего знания» (29). Анализ Деррида подрывает и ниспровергает утешительную замкнутость бинарной оппозиции. Широко разворачивая поле означивания, письмо — текстуальность — признает свободную игру означающего и вторгается в патриархатный язык, который Сиксу воспринимает как тюрьму.
Ecriture feminine 1) мужественность, женственность, бисексуальность
Концепция женского письма Сиксу напрямую соотносится с анализом Деррида письма как differance. Согласно Сиксу, женские тексты, как она однажды выразилась, «работают над различием» (RSH, 480), стремятся к различию, стараются подорвать правящую фаллогоцентрическую логику, расколоть замкнутость бинарной оппозиции и насладиться радостями освобожденной текстуальности.
Однако Сиксу настолько категорична, что не приемлет даже термин ecriture feminine или «женское письмо», поскольку сами по себе такие термины, как «мужской» и «женский», заковывают нас в бинарную логику, в «классическое видение противопоставленности мужчин и женщин по признаку пола» (Conley, 129). Поэтому она стала говорить либо о «письме, называемом женским» (или мужским), либо, несколько позже, о «поддающейся расшифровке либидинальной женственности, которую можно вычитать в письме, произведенном мужчиной или женщиной» (Conley, 129). Очевидно, важен здесь не пол автора, а тип рассматриваемого письма. Поэтому она предупреждает об опасности смешивания пола автора с «полом» письма, ею или им производимого:
«Большинство женщин идут таким путем: они подражают письму кого-то другого — мужчины, простодушно поддерживают его и дают ему голос, и заканчивают тем, что производят, в сущности, мужское письмо. Чтобы не обмануться, глядя на имена, работать над женским письмом следует очень внимательно: подписанное женским именем письмо не обязательно оказывается женским. Точно так же оно может быть мужским, и наоборот — тот факт, что фрагмент письма подписан мужским именем, сам по себе не исключает женственности. Редко, но иногда все же можно обнаружить женственность в текстах, подписанных мужчинами: такое действительно случается». («Castration», 52)
Одна из причин того, почему Сиксу так стремится избавиться от старой оппозиции мужского и женского, и даже от соответствующих терминов, заключается в ее твердой убежденности в бисексуальной по существу природе всех человеческих существ. В «Хохоте Медузы» (а также в La Jeune Nee — некоторые места, посвященные этим темам, воспроизводятся в обоих текстах) она вначале атакует «классическое определение бисексуальности», которое «расплющено эмблемой страха кастрации и вкупе с фантазией об «абсолютно цельном» существе (хотя и состоящем из двух половин) способно покончить с различием» («Medusa», 254/46/809, JN, 155). Назначение этого гомогенного определения бисексуальности — обслуживать мужской страх Другого (женщины), поскольку оно позволяет мужчине устранить в фантазиях неминуемые знаки различия полов. Сиксу противопоставляет этому подходу теорию другой бисексуальности, множественной, непостоянной, вечно меняющейся, которая «не исключает ни различия, ни одного из полов». Среди ее характеристик «умножение эффектов надписывания желания на всех частях моего тела и другого тела, эта другая бисексуальность не уничтожает различия, но перемешивает их, стремится к ним, их увеличивает» («Medusa», 254/46/809, JN, 155).
Сегодня, согласно Сиксу, «по историко-культурным причинам... именно женщины открываются этой пророческой бисексуальности и черпают от нее», или, как она говорит: «В определенном смысле, «женщина» бисексуальна; мужчина — ни для кого не секрет — сбалансирован так, чтобы не упускать из виду знаменитую фаллическую моносексуальность» («Medusa», 254/46/809, JN, 156-7). Она отрицает возможность самого определения феминистской практики письма:
«Поскольку эта практика не может подвергнуться теоретизированию, классификации, кодированию (что вовсе не означает, что она не существует), она всегда будет превосходить дискурс, регламентирующий фаллоцентрическую систему; она занимает и будет занимать другие пространства, не те, что подчинены философско-теоретической субординации». («Medusa», 253/45/808)
Однако она дает определение, которое не только повторяет понятие ecriture y Деррида, но и кажется тождественным ее собственному понятию «другой бисексуальности»:
«Признать, что письмо есть именно работа в промежутке, над промежутком, изучение процесса того же и другого, без которого ничто не может жить, сведение на нет работы смерти — признать это прежде всего означает хотеть, чтобы двое, так же как каждый ансамбль, состоящий из одного и другого, не застыли в последовательности борьбы и отторжения или какой-либо другой форме смерти, но находились в вечной динамике непрерывного процесса обмена между субъектами — от одного к другому» («Medusa», 254/46/808-9)
Из этой цитаты мы можем сделать вывод, что для Сиксу письмо как таковое бисексуально. Однако она также доказывает, что, по крайней мере в настоящее время, женщины (здесь речь идет явно о женщинах в биологическом понимании, противопоставленных мужчинам) гораздо более мужчин склонны к бисексуальности в таком смысле. Поэтому бисексуальное письмо почти всегда оказывается письмом женщин, хотя некоторые исключительные мужчины в определенных случаях способны порвать со своей «знаменитой моносексуальностью» и также достичь бисексуальности. Это утверждение вполне логично. Придерживаясь такого антиэссенциалистского подхода, в «Хохоте Медузы» Сиксу говорит о том, что во Франции только Колетт, Маргерит Дюрас и Жана Жене действительно можно назвать женственными (feminine) — или бисексуальными — писателями. В La Jeune Nee она также указывает Клеопатру Шекспира и Пентесилею Клейста в качестве мощных репрезентаций женской либидинальной экономики.
Итак, до этого момента исследовательская позиция Сиксу выглядит эффективным феминистским присвоением теории Деррида. Ее работа в этой области, направленная против эссенциализма и биологизаторства, освобождает феминистскую дискуссию о женском письме от зацикленное на эмпирическом поле автора и подвигает ее к анализу выражения сексуальности и желания в самом литературном тексте. К сожалению, это только часть истории. Как мы увидим, теория Сиксу изобилует противоречиями: каждый раз, когда задействуется какая-либо идея Деррида, ее блокирует видение женского письма, пропитанное той самой метафизикой присутствия, которую Сиксу так жаждет разоблачить.
Дар и свойственное
В предлагаемом Сиксу разграничении дара и свойственного (the proper) обнаруживаются первые знаки ускользания от анти-эссенциализма Деррида. Отказываясь признавать бинарную оппозицию женственности и мужественности, Сиксу тем не менее вновь и вновь настаивает на своем разграничении «мужской» и «женской» либидинальных экономик. Они маркируются, соответственно, как Царство Свойственного и Царство Дара. Мужественность или мужские системы ценностей структурированы согласно «экономике свойственного». Свойственное — собственность — присвоение (proper — property — appropriate): сигнализируя об акценте на само-тождественнос- ти, само-возвеличивании и захвате господства, эти слова, по мнению Сиксу, верно характеризуют логику свойственного. Настояние на свойственном, на должном возврате приводит к мужской одержимости классификацией, систематизацией и иерархизацией. Критика понятия класса со стороны Сиксу имеет мало общего с пролетариатом:
«Необходимо противодействовать классу, категоризации, классификации — классам. «Классы» во Франции означают военную службу. Необходимо противодействовать военной службе, всем школам, всепроникающей мужской потребности судить, давать диагноз, систематизировать, именовать... не столько в смысле любовной точности поэтического именования, сколько в смысле репрессивной цензуры философской номинации/концептуализации». («Castration», 51)
Иными словами, теоретический дискурс по сути своей стремится подавлять, являясь результатом мужского либидинального инвестирования. Даже вопрос «Что это?» Сиксу осуждает как знак мужского побуждения заключить реальность в жесткие иерархические структуры:
«Как только сформулирован вопрос «Что это?», с того момента, как вопрос задан, как только начался поиск ответа, мы уже находимся в ситуации мужского допроса. Я говорю о «мужском допросе» так же, как мы говорим, что такого-то допрашивала полиция». («Castration», 45)
Разумеется, соотнесение Царства Свойственного с «мужской либидинальной экономикой» безукоризненно точно направлено против биологизации. Однако этого нельзя сказать об определении его как, в сущности, мужского страха кастрации (здесь обозначенного «мужским страхом утраты атрибута»):
«Понятно, что Царство Свойственного воздвигнуто на основании страха, который фактически является типично мужским: страха лишения собственности, отделения, утраты атрибута. Другими словами: влияние угрозы кастрации». (JN, 147)
В статье «Кастрация или обезглавливание» Сиксу конкретизирует идею свойственного, говоря о свойственном мужчине:
«Этимологически «свойственное» (proper) это «собственность» (property), то, что от меня неотделимо. Собственность это близость: мы должны любить своих ближних — тех, что нам близки, — как самих себя: мы должны приблизиться к другому, чтобы его/ее полюбить, потому что больше всего мы любим самих себя. Царство Свойственного, культура, действует посредством присвоения, проартикулированного, запущенного в действие, мужским классическим страхом экспроприации, лишения... отказом мужчины терпеть лишения в состоянии отделенности, его страхом утратить преимущество, страхом, ответом на который является вся История. Все должно возвращаться к мужскому. «Возврат»: экономика основана на системе возвратов. Если мужчина тратит, расходуется, то лишь при условии возврата силы». («Castration», 45)
Теперь мужское Царство Свойственного выглядит учебной иллюстрацией «метафизики присутствия» Деррида (см. также JN, 146-7). Можно ожидать, что его противоположность, Царство Дара, проиллюстрирует подход, более ориентированный на деконструкцию. Сиксу разграничивает два разных вида дара. Первый — это дар, как его воспринимают мужчины. Для мужской психики получение дара — это опасность:
«В тот момент, когда вы что-то получаете, вы оказываетесь неустранимо «открытыми» другому, и если вы мужчина, у вас только одно желание, желание возвратить дар, разорвать цепь обмена, у которой может не быть конца... не быть ничьим ребенком, никому не быть должным». («Castration», 48)
В Царстве Свойственного дар воспринимается как устанавливающий неравенство — различие — которое оказывается угрозой, поскольку как будто открывает дисбаланс власти. Так акт дарения становится утонченным средством агрессии, средством подвергнуть другого угрозе своего превосходства. Однако женщина дарует, не думая о возврате. Щедрость, наверное, одно из самых позитивных слов в словаре Сиксу:
«Если и существует «собственность женщины», то это ее парадоксальная способность отрешаться от собственности, тело без конца, без отростков, без главных «частей»... Это не значит, что она — нераздельная неструктурированная магма, но она не претендует на власть над своим телом или желанием... Ее либидо — это космос, бессознательное ее всемирно. Ее письмо может только длиться, не прописывая и не различая контуров, осмеливаясь совершать эти головокружительные пересечения другого (других) мимолетные и страстные пребывания в нем, в ней, в них, в ком она проводит столько времени, сколько нужно, чтобы взглянуть с точки, максимально близкой к их бессознательному в момент их пробуждения, полюбить их в точке, максимально близкой к их влечениям; и затем, оплодотворяемая вновь и вновь этими краткими объятьями отождествления, она двигается дальше и уходит в вечность. Она единственная осмеливается и желает познавать изнутри, оттуда, где она, отверженная, не переставала слышать отзвуки своего праязыка. Она позволяет говорить другому языку — языку тысячи наречий, которому неведомы ни ограничения, ни смерть». («Medusa», 259-60/50/814-5, JN, 161-2)
Здесь явно прослеживается соскальзывание от «женственного» (feminine) к «женскому» (female) (или «женщине»). Продолжая разрабатывать эту тему, Сиксу добавляет, что женщина дарует, потому что она не охвачена кастрационной тревогой (страхом утраты собственности, «экс-проприации», как она часто выражается), как охвачены ею мужчины. Несмотря на явный оттенок биологизации, Царство Дара как будто бы действительно довольно близко соотносится с дерридаистским определением письма: женственная/женская либидинальная экономика открыта различию, готова к «пересечению другим», характеризуется спонтанной щедростью; Царство Дара это на самом деле вообще не царство, а охваченное деконструкцией пространство наслаждения и оргазмического обмена с другим. Без сомнения, Сиксу недвусмысленно старается придать своему изображению двух «либидинальных экономик» деррида- истские очертания. Она предупреждает, например, что «следует стараться не впасть слепо или услужливо в эссенциалист- ские идеологические интерпретации» (JN, 148), и отказывается признавать всякую теорию, что тематически постулирует происхождение власти и различия полов. Эти усилия, однако, не только отчасти нивелируются ее биологизаторством: говоря об особом женском (female) письме, она со всей возможной решимостью внедряет крайне метафизический подход.
Ecriture feminine 2) источник и голос
В La Jeune Nee Сиксу повторяет свой отказ создавать теорию письма и женственности только лишь для того, чтобы показать, что она все же собирается открыть обсуждение этой проблематики. Это будет облечено в форму пробных комментариев, говорит она, и приступает к лирической, эйфорической реконструкции сущностной связи между женским письмом и матерью как источником и началом голоса, что слышен во всех женских текстах. Женственность в письме можно распознать по предпочтению, отдаваемому голосу, «письмо и голос... переплетены» (JN, 170). Говорящая женщина вся в своем голосе: «Она физически материализует свою мысль; означивает ее своим телом» («Medusa», 251/44, JN, 170). Иными словами, женщина целиком и физически присутствует в своем голосе, а письмо есть не более чем расширение этого само-тожде- ственного продления речевого акта. Более того, в каждой женщине ее голос принадлежит не только ей — он поднимается из глубочайших слоев ее души: ее собственная речь становится эхом изначальной песни, которую она однажды слышала, а голос — воплощением «первого голоса любви, который сохраняют живым все женщины... в каждой женщине поет первая безымянная любовь» (JN, 172). Это Голос Матери, всемогущей фигуры, царящей в фантазиях доэдипального ребенка: «Голос, песня, предшествующая Закону, предшествующая расщеплению дыхания [le souffle] символическим, вновь обретенная языком, что находится под властью того, что разделяет. Глубочайшее, древнейшее и прекраснейшее возвращение» (JN, 172).
Голос, источник которого относится ко времени, предшествующему появлению Закона, безымянен: он жестко закреплен за доэдипальной стадией, на которой ребенок еще не владеет языком, а значит, и способностью называть себя и свои объекты. Этот голос — мать и материнское тело: «Голос: нескончаемое молоко. Она будет найдена снова. Утраченная мать. Вечность: это голос, смешанный с молоком» (JN, 173). Говорящая/пишущая женщина находится в пространстве вне времени (в вечности), пространстве, допускающем отсутствие именования и синтаксиса. В своей статье «Время женщин» Юлия Кристева показывает, что синтаксис формирует наше чувство хронологического времени уже тем, что порядок слов в предложении маркирует временную последовательность: поскольку субъект (подлежащее), глагол и объект (дополнение) невозможно произнести одновременно, их высказывание по необходимости прорезает временную непрерывность «вечности». Итак, это безымянное доэдипальное пространство, наполненное молоком и медом, Сиксу выводит источником песни, чьи отзвуки пронизывают все женское письмо.
Своим «привилегированным отношением к голосу» женщины обязаны относительной нехватке защитных механизмов: «Никакая женщина не выстраивает столько защит против своих либидинальных влечений, сколько нагромождает мужчина» (JN, 173). Мужчина вытесняет мать, женщина нет (или почти нет): она всегда близка к матери как к источнику блага. Очевидно, материнская фигура у Сиксу совпадает с понятием Хорошей Матери у Мелани Кляйн: от нее, всемогущей и щедрой, исходит любовь, пища и изобилие. Таким образом, пишущая женщина обладает безмерной мощью: puissance feminine, напрямую почерпнутой у матери, чье дарение всегда напитано силой: «Чем больше ты имеешь, чем больше ты отдаешь, тем ты больше, чем больше ты отдаешь, тем больше ты имеешь» (JN, 230).
В статье, посвященной бразильской писательнице Кларис Лиспектор (Clarice Lispector) — наиболее подробном в творчестве Сиксу описании реального примера женского письма, произведенного под Знаком Голоса, подчеркивается открытость и щедрость автора («L'approche», 410, п. 7), а также, в глубоко антидерридаистской манере, ее способность наделять слова их сущностным смыслом:
«От моря почти ничего не остается, только слово, лишенное воды: поскольку мы переводили слова, в них не осталось их речи, мы высушили их так, что они сжались, и набальзамировали их, и они больше не могут напомнить нам, как восходили от вещей раскатами их глубинного смеха... Но чистый Кларисов голос вынужден лишь повторять: море, море, расколи мой корабль, море зовет меня, море! зовут меня воды!» («L'approche», 412)
В своей статье о Маргерит Дюрас и Элен Сиксу Кристиана Макуорд (Christiane Makward) говорит о двенадцати различных видах стиля в романе Сиксу LA: семи поэтических и пяти повествовательных. Пять из семи поэтических уровней стиля можно охарактеризовать как в определенной мере библейские, литургические или мифологические. Эти высокие поэтические интонации находят свое выражение и в более теоретических по своему характеру работах Сиксу. La Venue a recriture открывается библейской нотой «В начале я обожала» (VE, 9). В этом тексте, как и во многих других, Сиксу выступает если не богиней, то, по крайней мере, пророчицей — одинокой матерью, спасающей свой народ, Моисеем в женском обличье, но также и дочерью фараона:
«Слезы, что я проливаю в ночи! Воды всего мира истекают из глаз моих, я очищаю людей народа моего в печали моей, купаю их, вылизываю любовью моей, я выхожу на берег Нила, чтобы собрать народы, брошенные в ивовых корзинах; мою неустанную материнскую любовь дарую всему живому, и потому я повсюду, космос — чрево мое, весь мир — бессознательное мое, смерть изгоняю я, она возвращается, мы начинаем снова, беременна я начинаниями». (VE, 53)
Притязая на все возможные субъектные позиции, говорящий субъект может с гордостью провозгласить себя саму «женским множественным» (feminine plural) (VE, 53), что в чтении и письме причащается божественной вечности:
«Книга — я могла перечесть ее, память и забывание мне в том помощники. Снова начать сначала. Сменить точку зрения, и снова сменить, и еще раз сменить. Читая, я открыла, что письмо бесконечно. Вечно. Бессмертно.
Письмо или Бог. Бог письмо. Пишущий Бог» (VE, 30)
Пристрастие Сиксу к Ветхому Завету очевидно, но не менее заметна и склонность к классической античности. Ее способность к отождествлению кажется безграничной: Медуза, Электра, Дидона, Клеопатра — она побывала каждой из них в своем воображении. Она провозглашает: «Я — вся земля, все, что на ней происходит, всякая жизнь, что живет мною в различных моих формах» (VE, 30). Этот постоянный возврат к библейской и мифологической образности сигнализирует о ее приобщении к вселенной мифа: миру, который, подобно далекой сказочной стране, воспринимается как исполненный смысла, замкнутый и единый. Мифологический или религиозный дискурс представляет вселенную, где все различие, вся борьба и несогласие могут, в конце концов, удовлетворительно разрешаться. Ее мифологические и библейские аллюзии часто сопровождаются — или перемежаются — «океаническим», водным образным рядом, апеллирующим к бесконечным наслаждениям полиморфно извращенного ребенка:
«Мы сами — море, песок, кораллы, водоросли, пляжи, приливы и отливы, пловцы, дети, волны.... Да, она разнородна. Для своих удовольствий она эротична; она — эротогенность гетерогенности: взлетевший пловец, в полете она не цепляется за себя; она способна растворяться, быть огромной, ошеломляющей, желающей и восприимчивой к другим, к другой женщине, которой станет, которой не является, к нему, к тебе». («Medusa», 260/51/815-6)
У Сиксу, как и в бесчисленных мифологических сюжетах, вода преимущественно женская стихия: она заключает в себе замкнутость мифологического мира и отражает успокоительную безопасность материнского чрева. Именно в этом пространстве говорящий субъект Сиксу вольна перемещаться от одной субъектной позиции к другой, и даже океанически сливаться с миром. Ее видение женского письма в этом смысле зафиксировано внутри замкнутости лакановского Воображаемого: пространство, в котором всякое различие упразднено.
Такой акцент на Воображаемом может объяснить, почему пишущая женщина наслаждается столь исключительной свободой во вселенной Сиксу. В Воображаемом мать и дитя по своей сути являются частью фундаментального единства: они суть одно. Защищаемая всемогущей Хорошей Матерью, пишущая женщина всегда и везде чувствует себя в полной безопасности, огражденной от всякой беды: ничто не причинит ей вреда, расстояние и отделенность не парализуют ее. Шекспировская Клеопатра становится примером такой торжествующей женственности:
«Интеллект, сила Клеопатры проявляются, в частности, в ее работе — работе любви, — которую она совершает над расстоянием, разрывом, отделенно- стью: она обращается к разрыву лишь для того, чтобы заполнить его с избытком, и не терпит разлуки, что может повредить телу возлюбленного». (JN, 235)
Антоний и Клеопатра могут рисковать как угодно, поскольку они всегда оберегают друг друга от всякого ущерба: самостью можно пренебрегать именно постольку, поскольку ее всегда можно восстановить. Если поэтический дискурс Сиксу часто обретает чарующую красоту в своих обращениях к парадизу детства, то не в последнюю очередь это происходит благодаря его отказу признать утрату этого комфортного мира. Голос матери, ее груди, молоко, мед и женские воды возникают как часть извечно данного, присутствующего пространства, окружающего ее и ее читателей.
Однако этот мир Воображаемого нельзя назвать безупречно однородным. Мы уже видели, что женское Царство Дара де- конструктивно открыто к различию, и, хотя Сиксу описывает женское письмо в основном в терминах неизменного присутствия Голоса Матери, она также преподносит этот голос как действие разъединения, расщепления и фрагментации (JN, 235). В La Venue a recriture желание писать представлено в первую очередь как сила, которую она не может сознательно контролировать: ее тело содержит «иное безграничное пространство» (VE, 17), требующее, чтобы она придала ему письменную форму. Сопротивляясь ему — ибо никогда не сдается перед вымогательством, — она все же чувствует тайное очарование этого неодолимого soufflé.
«Поскольку оно [il] было столь сильным и яростным, я любила это дыхание и боялась его. Однажды утром вознестись, оторваться от почвы, закачаться в воздухе. Удивиться. Обнаружить в себе возможность неожиданного. Заснуть мышью и проснуться орлом! Восхитительно! И ужасно. И я здесь была ни при чем, я никак не могла вмешаться». (VE, 18)
Этот фрагмент, особенно благодаря французскому местоимению мужского роду в отношении souffle, дыхания, прочитывается в какой-то степени как транспозиция известной женской фантазии изнасилования: il сбивает ее с ног; с ужасом и восхищением она уступает нападению. После она чувствует себя сильнее и могущественней (как орел), как будто смогла захватить мощь фаллоса в ходе происшествия. И как во всех фантазиях изнасилования, восторг и jouissance порождены тем, что женщину не в чем упрекнуть: она этого не хотела, значит, ее нельзя обвинить в недозволенных желаниях. (Излишне говорить, что данное описание относится только к фантазиям изнасилования, и ни в коей мере не касается изнасилования реального.) Это блестящая иллюстрация женского отношения к языку в фаллоцентрическом символическом порядке: если женщина пишет, она будет испытывать вину за желание овладеть языком, если только не избавится в фантазиях от ответственности за такое непроизносимое желание. Но подход Сиксу к тексту как изнасилованию также служит предпосылкой ее видения текста как Хорошей Матери: «Я поедаю тексты, высасываю их, лижу их и целую, я бесчисленное дитя их мириадов» (VE, 19). Проведенный Кляйн анализ материнского соска как доэдипального образа пениса может прояснить это поразительное оральное отношение к читаемому тексту — и тому самому тексту, который, кроме всего прочего, она виновато надеется однажды написать: «Писать? Я смертельно хотела писать из любви, чтобы отдать письму то, что оно [elle] даровало мне. Какая мечта! Какое невозможное счастье... Кормить собственную мать. Дарить ей — теперь ее очередь — мое молоко? Что за безрассудство» (VE, 20). Текст-мать становится текстом-изнасилованием в череде быстрых трансформаций:
«Я говорила «писать по-французски». Вписывать. Проникновение. Дверь. Постучи, прежде чем войти. Абсолютно запрещено... Как могла я не хотеть писать? Когда книги захватывали меня, переносили меня, пронзали меня до глубины души, позволяли мне ощущать их безучастное могущество? <...> Когда мое бытие оказывалось населенным, тело посещенным и обогащенным, как я могла замкнуться в молчании?» (VE, 20-1)
Мать-текст, изнасилование-текст; подчинение фаллическому господству языка как системы различия, как структуры разрывов и отсутствий; празднество письма как царства всемогущей матери: Сиксу всегда будет поглощать различия, совмещать противоречия, стремиться нивелировать разрывы и разграничения, заполнять разрыв с избытком и успешно объединять в себе пенис и сосок.
Воображаемые противоречия
Фундаментально противоречивая, теория письма и женственности Сиксу постоянно колеблется между дерридаистским акцентом на текстуальности как различии и развернутым полновесным метафизическим представлением о письме как голосе, присутствии и истоке. В интервью 1984 года Сиксу дает понять, что она полностью осознает эти противоречия:
«Если бы я была философом, я бы не могла себе позволить говорить в терминах присутствия, сущности и т.д. или о смысле чего-либо. Я бы вполне справилась с философским дискурсом, но не делаю этого. Я позволяю поэтическому слову увлечь меня». (Conley, 151-2)
На примере «О грамматологии» Деррида она показывает взаимосвязь между его концепцией и ее собственной (или отсутствие этой взаимосвязи):
«В «Грамматологии» он рассуждает о письме в общем, о тексте в общем. Когда я говорю о письме, я говорю вовсе не об этом. В этот момент нужно сместить перспективу; я не обсуждаю понятие письма так, как его анализирует Деррида. Я говорю в более идеалистической манере. Я позволяю это себе; я сложила с себя обязанности философа, избавилась от философских поправок — хотя это не значит, что я их игнорирую». (Conley, 150-1)
Хотя ее собственный теоретико-поэтический стиль, очевидно, стремится уничтожить данное противопоставление, творчество Сиксу основывается на сознательном разграничении «поэзии» и «философии» (разграничении, которое Деррида наверняка захотел бы де конструировать). Тогда как лучше всего нам объяснить видимую страсть Сиксу к противоречиям? Можно было бы счесть это хитрой стратегией, направленной на демонстрацию своих установок: отказываясь признавать аристотелевскую логику, исключающую для А возможность быть не-А, Сиксу умело производит собственную деконструкцию патриархатной логики. Но этот аргумент предполагает, что Сиксу действительно стоит на позициях деконструкции, тогда как многие ее умозаключения отражают полностью метафизический подход. Рассуждая с позиций психоанализа, можно сказать, что ее текстуальные маневры рассчитаны на создание пространства, в котором бы differance Символического Порядка мирно сосуществовало с замкнутостью и тождеством Воображаемого. Однако такое сосуществование охватывает только один аспект видения Сиксу: уровень, на котором женская сущность описывается в терминах деконструкции, как, например, во фрагментах, посвященных Царству Дара или гетерогенной множественности «новой бисексуальности». Но мы видели, что даже открытость Дарующей Женщины или многообразие бисексуального письма иллюстрируется библейскими, мифологическими образами или образами стихий, что возвращает нас к Воображаемому. Это различие и расхождение, кажется, имеет большее отношение к полиморфной извращенности доэдипального ребенка, чем метонимическим смещениям желания в символическом порядке. «Новая бисексуальность» в конечном итоге более всего напоминает замкнутое пространство воображаемого, позволяющее субъекту без всяких усилий перемещаться между мужской и женской субъектными позициями. Итак, в конечном итоге можно показать, что противоречия дискурса Сиксу собраны в безопасном укрытии Воображаемого и там же разрешаются. Но ее предельное пренебрежение «патриархатной» логикой все же не свидетельствует о бартезианском стремлении освободить читателя, хотя на первый взгляд принадлежащее Барту описание читательского jouissance кажется поразительно соответствующим нашим ощущениям от текстов Сиксу:
«Вообразим себе индивида (своего рода г-на Теста наизнанку), уничтожившего в себе все внутренние преграды, все классификационные категории, а заодно и все исключения — причем не из потребности в синкретизме, а лишь из желания избавиться от древнего признака, чье имя — логическое противоречие, такой индивид перемешал бы все возможные языки, даже те, что считаются взаимоисключающими; он безмолвно стерпел бы любые обвинения в алогизме, в непоследовательности, сохранив невозмутимость как перед лицом сократической иронии (ведь ввергнуть человека в противоречие с самим собой как раз и значит довести его до высшей степени позора), так и перед лицом устрашающего закона (сколько судебных доказательств основано на психологии единства личности!)... Теперь такой анти-герой существует; это читатель текста — в тот самый момент, когда он получает от него удовольствие». {The Pleasure of the Text, 3)
Различие между jouissance бартезианского читателя и текстом Сиксу заключается в том, что первое сигнализирует об абсолютной утрате, о пространстве, в котором субъект обращается в ничто, а второй всегда в итоге собирает и соединяет свои противоречия в полноте Воображаемого.
Власть, идеология, политика
Представление Сиксу о женском письме как о способе выстроить заново непосредственное отношение к физическому jouissance женского тела может прочитываться позитивно, как утопическое видение женской творческой способности в истинно свободном от угнетения и сексизма обществе. Заметный акцент на воображаемом, действительно, характерен для утопических произведений. Например, в 1972 году Кристиана Рошфор (Christiane Rochefort) опубликовала замечательный феминистский утопический роман Archaos ou le jardin etincelant, повествовательный стиль которого демонстрирует поразительные параллели с теорией Сиксу о Воображаемом как утопическом способе решения проблемы желания.
Утопическая мысль всегда была источником вдохновения как для феминисток, так и для социалистов [7]. Уверенно признавая, что перемены возможны и желательны, утопическое видение отвлекается от негативного анализа существующего общества, создавая образы и идеи, способные вдохновить на бунт против угнетения и эксплуатации. Опираясь на взгляды таких теоретиков Франкфуртской школы, как Эрнст Блох и Герберт Маркузе, исследователь Арнхельм Невзюсс (Arnhelm Neususs) показал, что зачастую направленная против утопий аргументация исходит от правой части политического спектра, составляя часть стратегии нейтрализации или компенсации революционного содержания утопических идей. Наиболее пагубным и широко распространенным аргументом в борьбе против утопии из числа описанных Невзюссом можно назвать «реалистический» подход. Склоняясь к рационализму с его характерной недооценкой возможного политического воздействия человеческого желания, «реализм» также критикует противоречивый характер многих утопий: утверждается, что нет смысла принимать их всерьез, раз они настолько алогичны, что всякому понятна их неосуществимость в реальной жизни.
Отвергая такой подход, Невзюсс видит в противоречиях, воплощенных в столь многих утопиях, обоснование проводимой ими социальной критики: разрывы и несоответствия в утопиях свидетельствуют о репрессивном влиянии тех социальных структур, что вызвали их к жизни, указывая на вездесущесть той авторитарной идеологии, которую старается подорвать утопист. Если признать правоту Невзюсса, получается, что утопический проект всегда отмечен конфликтом и противоречием. Таким образом, читая тексты Сиксу как феминистскую утопию, по крайней мере, некоторые аспекты обнаруживаемых противоречий мы можем объяснить конфликтом между противоречивой патриархатной идеологией и утопической мыслью, стремящейся освободиться от мертвой хватки партриархата. Но если верно, что все противоречия Сиксу в конечном итоге оказываются собранными в неструктурированном пространстве Воображаемого, они, скорее всего, означают также бегство от сегодняшней социальной реальности.
В работе, посвященной Норману Брауну, Герберт Маркузе, будучи решительным защитником утопизма, называет утопический идеал Брауна попыткой «реставрации изначального всеобщего единства: единства мужского и женского, отца и матери, субъекта и объекта, тела и души — устранения самости, моего и твоего, устранения принципа реальности, всех и всяческих границ» (234). Позитивно оценивая стремление уничтожить существующие репрессивные структуры, Маркузе критикует культивирование Брауном принципа удовольствия (которое мы наблюдаем и у Сиксу) как раз за то, что раскрывается оно исключительно в области Воображаемого:
«Корни репрессии реальны и остаются реальными; cледовательно, их выкорчевывание остается реальной и рациональной работой. Устранять следует не принцип реальности; не всё, но такие конкретные вещи, как бизнес, политику, эксплуатацию, бедность. Без привязки к реальности и здравому смыслу цели, которую ставит перед собой Браун, достичь невозможно». (235)
Основной недостаток утопии Сисксу заключается как раз в полном отсутствии конкретного анализа материальных факторов, мешающих женщинам писать. В ее поэтической мифологии письмо оказывается абсолютным деянием, в котором автоматически участвуют все женщины — поскольку они женщины. Каким бы волнующим и соблазнительным ни было такое видение, оно ничего не говорит о том реальном неравенстве, о тех лишениях и том насилии, которые вынуждены претерпевать женщины как социальные существа, а не мифологические архетипы.
Настаивание Маркузе на необходимости для утопического проекта поддерживать связь с рассудком и реальностью весьма актуально. Страстно желая присвоения женщинами воображения и принципа удовольствия, Сиксу рискует сыграть на руку той самой патриархатной идеологии, которую она осуждает. Ведь это не феминизм, а патриархат отдает женщинам на откуп эмоции, интуицию и воображение, ревниво сберегая здравый смысл и рациональность для сугубо мужского пользования. Таким образом, утопия бросает нам вызов как на поэтическом, так и на политическом уровне. Поэтому представляется очевидным, что, признавая риторическую мощь видения Сиксу, феминисткам тем не менее следует попытаться проследить его политические последствия, чтобы в точности понять, на что именно оно вдохновляет нас.
Но оправданно ли заталкивать письмо Сиксу в смирительную рубашку политики, если, как она говорит, ее больше интересует поэзия, чем политика?
«Я бы солгала, если бы назвала себя политической женщиной, вовсе нет. Фактически я вынуждена сочетать два эти слова: политическое и поэтическое. Не буду вам лгать и признаюсь, что ставлю акцент на поэтическом. Я делаю это, с тем чтобы избежать репрессии политического, поскольку политическое — это нечто жестокое, тяжкое и столь неумолимо реальное, что иногда мне хочется утешиться стенаниями и поэтическими слезами». (Conley, 150-1)
Несомненно, именно эту дистанцию между политическим и поэтическим последовательно стремится устранить феминистская критика. И хотя Сиксу как будто заявляет о «поэтическом» статусе своих текстов, это не мешает ей напрямую писать о власти и идеологии в отношении феминистской политики. Согласно Сиксу, идеология — это «нечто вроде бескрайней мембраны, что все охватывает и окутывает. Кожа, наличие которой мы должны осознавать, даже если она накрывает нас как сеть или сомкнутое веко» (JN, 266-7). Это понимание идео ологии как абсолютной замкнутости перекликается с восприятием ее Кейт Миллетт как монолитного единства, и характеризуется в точности теми же недостатками8. Как бы мы могли обнаружить, что нас окружает идеология, если бы она была абсолютно самосогласованна, не содержала ни малейшего противоречия, разрыва или трещины, что позволило бы нам ее воспринять? Предлагаемый Сиксу образ идеологии воспроизводит замкнутость мифологической вселенной, в которой она скрывается от противоречий материального мира. Когда Катрин Клеман обвиняет Сиксу в том, что та говорит на неполитическом уровне, она указывает именно на эту проблему в творчестве Сиксу:
«К[атрин Клеман]. Я должна признаться, что твои высказывания для меня лишены реальности — если только не воспринимать их в поэтическом смысле. Дай мне пример... На твоем уровне описания я не узнаю тех вещей, о которых думаю в политических терминах. Это не значит, что описание «неверное», разумеется, нет. Но оно дается в терминах, которые, как мне кажется, относятся к уровню мифа или поэзии; оно указывает на некий желающий, вымышленный, коллективный субъект, поочередно то свободный и революционный, то порабощенный, то спящий, то бодрствующий... Таких субъектов в реальности не существует». (JN, 292-3)
Столь же обескураживают и высказывания Сиксу о власти. В интервью La Revue des sciences humaines она выделяет один «плохой» и один «хороший» типы власти:
«Я бы предложила проводить четкое различие, когда речь заходит о том типе власти, что представляет собой волю к верховенству, жажду индивидуального и нарциссического удовлетворения. Эта власть — всегда власть над другими. Это нечто, связанное с правлением, контролем и, кроме того, — с деспотией. Когда же я говорю «власти женщины», это больше не одна власть, она умножена, она более чем одна (следовательно, это не вопрос о централизации — она разрушает отношение с уникальным, что все уравнивает), и это вопрос о власти над собой, дру гими словами, об отношении, основанном не на господстве, а на наличии [disponibilite]». (RSH, 483-4)
Оба типа власти совершенно персональны и индивидуальны: кажется, что борьба против угнетения заключается в неубедительной попытке заявить об определенной разнородности «властей» женщины (разнородность опровергается единственным числом слова «женщина»), которая неизбежно выливается в утверждение того, что сильная женщина может делать все, что захочет. Французский термин disponibilite имеет богатую буржуазно-либеральную историю, частично вследствие его центрального положения в творчестве Андре Жида. Быть «наличным», таким образом, может предполагать определенное эгоистическое желание быть «готовым ко всему», не увязать в обязанностях перед обществом и другими людьми. Обобщенное представление Сиксу о «властях женщины» нивелирует реальные различия между женщинами и тем самым — какая ирония! — репрессирует истинную разнородность тех видов власти, которыми располагают женщины.
Поэтическому видению Сиксу письма как средства осуществления освобождения, а не всего лишь его инструмента присущи те же индивидуалистские обертоны. Письмо как экстатическое само-выражение придает женщине способность полностью освободиться, вернувшись к союзу с извечной матерью. С точки зрения Сиксу, женщины взаимодействуют друг с другом исключительно по дуалистической схеме «я/ты»: как матери и дочери, лесбийские пары или же в некоем спектре отношений учительница/ученица или пророчица/последовательница. Почти полное отсутствие отсылок к широкому сообществу женщин или к коллективным формам организации в творчестве феминистской активистки не просто бросается в глаза; оно служит показателем общей неспособности Сиксу выразить не-Воображаемое, триангуляр- ные структуры желания, типичные для общественных отношений.
Принимая во внимание индивидуалистскую направленность теории Сиксу, не так уж удивительно, что для некоторых ее учениц ее политика выглядит лишь продолжением создаваемого образа. Вот как описывает Верена Андерматт Конли (Verena Andermatt Conley) поведение Сиксу в Парижском университете в Венсане (известном своей царственной нищетой):
«Обычно Сиксу появлялась в университете, кутаясь в ослепительные меха горностая, стоимость которых определенно превышала финансовые возможности многих в аудитории. Выстраиваемые ею мизансцены становились все более репрессивными. Словно отголосок реконструкции Батая ацтекской церемонии, она вздымалась из контекста убогого железобетона обшарпанных стен. Так она становилась прибавочной стоимостью и термином нулевой степени, суверенным центром благопристойного, исключительно ухоженного тела, где ее политика расщепляла политику архаического ритуала, в котором вокруг короля движутся его жены». (Conley, 80)
Горностаи как эмансипация: ну разве не странно, что женщины «третьего мира» так нелепо медлят, не решаясь перенять у Сиксу ее скорняжную стратегию?
Читателю, воспитанному на англо-американском подходе к проблематике взаимоотношений женщин и письма, творчество Элен Сиксу дает захватывающе новую отправную точку Несмотря на все превратности, которые претерпевает это понятие в ее текстах, письмо для нее всегда остается в некотором роде либидинальным объектом или актом. Позволяя феминистской критике избежать парализующего эмпиризма зацикленности на авторе, эта взаимосвязь сексуальности и текстуальности открывает совершенно новое поле феминистского исследования проявлений желания в языке, не только в текстах, написанных женщинами, но и в мужских текстах.
Как мы видели, Пристальное исследование ее творчества попадает в запутанные сети противоречий и конфликтов, где деконструктивистскому отношению к текстуальности противопоставлено его подрывающее столь же страстное изображение письма как женской сущности. И когда противоречия в конце концов устраняются в Воображаемом, это, в свою очередь, приводит читательницу-феминистку к ряду политических проблем: искалеченное как отсутствием опоры на узнаваемые общественные структуры, так и биологизмом, творчество Сиксу тем не менее остается вдохновляющей утопической панорамой творческой мощи (властей) женщин.
Глава 7 Патриархатные отражения: зеркало Люс Иригаре
Монументальная докторская диссертация Люс Иригарэ Speculum de l’autre femme («"Спекулюм" другой женщины», 1974) привела к немедленному изгнанию ее автора из лакановской Ecole freudienne в Венсане. Заманчиво счесть столь впечатляющую реализацию патриархатной власти очевидным доказательством внутренне присущей этой книге феминистской ценности: всякий текст, настолько раздражающий Отцов, заслуживает феминистской поддержки и одобрения. Да, правоверные лаканисты жестко критиковали Speculum [1], но в такой же мере он стал и объектом язвительного феминистского обсуждения. Пожалуй, единственное, в чем критики Иригарэ согласны друг с другом, это то, что книга заслуживает того внимания, которым они столь щедро ее одаривают [2].
Первая книга Иригарэ, Le Langage des dements («Язык слабоумия», 1973) представляет собой исследование схем распада речи при старческом слабоумии: область, на первый взгляд очень далекая от феминистской проблематики Speculum-а. Однако для читателей Speculum-а в заключении «Языка слабоумия» звучат знакомые ноты: «Сказавший более чем говорящий, высказавшийся более чем высказывающийся, слабоумный больше не является действительно активным субъектом высказывания... Он всего лишь возможный рупор для ранее произнесенных высказываний» (351). Это пассивное, имитативное или миметическое отношение к структурам языка поразительно похоже на отношение женщин к фаллократическому дискурсу, в том виде, в каком оно представлено в Speculum-e.
В 1977 году за книгой Speculum последовал сборник текстов, озаглавленный Ce sexe qui n 'en est pas un («Пол, который не единичен»). Не столь пространная и во многих смыслах более доступная, чем ее предшественница, эта книга, взятая отдельно, не дает впрочем вполне верного представления о теориях Ири- гаре, слишком тесно она взаимосвязана с Speculum-ом. Состоящий частично из поэтических или полутеоретических текстов, частично из традиционных теоретических эссе и даже включающий в себя стенограммы семинаров, посвященных предшествовавшей ему книге, Ce sexe развивает многие центральные темы, поднятые в Speculum-t, таким образом, что для их понимания зачастую требуется определенное знание контекста.
После 1977 года Иригарэ опубликовала два более коротких текста, посвященных отношениям матери и дочери: Et l'une ne bouge pas sans l’autre («И одна не движется без другой», 1979) и Le Corps-a-corps avec la mere («В схватке с матерью» / «В объятьях матери», 1981). Продолжая критику западной философской традиции, начатую в книге Speculum, она опубликовала также свое поэтически-теоретическое прочтение Ницше, посвященное использованию им образного ряда, связанного с водой: Amante marine de Friedrich Nietzsche («Морская возлюбленная Фридриха Ницше», 1980). Вода — наиболее чуждая Ницше стихия, утверждает Иригаре, и потому она обладает наивысшим «деконструктивным» потенциалом в отношении его дискурса. Passions elementaires («Стихийные страсти», 1982) представляют собой возврат к основным темам, изложенным в книгах Speculum и Ce sexe, на этот раз в форме поэтического монолога, в котором говорящий субъект, женщина, воспевает в игре стихий свое наслаждение и свою страсть к возлюбленному. В книге L'Oubli de l'air chez Martin Heidegger («Мартин Хайдеггер: небрежение воздухом», 1983) дается критика Хай- деггера, основанная на подавлении им связанного с воздухом образного ряда, в ходе которой дискурс Хайдеггера вскоре становится отправной точкой Иригарэ для ее собственного анализа воздуха как женской стихии, деконструирующей упрощенческие классификации мужского мышления. В La Croyance meme («Равная вера» / «Та же вера» / «Вера в То же», 1983), небольшой лекции, посвященной фрейдовскому анализу игры fort-da, Иригарэ показывает, что Фрейд игнорирует решающую значимость взаимоотношений ребенка с воздухом, единственной стихией, которая позволяет ему примириться с утратой плаценты и материнского тела. Тем не менее свое описание феминистской теории Иригарэ я буду основывать на тех двух текстах, где она развивает главные принципы своего феминистского анализа: прежде всего на Speculum de l'autre femme и на Ce sexe qui n'en est pas un [3].
«Спекулюм»
Принимая во внимание опыт Иригарэ в сфере психолингвистики и ее профессию аналитика, мы можем счесть странным тот факт, что она решила получить престижную и обладающую большим научным весом докторскую степень, doctorat d'Etat, в области философии. Но для самой Иригарэ выбор в пользу философии очевиден: в нашей культуре философии принадлежит статус «господствующего дискурса»: «Поскольку она устанавливает закон для остальных [дисциплин], она представляет собой дискурс дискурсов» (S, 72). Резкая критика теории Фрейда о женственности, которой посвящена первая часть Speculum-а, заключается как раз в демонстрации того, что дискурс Фрейда, революционный во всех остальных отношениях, подчиняется женоненавистническим правилам западной философской традиции, когда речь заходит о женственности. Иригарэ, в отличие от Кейт Миллетт, не отвергает психоанализ как бесполезную или по своей сути реакционную теорию:
«Речь идет скорее о том, чтобы указать на следствия этой теории, все еще никак не разработанные. Показать, что теория Фрейда, определенно обеспечивающая нас тем, что способно сотрясти весь философский порядок дискурса, парадоксальным образом остается подчиненной этому порядку, когда переходит к определению различия полов». (CS, 70)
Книга Speculum de l'autre femme разделена на три основные части: первая, «La tache aveugle d'un vieux reve de symetrie» («Слепое пятно старой мечты о симметрии») [4], содержит чрезвычайно подробное прочтение высказываний Фрейда о женственности, главным образом почерпнутых из «Продолжения лекций по введению в психоанализ», но также и из других текстов, где он рассматривает вопрос о женском психосексуальном развитии и/или о различии полов. Вторая часть, «Speculum», состоит из серии прочтений западных философов, от Платона до Хайдеггера, а также из нескольких глав, представляющих собственные философские позиции Иригаре. Третья часть, «L'uterus de Platon» («Матка Платона») представляет собой внимательное прочтение Платоновой притчи о пещере в свете критики западной философии. Хотя мы не будем специально рассматривать эту часть книги Иригарэ в дальнейшем, нужно сказать, что она представляет собой изобретательнейшую феминистскую деконструкцию или критику патриархатного дискурса и может стать мощным источником вдохновения для женщин, ищущих новые модели творческого политического прочтения литературных или философских текстов.
Однако следует отметить, что мы дали лишь упрощенное описание структуры Speculum-a. Согласно «Оксфордскому словарю английского языка», слово speculum, помимо прочего, означает:
1. (Хирург.) инструмент для расширения полостей в человеческом теле в целях исследования. 2. зеркало, обычн. из полированного металла, напр. –um metal [из зеркальной бронзы] (сплава меди и олова), гл. обр. в телескопе-рефлекторе. Исходное латинское значение этого слова — «зеркало», от specere, «смотреть».
Как мы увидим, уже само это слово концентрирует в себе несколько главных тем анализа Иригарэ. Строение ее книги также стремится повторить структуру «спекулюма». Начиная с Фрейда и заканчивая Платоном, Иригарэ превращает естественный исторический порядок в действие, по своему принципу напоминающее действие вогнутого зеркала, которым гинеколог исследует «полости» женского тела. Подчеркивая этот момент, Иригарэ цитирует высказывание Платона о вогнутом зеркале: «Если расположить вогнутую поверхность параллельно человеческому лицу, лицо будет казаться в нем перевернутым» (S, 183)5. Но вогнутое зеркало обладает также фокусирующей способностью, это линза, собирающая и направляющая световые лучи так, чтобы «пролить свет на сокрытое в пещерах» и «проникнуть в тайну женского пола» (S, 182). «Спекулюм» — это мужской инструмент для дальнейшего проникновения в женщину, но он также представляет собой полость, подобную той, которую с его помощью исследуют. «Спекулюм», изнутри освещающий вагину женщины, преуспевает в этом только благодаря своей вогнутой форме; парадоксальным образом, в первую очередь путем имитации своего объекта «спекулюм» его объективирует.
Speculum de l'autre femme Иригарэ представляет собой поверхность, формирующую полость по образцу гинекологического зеркала/вагины. Расположенный в центре раздел, названный «Speculum», обрамлен двумя массивными разделами, посвященными, соответственно, Фрейду и Платону; более фрагментарный средний раздел словно проваливается вглубь, стиснутый сплошными, отвесно вздымающимися объемными текстами о двух великих мыслителях. Внутри среднего раздела снова применена та же обрамляющая техника: Иригарэ представляет свой собственный дискурс в первой и последней главах, обрамляющих, таким образом, семь внутренних разделов, посвященных в основном философам-мужчинам от Платона до Гегеля. Структура та же самая, но отношение между мужским и женским высвечивается как перевернутое отражение. Внутри семи центральных разделов действует тот же самый прием обрамления: за двумя главами, в которых остро критикуются Платон и Аристотель, следует глава «о» Плотине, целиком заполненная выдержками из его «Эннеад». В этом контексте (более уместно сказать кон-тексте, «con» — грубое французское слово для обозначения женских гениталий) непосредственное цитирование, по мнению Иригарэ, подрывает дискурс Плотина: ведь это уже не слова Плотина, но их мастерская (буквальная) имитация. Утонченное применение исследовательницей приема мимикрии выставляет напоказ нарцис- сический фаллоцентризм философа.
Эта имитационная глава помещена перед более традиционным анализом творчества Декарта, за которым в свою очередь следует замечательное прочтение дискурса женщин-мистиков, озаглавленное «La mysterique». Главы, посвященные Канту и Гегелю, предшествуют последней главе, где мы снова встречаемся с собственным теоретическим дискурсом Иригаре. Глава о Декарте находится в самом центре раздела «Speculum» (и всей книги), что снова создает эффект рамки. Окруженный главой «о» Плотине, озаглавленной «La mere de glace» («Ледяная/зеркальная мать/океан»), и главой «La mysterique» («Мистеричка»), Декарт проваливается в самую сокровенную каверну книги: фаллическим, инструментальным движением «спекулюм» освещает его, и в то же время указывает на его позицию внутри женского, словно иллюстрируя то утверждение Иригарэ, что женщина служит молчаливой почвой, на которой патриархатный мыслитель воздвигает свои дискурсивные конструкции. Очевидно, не случайно Иригарэ решила взять таким образом в кольцо именно Декарта, постулировавшего расщепление тела и разума теоретика-рационалиста, все еще глубоко воздействующего на интеллектуальную жизнь Франции.
Спекуля(риза)ция и мимикрия
Стиль Иригарэ многим обязан техническому инструментарию деконструктивной критики. Поскольку ее аргументация осуществляется большей частью посредством искусного манипулирования цитатами и собственными комментариями к ним, сложно передать своеобразие ее письма, не цитируя столь же обильно, как она цитирует Фрейда и Платона. В дальнейшем, подчеркивая особенности подхода Иригарэ и сосредоточиваясь на некоторых наиболее проблематичных его аспектах, я решила сконцентрировать внимание в основном на ее критике Фрейда и анализе женского мистицизма.
Фрейд
Отправной точкой лекции Фрейда о женственности служит тезис о загадке женщины. Стремясь пролить свет науки на темный континент женственности, Фрейд начинает с постановки вопроса о том, «что такое женщина». Уже само использование им образного ряда свет/мрак, указывает Иригарэ, разоблачает его покорность старейшим «фаллократическим» философским традициям. Теория Фрейда о различии полов основана на видимости различия: именно глаз решает, что несомненно истинно, а что нет [6]. Таким образом, для Фрейда основополагающим фактом полового различия становится то, что мужской половой орган, пенис, очевиден, а женский — нет: глядя на женщину, Фрейд, по-видимому, ничего не видит. Женское различие воспринимается как отсутствие или отрицание мужской нормы.
Этот момент для аргументации Иригарэ является решающим: в нашей культуре женщина находится вне репрезентации: «Поэтому женское расшифровывалось как запретное [interdit], расположенное между знаками, между осознаваемыми смыслами, между строк» (S, 20). Женственность, утверждает Иригарэ, это негатив, требуемый для «спекуляризации» мужского субъекта. Слово «спекуляризация» говорит не только о зеркальном образе, получаемом путем визуального проникновения «спекулюма» внутрь вагины; оно также указывает на базовую предпосылку, лежащую в основании всего западного философского дискурса: необходимость постулирования субъекта, способного отражать, рефлексировать свое собственное бытие. Философский метадискурс, говорит Иригарэ, становится возможным только благодаря процессу, в котором рассуждающий/спекулирующий субъект созерцает себя; спекуляции философа фундаментально нарциссичны. Замаскированное под рефлексии над тем, как вообще возможно Бытие человека/мужчины, мышление философа тем эффективнее, чем оно спекулярнее (чем более оно само-рефлексивно); то, что выходит за рамки этой рефлексивной круговой замкнутости, — немыслимо. Именно этот тип спекуля(риза)ции имеет в виду Иригарэ, когда указывает на неспособность западного философского дискурса репрезентировать женственность/женщину иначе, чем как негатив своей собственной рефлексии.
Согласно Иригарэ, эту логику того же самого можно проследить в подходе Фрейда к развитию полового различия. Для Фрейда на доэдипальной стадии полового различия не существует: проходя оральную, анальную и фаллическую фазы, девочка ничем не отличается от мальчика. Решающая перемена в ориентации девочки происходит в момент эдипального кризиса: тогда как для мальчика мать остается его объектом, девочкадолжна развернуть свою доэдипальную привязанность к матери в сторону отца, выбрав теперь его в качестве любовного объекта. Этот сдвиг не только трудно объяснить; его также трудно осуществить: удивительно, в то время как Фрейд настаивает на этом, что большинство женщин действительно справляются с задачей окончательного отказа от своей доэдипальной привязанности и развивают полностью «зрелую» женственность [7]. Иригарэ полагает, что Фрейд был вынужден развить такую непоследовательную, противоречивую и женоненавистническую теорию, поскольку неосознанно подчинялся спекулярной логике того же самого. Ибо, согласно его теории, девочка, по существу, есть то же самое, что и мальчик; как язвительно замечает Иригарэ, она не девочка, а маленький мужчина. На фаллической стадии сама девочка воспринимает клитор как неполноценный пенис, говорит Фрейд, и тем самым он искусно подавляет вторжение различия в его рефлексии/рассуждения. Визуальное восприятие девочкой своей неполноценности является фундаментальной предпосылкой противоречивой Фрейдовой теории зависти к пенису.
То утверждение, что женщина сначала воспринимает свой клитор как маленький пенис, а затем решает, что ее уже кастрировали, можно толковать, замечает Иригарэ (словно соглашаясь в этом с Кейт Миллетт), как проекцию мужского страха кастрации: пока мужчина полагает, что женщина завидует его пенису, он чувствует себя комфортно, поскольку у него-то, он знает, пенис точно есть. Иными словами, функция женской зависти к пенису заключается в поддержке мужской психики. «Кастрировать женщину значит вписать ее в закон того же желания, желания того же самого», — комментирует Иригарэ (CS, 64). В процессе осмысления мужчина не просто проецирует свое желание воспроизводства себя (своего собственного отражения/рефлексии) на женщину; он, согласно Иригарэ, не способен мыслить вне этой спекулярной структуры. Таким образом, женский кассационный комплекс оказывается еще более соотнесенным с тем же самым. Женщина не только Другой, как обнаружила Симона де Бовуар, она именно и конкретно Другой мужчины: его негатив или зеркальный образ. Вот почему Иригарэ утверждает, что патриархатный дискурс помещает женщину вне репрезентации: она — отсутствие, негативность, темный континент, в лучшем случае — малый мужчина. В патриархатной культуре женственность как таковая (чем она может быть, будет обсуждаться далее) репрессирована, вытеснена; возвращается она только в своей «приемлемой» форме спекуляризованного Другого мужчины.
Собственные тексты Фрейда, в частности «Жуткое», развивают теорию пристального взгляда (gaze) как фаллической деятельности, связанной с анальным желанием садистского господства над объектом [8]. Спекуляризирующий философ — могущественный господин своего постижения-видения (insight); как показывает пример Эдипа, страх слепоты — это страх кастрации. Пока скопофилия (т.е. «любовь к смотрению») господина удовлетворена, его владычеству ничего не угрожает. Неудивительно, что rien a voir («ничто для взгляда») девочки пугает мужчину—теоретика пола. Как нам напомнила Джейн Гэллоп, греческое слово theoria происходит от слова theoros, «смотрящий, зритель», от thea, то есть «смотрение» [тж. «зрелище»] (Gallop, 58). Если бы наш теоретик помыслил женское, он бы обнаружил, что падает со своего фаллического маяка во мрак темного континента.
Иригарэ демонстрирует значимость (пристального) взгляда для теории Фрейда в характерном для нее стиле: перевоплотившись в девочку, что осмеливается оспаривать авторитет отца, она постепенно распутывает хитросплетение его конструкций. Цитируя красочное описание Фрейдом желания девочки иметь пенис вместо ее неполноценного клитора, она погружается в размышления над тем, что из этого описания следует:
«Неплохая постановка. И можно вообразить или увидеть во сне сцены признания такого типа, происходящие на приеме у Фрейда-психоаналитика, в его кабинете. Хотя, поскольку он говорит, что необходимо видеть, чтобы верить, могут вдруг возникнуть вопросы об отношении этих сцен к взгляду, глазу, различию полов. Значит, чтобы пересмотреть [revoir], нужно не смотреть [nepas voir]! Возможно... Но все же... Разве что вся власть и все различие (?) переместились во взгляд(ы)? Так что Фрейд может видеть, а его самого не видно? Не видно, что он видит? И нет никаких сомнений в силе и власти его пристального взгляда? Не отсюда ли происходит зависть ко всемогуществу этого взгляда, этого знания? Власть над гениталиями/женщиной/полом [le sexe]. Зависть, ревность к пенису-глазу, к фаллическому взгляду? Он увидит, что у меня его нет, решит в мгновение ока. А я не увижу, есть ли он у него. И больше ли, чем у меня? Но он мне сообщит. Кастрация смещена? Тотчас же ставкой в игре становится взгляд. Не следует забывать, что «кастрацией», или же знанием о кастрации, мы обязаны взгляду, по крайней мере, в случае Фрейда. Как всегда, взгляд — ставка/в игре [enjeu]... Но девочке, женщине нечего показать. Она выставит, продемонстрирует возможность ничто для взгляда» (S, 53)
Для Фрейда, как и для других западных философов, женщина становится зеркалом, отражающим его собственную мужественность. Иригарэ приходит к выводу, что в нашем обществе репрезентация и поэтому также структуры общества и культуры являются продуктом того, что она видит как фундаментальную hom(m)osexualite. Это игра слов homo (то же самое) и homme («мужчина»): мужское желание того же. Женщине отказано в наслаждении само-репрезентацией, желанием того же самого: она отрезана от всякого наслаждения, что может оказаться свойственным только ей.
Оказавшись в ловушке патриархатной логики, женщина может выбирать только между двумя вариантами: либо оставаться безмолвной, лепечущей что-то невнятное (всякое высказывание, не вписывающееся в логику того же, по определению, окажется невнятицей в мужском господствующем дискурсе), либо разыгрывать спекулярную репрезентацию себя 165 как малого мужчины. Эта вторая возможность — женщина- мим, женщина-имитатор — представляет собой, согласно Иригарэ, форму истерии. Истеричка имитирует, мимически представляет свою сексуальность на мужской лад, поскольку только таким образом она может сохранить хоть что-то от своего собственного желания, хоть какую-то его часть. Таким образом, истерическая инсценировка (mise en scene) ею самой себя является следствием ее исключенности из патриархатного дискурса. И совсем неудивительно, что фаллократия воспринимает ее истерические симптомы как недостоверную копию подлинной мужской трагедии (как ее желание соблазнить своего отца). И неудивительно, что в лечении Фрейдом маленького Ганса проявляется поразительная степень отождествления аналитика со своим маленьким клоном, тогда как анализ Доры несет на себе отчетливые следы его страха утратить контроль и стать жертвой той ужасающей кастрирующей пустоты (rien a voir), что сквозит в истерии Доры [9].
Мистицизм
Первая глава центрального раздела Speculum-а начинается с изучения понятия субъектности: «Все теории субъекта всегда предназначены «мужскому». Когда женщина им подчиняется, она неосознанно отрекается от своих особых отношений с воображаемым» (S, 165). Женщинам отказано в субъективности, утверждает Иригарэ, и этот запрет гарантирует, что объекты (спекуляризирующего) субъекта будут относительно стабильными. Если субъект вообразит, что женщина способна что-либо вообразить, объект (спекуляции) утратит свою стабильность и тем самым дестабилизирует субъект. Если женщина не будет представлять собой почву, землю, инертную или непроницаемую материю, как сможет субъект сохранять свой статус субъекта? Без такого не-субъективного основания, говорит Иригарэ, субъект окажется совершенно неспособным конструировать себя. Слепым пятном дискурса великого мыслителя всегда является женщина: изгнанная из репрезентации, она становится почвой, на которой теоретик воздвигает (erect) свои спекулярные конструкции, но поэтому она также всегда становится той точкой, в которой его восставленные конструкции (erections) проседают.
Если, как показывает Иригарэ, мистический опыт — это в первую очередь опыт утраты субъектности, исчезновения оппозиции субъект/объект, он, по-видимому, особенно привлекателен для женщин, сама субъективность которых отвергается и репрессируется патриархатным дискурсом. Хотя не все мистики были женщинами, все же в условиях патриархата мистицизм сформировал ту область высокой духовности, в которой женщины могли преуспеть и действительно преуспевали чаще мужчин. Согласно Иригарэ, мистический дискурс — это «единственное место в западной истории, где женщина говорит и действует гласно и открыто» (S, 238). Мистический образный ряд подчеркивает ночную жизнь души: темноту и спутанность сознания, утрату субъектности. Затронутая пламенем божественного, душа мистика превращается в текучий поток, расплавляющий всякое различие. Этот оргазматический опыт ускользает от спекулярной рациональности патриархатной логики: садистский глаз/я (еуе/I) должен закрыться; чтобы познать восторги мистика, философ должен вырваться из своей философии, «вслепую бежать из замкнутого кабинета философии, из спекулятивной матрицы, где он замкнул себя для того, чтобы постичь все в ясном сознании» (S, 239). Экстатическому видению (от греч. ех, «вне» и histomi, «ставить») как будто удается избежать спекулярности. Женщины искали и обретали экстаз (ex-stase, пишет Иригарэ), поскольку уже находились вне скопической репрезентации; невежество женщины- мистика, ее крайнее ничтожество перед божественным было неотъемлемой частью тех условий существования женского, в которых она была воспитана: «[В этой системе] самые слабые в науках и самые невежественные были самыми красноречивыми и щедрыми на откровения. Таким образом, исторически — это женщины. Или, по крайней мере, «женское»» (S, 239).
Но что, если даже в центре этой бездонной пропасти сокрыто зеркало/«спекулюм»? Ведь мистики часто прибегали к образу пылающего зеркала (miroir ardent), описывая некоторые аспекты своего опыта. Хотя пылающее зеркало — это как будто именно то зеркало, которое ничего не отражает, эти слова все же сигнализируют о движении к спекуляризации мистического опыта. Иригарэ говорит, что происходит это вследствие те- ологизации мистицизма. Теология придает мистицизму телео- логичность, снабжая его (мужским) объектом: мистический опыт начинает отражать Бога во всей его славе, и тем самым низводится ко всего лишь еще одному примеру мужской спекуляризации, где гом(м)осексуальная экономика Бога, желающего своего Сына (и наоборот), отражается в ничто (neant) в сердце мистика. Однако, отмечает Иригарэ, эта попытка 167 мужского исправления мистицизма может порождать встречное движение: даже в рамках теологии Бог превосходит все репрезентации; человеческое воплощение Сына — «самый женственный мужчина среди всех» (S, 249). Христос разрушает спекулярную логику, и самоуничижение мистика воспроизводит страсти Господни: победа обретается в глубочайшей из всех бездн. Само-репрезентация женщины-мистика избегает спе- кулярной логики не-репрезентации, наложенной на женщину патриархатом. Парадокс в том, что скопированная с образа страдающего Христа, зачастую ею же самою растравляемая униженность женщины-мистика открывает пространство, где может расцвести ее собственное наслаждение. Хотя этому пространству по-прежнему полагает пределы мужской дискурс, оно достаточно обширно, чтобы женщина больше не чувствовала себя изгнанницей.
Непреклонная логика Того же
Возможно, многих феминисток удивит, что Иригарэ возвеличивает мистицизм. Ведь она показывает, что мистический опыт позволяет женственности открыть себя именно через абсолютное подчинение патриархату, глубочайшее его принятие. Но все же мистицизм — это особый случай. Иригарэ едва ли утверждает, что на самом деле в глубине души все женщины — мистики; она хочет сказать лишь то, что в условиях патриархата мистицизм (как истерия несколько веков спустя) предоставляет женщинам реальную, пусть и офаниченную возможность открыть некоторые аспекты наслаждения, отвечающие только их либидинальным влечениям. Но как мы можем знать, что такое «наслаждение женщины» или чем оно может быть? Если спекулярная логика охватывает весь западный теоретический дискурс, как может докторская диссертация Люс Иригарэ избежать ее пагубного влияния? Если изучение женщин-мистиков приводит ее к тому, что она получает удовольствие от образа женщины, имитирующей страдания Христа, не поймана ли она логикой, требующей от нее создания образа женщины, в точности повторяющего спекулярные конструкции женственности в патриархатной логике? В одном проницательном тексте Шошана Фельман подняла ряд весьма уместных вопросов, метко указывающих на проблемы, с которыми сталкивается Иригарэ, когда преподносит себя как женщину-теоретика или теоретика, чьей темой является женщина:
«Если «женщина» — это и есть Другой во всяком мыслимом западном теоретическом локусе речи, как может женщина как таковая говорить в этой книге? Кто здесь говорит и кто декларирует друго- вость женщины? Если, как полагает Люс Иригарэ, молчание женщины или подавление ее способности говорить структурно определяет философский и теоретический дискурсы как таковые, из какого теоретического локуса говорит сама Люс Иригарэ, развивая свой собственный теоретический дискурс о женщинах? Говорит ли она как женщина, с места (молчащей) женщины, за женщину, от имени женщины? Достаточно ли быть женщиной, чтобы говорить как женщина? Определяется ли способность «говорить как женщина» биологическим фактом или стратегической, теоретической позицией, анатомией или культурой? Что, если способность «говорить как женщина» не является «естественной», не может быть просто принята на веру?» (Felman, 3)
Хотя Иригарэ никогда этого не признавала, ее анализ мужской спекулярной логики очень многим обязан предложенной Деррида критике западной философской традиции. Текстуальный анализ в книге Speculum предоставляет нам впечатляющие примеры антипатриархатной критики потому, что Иригарэ знает, как продемонстрировать изъяны и несообразности фаллоцентрического дискурса. Не в последнюю очередь работы Иригарэ подразумевала Спивак, когда признавала сильные стороны французского феминизма в умении справляться с господствующими формами дискурса:
«В конечном счете самое полезное, что мы можем почерпнуть, изучая французский феминизм, — это примеры политизированного критического «Симптоматического прочтения», которое не всегда следует технике «инверсии и сдвига», свойственной прочтению деконструирующему. Этот метод, который при восхвалении авангарда применяется как лекарство, при разоблачении господствующего дискурса становится эффективным оружием». (Spivak, 177)
Но если, как показал Деррида, мы все еще живем под властью метафизики, невозможно создать новые концепции, не затронутые метафизикой присутствия. Вот почему он считает деконструкцию деятельностью, а не новой «теорией». Иными словами, деконструкция откровенно паразитирует на тех метафизических дискурсах, которые она стремится низложить. Отсюда следует, что всякая попытка сформулировать общую теорию женственности будет метафизической. Как раз в этом и заключается дилемма Иригарэ: продемонстрировав, что до сих пор женственность производилась исключительно исходя из логики того же самого, она поддается искушению создать свою собственную теорию женственности. Но, как мы видели, определяя «женщину», мы неизбежно приписываем ей «сущность».
Сама Иригарэ, осознавая эту проблему, изо всех сил стремится избежать ловушки эссенциализма. Так, в одном месте она открыто отвергает всякую попытку определить «женщину». Женщинам не следует стараться стать ровней мужчинам, пишет она:
«Они не должны стремиться к соперничеству с мужчинами, конструируя логику женского, которая снова будет следовать онто-теологической модели. Скорее им нужно попытаться высвободить этот вопрос из экономики логоса. Поэтому им не следует формулировать его как «Что такое женщина?». С помощью повторения и интерпретации того, как женское определяется в дискурсе — как нехватка, дефект или как пантомима и обращенное воспроизводство субъекта, — они должны демонстрировать, что на стороне женского возможно эту логику превосходить и дезорганизовывать». (CS, 75-6)
Одним из способов такого разрушения патриархатной логики может стать имитация мужского дискурса, мимикрия под него. Мы уже видели, как сама Иригарэ весьма успешно использует подобную стратегию имитации в главе «о» Плотине. Отвечая Шошане Фельман, можно также сказать, что в книге Speculum Иригарэ говорит как женщина, имитирующая мужской дискурс. Таким образом, академический аппарат докторской диссертации, все еще ощутимый в Speculum-t, оказывается ироническим жестом: исходя от женщины, обосновывающей выкладки Иригарэ, ее безукоризненно теоретический дискурс подвергается смещениям и переносам, оказываясь остроумной пародией на патриархатные методы аргументации. Поскольку Иригарэ, будучи женщиной, находящейся в условиях патриархата, не обладает — как показывает ее же анализ — собственным языком и может только (в лучшем случае) имитировать мужской дискурс, это неизбежно оставляет отпечаток на ее собственном письме. Она пишет отнюдь не в царстве чистого феминизма, свободном от патриархата: чтобы ее дискурс воспринимался как нечто отличное от невразумительной болтовни, она должна воспроизводить мужской дискурс. Поэтому женское может прочитываться только в пустом пространстве между знаками, между строк ее подражаний.
Но в этом случае мимикрия Иригарэ в книге Speculum оказывается сознательным отыгрыванием (acting out) истерической (подражательной) позиции, отведенной при патриархате всем женщинам. Принимая то, что неизбежно оказывается мимикрией, Иригарэ подвергает ей саму эту мимикрию, возводит паразитирование в квадрат. Она устраивает театр пантомимы: имитируя навязанную женщине имитацию, тонким спекуляр- ным приемом (ее мимикрия отзеркаливает мимикрию всех женщин) она стремится максимально ослабить (undo) эффекты фаллоцентрического дискурса, максимально их усиливая (overdoing). Ее парадоксальная по своей сути стратегия отражает стратегию мистиков: окончательное само-уничижение женщины-мистика становится моментом ее освобождения, а Иригарэ разрушает патриархат изнутри (undermine), преувеличенно имитируя (overmime) его дискурсы, что может оказаться способом избавления от смирительной рубашки фалло- центризма.
Однако вопрос заключается в том, срабатывает ли эта стратегия, и если да, то в каких обстоятельствах. Мы можем изучать эффекты мимикрии в текстах Иригарэ, рассматривая, как она пользуется доводами, построенными на аналогии и сравнении. В Speculum-e она считает прочтение по аналогии типичным выражением мужской страсти к тому же самому:
«У толкователей сновидений было только одно желание: отыскивать то же самое. Везде. Желание, несомненно, настоятельное. Но с этого момента не оказывалось ли само толкование в ловушке грезы о тождестве, эквивалентности, аналогии, гомологии, симметрии, сопоставимости, имитации и т.д. — более или менее правильных, то есть более или менее хороших!». (S, 27)
Таким образом, мы можем ожидать от Иригарэ имитации этого типа мышления, основанного на равнозначности и гомологии, аннулирующей его стабилизирующее, иерархизиру- ющее действие. Но так бывает не всегда. В своем эссе «Le marche des femmes» («Рынок женщин», CS, 165-85) она говорит о том, что «проведенный Марксом анализ товара как базовой формы капиталистического богатства можно... понимать как интерпретацию положения женщины в так называемых патриархатных обществах» (CS, 169). Согласно Иригарэ, женщину можно понимать, прежде всего, как потребительную стоимость и вместе с тем стоимость меновую: она — это «природа» (потребительная стоимость), подвергшаяся действию человеческого труда и преобразованная в меновую стоимость. Исходя из ее роли как меновой стоимости, женщину можно анализировать в качестве товара на рынке: ее стоимость определяется исходя не из ее собственного бытия, но из определенного трансцендентального стандарта эквивалентности (деньги, фаллос). Водном важном примечании Иригарэ следующим образом оправдывает свое широкое использование приема аналогии в данном эссе:
«Разве Аристотель, которого Маркс называет «исполином мысли», не определяет отношения между формой и материей Через аналогию с отношениями между мужчиной и женщиной? Поэтому возврат к вопросу о различии полов — это новое прохождение [retraversee] через аналогизм». (CS, 170)
Иными словами: когда она как женщина использует определенную риторическую стратегию, эта стратегия немедленно помещается в новый (не-мужской) контекст с другими политическими последствиями. Таким образом, вопрос политической эффективности женской мимикрии напрямую зависит от действенной силы нового контекста, который создает женщина посредством имитации. Эта стратегия оказывается чрезвычайно успешной в отношении Плотина, поскольку имитатив- ной главе «о» Плотине непосредственно предшествует анти- сексистский анализ. Но в отношении Маркса трудно понять, каким образом мимикрия Иригарэ разрушает изнутри марксистский дискурс. Больше похоже на то, что Иригарэ использует анализ Маркса совершенно традиционным образом: явно вдохновленная обнаружением того же самого, она ищет применения своей теории аналогии, но не к демонстрации изъянов, предположительно выявляющих фаллоцентрический дискурс Маркса. Таким образом, ее эссе прочитывается скорее как обоснование догадок Маркса, чем как критика его спеку- лярной логики. В другом эссе, «La «mecanique» des fluides» («"Механика" жидкостей», CS, 103-16), мимикрия по аналогии как политический прием выглядит полностью несостоятельной. Здесь аналогия проводится между женственностью и мужественностью, с одной стороны, и жидкостями и твердыми телами, с другой. Фаллократическая наука не способна описать движение жидкостей, утверждает Иригарэ, точно так же, как не способна она описать женщину. Таким образом, продолжает она, женский язык ведет себя так же, как жидкости, которыми пренебрегают мужчины-физики:
«Он непрерывен, сжимаем, растяжим, он вязкий, проводящий, способен просачиваться в другую среду... Он никогда не кончается, сильный и бессильный в своем сопротивлении тому, что можно исчислить, он получает удовольствие и страдает от своей сверхчувствительности к давлению; он меняется — в своем объеме и плотности, например, — в зависимости от температуры, в его физической реальности, определяемой трением между двумя бесконечно соседствующими силами, — динамика близости, не собственности». (CS, 109-10)
Здесь ее имитация патриархатного уравнивания женщины и жидкости (женщина как животворящее море, как источник крови, молока и околоплодных вод...) лишь усиливает патриархатный дискурс. Неудача настигает ее потому, что она изображает жидкость позитивной альтернативой обесценивающимся скопофилическим конструкциям патриархов. Мимикрия оказывается несостоятельной, поскольку она перестает восприниматься как таковая: это больше не единственно лишь высмеивание нелепиц мужского, но совершенное воспроизводство логики Того же. Там, где, скажем так, уже не видны кавычки, Иригарэ попадает в ту самую эссенциалистскую ловушку определения женщины, которой она всеми силами стремится избежать.
Мимикрию, или подражание, разумеется, не следует отвергать, поскольку они могут использоваться в феминистских целях; однако они не являются панацеей, как подчас полагает Иригарэ. Вопросы Шошаны Фельман (Говоритли Иригарэ как женщина? За женщину? С места женщины?) не снимаются теорией женской имитации мужского дискурса. Фельман настойчиво поднимает вопрос о позиции. С какой (политической) позиции говорит Иригарэ? Неспособность ответить на этот вопрос — собственное слепое пятно Иригарэ. Кажется, она не замечает, что иногда женщина, имитирующая мужской дискурс, — это только лишь женщина, говорящая как мужчина: тому пример Маргарет Тэтчер. Решающим всегда является политический контекст такой мимикрии.
Женская речь: рассказ идиотки?
Как мы видели, попытка Иригарэ основать теорию женственности, которая бы избегала патриархатной спекуля(риза)ции, неизбежно приводит к эссенциализму. Ее старания снабдить женщину «отважной репрезентацией ее собственного пола» (S, 130) также обречены остаться очередной реализацией непреклонной логики Того же. Интересно отметить, что, несмотря на определенные расхождения, взгляды Иригарэ на женственность и женский язык почти совпадают со взглядами Сиксу. Отправной точкой теории «женщины» Иригарэ является основополагающее допущение аналогии между психологией женщины и ее «морфологией» (от греч. ??????, «форма»), которую она не очень понятным образом отличает от анатомии. Форма женщины репрессируется патриархатным фалло- центризмом, который систематически перекрывает женщине доступ к ее собственному наслаждению: женское jouissance невозможно даже помыслить в рамках спекулярной логики. Мужское наслаждение, утверждает она, видится монолитно цельным, репрезентируется по аналогии с фаллосом, и именно этот режим репрезентации насильственно навязывается женщинам. Но, как она показывает в статье «Пол, который не единичен» [10], пол женщины не единичен: ее половые органы составлены из многих различных элементов (губы, вагина, клитор, шейка матки и матка, груди), и поэтому ее jouissance множественно, не унифицированно, бесконечно:
«Женщина «касается себя» постоянно, никто не может запретить ей этого, поскольку ее пол — это две губы в непрерывном объятии. Потому в себе она уже двое — но нераздельные — ласкающие друг друга». (MC, 100, CS, 24/128)
Поэтому женщина отдает предпочтение не визуальному, но осязательному:
«Преобладание пристального взгляда, отличение формы и индивидуализация формы особенно чужды женскому эротизму. Женское наслаждение происходит более от прикосновения, чем от взгляда, и вступление женщины в господствующую скопи- ческую экономику означает опять же ее низведение к пассивности: она будет прекрасным объектом... В этой системе репрезентации и желания вагина — это изъян, дыра в объективе скопофилической репрезентации. Уже в греческой скульптуре это стало обыкновением — «ничто для взгляда» должно быть исключено, вытолкнуто с этой сцены репрезентации. Женские половые органы попросту отсутствуют на этой сцене: они замаскированы, ее «щель» зашита». (MC, 101, CS, 25-6/129)
Иригарэ постулирует множественность и многообразность женственности: экономика женщины не спекулярна в том смысле, что она не следует логике или/или. Ее сексуальность способна сочетать варианты: ведь женщина не выбирает между клиторальным и вагинальным наслаждением, как полагал Фрейд, ей доступны оба пути. Подобно Сиксу, Иригарэ считает, что женщина расположена вне всякой «собственности»:
«Владение и собственность, несомненно, фактически чужды женскому. По крайней мере сексуально. Но близость не чужда женщине, близость настолько тесная, что невозможно никакое опознание одного или другого, и потому — никакая форма собственности. Женщина наслаждается притиснутос- тью к другому, столь близкому, что она не может им обладать, — так же, как не может обладать собой». (MC, 104-5, CS, 30/133-4)
Проводимый Иригарэ анализ женственности тесно связан с ее идеей особого языка женщины, который она называет «le parler femme», или «женская речь» («womanspeak»). «Le parler femme» возникает спонтанно, когда женщины говорят друг с другом, но снова исчезает, когда появляются мужчины. Это одна из причин того, что Иригарэ считает группы, состоящие только из женщин, непременным шагом к [женскому] освобождению, хотя и предупреждая, что эти группы не должны становиться лишь вариантами обращения (reversal) существующего порядка: «Если бы их целью стало обращение существующего порядка — даже если бы оно было возможным, — история бы просто повторилась и возвратилась бы к фаллократии, где ни женский пол, ни женское воображаемое, ни женский язык не могут существовать» (MC, 106, CS, 32/135). Далее, первое, что необходимо сказать о «женской речи», это то, что о ней ничего нельзя сказать: «Я просто не могу описать вам «женскую речь»: ей разговаривают, о ней невозможна мета- речь» (CS, 141), — заявила однажды Иригарэ на семинаре. Тем не менее она предлагает определение стиля женщины в терминах его тесной связи с жидкостью и осязанием:
«Этот «стиль» не оказывает предпочтение пристальному взгляду, но возвращает все фигуры к их тактильному происхождению. Здесь она снова касается себя, никак себя не структурируя, или структурируя себя по другому типу единства. Ее «собственностью» была бы одновременность. Собственностью, которая никак не закрепляет себя в возможной тождественности самости другой форме. Всегда жидкой, сохраняющей те характеристики жидкостей, которые так трудно идеализировать: это трение между двумя бесконечно соседствующими силами, что создает их динамику. Ее «стиль» сопротивляется всяким твердо установленным формам, фигурам, идеям, понятиям — и взрывает их». (CS, 76)
В самом известном — печально известном? — фрагменте статьи «Пол, который не единичен» она возвращается к вопросу о женщине и ее языке, чтобы показать, как женщина избегает патриархатной логики. Вопрос заключается в том, не возникает ли эффект отдачи, демонстрирующий, что «женщина» Иригарэ является продуктом той же самой патриархатной логики:
«"Она" неограниченно другая в себе самой. Именно поэтому ее называют темпераментной, непостижимой, беспокойной, капризной — не говоря уж о ее языке, где она ускользает во всем, и «он» не способен разглядеть связность ни одного значения. Противоречивые слова кажутся логике рассудка слегка безумными, они невнятны ему, воспринимающему их через жесткие, готовые сетки, выработанные заранее коды. В своих высказываниях — когда она осмеливается говорить — женщина непрестанно касается себя. Она почти не отделяет от себя какую-то болтовню, восклицание, полутайну, неоконченную фразу — когда возвращается только для того, чтобы снова отправиться из другой точки наслаждения или боли. Ее нужно слушать иначе, чтобы услышать «другой смысл», постоянно себя сплетающий, в одно и то же время беспрерывно подхватывающий слова и все же их выталкивающий, чтобы не застрять, не застыть. Ведь когда «она» что-то говорит, это уже не совпадает с тем, что она подразумевает. Более того, ее высказывания никогда не совпадают с чем бы то ни было. Их уникальная особенность — смежность. Они (при)касаются. И когда они уходят слишком далеко от этой близости, она останавливается и начинает снова с «нуля»: органа ее тела-пола. Потому бесполезно ловить женщин на точном определении того, что они подразумевают, заставлять их повторять (себя), чтобы смысл прояснился. Они уже куда-то ускользнули из дискурсивной машинерии, где вы рассчитывали их застать врасплох. Они вернулись внутрь себя, что не значит то же самое, что и «внутрь вас». Их внутреннее пространство по ощущениям отличается от вашего, от того, что, как вы можете ошибочно полагать, им тоже свойственно. «Внутрь себя» значит в интимность того безмолвного, множественного, диффузного касания. Спросите настойчиво, о чем они думают, и они смогут ответить лишь: ни о чем. Обо всем». (MC, 103, CS, 28-9/132)
И снова всплывает вопрос Шошаны Фельман о том, какую позицию занимает дискурс Иригарэ. Кто говорит здесь? Кто эта говорящая, говорящая-субъект, обращающаяся к мужскому (?) «вы», сводящая «женщин» к анонимным объектам ее дискурса? («Их внутреннее пространство по ощущениям отличается от вашего».) Эта говорящая-субъект — женщина? Если так, как может она отважиться говорить что-то иное, чем «противоречивые слова, [что] кажутся логике рассудка слегка безумными»? По крайней мере, для Моник Плаза ответ очевиден: Иригарэ — это патриархатный волк в овечьей шкуре:
«Люс Иригарэ следует своей конструкции, с энтузиазмом прописывая женщине ее социальное и интеллектуальное существование исходя из «морфологии»... Ее метод в основе своей апеллирует к «природе» и остается целиком и полностью под влиянием патриархатной идеологии. Невозможно описывать морфологию, как будто она сама предоставляет себя восприятию, без посредничества идеологии. Позитивизм иригареевской конструкции сочетается здесь с вопиющим эмпиризмом... Всякий модус существования, который идеология вменяет женщинам как часть Вечной Женственности и который, как нам кажется ровно одну секунду, Люс Иригарэ считает результатом угнетения, отныне становится сущностью женщины, ее бытием. Все, чем женщина «является», поставляет ей, в конечном счете ее анатомический пол, который все время касается себя. Бедная женщина». (Plaza, 31-2)
Идеализм и неисторичность
Моник Плаза развивает свою критику Иригарэ с материалистской точки зрения в журнале Questions feministes, основанном Симоной де Бовуар. Читая Speculum, легко поверить, что власть — это вопрос одной лишь философии. Но, как показывает Плаза, угнетение женщин никоим образом не является исключительно идеологическим или дискурсивным:
«Понятие «Женщина» встроено в материальность существования: женщины замкнуты в семейном кругу и работают бесплатно. Патриархатный порядок не ограничивается только идеологией или одной лишь сферой "стоимости"; он образовывает конкретное, материальное угнетение. Чтобы обнаружить его существование и раскрыть его механизмы, необходимо низложить идею «женщины», то есть признать, что категория пола захватила огромные территории в угнетательских целях». (Plaza, 26)
Иригарэ не изучает в Speculum-e экономику домашнего хозяйства наряду со спекулярной и фотологической экономиками: материальные условия угнетения женщин впечатляюще (spectacularly) отсутствуют в ее работе [11]. Но без специального материального анализа феминистское рассмотрение власти не выйдет за рамки того упрощенческого и пораженческого видения натравленной на женскую беспомощность мужской власти, на котором строятся теоретические изыскания Иригарэ. Ее позиция парадоксальна: она решительно защищает идею «женщины» множественной, децентрированной и неопределимой, но бесхитростный подход к патриархатной власти вынуждает ее анализировать «женщину» (в единственном числе) так, как будто та представляет собой простое, неизменное единство, сталкивающееся с монолитным патриархатным угнетением всегда одного и того же типа. Иригарэ патриархат видится однозначной, непротиворечивой силой, не позволяющей женщинам выразить свою истинную природу. Одной из причин неспособности Иригарэ осуществить на практике свою теоретическую программу признания множественности женщин (а не «женщины») является то, что она рассматривает власть исключительно как мужскую одержимость. Согласно ее подходу, власть — это то, чему женщины противостоят: «Лично я отказываюсь запирать себя в рамках одной-единственной «группы» из всего женского освободительного движения. Особенно если она попадает в ловушку желания обладать властью» (CS, 161). Но взаимоотношения женщин с властью не исчерпывается позицией жертвы. Феминизм заключается не в том, чтобы просто отвергать власть, но в том, чтобы преобразовывать существующие властные структуры — и в этом процессе преобразовывать саму концепцию власти. «Противостоять» власти, значит, не упразднять ее изящным, волюнтаристским жестом, возможным после мая 1968-го, но — передавать ее кому-то еще.
С отсутствием материалистического анализа власти связана и слабая историческая ориентация исследования, предпринятого в Speculum-e. Нельзя сказать, что книга внеисторична, наоборот, в ней показано, как отдельные патриархатные дискурсивные стратегии оставались неизменными со времен Платона до времен Фрейда. Исходя из этого, можно показать, что некоторые аспекты угнетения женщин в западном мире также оставались относительно неизменными на протяжении веков, и Иригарэ делает важную работу, указывая на определенные патриархатные стратегии, воспроизводящиеся вновь и вновь. Speculum скорее неисторичен — поскольку предполагается, что о патриархатной логике больше нечего сказать. Показательно, что Иригарэ не удается исследовать, как исторически меняется воздействие патриархатных дискурсов на женщин. Поэтому Speculum не способен полноценно сформулировать вопрос об исторической специфике: почему жизнь женщин в эпоху после Фрейда отличается от жизни матери и сестер Платона? Если господствующие дискурсы почти не изменились, почему мы не живем до сих пор в гинекее?
Иригарэ не удается учитывать историческую и экономическую конкретику, идеологические и материальные противоречия патриархатной власти, что приводит ее к тому метафизическому определению женщины, избежать которого она поставила своей целью. И потому она анализирует «женщину» в идеалистических категориях, подобно тем философам-мужчинам, которых она порицает. Ее превосходная критика патриархатной мысли отчасти дискредитируется попыткой назвать женское. Как я уже показывала, все усилия найти определение «женщины» обречены на эссенциализм, поэтому феминистская теория только бы выиграла, если бы на некоторое время оставила минное поле женственности и природы женщины и приблизилась к проблемам угнетения и эмансипации с другой стороны. Именно это, в значительной степени, и пыталась сделать Юлия Кристева. Но в этом же, как ни парадоксально, кроется одна из причин того, почему мы не можем считать Кристеву — в отличие от Сиксу и Иригарэ — в прямом смысле сугубо феминистским теоретиком.
Глава 8 "Маргинальное" и подрыв: Юлия Кристева
L'Etrangere
Когда в 1970 году Ролан Барт с увлечением принялся за обзор ранних работ Кристевой, он решил назвать свое эссе «L'Etrangere», что приблизительно переводится как «чужая/странная/чужестранка». Хотя в этом заглавии содержится очевидный намек на болгарское происхождение Кристевой (она появилась в Париже в 1966 году), оно также отражает отношение Барта к творчеству Кристевой как дестабилизирующему по характеру своего воздействия. «Юлия Кристева все сдвигает со своих мест, — писал Барт, — она всегда разрушает самое последнее предубеждение, которое нам казалось таким удобным, которым мы могли гордиться... она подрывает авторитет, авторитет монологической науки» (19) [1]. Барт полагает, что чужестранный дискурс Кристевой подтачивает самые заветные наши убеждения именно вследствие того, что позиционирует себя вне нашего пространства, при этом искусно проникая сквозь границы нашего дискурса. Уже в самом первом предложении Semeiotike Кристева занимает вызывающую позицию нарушителя спокойствия: «Работать с языком, вникать в материальность того, что общество считает средством контакта и понимания, не значит ли это разом объявить себя чужим (etranger) языку?» [2] И неудивительно, что я, чужая этой стране и этому языку, обнаружила именно у Кристевой, другой etrangere, самую многообещающую отправную точку в моих феминистских поисках.
Во вступительной главе этой книги я опиралась на некоторые идеи Кристевой, противопоставляя друг другу несколько современных направлений в англо-американской феминистской критике; теперь я хочу повторить тот же маневр и исследовать англо-американскую феминистскую лингвистику с позиций кристевской семиотики. Дополнительное преимущество этого подхода — представление etrangere в терминах более знакомых теорий; но в этом также заключается риск невольного одомашнивания чужака. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, что кристевская теория лишь частично и фрагментарно соизмерима с так называемой англо-американской феминистской лингвистикой, находящейся в данной области под сильным австралийским влиянием. Следует также отметить, что, насколько я знаю, сама Кристева никогда публично не комментировала это направление в лингвистике. Таким образом, все нижеследующее представляет собой мою собственную попытку исследовать некоторые вопросы, поднятые феминистской лингвистикой, «с кристевской точки зрения» [3].
Кристева и англо-американская феминистская лингвистика
Согласно Черис Крамер, Барри Торн и Нэнси Хенли (Cheris Kramer, Barrie Thorne, Nancy Henley), основные интересы англо-американской феминистской критики лежат в следующих областях:
«(1) Половые различия и сходства в использовании языка, в речевой и невербальной коммуникации; (2) сексизм в языке, с акцентом на структуре и содержании языка; (3) соотношения между языковой структурой и использованием языка (эти две темы обычно трактуются по отдельности); (4) попытки и перспективы изменений» .
Беспокоит в этом перечислении отсутствие обсуждения того, что может означать понятие «язык»: словно поле или объект изучения («язык») для этих исследователей совершенно ясны. Кристева, напротив, много времени посвящает именно обсуждению проблемы «языка». С самого начала она остро осознает, что «языком» просто называется то, что лингвисты решают определить как объект своего исследования. В эссе, озаглавленном «Этика лингвистики» (The ethics of lingvistics), она сталкивает современную лингвистику с этическими и политическими следствиями понятия «языка». Обвиняя «выдающегося современного грамматиста» в «янусоподобном» поведении, 182 она указывает на то, что «в своих лингвистических теориях он описывает логический, нормативный базис говорящего субъекта, а в политическом отношении объявляет себя анархистом» (23). Согласно Кристевой, современная лингвистика все еще
«пребывает в состоянии систематики, преобладавшей во время ее зарождения. Это открытие правил, управляющих внутренней согласованностью нашего фундаментального социального кода: языка, то есть системы знаков либо стратегии преобразования логических последовательностей». (24)
Кристева считает идеологический и философский базис современной лингвистики фундаментально авторитарным и деспотическим:
«Блюстители репрессии и рационализаторы общественного договора в самом прочном его субстрате (дискурсе), лингвисты доводят до логического конца традицию стоиков. Эпистемология, лежащая в основании лингвистики и соответствующих когнитивных процессов (структурализм, например), хотя и выстраивает бастион, преграждающий путь иррациональной деструкции и социологизирующе- му догматизму, выглядит беззащитно анахроничной, сталкиваясь с современными мутациями субъекта и общества». (24)
Выход из этого тупика, утверждает она, заключается в сдвиге от соссюровского понятия langue [язык как система форм] к установлению заново в качестве объекта лингвистики говорящего субъекта. Это бы увело лингвистику от очарованности языком как монолитной, гомогенной структуры и пробудило бы интерес к языку как гетерогенному процессу. Однако произойдет это только в том случае, если мы избежим определения «говорящего субъекта» как любого рода трансцендентального или картезианского эго. Вместо этого говорящий субъект должен конструироваться в поле мысли, развиваемой вслед за Марксом, Фрейдом и Ницше. Без разделенного, децентриро- ванного, переопределяемого и различительного понятия о субъекте, предложенного этими мыслителями, кристевская семиотика немыслима [4]. Кристева постулирует говорящий субъект как «место не только структуры и ее повторных трансформаций, но в особенности ее утраты, расходования» (24). Следовательно, для нее язык является комплексным процессом означения, а не монолитной системой. Изучая поэзию, пишет она, лингвистам следует изменить свое видение языка и двигаться дальше, «допуская, что процесс означения не ограничивается языковой системой, но существует также речь, дискурс и внутри них — причинность нелингвистическая: гетерогенная деструктивная причинность» (27).
Половые различия в использовании языка
Возвращаясь к целям англо-американской феминистской лингвистики, сформулированным выше, сосредоточимся вначале на «половых различиях и сходствах в использовании языка, в речевой и невербальной коммуникации». Не требуется слишком углубляться в теорию, чтобы понять, что изыскания такого рода быстро заводят в тупик. Крамер, Торн и Хенли мрачно констатируют: «Удивительно, сколь немногие из ожидаемых половых различий были твердо установлены эмпирическими исследованиями реальной речи» (640). Еще большее замешательство, продолжают они, вызвал следующий факт: «было показано, что сходная речь женщин и мужчин воспринимается и оценивается по-разному (например, как проявление «гнева» у мальчиков и «страха» у девочек)» (640-1). Торн и Хенли подчеркивают этот момент в другом контексте: «Одним словом, значение жестов меняется в зависимости от того, используют их женщины или мужчины; независимо от того, что делают женщины, их поведение может истолковываться как символизирующее более низкий статус» (28). Крамер, Торн и Хенли также заключают, что «ряд данных относительно того, кто кого прерывает в речевом общении, показывают, что различия во власти и статусе более заметны, чем тендерные различия как таковые» (641). Если добавить к этим затруднениям наблюдение Хелен Петри (Helen Petrie), что в ее исследовании тема выглядит более важным фактором в порождении речевых различий, чем пол, мы вправе задать вопрос о базовой предпосылке различия в проектах такого типа.
Похоже, что поиски полового различия в языке не только невозможны теоретически, — они являются политической ошибкой. Понятие различия вызывает теоретические затруднения, поскольку оно указывает более на отсутствие или разрыв, чем на какой-либо означивающий процесс. Различие, согласно Жаку Деррида, не является понятием. Можно сказать, что различия всегда уводят нас куда-то, вовлекают в бесконечно разветвляющуюся цепь смещения и откладывания значения. Следовательно, принципиально полагая различие разрывом между двумя частями бинарной оппозиции (как, например, между мужественностью и женственностью), мы произвольно навязываем замкнутость разностному, дифференциальному полю значения.
Именно это по большей части проделывается в исследованиях половых различий в языке. И последствия подобного подхода теоретически предсказуемы: мужественность и женственность постулируются как стабильные, неизменные сущности, значимые явленное™ — присутствия, между которыми якобы и располагается неуловимое различие. Я не хочу сказать, что исследователи верят в биологическую сущность мужского и женского; наоборот, зачастую они работают с антропологической теорией женщин как «группы, лишенной слова» («muted group») [7], в которой предполагается, что в общественных отношениях власти иное отношение подчиненной группы к языку обусловлено ее иным общественным опытом. Однако это не спасает теорию от обретения черт угнетения: поскольку «женщины» конституированы как постоянно и неизменно подчиненные, а «мужчины» — как безоговорочно обладающие властью, языковые структуры этих групп воспринимаются как жесткие и неизменные. Посему исследователи, работающие в этой области, считают себя обязанными неустанно обнаруживать способы, благодаря которым язык препятствует женским лингвистическим проектам. Ничто не свидетельствует в пользу их научной честности более, чем прямота, с которой они без энтузиазма сообщают об отсутствии такого подтверждения их гипотез. В политическом плане подобное представление о мужском и женском как о неоспариваемых сущностях всегда представляет для феминисток опасность: если бы половое различие в языке и обнаружилось, оно всегда может (и будет) использоваться против нас, в основном для доказательства того, что та или иная неприятная деятельность «от природы свойственна» женщинам и чужеродна мужчинам. Бинарная модель различия, замкнутого или пойманного между двумя противоположными полюсами мужественности и женственности, не позволяет нам увидеть то, что избегает этого жесткого структурирования.
Кристевская теория языка как гетерогенного означивающего процесса, локализованного в говорящих субъектах и между ними, предлагает другой подход: изучение конкретных лингвистических стратегий в конкретных ситуациях. Но исследования такого типа не позволяют нам обобщить полученные данные. Фактически они приводят нас скорее к изучению языка как отдельно взятых дискурсов, а не как универсального langue. Последовав примеру Кристевой и обратившись к советскому лингвисту Волошинову и его книге «Марксизм и философия языка», впервые опубликованной в 1929 году8, мы можем обнаружить некоторые указания на последствия такого подхода. Чтобы сосредоточиться на дискурсе, лингвисты должны переступить доселе священную границу предложения. Более пятидесяти лет назад Волошинов выдвинул обоснованную критику в адрес структуралистской или системно-ориентированной лингвистики, которую он назвал «абстрактным объективизмом»:
«Лингвистическое мышление не идет дальше рассмотрения элементов монологического высказывания. Построение сложного предложения (периода) — вот максимум лингвистического охвата. Построение же целого высказывания лингвистика предоставляет ведению других дисциплин — риторике и поэтике. У лингвистики нет подхода к формам композиции целого. Поэтому-то между лингвистическими формами элементов высказывания и формами его целого нет непрерывного перехода и вообще нет никакой связи. Из синтаксиса мы только путем скачка попадаем в вопросы композиции». (78-9/86)
Другими словами, Волошинов и Кристева стремятся разрушить — деконструировать — старые дисциплинарные барьеры между лингвистикой, риторикой и поэтикой, чтобы сконструировать исследовательское поле нового типа: семиотику или теорию текста.
Если, как полагает Волошинов, всякое значение контекстуально, жизненно важным становится изучение контекста каждого высказывания. Отсюда, однако, не следует, что «контекст» следует понимать как унитарный феномен, изолированный и определенный раз и навсегда. Размышления Жака Деррида в работе Eperons («Шпоры) демонстрируют, что текст можно считать обладающим любым количеством контекстов. Приписывание тексту определенного контекста не закрывает и не фиксирует раз и навсегда значение этого текста: всегда существует возможность вписать текст заново в другие контексты [9], возможность в принципе безграничная, структурно свойственная всякому языковому произведению. Пока мы занимаемся исследованием половых различий в языке, никакой анализ изолированных фрагментов (предложений) в литературе, такой, как, скажем, широко известная теория «женского предложения», выдвинутая Вирджинией Вулф, не гарантирует нам достижения каких бы то ни было определенных выводов, поскольку те же самые структуры можно обнаружить у писателей-мужчин (у Пруста, например, или других модернистов). Единственный способ получить интересные результаты, изучая такие тексты, — это рассматривать целое высказывание (целый текст) как единый объект, то есть изучать его идеологические, политические и психоаналитические артикуляции, его соотнесенность с обществом, психикой и — не в последнюю очередь — с другими текстами. Ведь Кристева пустила в обиход понятие интертекстуальности для того, чтобы показать, как одна или несколько знаковых систем транспонируются в другие. Леон Рудье (Leon Roudiez) пишет, что «всякая означающая практика является полем (то есть пространством, пересекаемым силовыми линиями), в котором различные означающие системы подвергаются такой транспозиции» (15). Кристева подразумевала это (среди прочего), когда подчеркивала необходимость «выбора поэтического языка в качестве объекта внимания лингвистики» («Этика лингвистики», 25) и далее поясняла:
«Мы считаем, что язык, и таким образом возможность коммуникации вообще, определяется границами, допускающими переворот, растворение и преобразование. Помещая свой дискурс возле таких границ, мы надеемся придать ему подлинное этическое воздействие. Итак, об этике лингвистического поиска можно судить соразмерно поэзии, им предполагаемой». (25)
Сексизм в языке
Если теперь мы перейдем ко второй основной категории англо-американских феминистских лингвистических исследований, — изучению сексизма в языке, станет очевидно, что мы столкнемся со многими из допущений, принятых в изучении половых различий. Черис Крамаре (Cheris Kramarae) определяет сексизм в языке (слово «язык» тут, по-видимому, означает английский язык) как особенность «структурной организации английского лексикона, приводящую к восхвалению мужского (maleness) и небрежению женским (femaleness), его банализации и принижению» (42). В своей книге Man Made Language («Язык, созданный мужчиной») Дейл Спендер (Dale Spender) пишет:
«Английский язык в буквальном создан мужчиной (man made) и... все еще остается главным образом под мужским контролем... Эта монополия над языком — один из способов, которым мужчины обеспечивают свое превосходство и, следовательно, невидимость или «другую» природу женщин, и это превосходство сохраняется, пока женщины продолжают использовать, в неизменном виде, унаследованный нами язык». (12)
Совершенно очевидно, что проект такого типа заинтересован в языке как системе или структуре, и потому подпадает под кристевскую классификацию потенциально авторитарной лингвистики. Это не «сугубо» теоретический момент: допустив, что проект обнаружения сексизма в языке жизнеспособен (ведь, как мы увидим, даже Кристева признает, что язык так- же некоторым образом структурирован), мы все равно немедленно обнаруживаем определенные проблемы. Если мы вслед за Волошиновым и Кристевой считаем, что всякое значение контекстуально [обусловлено], получается, что отдельные слова или общие синтаксические структуры не обладают никаким значением, пока мы не обеспечим им контекст. Как же тогда возможно определить их как сами по себе сексистские или не сексистские? (Конечно, подобный особый, идеологически значимый контекст представляет собой словарь.) В том случае, если (как показывают Торн и Хенли) сходная речь мужчин и женщин интерпретируется, как правило, по-разному, безусловно, нет ничего свойственного любому данному слову или данной фразе, что могло бы всегда и во все времена определяться как сексистская черта. Подобная заговорщическая теория языка, «созданного мужчиной», или мужского заговора против женщин, постулирует в языке причину (мужской заговор), некое нелингвистическое трансцендентальное означающее, которому нельзя дать никакого теоретического основания. Поэтому я попытаюсь предложить альтернативное объяснение хорошо задокументированным примерам сексизма в языке.
Вопрос о сексизме — это вопрос о властных отношениях между полами, и эта борьба за власть, безусловно, является частью контекста всех высказываний при патриархате. Однако из этого не следует, что в любом и каждом конкретном случае говорящая женщина оказывается подчиненной стороной. Как писала Мишель Барретт, «анализ тендерной идеологии, в котором женщины всегда невинны, всегда лишь пассивные жертвы патриархатной власти, откровенно неудовлетворителен» (Women's Oppression Today, 110). Если теперь мы обратимся к анализу особенностей взаимосвязи классовой борьбы и языка, предложенному Волошиновым, то увидим, как такой анализ может быть использован в феминистских целях. «Класс, — пишет Волошинов,
— не совпадает со знаковым коллективом, т.е. с коллективом, употребляющим одни и те же знаки идеологического общения. Так, одним и тем же языком пользуются разные классы. Вследствие этого в каждом идеологическом знаке скрещиваются разнонаправленные акценты. Знак становится ареной классовой борьбы». (23/28)
Это решающее соображение для неэссенциалистского феминистского анализа языка. Иными словами, мы все используем один и тот же язык, но преследуем разные интересы. А под интересами здесь следует понимать скрещивающиеся в знаке политические и властные интересы. Значение знака оставлено открытым — знак становится «полисемичным», а не «однозначным» — и хотя справедливо, что господствующая властная группа в каждый произвольно взятый момент контролирует интертекстуальное производство значения, из этого не следует, что ее оппозиция вынуждена сохранять полное молчание. Борьба за власть происходит в каждом знаке.
Идея Кристевой о производительности (productivity) знака объясняет и существование самого феминистского дискурса, который окажется невозможным, если мы будем прямо следовать модели Дейл Спендер. Если язык производителен (в противоположность чистому отражению общественных отношений), это объясняет, как мы можем извлекать из него больше, чем вкладываем. В более практической формулировке это означает, что можно без всякой задней мысли признать данные всех эмпирических исследований, демонстрирующие господство сексизма в английском языке (возможно, и в других языках тоже). Однако этот факт никак не соотносится с внутренней структурой языка, не говоря уже о сознательном заговоре. Он является результатом господствующих отношений власти между полами. Феминистки добились немалых успехов, и потому многие люди не спешат говорить в случаях обобщения «он» или «человек» («man»), сомневаются в правомерности таких слов, как «председатель» («chairman») и «представитель» («spokesman»), и считают такие слова, как «ведьма» («witch») и «стерва» («shrew»), — положительными характеристиками. И этот факт убедительно доказывает, что нет никакой внутренней сексистскои сущности в английском языке, поскольку его вполне можно использовать в феминистских целях, если за это бороться. Предположим, что мы победили в борьбе против патриархата и сексизма — знак все равно будет оставаться ее ареной, а также ареной других видов борьбы, но баланс власти сместится, и контекст наших высказываний радикально изменится. Исследования сексизма в языке открывают прошлое и настоящее социальных и властных отношений между полами.
Особым доводом в рамках изучения сексизма в языке является вопрос об именовании. Феминистки убедительно показали, что «те, кто обладают властью именовать мир, способны воздействовать на реальность» (Kramarae, 165). У женщин этой власти недостаточно, и вследствие этого многие виды женского опыта остаются безымянными. На одном таком примере останавливается Черис Крамаре:
«На семинаре женщины обсуждали типы общего для них опыта, для которого нет обозначений, ярлыков, и составили списки тех вещей, отношений и переживаний, для которых этих ярлыков не существует. Например, одна из них рассказала о типичной ситуации из ее жизни, нуждающейся в ярлыке. Она и ее муж оба работают полный рабочий день и обычно возвращаются домой примерно в одно и то же время. Она бы хотела, чтобы он разделял с ней обязанность по приготовлению ужина, но обязанность эта всегда ложится на нее. Время от времени он говорит: «Я бы с удовольствием приготовил ужин, ноты это делаешь гораздо лучше меня». Ей приятно получать комплименты, однако, каждый раз обнаруживая себя на кухне, она понимает, что он использует вербальную стратегию, для обозначения которой у нее нет нужного слова, и потому ей трудно эту стратегию определить и довести до его сознания. Как она сказала на семинаре, «мне пришлось рассказать вам полностью всю историю, чтобы объяснить, как он использует лесть для того, чтобы удерживать меня на отведенном женщине месте». Она сказала, что ей необходимо слово, чтобы определить эту стратегию или человека, использующего эту стратегию, слово, которое бы одинаково хорошо понимали и женщины, и мужчины. Как только бы он прибегал к данной стратегии, она бы могла выразить свои чувства, повернувшись к нему и сказав: «Ты — ...», или «То, что ты делаешь, называется. ..» (7-8)
Мне кажется, эта женщина и без «ярлыка» прекрасно справилась с рассказом о том, что происходит в ее браке, а ее желание получить в свое распоряжение «ярлык» основано на стремлении зафиксировать значение и использовать его закрытость как средство агрессии: как веское заявление, на которое нечего ответить. Безусловно, ответный удар угнетателю — действие справедливое, хотя можно задаться вопросом о том, насколько далеко допустимо зайти, используя его же оружие. Определения, несомненно, могут быть конструктивными. Но — и этот момент подобная аргументация упускает из виду — они могут также стать обузой. Как мы видели, многие французские феминистки отвергают ярлыки и именования, особенно всяческие «измы» — даже «феминизм» и «сексизм», — поскольку считают такое навешивание ярлыков предательской уступкой фаллого- центрической тяге к стабилизации, организации и рационализации нашей понятийной вселенной. Они доказывают, что мужская рациональность всегда отдавала предпочтение разуму, порядку, единству и ясности и что делалось это путем замалчивания и исключения иррациональности, хаоса и фрагментации, которые и стали представлять женственность. На мой взгляд, такие понятийные термины имеют решающее политическое значение и при этом обладают метафизической природой; необходимо одновременно деконструировать оппозицию традиционно «мужских» и традиционно «женских» ценностей и противостоять всей политической силе и реальности подобных категорий. Мы должны стремиться к обществу, в котором перестанем относить логику, концептуальное представление и рациональность к категории «мужского», а не к тому, из которого эти достоинства будут исключены как «неженские».
Но давать имена — это не только акт власти, реализация ницшеанской «воли к знанию»; это действие разоблачает желание упорядочения и организации реальности согласно четко определенным категориям. Иногда это становится ценной контрстратегией в руках феминисток, но все же нам надо внимательно относиться к одержимости существительными. Вопреки убеждению блаженного Августина, язык не сконструирован главным образом как ряд имен или существительных, и мы не учимся говорить так, как виделось ему: «Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую-нибудь вещь и по этому слову оборачивались к ней; я видел это и запоминал: прозвучавшим словом называется именно эта вещь» [10]. Как парирует Витгенштейн: «В каждом случае указательное определение может быть истолковано и так, и эдак» (§ 28). Стремление зафиксировать значение всегда отчасти обречено на неудачу, поскольку природа значения такова, что оно всегда уже где- то в другом месте. Как говорит Бертольд Брехт в Mann ist Mann [«Что тот солдат, что этот» / «Человек как человек»], «когда вы называете себя, вы всегда называете кого-то другого». Я не хочу сказать, что мы могли бы или должны избегать именования — лишь только то, что дело это более скользкое, чем кажется, и нам следует учитывать риск фетишизации. Даже по хваленому термину «сексизм» видно, как его сотрясает борьба за власть между полами, что мог бы предсказать Волошинов: сегодня некоторые мужчины милостиво кивают, услышав это слово, и соглашаются с тем, что сексизм заслуживает ненависти и презрения, лишь для того, чтобы позже добавить: «Я не сексист, я просто рассуждаю рационально». Сексизм стал тем, что относится к другим, менее просвещенным мужчинам. Иными словами, ярлыки для бдительной феминистки — вовсе не тихая заводь, место отдохновения; вспомним, как спрашивала Гаятри Спивак, кого из двух нам следует предпочесть: типичного партизана-мачо из джунглей Сальвадора или вице- президента компании «Стандарт Ойл», которого научили говорить «он или она»?
Язык, женственность, революция
Обретение языка
Мы видели, как в семиотике Кристевой маргинальное и гетерогенное становятся средствами расшатывания центральных структур традиционной лингвистики. Чтобы показать, как Кристевой удается постулировать одновременно структурированность и гетерогенность, разнородность языка, и почему это предполагает акцент на языке как дискурсе говорящего субъекта, необходимо познакомиться с теорией обретения языка, которая изложена в ее монументальной докторской диссертации La Revolution du langage poetique [«Революция в поэтическом языке»], увидевшей свет в Париже в 1974 году. Филип Льюис (Philip E. Lewis) отмечает, что вся работа Кристевой до 1974 года пронизана стремлением определить или постичь то, что она называет proces de signifiance, или «означивающий процесс» / «процесс означения» (Lewis, 30). Приступая к этой проблеме, она смещает Лаканово различение Воображаемого и Символического Порядка в различение семиотического и символического [11]. Взаимодействие между двумя этими элементами и составляет означивающий процесс.
Семиотическое связано с доэдипальными первичными процессами, фундаментальные пульсации которых Кристева считает преимущественно анальными и оральными, и в то же время дихотомичными (жизнь / смерть, исторжение / интроекция) и гетерогенными. Бесконечный поток пульсаций собирает в себе хора (греческое слово, обозначающее огражденное пространство, матку), которую Платон в «Тимее» определяет как «незримый, бесформенный и всевосприемлющий вид [эйдос], чрезвычайно странным путем участвующий в мыслимом и до крайности неуловимый» (Roudiez, 6). Кристева присваивает и переопределяет понятие Платона и приходит к выводу, что хора не является ни знаком, ни положением, но «целиком промежуточной артикуляцией, по своей сути подвижной и составленной из движений и их мимолетных стадий... Ни образец, ни копия, она предшествует и дает основание фигурации и потому также спекуляризации и допускает аналогию только с вокальным или кинетическим ритмом» (Revolution, 24) [12].
Согласно Кристевой, signifiance — вопрос позиционирования. Чтобы произошло означивание, необходимо расщепить семиотический континиум. Это расщепление (coupure) семиотической хоры составляет тетическую фазу (от слова thesis [«установление»]), позволяющую субъекту соотнести различия и таким образом означивание с непрерывной гетерогенностью хоры. Вслед за Лаканом Кристева считает стадию зеркала тем первым шагом, который «открывает путь конституированию всех объектов, которые отныне будут обособлены от хоры» (Revolution, 24), а эдипову фазу с присущей ей угрозой кастрации — тем моментом, когда полностью завершается процесс расщепления или отделения. Как только субъект вступает в Символический Порядок, хора будет более или менее успешно вытесняться и восприниматься только как пульсирующее давление на символический язык: как противоречия, бессмыслица, распад, паузы и пробелы в символическом языке. Хора — это не новый язык, а ритмическая пульсация. Иными словами, она составляет гетерогенное, разрушительное измерение языка, то, что никогда не будет поймано в ловушку традиционной лингвистической теории.
Кристева отчетливо осознает противоречия, связанные с попытками создать теорию хоры, в принципе не подлежащей теоретизации, противоречие, располагающееся в центре всего семиотического проекта. Она пишет:
«Семиотика, будучи (вследствие своей объяснительной металингвистической силы) агентом социальной связности, участвует в формировании того убеждающего образа, который представляет сам социум, все понимающий, вплоть до практик (и включая их), которые намеренно его исчерпывают». («System», 53)
Кристева доказывает, что семиотика должна заменить лингвистику, она убеждена: несмотря на то, что эта новая наука уже поймана в множественные ветвящиеся системы конфликтующих идеологий, она все же способна расшатать эти рамки:
«Семанализ ведет семиотический поиск... он ставит себя на службу социальному закону, требующему систематизации, коммуникации, обмена. Но если ему и приходится это делать, он неизбежно должен выполнить еще одно, новейшее требование — то, что нейтрализует фантом «чистой науки»: субъект семиотического языка должен, пусть на миг, подвергать сомнению себя самого, выходить из защитной оболочки трансцендентального эго в системе логики и тем самым восстанавливать свое положение в той негативности — управляемой влечениями, но также социальной, политической и исторической, — которая раскалывает и обновляет социальный код». («System», 54-5)
Здесь в лингвистической теории Кристевой уже можно различить тему революции. Однако прежде, чем мы приблизимся к этому вопросу, следует подробней рассмотреть ее взгляды на взаимосвязь между языком и женственностью.
Женственность как маргинальность
Кристева категорически отказывается давать определение «женщины»: «Верить в то, что кто-то «является женщиной» — почти такой же абсурд и обскурантизм, как верить в то, что кто- то "является мужчиной"», — говорит она в интервью с женщинами из группы «Психоанализ и политика», опубликованном в 1974 году («La femme», 20). Хотя политическая реальность (тот факт, что патриархат дает женщинам определение и соответственно их угнетает) все же обусловливает необходимость проведения кампаний от лица женщин, важно признать, что в этой борьбе женщина не может быть: она может существовать только негативно, в своем отказе от данности: «Поэтому «женщина» для меня, — продолжает она, — это то, что не может быть репрезентировано, то, что не произносится, то, что остается вне именования и идеологий» («La femme», 21). Хотя это напоминает образ женщины у Иригарэ, Кристева, в отличие от Иригарэ, воспринимает свое «определение» как только лишь соотносительное и стратегическое. Это попытка выявить негативность и отказ, относящиеся к маргинальному в «женщине», чтобы расшатать фаллоцентрический порядок, определяющий женщину в первую очередь как маргинала. Таким образом, этика ниспровержения и подрыва, наполняющая лингвистическую теорию Кристевой, перетекает также и в ее феминизм. Глубокое недоверие к идентичности («Что может значить «идентичность», и даже «половая идентичность» в новом теоретическом и научном пространстве, где оспаривается само понятие идентичности?» [«Woman's time», 34]) [13]. приводит ее к отторжению всякой идеи об ecriture feminine или parler femme, внутренне присущих женскому как в социальном, так и в биологическом смысле [feminine or female]: «На мой взгляд, ничто в женских публикациях настоящего или прошлого времени не позволяет нам утверждать, что женское письмо (ecriture feminine) существует», — говорит она в интервью, опубликованном в 1977 году («A partir de», 496). Кристева допускает, что в женском творчестве можно выделять различные устойчивые виды стилистики и тематических особенностей; но невозможно сказать, следует ли эти характеристики приписывать «истинному женскому своеобразию, социокультурной маргинальности или, еще проще, определенной структуре (например, истерической), которую современный рынок предпочитает и выбирает из всего спектра женского потенциала» («A partir de», 496). В некотором смысле у Кристевой нет теории «женственности» («femininity») или тем более «женской природы» («female- ness»). Зато есть теория маргинальности, подрыва и диссидентства [14]. Поскольку женщины определяются патриархатом как маргиналки, их борьба может быть теоретически осмыслена таким же образом, как любая другая борьба против централизованной властной структуры. Поэтому Кристева пользуется одними и теми же терминами для описания интеллектуалов-диссидентов, некоторых писателей-авангардистов и рабочего класса:
«Пока оно не проанализировало своего отношения к инстанциям власти и не разуверилось в собственной идентичности, всякое освободительное движение (включая феминизм) может быть нейтрализовано этой властью или духовностью, секуляризованной или открыто религиозной. Решение? <...> Кто знает? В любом случае оно пройдет через то, что репрессировано в дискурсе и производственных отношениях. Назовем мы [субъект движения] «женщиной» или «угнетенными общественными классами», это одна и та же борьба, и в ней невозможно отделить один [тип субъектов] от другого». («La femme», 21)
Сильная сторона этого подхода заключается в его бескомпромиссном антиэссенциализме; его принципиальная слабость — в несколько поверхностном объединении довольно различных типов борьбы; эту проблему мы обсудим в последнем разделе данной главы.
Антиэссенциалистский подход переносится и на ее теоре- тизацию полового различия. Как мы видели, ее теория выстраивания субъекта и означивающего процесса в основном сосредоточена на развитии в доэдипальной фазе, где различия полов не существует (хора — доэдипальный феномен). Вопрос различия становится актуальным только в момент вхождения в символический порядок; значение этой ситуации для девочки Кристева обсуждает в своей книге Des Chinoises (переведена на английский под названием About Chinese Women [«О китаянках»]), опубликованной во Франции в том же году, что и La Revolution du langage poetique. Поскольку семиотическая хора доэдипальна, говорит Кристева, она связана с матерью, тогда как в символическом, как мы знаем, господствует Закон Отца. Сталкиваясь с этой ситуацией, девочка должна сделать выбор: «либо она отождествляет себя с матерью, либо поднимается до символической высоты отца. В первом случае доэдипальные фазы (оральный и анальный эротизм) укрепляются» (Chinese, 28). Если же, с другой стороны, девочка отождествится с отцом, «полученный доступ к символическому господству подвергнет цензуре доэдипальную фазу и уничтожит последние следы ее зависимости от тела матери» (29).
Таким образом, Кристева обрисовывает две различные возможности для женщины: отождествление с матерью, которое укрепит доэдипальные компоненты ее психики и превратит ее в маргинала по отношению к символическому порядку; или отождествление с отцом, которое создаст женщину, выводящую свою идентичность из того же символического порядка. Из этого следует, что Кристева не определяет женственность как доэдипальную и революционную сущность. Согласно Кристевой, все обстоит совсем не так: женственность является результатом прохождения ряда альтернатив, которые стоят также и перед мальчиком. Именно поэтому в начале «Китаянок» она произносит формулу, в истинности которой убеждена: «женщины как таковой не существует» (16).
Таким образом, выдвигаемое марксистско-феминистским литературным коллективом (30), Беверли Браун (Beverly Brown) и Парвин Адамс (Parveen Adams) заявление, что Кристева соотносит семиотическое с женственностью, основано на заблуждении. Текучая подвижность семиотического действительно соотносится с доэдипальной фазой, и поэтому с доэдипальной матерью, но Кристева ясно показывает, что, так же как Фрейд и Кляйн, она считает доэдипальную мать фигурой, охватывающей как женственность, так и мужественность. Эта фантазматическая фигура столь же важна для младенца-мальчика, как и для младенца-девочки, и ее невозможно, как хорошо понимают Браун и Адамс (40), свести к образцу «женственности» по той простой причине, что в доэдипальной фазе не существует оппозиции женского и мужского. И Кристева прекрасно знает это. Всякое усиление семиотического, не знающего различия полов, должно, таким образом, приводить к ослаблению традиционных тендерных разделений, а вовсе не к укреплению традиционных представлений о «женственности». Именно поэтому Кристева так настаивает на необходимости отказа от всякой теории или политики, основанной на вере в какую-либо абсолютную форму идентичности. Однако женственность и семиотическое действительно обладают одной общей чертой: маргинальностью. Женское определяется как маргинальное при патриархате, и точно так же семиотическое маргинально в языке. Вот почему две эти категории, вместе с другими формами «диссидентства», теоретически осмысляются Кристевой приблизительно в одном ключе.
Таким образом, едва ли можно полагать, что Кристева придерживается эссенциалистского или даже биологизаторского представления о женственности [15]. Так же как и Фрейд, она убеждена в том, что тело формирует материальную основу становления субъекта. Но, как показал Жан Лапланш (Jean Laplanche), это ни в коей мере не подразумевает упрощенческого уравнивания желания с телесными нуждами. Согласно Лапланшу, «оральные» и «анальные» влечения являются «оральными» и «анальными» потому, что возникают как побочный результат удовлетворения сугубо телесных нужд, связанных со ртом и анусом, хотя никоим образом не сводятся к этим нуждам и им не тождественны.
Если вообще существует определение «женственности» в терминах Кристевой, оно оказывается чрезвычайно простым: это то, что «маргинализовано патриархатным символическим порядком». Такое соотносительное «определение» столь же подвижно, сколь переменчивы различные формы самого патриархата, и позволяет ей доказывать, что мужчины также могут конструироваться символическим порядком как маргиналы. Это и демонстрирует ее анализ, посвященный писателям-авангардистам, мужчинам: Джойсу, Селину, Арто, Малларме, Лотреамону. Например, в La Revolution du langage poetique она говорит о том, что — среди прочих — Арго подчеркивает текучесть половой идентификации писателя, когда утверждает, что ««автор» становится своим «отцом», «матерью» и «самим собой» одновременно» (606).
Акцент Кристевой на женственности как патриархатном конструкте позволяет феминисткам отражать все формы биологизаторских атак со стороны защитников фаллоцентризма. Полагать всех женщин непременно женственными (feminine), а мужчин непременно мужественными (masculine) — ход, позволяющий патриархатной власти в разных ее видах определять не женственность, но всех женщин как маргинальное явление в символическом порядке и в обществе. Если, согласно Сиксу и Иригарэ женственность определена как нехватка, негативность, отсутствие смысла, иррациональность, хаос, тьма — то есть как не-Бытие, — акцент Кристевой на маргинальности дает нам возможность рассматривать женское в терминах позиций, а не сущностей. Что будет восприниматься маргинальным в каждый конкретный момент, зависит от позиции, которую занимает наблюдатель. Проиллюстрируем этот сдвиг от сущности к позиции на небольшом примере: если патриархат видит женщин занимающими маргинальное положение в символическом порядке, он может конструировать их как предел или границу этого порядка. Тогда с фаллоцентрической точки зрения женщины будут представлять собой необходимый рубеж между мужчиной и хаосом; но вследствие самой их маргинальности всегда будет казаться, что они погружаются в окружающий хаос, сливаются с ним. Иными словами, женщины, увиденные как предел символического порядка, будут обладать обескураживающими свойствами всех границ: они окажутся ни внутри, ни снаружи, ни изведанным, ни неизведанным. Именно это положение женщин позволяет мужской культуре то чернить их как олицетворение тьмы и хаоса, видеть в них Лилит и блудницу вавилонскую, то превозносить их как олицетворение высшей и чистейшей природы, чтить в них Деву и Богородицу. В первом случае граница видится как часть дикого хаоса извне, а во втором — как неотъемлемая часть того, что расположено внутри: та часть, что защищает и охраняет символический порядок от воображаемого хаоса. Излишне говорить, что ни одна из этих позиций не соответствует какой- либо истинной сущности женщины, как бы ни хотелось патриархатной власти в разных ее проявлениях, чтобы мы в это уверовали.
Феминизм, марксизм, анархизм
Невозможно утверждать, что творчество Кристевой носит в первую очередь феминистский характер: оно не обладает даже последовательной политической направленностью. Кристева начала свою карьеру в 1960-х как лингвист, а на темы, касающиеся женщин и феминизма, стала писать только в 1974 году, примерно в то же время, что и обучаться психоанализу. С конца 1970-х в своем творчестве она проявляет все больше интереса к психоаналитическим вопросам, часто обращаясь к проблемам сексуальности, женственности и любви. Феминистки сочтут весьма ценным, например, ее подход к теме материнства. Уже в La Revolution du langage poetique она писала, что в патриархатном обществе репрессируется не женщина как таковая, но материнство (453). Проблема заключается не в одном лишь женском jouissance, как утверждал Лакан в Encore, но в неизбежной взаимосвязи между производством потомства и jouissance:
«Если позиция женщины в социальном коде сегодня является проблемой, то заключается она отнюдь не в загадочном вопросе о женском jouissance... а глубоко коренится, социально и символически, в вопросе о производстве потомства и jouissance, что артикулируется в этом отношении». (Revolution, 462)
Такой подход открывает интересное исследовательское поле для феминисток, и сама Кристева предложила несколько примеров захватывающего анализа репрезентации материнства в западной культуре, воплощенного, в частности, в фигуре Мадонны («Herethique de l'amour»), и в западном изобразительном искусстве («Материнство согласно Джованни Беллини»). Ее увлечение фигурой Мадонны немало способствует изучению в La Revolution du langage poetique роли женщины в символическом порядке с помощью идеологического и психоаналитического анализа того, что также является материальной базой угнетения женщин: материнства. Также и недавние ее работы, такие, как Pouvoirs de l'horreur (1980, на английском вышла под названием Powers of Horror [«Силы ужаса»] в 1982) и Histoires d'amour («Истории любви», 1983) могут с немалым успехом использоваться феминистками.
Не секрет, что приверженность Кристевой марксизму на ранних этапах ее исследований, отмеченная различными маоистскими и анархистскими влияниями, уступила место скептицизму в отношении политического участия. Отвергнув в конце 1970-х свою раннюю идеализацию маоистского Китая, Кристева внезапно обнаружила странную очарованность возможностями реализации свободы в условиях позднего капитализма американского образца [16]. Ее высокомерное безразличие к неприглядной стороне американского капитализма вызвало оправданное недоумение у подавляющего большинства ее читателей, придерживающихся левых взглядов. Их смятение усилилось, когда Кристева широким жестом отмела политику в сторону как новую ортодоксию, которую настало время игнорировать. «Мне неинтересны группы. Мне интересны индивидуумы», — заявила она в ходе недавней дискуссии в Лондоне. Следуя собственной теории, она объясняет такой уход от политики своими частными обстоятельствами: «Это момент личной истории. Я полагаю, все находящие здесь люди по-разному воспринимают политическую актуальность, ведь у всех разные истории» (ICA, 24-5). Это удаление от марксизма и феминизма не так удивительно, как может показаться на первый взгляд. Уже в ранних марксистских и феминистских работах Кристевой, с их акцентом на маргинальном, обнаруживаются отчетливые анархистские тенденции, а преодолеть разрыв между поборничеством свободы и откровенным либеральным индивидуализмом никогда не составляло большого труда. Ниже я вкратце рассмотрю позиции Кристевой, с тем чтобы показать, как многие из наиболее ценных ее идей опираются на чрезвычайно спорную политику субъективизма.
Даже в своих ранних, наиболее феминистских работах Кристева не стремилась говорить от лица «женского». Для нее «говорить как женщина» в любом случае не более чем бессмыслица, поскольку, как мы знаем, она доказывает, что «женщины как таковой не существует». Она рекомендует не подчеркивать исключительно тендер говорящего, но анализировать все множество дискурсов (включая сексуальность и тендер), совместно конструирующих индивида:
«Именно здесь, в анализе ее сложного отношения к матери и к своему собственному отличию от всех остальных, мужчин и женщин, женщина сталкивается с загадкой «женского» [«feminine»]. Мне импонирует такое понимание женственности, в котором видов «женского» [«feminines»] столько же, сколько и женщин». («A partir de», 499)
Таким образом, на первый план выдвигается своеобразие отдельных субъектов в противовес общей теории женственности и даже политического участия. Развившийся позднее индивидуализм Кристевой (неприятие «групп») в этих ее высказываниях звучит уже вполне явственно.
Многие женщины порицают Кристеву за гиперинтеллектуальный стиль ее рассуждений на том основании, что она, как женщина и как феминистка, проводящая критику всех систем власти, не должна подавать себя в качестве еще одного «великого мыслителя» [17]. С одной стороны, это обвинение выглядит несколько несправедливым: то, что кажется маргинальным с одной позиции, может выглядеть гнетуще центральным с другой {абсолютная маргинальность недостижима), и логически невозможно стремиться к подрыву господствующих интеллектуальных дискурсов (как это делает Кристева) и при этом оставаться защищенным от обвинений в интеллектуализме. Однако, с другой стороны, Кристева, университетский профессор-лингвист и практикующий психоаналитик, несомненно, помещает себя в самый центр традиционных интеллектуальных властных структур Левого Берега.
Если кристевский субъект всегда включен в символический порядок, как может быть разрушена подобная неумолимо авторитарная, фаллоцентрическая структура? Этого, безусловно, невозможно достичь путем прямолинейного неприятия символического порядка, поскольку подобная полная неспособность войти в сферу человеческих отношений, в терминах Лакана, превратила бы нас в психотиков. Мы вынуждены принять свою позицию включенности в предшествующий нам порядок, избежать который невозможно. Не существует другого пространства, откуда мы могли бы говорить: если мы вообще способны говорить, то вынуждены делать это только в рамках символического языка.
Революционный субъект, какой бы ни была его тендерная идентичность, мужской или женской, допускает разрушительное вмешательство jouissance семиотической подвижности в жесткий символический порядок. Примеры «революционной» деятельности этого типа обнаруживаются главным образом в творчестве поэтов-авангардистов конца девятнадцатого века, таких, как Лотреамон и Малларме, или писателей-модернистов, таких, как Джойс. Поскольку семиотическое никогда не побеждает символическое, возникает вопрос, как вообще оно может себя проявлять, становиться ощутимым. Ответ Кристевой заключается в том, что семиотические пульсации могут находить свое проявление в символическом единственно через преимущественно анальное (но также и оральное) действие исторжения и неприятия. На текстовом уровне это выражается в маскирующей влечение к смерти негативности, которую Кристева считает наиболее фундаментальной семиотической пульсацией. Негативность поэта можно анализировать как серию разрывов, пропусков и пауз в символическом языке, но также ее можно прослеживать в тематике, поэта привлекающей. Одна из проблем такого рассмотрения «революционного» субъекта заключается в том, что оно обходит стороной вопрос об агенте революционного действия. Кто или что действует в подрывных схемах Кристевой? В политическом контексте ее акцент на семиотическом как бессознательной силе препятствует какому бы то ни было анализу сознательных процессов принятия решений, что должны составлять часть всякого коллективного революционного проекта. Кристева подчеркивает негативность и разорванность, не касаясь вопросов организации и солидарности, и это фактически приводит ее к анархистской и субъективистской политической позиции. Здесь я бы согласилась с Марксистско-феминистским литературным коллективом, называющим поэтику Кристевой «политически неудовлетворительной» (30). Эллон Уайт (Allon White) также полагает ее подход политически неэффективным, утверждая, что ее политика «остается чистейшей воды анархизмом в состоянии бесконечного само-распыления» (16-17).
В конечном счете Кристева оказывается неспособной описать отношения между субъектом и обществом. Хотя в иллюстративной манере она обсуждает социальный и политический контекст, окружавший поэтов, которых она изучает в La Revolution du langage poetique, остается непонятным, почему столь важно продемонстрировать, что определенные литературные практики разрушают структуры языка, если при этом они как будто ничего больше и не затрагивают. Она пытается доказать, что разорванность структуры субъекта, sujet en procus, рассматриваемая в ее тексте, служит прототипом или параллелью революционным разрывам общественной структуры. Но единственным аргументом в поддержку этой точки зрения оказывается малоубедительная процедура сравнения или указания на структурное подобие. Нам нигде не встречается специальный анализ реальных социальных или политических структур, которые обуславливали бы такие отношения подобия между субъективным и социальным.
Столь же примечательно отсутствие материалистического анализа общественных отношений в кристевской концепции «маргинальности», где все типы маргинальных и оппозиционных групп рассматриваются без учета различий между ними как угрожающие социальному порядку подрывом. Перефразируя Маркса в своей статье «Un nouveau type d'intellectuel: le dissident» («Новый тип интеллектуала: диссидент», 1977), она восклицает: «Призрак ходит по Европе: призрак диссидентства» (4), и тем самым одним взмахом отметает различия между перечисляемыми ею «диссидентскими» группами: между повстанцем (атакующим политическую власть), психоаналитиком, писателем-авангардистом и женщинами. Как всегда (в чем мы имели возможность убедиться), она уравнивает борьбу женщин с борьбой рабочего класса. Но с марксистской точки зрения эти группы фундаментально несопоставимы, поскольку занимают разные позиции по отношению к способу производства. Рабочий класс потенциально революционен потому, что он играет важнейшую роль в капиталистической экономике, а не потому, что он в ней маргинален. В этом же смысле женщины занимают центральное, а не периферийное место в процессе производства потомства. Именно потому, что правящий порядок не может поддерживать статус-кво без продолжающейся эксплуатации и угнетения этих групп, он стремится замаскировать их центральную экономическую роль, маргинализуя их на культурном, идеологическом и политическом уровнях. Парадокс позиции женщин и рабочего класса заключается в том, что они в одно и то же время помещены в центр и — (вытеснены) на обочину. Если перейти к интеллигенции (intelligentsia), будь то авангардисты или психоаналитики, их роль в условиях позднего капитализма вполне может оказаться действительно периферийной, в том смысле, что они не выполняют никакой решающей функции в экономическом порядке, подобно люмпен-пролетариату, идеализированному Брехтом в «Трехгрошовой опере». Таким образом, весьма преувеличенная уверенность Кристевой в политической значимости творческого авангарда основана именно на игнорировании различий между его политической и экономической позицией и позицией женщин или рабочего класса. Романтизация маргинала в творчестве Кристевой (также, как в ранних произведениях Брехта) — это антибуржуазная, но не обязательно антикапиталистическая форма поборничества свободы.
Выдвинутая здесь критика, направленная на политические стратегии Кристевой, не должна затмевать позитивные аспекты ее творчества. Ее приверженность тщательному теоретическому исследованию проблем маргинальности и подрыва, радикальная деконструкция идентичности субъекта, зачастую масштабное рассмотрение материального и исторического контекста изучаемых ею произведений искусства — все это открывает новые перспективы для феминистского поиска. Ее теория языка и разорванной структуры языкового субъекта (sujet en proces) позволяет нам исследовать как женское, так и мужское письмо с антигуманистской, антиэссенциалистской точки зрения. Подход Кристевой нельзя назвать исключительно или по сути своей феминистским, но он разбивает иерархическую замкнутость значения и языка и открывает их свободной игре означающего. Примененный в области теории сексуальной идентичности и различия, он становится феминистским видением общества, где означающее пола будет двигаться свободно; где факт принадлежности от рождения к мужскому или женскому полу не будет больше определять позицию субъекта по отношению к власти и где, таким образом, характер самой власти подвергнется изменению.
Однажды Жак Деррида сформулировал такой вопрос: «Что произошло бы, если бы мы приблизились... к области отношения к другому, в которой код отметин пола больше не действовал бы разделяюще?» («Choreographies», 76). Я хотела бы закончить книгу его ответом на этот вопрос, ответом, как многие утопические высказывания, одновременно туманным и побуждающим к размышлению:
«Отношение [к другому] не было бы а-сексуальным, отнюдь нет, но сексуальным по-иному: вне того бинарного различия, что управляет этикетом всех кодов, вне оппозиции мужское/женское, вне гомосексуальности и гетеросексуальности, которые приходят к одному и тому же. Пытаясь не упустить шанс, что слышен в этом вопросе, я бы хотел поверить в множественность отмеченных полом голосов. Я бы хотел поверить в массы, в неопределимое число смешивающихся голосов, в мобиль неопознаваемых сексуальных отметин, хореография которого может поддерживать, делить, умножать тело каждого «индивидуума» независимо оттого, будут ли его классифицировать как «мужчину» или «женщину» согласно критериям использования» (76).
Послесловие ПОЛИТИКА И ТЕОРИЯ, ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
От «теории литературы» к «теории»
Книга «Сексуальные/текстуальные политики» писалась с 1982 по 1984 год и была опубликована в сентябре 1985-го. В настоящем издании текст приводится без изменений. На мой взгляд, «Сексуальные/текстуальные политики» невозможно осовременить. Эта книга принадлежит определенному времени и определенному моменту, моменту «революции в теории» начала 1980-х, тому, как он ощущался в Британии. В конце 1990-х я почувствовала, что должна написать совершенно другую книгу о феминистской теории, а именно «Что такое женщина?» (1999).
Однако читатели до сих пор находят «Сексуальные/текстуальные политики» полезной книгой. Я полагаю, это объясняется тем, что в ней подняты вопросы, продолжающие оставаться актуальными для феминистской теории, поскольку либо не отпускают нашего внимания, либо стали отправными точками для понимания дальнейшего развития феминистской теории. Пока эта ситуация сохраняется, книга выполняет свою задачу. Однако характер задачи изменился. Вначале 1980-х феминистская теория все еще занимала маргинальное положение и в глазах большинства университетских ученых в Британии и Норвегии, где я жила в то время, казалась несколько подозрительной интеллектуальной деятельностью. Сегодня феминистская теория стала признанной составляющей академического знания, в частности, в Соединенных Штатах, где я живу сейчас. Изменение культурного контекста изменило сущность книги «Сексуальная/текстуальная политика»: в 1985 году она была полемическим, новаторским исследованием в области, заряженной революционным потенциалом; в 2002 году она стала учебником.
Я писала «Сексуальная/текстуальная политика», преследуя две цели. Прежде всего я хотела провести серьезный и четкий анализ того, что я полагала ключевыми моментами современной феминистской теории. Во многом я пыталась написать ту книгу, которую тщетно разыскивала, когда в муках выстраивала свою феминистскую докторскую диссертацию в конце 1970-х. Но одновременно я стремилась вступить в феминистские дискуссии, кипевшие вокруг меня, безработного доктора наук в Оксфорде. В интеллектуальном плане антиэссенциа- листская аргументация моей книги обязана формуле Симоны де Бовуар — «Женщиной не рождаются, ею становятся». Но в плане политическом книга стала откликом на бушевавшие вокруг меня в то время споры. Особо важными были два события: Фолклендская война и женский лагерь мира в Гринем-Коммон.
2 апреля 1982 года Аргентина оккупировала Фолклендские острова. Госпожа Тэтчер немедленно послала в Южную Атлантику военно-морские силы Великобритании. Британский национализм и милитаризм жаждал мести. И тогда на затопление «Бельграно», приведшее к гибели сотен людей, бульварная газета «Сан», в то время фанатично протэтчеровская, откликнулась позорным «Получите!» («Gotcha!»]2. К середине июля 1982 года война была закончена; она унесла с собой жизни 255 британцев и 652 аргентинцев. Популярность госпожи Тэтчер достигла своего апогея. Уже в конце августа 1981 года первые женщины разбили свои палатки возле Гринем-Коммон, авиационной базы, располагавшейся невдалеке от Ньюбери, менее чем в двух часах езды от Оксфорда. Они протестовали против решения НАТО разместить в Британии крылатые ракеты. Этот протест вызвал острые дебаты о женской сущности, об отношении женщин к войне и миру, об отношении мужчин к феминизму. (В 1982 году, после горячих споров, лагерь стал исключительно женским.) 12 декабря 1982 года более двадцати тысяч женщин, возможно и все тридцать тысяч, прибыли в Гринем-Коммон и взялись за руки, чтобы «заключить базу в объятия» [3].
Это дало некоторым феминисткам возможность утверждать, что лагерь в Гринем-Коммон — свидетельство того, что 207 женщины — большие сторонницы мира, чем мужчины. Но как быть с фактом очевидного удовольствия, которое получала от Фолклендской войны госпожа Тэтчер? Ведь это безусловно опровергало всякие скоропалительные выводы относительно миролюбия женщин? Нет, говорили мне, госпожа Тэтчер не считается, поскольку она не «настоящая женщина», но выстроившая свою идентичность по модели мужского [«male-identified»], т.е. «почетный мужчина». Я считала тогда и считаю сейчас, что всякая феминистская теория, пытающаяся определить некоторых женщин как «настоящих», а остальных — как «отклонения», «неженственных» и «мужеподобных», обречена на провал4. Феминизм должен признавать очевидные и явственные различия между женщинами. Эти различия основываются и на расовой принадлежности, и на сексуальной ориентации, однако к ним не сводятся. Книга «Сексуальная/текстуальная политика» основана на идее, что всякая теория, стремящаяся определить женскую сущность или женскую природу, противоречит задаче феминизма: добиться свободы и равенства для женщин.
После Гринем-Коммон многим оксфордским феминисткам казалось, что по сравнению с феминистским активизмом интеллектуальный феминизм неэффективен. Книга «Сексуальные/текстуальные политики» стала страстной попыткой убедить таких феминисток, что даже вполне абстрактные теории могут обладать политическим воздействием. Поэтому во вступительной главе этой книги («Кто боится Вирджинии Вулф?») я стремлюсь защитить теорию, показывая, что феминистки, которые полагают себя вне теории, ошибаются. Они не вне теории, заявляю я, они во власти теории, которую не могут распознать как таковую. Если мы (феминистки) станем более изощренными в теории, мы станем также более проницательными политически, будем лучше понимать последствия занимаемой нами позиции. В этой работе есть психоаналитический оттенок: я полагаю, что неосознанная приверженность тем или иным теориям гораздо труднее поддается изменению, чем та, которую мы способны высказать и о которой способны размышлять.
Таким образом, книга «Сексуальная/текстуальная политика» задумывалась не как обзор феминистской теории и критики, но как весомый аргумент в пользу теории. Однако слово «теория» употребляется в книге в двух довольно разных смыслах (в то время для меня это было далеко не очевидно). Иногда «теория» значит «теория литературы»; иногда — «феминистская, постструктуралистская и марксистская теория». В то время я полагала первое значение вполне самоочевидным. В Бергенском университете я прошла серьезный курс традиционной теории литературы. Я посещала семинары по нарратологии, новой критике, русскому и чешскому формализму, структурализму Греймаса и Женетта и герменевтике Шлейермахера и Гадамера. В конце 1970-х в Бергене изучать психоаналитическую теорию литературы значило вникать в психоаналитические толкования текстов, а не в законы развития субъективности. В том же духе на наших семинарах по марксистской теории литературы обсуждался реализм и литературная форма, а не идеология или способы производства. Поэтому в 1980 году теория литературы все еще значила для меня набор теорий об отношениях между текстом и читателем, текстом и автором, текстом и обществом.
Вместе со всеми остальными книгами о «теории», опубликованными в 1980-х годах, «Сексуальная/текстуальная политика» способствовала изменению смысла этого слова. В итоге сама книга «Сексуальная/текстуальная политика» оказалась словно разорванной между старым и новым пониманием теории. Она начинается с традиционной, «теории литературы», а заканчивается «теорией», близкой современному ее пониманию, а именно включающей в себя марксистские, постструктуралистские, постколониальные, психоаналитические, квир* феминистские или различные постмодернистские размышления над субъективностью, значением, идеологией и культурой в самом широком смысле. «Теория литературы» в традиционном понимании составляет предмет первой части книги. Название этой книги, «Англо-американская феминистская критика», было призвано указать, сколь многим ведущие американские феминистские критики были обязаны критической традиции, известной как «Англо-американская новая критика». Этот намек, я полагаю, сегодня потерял свою актуальность. Единственной постструктуралистской теорией, которой я пользовалась в первой части своей книги, была постструктуралистская теория текста, в частности, в том месте, где я ссылаюсь на знаменитое эссе Ролана Барта «Смерть автора», оспаривая идею, что только замысел автора должен определять порождаемые литературой значения.
«Теория литературы» в традиционном смысле обычно считалась политически нейтральной. Мне же было важно показать, что у этой теории на самом деле есть политические аспекты. Я исходила из того, что антиавторитарные феминистки противоречат себе, когда соглашаются с теориями, наделяющими (женщину) писателя авторитетом, равным божественному. Феминистки должны свободно подвергать сомнению всякий авторитет, в том числе и женский. Книга «Сексуальная/текстуальная политика» последовательно проводит мысль о том, что свобода читателей важнее, чем власть авторов. Таким образом, первая часть книги призвана проследить характер взаимоотношений между традиционной теорией литературы (эстетикой) и феминистской политикой.
Вторая часть книги озаглавлена «Французская феминистская теория». В этой части значение слова «теория» начинает видоизменяться. В начале 1980-х уловить и выявить сдвиг от «теории литературы» к «теории» было непростой задачей. Ведь и Кристеву, и Сиксу, и Иригарэ можно было считать теоретиками литературы в традиционном смысле — в конце концов они действительно занимались женским творчеством, письмом, текстами и языком. Но вместе с тем те работы, которые казались феминисткам наиболее интересными и значительными, не являлись (или были не вполне) собственно литературной критикой. Безусловно, Сиксу была чрезвычайно «литературным» мыслителем, а Кристева, помимо прочего, занималась теорией романа и лингвистикой, но их обращение к феминисткам разворачивалось в поле их исследований женственности, субъективности и значения в культуре. По мере того как мы продвигаемся от части I к части II, от Шоуолтер, Гилберт и Губар к Сиксу, Иригарэ и Кристевой, наше внимание смещается от литературных к философским и психоаналитическим вопросам. Хотя теории текстов и смыслов остаются в центре нашего внимания на протяжении всей книги, к ее концу переход от «теории литературы» к «теории» оказывается почти полностью завершенным.
Утрата голоса? Женщины, субъективность и перформативность
Книга «Сексуальная/текстуальная политика» чрезвычайно критична по отношению к однородным, непротиворечивым, неконфликтным моделям субъективности. Взамен романтических теорий интенциональности (преднамеренности) в ней предлагается психоаналитическое понимание субъекта. Кристевская концепция воплощенного «говорящего субъекта» имеет для этой книги фундаментальное значение. На мой взгляд (тогда и сейчас), всегда есть кто-то, кто говорит, действует, думает, пишет [5]. Этот кто-то не должен изображаться как полностью явленная, непротиворечивая интенциональность (преднамеренность). В книге «Сексуальная/текстуальная политика» субъект расщеплен, децентрирован, он хрупкий, постоянно рискует рассыпаться. В то же время этот расщепленный и де- центрированный субъект обладает способностью действовать и выбирать. Однако такие решения и действия всегда слишком обусловлены, то есть наряду с осознанными мотивациями на них оказывают огромное влияние бессознательные идеологические предпочтения, бессознательные эмоциональные реакции и фантазии.
Итак, когда я писала эту книгу, мне не приходило в голову сомневаться, что в мире есть женщины, что женщины могут действовать и что они несут ответственность за свои действия. Я не видела никакого противоречия между написанием этой книги и переходом к следующему исследованию, посвященному Симоне де Бовуар как интеллектуалке [6]. Я не воспринимала (и сейчас не воспринимаю) женщин в качестве простых объектов воздействия тендерных дискурсов или жертв сексистского окружения; я также не считаю нужным очернять само слово «женщина». Для меня, как и для Симоны де Бовуар и большинства других людей, женщина — это человеческое существо, обладающее присущими данному полу биологическими и анатомическими чертами [7]. Смысл возражений эссенциализму заключается в том, чтобы прекратить сексистские обобщения в отношении этого класса людей, а не в том, чтобы отрицать само существование данного класса.
В 1985 году я не могла представить себе, что вскоре возникнет течение новых теоретиков, готовых критиковать само слово «женщина». Уже в 1989 году Дайана Фасс [Diana Fuss] заявила, что само слово «женщина», в единственном или множественном числе, навязывает однозначность и уничтожает различия между женщинами (см. Essentially Speaking, особенно с. 3-4). А в 1990 году Джудит Батлер опубликовала свою книгу, Gender Trouble, имевшую огромный резонанс. В ее книге провокационно утверждалось, что пол так же сконструирован, как и гендер, а также то, что гендер — «перформативен» [8]. Развивая эти суждения в книге «Тела имеют значение» {Bodies That Matter) (1993), Батлер заявила, что сама материя (та материя, из которой состоит тело) есть не что иное, как результат «процесса материализации, который со временем стабилизируется и формирует границы, устойчивость и поверхность, которые мы и называем материей» (с. 9). Я отчасти рассматриваю эти теории в книге «Что такое женщина?» (см., в частности, с. 30-59) и поэтому не буду воспроизводить свой анализ здесь. Позвольте лишь отметить, что в большинстве постструктуралистских тендерных теорий, в частности это верно для теории Батлер, слово «женщина» заменено словом «гендер», или скорее слова «гендер» и «женщина» рассматриваются как синонимы. В то же время «гендер» противопоставляется «полу». В результате женщины оказываются отделенными от своих тел, а «женщина» превращается в дискурсивный и перформатив- ный эффект. Трудно понять, в чем может состоять преимущество такого теоретического кульбита.
Для того чтобы избежать эссенциализма и биологического детерминизма, достаточно отрицания биологической обусловленности общественных норм. Нет необходимости утверждать, что женщин не существует или что сама по себе категория «женщины» идеологически сомнительна. Это не предполагает отрицания того, что сексисты пытаются нагрузить слово «женщина» всеми и всяческими идеологиями, но предполагает оспаривание утверждения, что они всегда в этом преуспевают. Хотя экономическое, социальное, политическое и идеологическое угнетение существует, хотя такое угнетение ограничивает свободу женщин, нет причин делать вывод, что женщины не могут добиваться перемен, что это угнетение абсолютно, будто оно настолько поработило нашу женскую психику, что в своей борьбе мы не способны избавиться от сексист- ских шор. И также нет оснований полагать, что единственно возможной стратегией сопротивления является мимикрия или пародия [9].
Сдвиг от психоаналитической или феноменологической теории субъективности к обезличенным представлениям о поле, тендере, «регуляторных дискурсах» и «перформативности» явился частью общей постструктуралистской критики субъекта. Эта критика была первоначально направлена против хорошо разработанных метафизических романтических теорий интенциональности [10]. Но вскоре большинство постструктуралистов — теоретиков тендера стали высказываться так, словно полагали, что всякое упоминание самостоятельного действия, субъективности и ответственности является несомненным признаком метафизики романтизма. Совершенно очевидно, что в этом они «перегнули палку». Ненависть постструктуралистов к действию, желание отрицать присутствие «действующего за деянием» создает образ говорящих и пишущих, подобный шестеренкам в громадном дискурсивном механизме. Здесь налицо своеобразное философское видение того, что значит говорить и писать: изображение ситуации, в которой говорящая или пишущая чувствует, что ее слова ей не принадлежат; что через нее говорит кто-то другой; что она не может думать то, что она говорит, и говорить то, что думает [11]. Ее слова чужды ей, и она им чужда. Такая говорящая будет чувствовать себя изолированной, одинокой, непонятой.
В своем мастерском анализе различных форм современного скептицизма Стэнли Кэвелл [Stanley Cavell] говорит о том, что его одолевает «фантазия, или боязнь невозможности выразить себя: когда меня не только не знают, но я бессилен дать о себе знать, или же, когда то, что я пытаюсь выразить, мне неподвластно» (Claim, 351). Эта фантазия возникает в двух рассмотренных мной культурных ситуациях: в постструктуралистской теории и в мелодраме девятнадцатого века. Она хорошо известна феминисткам: от нее страдает Коринна в романе мадам де Сталь [12]. Этот страх невозможности добиться того, чтобы тебя поняли, бессилия показать другим, кто ты есть, не только преследует угнетаемых женщин, он совершенно не способствует феминистской борьбе. Коринна умирает несчастной и одинокой, убежденной в том, что мир ее недостоин. Феминистской теории следует задаться вопросом, почему все мы время от времени впадаем в мелодраму, но ей также необходимо знать, как возвращаться к обыденному и каждодневному, где разворачиваются наши реальные политические битвы. Мелодрама постструктуралистской теории — необходимая часть нашего феминистского наследия; но наше наследие не исчерпывается исключительно этой теорией.
«Политики теории»: мелодрама и обыденность
Как уже было сказано, книга «Сексуальная/текстуальная политика» принимала участие в той революции, которая трансформировала «теорию литературы» в «теорию». Она была написана там и тогда, где и когда занятие теорией, особенно феминистской теорией, воспринималось всеми заинтересованными сторонами (и апологетами, и противниками) как подрыв академической науки. В то время фраза «политика теории» автоматически обретала конкретный смысл. Сегодня, когда «теория» превосходно устроилась в качестве влиятельной академической доктрины, такая формулировка уже не принимается безоговорочно. Уже нельзя считать, что теория — это просто политика, или продолжать поиски совершенной теории, той «теории, которая обеспечивает политический радикализм и, в идеале, политическую эффективность», по выражению Джонатана Каллера [Jonathan Culler] (218). В 2002 году пришло время пересмотреть взаимоотношения политики и теории.
Фактически вопрос о «политике теории» активней всего поднимался постструктуралистами, чьи теории были посвящены языку, дискурсу и субъективности. Но говорить о «политике теории» значит говорить слишком обобщенно. Существует немало теорий, которыми пользуются самые разные люди в самых разных контекстах. Отношение к политике у теории истины и дискурса и у теории глобального капитализма или угнетения женщин различно. Точно так же в разное время и в разных ситуациях значение слова «политика» будет существенно различаться. В 1930 году политическая игра велась бы вокруг классовых проблем или фашизма. Сегодня же политическая игра может касаться СПИДа, расы или гендера, равно как и сексуальности. На вопрос «Является ли теория политикой?» можно ответить лишь «в зависимости от ситуации» [13]. Но мы ничего не можем «гарантировать». Какой должна быть картина взаимоотношений между политикой и теорией, чтобы казалось, что можно получить «гарантии» радикальных последствий — или радикальных намерений? На мой взгляд, идея гарантии отдает метафизикой и мелодрамой, о чем напоминает мне проведенный Стэнли Кэвеллом анализ скептицизма и его «требования абсолютности».
Мы налагаем на понятие требование абсолютности, и затем, обнаруживая, что наше обыденное использование данного понятия не соответствует нашему требованию, пытаемся максимально устранить это расхождение. Вот эти знакомые сюжеты: мы не видим материальные объекты напрямую, но только опосредованно; мы не можем быть уверены ни в каком эмпирическом суждении, кроме как опробовав на практике; мы не можем на самом деле знать, что чувствует другой человек, но можем только предполагать». («Aesthetic problems», 77).
Иными словами, постановка вопроса о «политичности теории» может означать лишь неограниченную власть человеческой деятельности, с чем эта деятельность наверняка не согласится. Что бы мы ни ответили на этот вопрос, это будет либо метафизика, либо бессмыслица, либо и то и другое.
Постановка вопроса о «политике теории» — не единственный способ поразмышлять о политическом значении интеллектуального труда. И требование неограниченной власти касается не только современных теоретиков литературы. Чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду, я обращусь к двум высказываниям — Сартра и Бовуар. «Когда рядом умирает ребенок, «Тошнота» значит немного», — сказал Сартр в 1964 году, в том году, когда он опубликовал «Слова» [14]. Примерно в то же время, в 1963-м, Симона де Бовуар писала: «Я интеллектуалка, для меня слова и истина имеют ценность» — «Сила обстоятельств» (Force of Circumstance, 378) [15]. В этих высказываниях проявляются две различные установки по отношению к политике и словам. Теперь я хочу показать, почему я думаю, что сартровский образ не просто метафизичен, но мелодраматичен, по контрасту с тем, что я буду называть обыденным взглядом Бовуар на интеллектуализм. (Выбор терминов здесь указывает на мое заимствование у Стэнли Кэвелла, а через него — у Витгенштейна[16].)
В то время многие приняли слова Сартра за утверждение, будто литературе нет оправдания в погибающем от голода мире. Непонятно, считал ли так сам Сартр или просто хотел этим провокационным высказыванием задать вопрос о политических последствиях писательства. Я буду приписывать общепринятую, радикальную интерпретацию «Сартру», но может оказаться, что мои рассуждения относятся не к нему, а к тем, кто именно так толкует его высказывание или толковал тогда.
В 1964 году Сартру было 59 лет, его медленно настигала слепота, он страдал от угрожающе высокого давления. К этому времени он был известным во всем мире интеллектуалом и упорно поддерживал идеи радикализма. В подобных обстоятельствах самым эффектным политическим поступком было продолжение работы. Именно это он и делал. Однако образ умирающего ребенка несравнимо сильнее всяких практических соображений. Сколь бы оправданным ни было его решение, в свете этого образа его интеллектуальная жизнь выглядела неуместной, если не черствостью. Этот сюжет показывает, что, невзирая на свою насыщенную интеллектуальную жизнь, Сартр с болью осознавал, что ее далеко не достаточно. Фраза «далеко не достаточно» указывает на суть проблемы. Конечно, писать — не всегда достаточно.
Как могло бы быть иначе? Какой человеческой деятельности «всегда достаточно»? Достаточно для чего? В смутном, неконкретном и далеком от точности повороте фразы «далеко не достаточно» поднимает голову метафизика — кэвелловское «требование неограниченной власти». Ведь если мы оказываемся рядом с умирающим ребенком, мы заботимся об этой девочке. Мы кормим ее, ухаживаем за ней, поддерживаем ее, прикладываем все усилия, чтобы обеспечить максимум медицинской помощи и комфорта. В этом случае уход за ребенком, это то, что мы просто делаем. Только жестокосердная убийца повернулась бы к ней спиной и села за письменный стол.
Но если это так, то сартровский образ на самом деле ничего не говорит нам о политической и этической ценности интеллектуальной работы. Все мы знаем, что романы или теория не питают голодных и не лечат больных. К кому же обращался Сартр? Кого он хотел просветить идеей, что «Тошнота» не спасет умирающего ребенка? Ответ очевиден: только того, кто пламенно надеялся, что спасет. Сразу же вспоминается юношеская вера Сартра в спасение через литературу, которая стала основной темой в «Словах». Но ту же установку мы можем обнаружить у сегодняшних интеллектуалов, которые исступленно верят в то, что теория в силах исправить политику, будто всякое угнетение может исчезнуть, как только мы разработаем правильную теорию субъективности, дискурса или истины.
В примере Сартра с умирающим ребенком есть чрезвычайно соблазнительная фантазия, что сила творчества может спасти умирающего ребенка. Середины здесь нет: письмо способно на все или не способно ни на что. Я не упускаю из виду тот факт, что высказывание Сартра построено в виде отрицания: он говорит, что «Тошнота» не способна существенно помочь умирающему ребенку. Ведь в самой форме высказывания совершается психическая работа, поскольку его задача — отрицать фантазию всемогущества письма, фантазию, которую сам Сартр искусно исследует в «Словах». «Отрицание — это способ узнать о том, что вытеснено. (...) Отрицательное суждение является интеллектуальным заместителем вытеснения», — пишет Фрейд (235-6). Говоря, что письмо неоправданно, Сартр поддерживает мечту об оправданности литературы, но эмоция смещена — от буйного ликования по поводу всесилия письма до гнетущего разочарования и чувства вины за его бессилие.
Сама интенсивность образа укрепляет и выражает противоречивые эмоции, заключенные в отрицаемой фантазии. Противопоставляя умирающего ребенка и стареющего мужчину-интеллектуала, Сартр сталкивает попранную невинность с виной и распадом. Доводя до крайности вопрос об интеллектуальной ответственности, он использует абсолютные крайности, присущие логике мелодрамы: «все или ничего»[17]. Тем самым он призывает нас поверить, что политика — единственно возможное оправдание писательства, что, если творчество не спасает умирающего ребенка, оно совершенно бесполезно.
У сегодняшних интеллектуалов пресловутые симптомы беспокойной сартровской фантазии проявляются как преувеличенная тоска и вина за политические неудачи или политическое бессилие интеллектуалов. Обратной стороной этой медали неизбежно оказывается преувеличенный оптимизм по поводу возможностей теории. Теряя эту веру, мы готовы впасть в сартровскую мелодраму. Если мы не найдем альтернативу этим метаниям из одной крайности в другую между этими равно напряженными и эмоциональными позициями, нам придется горько разочароваться в значимости интеллектуальной работы. Ирония заключается в том, что чем отчаянней мы жаждем политического оправдания, тем большая политическая неудовлетворенность нас ожидает.
Как положить конец этим метаниям? Фраза Бовуар «ценность для меня имеют слова и истина» кажется мне искренней сартровской мелодрамы с интеллектуалом и умирающим ребенком. Важно, например, что она говорит просто «ценность», но не «абсолютную ценность» или «неизменную политическую ценность». Мне кажется, Бовуар предлагает нам учитывать, какую ценность слова и истина имеют в данной конкретной ситуации, не больше, но и не меньше. Подход Бовуар позволяет нам обсуждать взаимосвязь теории и политики в обыденных терминах, находящихся в каждодневном употреблении, а не в пустых терминах метафизики.
Таким образом, для нее вопрос о том, где, когда и как ин- теллектуалка должна вступать в игру, становится конкретным, индивидуальным и практическим (а не абстрактным, обобщенным и метафизическим): Могу ли я найти оправдание тому, что делаю? Насколько хорошо я это делаю? Достаточно ли у меня способностей и навыков, чтобы делать что-то другое? Могу ли я обрести их в достаточной мере? В качестве кого я здесь полезней: посредственной партизанки или первоклассной писательницы? Скажем, я действительно хочу знать, что интеллектуалы могут сделать для спасения умирающих детей. Я читаю в статье: «Эксперты ООН подсчитали, что базовые потребности мирового населения в пище, питьевой воде, образовании и медицинском обеспечении можно покрыть путем взимания менее чем 4% сбора с накопленного богатства 225 наибольших состояний [мира]» (Ramonet, 1). Выходит, люди, которые более всего способны помочь умирающим детям, — не интеллектуалы, а владельцы этих 225 состояний.
Будучи интеллектуалами, мы можем распространять эту информацию. Но также нам стоит признать, что, если мы не экономисты или врачи, наш каждодневный труд не будет непосредственно связан с предупреждением голода и смерти. Поэтому интеллектуалы, работающие в гуманитарной области, должны задаваться вопросом не о том, что могут сделать интеллектуалы вообще, но о том, что мы можем сделать лучше, чем интеллектуалы, работающие в других областях, и при каких обстоятельствах. В чем смысл работы с идеями, с культурой, с письмом в умирающем от голода мире? Эти вопросы важны, и на них есть ответы. Нет лишь абсолютных ответов.
Преимущество позиции Бовуар в том, что она позволяет нам признать то переживание, которое питает пронзительный сартровский образ, не впадая в отрицание политической значимости слов и письма. Покорное согласие со смертью детей — не единственная альтернатива политической вине и тоске. Постоянно спрашивать себя о политическом, этическом и экзистенциальном значении своего труда — вот часть жизни интеллектуала. Я хочу лишь сказать, что не может быть одного ответа на этот вопрос, а тем более одного ответа, данного раз и навсегда, от имени всех интеллектуалов.
Но вопрос оправданности остается. Оправданны ли наши разговоры о теории? Или вообще — о чем бы то ни было? Даже если мы не считаем, что дети погибают, потому что мы пишем, мы можем чувствовать смутную вину за то, что оставляем за собой право говорить и писать, в то время как миллионы людей этого права лишены. Не слишком ли мы самонадеянны? Поскольку мы не лучше и не хуже других, что оправдывает наше «самоуправство голоса» (говоря словами Стэнли Кэвелла)? [18]
Мой ответ прозвучит резко: ничто не оправдывает Наша речь — даже самый страстный политический призыв к оружию — никогда не имеет другого оправдания, кроме нашего собственного желания говорить. «Кто, кроме меня самого, может дать мне власть говорить от нашего имени?» — пишет Кэ- велл (Pitch, 9). Искать общее оправдание — значит искать метафизическую почву под ногами. В самом акте писания действительно есть некая самонадеянность и несправедливость. Как 218 я могу писать, если миллионы других людей этого не могут? Чем могу я — или кто угодно — оправдать самоуправство своего голоса? Если мы приняли решение писать, бессмысленно сокрушаться и обвинять себя в том, что ваше творчество означает бесправие других. Следовательно, вопрос не в оправдании писания чего бы то ни было, но в том, чего стремится добиться пишущий своим писанием.
Бовуар говорит, что писать — значит обращаться к свободе другого [19]. Если мы проанализируем следствия этого утверждения, мы поймем, что не существует способа контролировать политическое воздействие нашего собственного письма. Читатели вольны реагировать на наш призыв как угодно, энтузиазмом или безразличием, согласием или молчанием. Обращаться к свободе других — значит рисковать встретить их отпор. Стремясь к политическому участию, мы можем лишь говорить то, что должны говорить, и брать ответственность за свои слова. То есть мы должны подразумевать то, что говорим [20].
В свете всего вышесказанного — не является ли книга «Сексуальная/текстуальная политика» политическим вмешательством? Без сомнения, в 1985 году я так и считала. Хотя не всегда мне удалось высказать в точности то, что я имела в виду, я всегда подразумевала именно то, что говорила. Моя страстная защита феминистского антиэссенциализма была одновременно интеллектуальной и политической и действительно изменила взгляды некоторых людей. Также книга помогла феминизму войти в академические круги. «Сексуальная/текстуальная политика» была моей первой книгой; она научила меня тому, что всякий может — я могу, например, — высказаться, выразить свое мнение, участвовать в феминистском проекте. В 2002 году феминизму нужны новые взгляды и новые голоса. Я знаю, что эта книга вдохновила многих феминистски настроенных студентов высказаться, выразить свое страстное несогласие или согласие. В переводе она привлекла и привлекает читателей по всему миру. И если вокруг книги «Сексуальная/текстуальная политика» еще несколько лет будут возникать дискуссии, — значит, она продолжает оставаться полезной книгой.
Дарем, Северная Каролина Январь 2002
ПРИМЕЧАНИЯ
Введение: Кто боится Вирджинии Вулф? Феминистское прочтение Вулф 1 В разборе романа Вулф «Волны» Анна Кумб (Anna Coombc) отмечает с явно лукачевской неприязнью разрозненность и субъективность модернистского стиля. Она пишет: «Мне было очень трудно политизировать дискурс, который упрямо [sic!] стремится исключить все политическое и историческое, а там, где это оказывается невозможным, пытается многословно эстетизировать то, что не способен «реалистически» принять»(238). 2 Дальнейшее обсуждение этой темы см. в разделе о Гилберт и Губар. 3 Термин «англо-американский» следует рассматривать как указание на определенный подход в литературе, а не определение национальной принадлежности критика. Британская исследовательница Джиллиан Бир (Gillian Beer) в статье "Beyond determinism: George Elliot and Virginia Woolf приводит сходные с моими возражения на толкование Вулф у Шоуолтер. В статье 1984 г. "Subject and object and the nature of reality: Hume and elegy in To the Lighthouse" Бир развивает эту идею в более философском контексте. 4 Для ознакомления с идеями Деррида см. Норрис (Norris). 5 Мое изложение позиций Кристевой основано на ее работе «La Revolution du langage poetique». 6 Феминистский критик Барбара Хилл Ригни (Barbara Hill Rigney) попыталась показать, что в «Миссис Дэллоуэй» «безумие — это, скорее, прибежище для своего «я», нежели его утрата» (52). Этот аргумент, однако, не находит подтверждения в самом тексте и, очевидно, порожден желанием критика придерживаться близких ей позиций Лэнга, чем внимательным чтением Вулф.
1 См. рецензию Lemoin-Luccioni в Esprit. 2 Отсылки к Speculum помечены сокращением S. "S, 130" означает Speculum, с. 130; "CS, 76" означает Ce sexe qui n'en est pas un, с 76. Две статьи из Ce sexe переведены в Marks and Courtviron (ред.). Цитаты из этих переводов отмечены MC, с отсылками к оригинальному французскому переводу, т.е. MC, 100, CS, 24. Все переводы, кроме тех, что помечены MC, мои собственные. 3 О других работах Иригарэ или проблемах, ею поднимаемых, см. Burke 'Introduction to Luce Irigaray's "when our lips speak together"' и 'Irigaray through the looking glass'; а также N\fenzel, introduction to Luce Irigaray's "And one doesn't stir without the other", и Brown and Adams The feminine body and feminist polities'. 223 4 См. исследование Gallop о смысловом значении этого заглавия в главе под названием The father's seduction1 (Gallop, 36-79). 5 Обычно у Иригарэ трудно назвать источники цитирования. В постскриптуме к Speculum она утверждает, что нередко предпочитает вообще не обозначать цитаты. Иригарэ полагает, что, поскольку женщина исключена из теории, она не обязана относиться к ней так, как эта теория предписывает. 6 Более развернуто о статусе визуального в теории Фрейда см. Heath. 7 Краткий обзор теорий о женской сексуальности от Фрейда до наших дней см. у Janine Chasseguet-Smirgel — введение к Chasseguet-Smirgcl (ред.) или (на французском языке) исключительно яркую главу у Иригарэ под названием 'Retour sur la theorie psychanalitique' CS, 35-65. Исследование, посвященное возможностям феминистского использования этих теорий, см. у Mitchell, Psychoanalysis and Feminism и Women: The Longest Revolution, Mitchell and Roses -введение к Mitchell and Rose (ред.), а также (на французском языке) новое прочтение Фрейда у Kofman, которое вомногом можно считать критической репликой Иригарэ. Lemoine-Luccini в Partage des femmes и Montrelay вступают в дискуссию в более специфической лакановской манере. 8 Суммируя в общих чертах идею Фрейда: он связывает акт видения с анальной деятельностью, которую считает проявлением желания властвовать или применением власти над собственными (либидными) объектами, желание, которое лежит в основе более поздних (фаллических или эдиповых) фантазий о фаллической (мужской) власти. Таким образом, пристальный взгляд отыгрывает желание садистической власти смотрящего, где объект взгляда рассматривается как пассивная, мазохистическая жертва — женщина. 9 Более подробный анализ опасений Фрейда в «Доре» см. Moi. 10 Перевод Claudia Reeder в Marks and Courtviron (ред.), 99-106. 11 Рэйчел Болби (Rachel Bowlby) также критиковала Иригарэ (вместе с Montrelay и Sixous) за «отсутствие какой-либо связной социальной теории» (Bowlby, 67).
8. Маргинальность и подрыв: Юлия Кристева 1 Первая часть этой цитаты переведена Roudiez (1), вторая — мной. 2 Цитирует Барт, 1970 (20). Перевод мой. 3 Другие публикации о Кристевой см. Coward and Ellis, и Feral (1978). 4 Дальнейшее развитие этой идеи оде центрирован ном субъекте см. мои рассуждения о Лакане в главе 5, 126-129. 5 В ее лекции 'Sex difference in language: a psychological approach' в серии лекций 'Women and Language*, прочитанных в Oxford University Women's Studies Commettee' 10 мая 1983. 6 Краткое изложение использования слова differance у Деррида см. с. 133. 7 См. Ardener. Описание в феминистской лингвистике «немой группы» см. у Kramarae, гл. 1, 1-32. 8 Имя Волошинов считается теперь псевдонимом ведущего советского литературного теоретика Михаила Бахтина. 9 В статье под заглавием 'J'ai oublie mon paraplui' in Eperons, 103-113. 10 Цитируется по Wittgenstein, §1. 11 Описание этих концепций у Лакана см. главу 5, с. 126-129. 12 В этой главе, в случае отсутствия английского перевода в библиографии, все цитаты Кристевой даны в моем переводе. 13 Дальнейшее обсуждение политического содержания в теории Кристевой, см. мою вступительную статью. 14 См. ее статью о диссидентстве «Un nouveau type d'intellectuel». 15 Рассмотрение этой проблемы с несколько другой точки зрения см. Pajaczkowska. 16 Открытие Америки Кристевой см. в «Pourquoi les Etats-Uni?». 17 См. Stone как пример разочарованного и возмущенного феминистского ответа Кристевой. Примечания к послесловию 1 Тех, кто интересуется моим сегодняшним анализом вопросов феминистской теории, отсылаю к книге «Что такое женщина?», в частности к главам 1,2 и 9. Предисловие к «Что такое женщина?» также содержит некоторые размышления над книгой «Сексуальные/текстуальные политики». 2 The Sun, 4 мая 1982, первая страница. 3 Хочу выразить благодарность Абигаль Соломон (Abigail Solomon), моей ассистентке, за поиск и сверку цитат, дат и цифр, относящихся к фолклендской войне и Гринем Коммон. 4 Дальнейшее обсуждение проблем обобщений, связанных с понятием женственности, см. в «Что такое женщина?», в частности в разделе одноименного очерка, озаглавленном «Против женственности» (с. 99-112). 5 Сегодня я бы добавила, что прокристевское психоаналитическое понимание субъективности, преобладающее в моей книге, хорошо совместимо с феноменологическим подходом Симоны де Бовуар и Мориса Мерло-Понти. Сходство между концепциями Фрейда, Бовуар и Мерло-Понти я пытаюсь продемонстрировать в эссе «Анатомия — это судьба?» («Что такое женщина?», с. 369-393). Это эссе следует читать вместе с очерком «Что такое женщина?», особенно с его разделом «Тело как ситуация» (59-83). В книге «Сексуальные/текстуальные политики» основным источником моего понимания Кристевой послужила ее работа «Революция в поэтическом языке» (опубликованная на французском в 1974 г.; превосходный, но неполный перевод на английский язык вышел в 1984 г.). Я не утверждаю, что все работы Кристевой после 1984 г. совместимы с моим собственным феминизмом или же с ее более ранними работами. Многие тексты Кристевой, на которые я опираюсь в «Сексуальных/текстуальных политиках», включены в подготовленную мной хрестоматию «The Kristeva Reader». 6 См. Moi, Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman (1994). 7 Отсюда не следует делать вывод, что, на мой взгляд, не существует неоднозначных или сложных случаев, транссексуалов, трансвеститов, людей промежуточного пола [intersexed people] и так далее. Моя позиция состоит лишь в том, что существование промежуточных категорий не лишает силы обычное определение слова «женщина». Это утверждение, а также статус транссексуалов и других людей, не вписывающихся в тендерные стандарты (transgendered people), относительно подробно обсуждаются в очерке «Что такое женщина?» в одноименной книге. 8 См. Butler, Gender Trouble, 25, 141. 9 Именно с этих позиций я критикую подход Сиксу к идеологии как к полностью самосогласующейся, лишенной внутренних противоречий мембране, что не оставляет женщинам пространства, достаточного для критического 225 осознания этой идеологии, и позволяю себе усомниться в том, что «мимикрия» Иригарэ всегда является для женщин наилучшей стратегией противостояния. 10 Превосходный пример такой критики представляет собой посвященный Дж. Л. Остину очерк Деррида «Подпись — событие — контекст», тот самый очерк, откуда Батлер вывела свою концепцию «цитатности» или «итерации» [повтора]. На мой взгляд, Деррида ровным счетом ничего не удалось возразить Остину. Выдающийся анализ предпринятого Деррида прочтения Остина предложен Стэнли Кэвсллом в его статье «Counter-Philosophy and the Pawn of Voice» в: Cavell, A Pitch of Philosophy, 53-127. 11 Упоминание «философской картины» является отсылкой к следующей фразе Витгенштейна: «Нас берет в плен картина. И мы не можем выйти за ее пределы, ибо она заключена в нашем языке и тот как бы нещадно повторяет ее нам» («Философские исследования», §115). [Л. Витгенштейн. Философские исследования //Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994. С. 128] 12 Мое прочтение этой фантазии в мелодраматическом тексте представлено в посвященном «Корине» эссе «Желание женщины быть познанной» («A Woman's Desire to Be Known»), в частности на с. 166-171. 13 Кора Даймонд (Cora Diamond) находит фразе «зависит от обстоятельств» («it depends») хорошее философское употребление в своем блестящем эссе о феминистской эпистемологии или «женских способах познания», озаглавленном «Познавая торнадо и другие веши» («Knowing Tornadoes and Other Things»). См. также мой анализ эссе Даймонд в: Moi, What Is a Woman?, 156-160. 14 «En face d'un enfant qui meurt, La Nausee ne fait pas le poids». Это высказывание взято из интервью, которое Сартр дал Жаклин Пиатье (Jacqueline Piatier), вышедшем под заглавием «Jean Paul Sartre s'explique sur Les Mots» («Жан Поль Сартр объясняет "Слова"») и опубликованном в «Ле Монд» 18 апреля 1964 г. Я цитирую его по: Contat and Rybalka, 398. 15 «Je suis une intellectuelle, j'accorde du prix aux mots et a la verite» (La Force des choses!: 120). 16 В Contesting Tears Кэвелл исследует выраженную связь между мелодраматической формой и тем типом метафизики, который называется скептицизмом, а я использую эту связь в феминистских целях в посвященном роману мадам де Сталь «Корина» очерке («A Woman's Desire to Be Known»). Наиболее основательные мои попытки изучить, каким образом экзистенциализм Бовуар и философия обыденного языка Кэвелла проясняют друг друга, представлены в книге «Что такое женщина», в частности, на с. 169-250. 17 В своей популярной работе «Мелодраматическое воображение» (The Melodramatic Imagination) Питер Брукс (Peter Brooks) пишет: «Коннотации слова "мелодрама" включают в себя: снисходительность к сильным эмоциям; нравственную поляризацию и схематизацию; крайние состояния бытия, ситуации и действия; открытое злодейство, гонение на добро [...]» (11). 18 Термин «самоуправство голоса» подчеркивает необоснованный момент самоуправства, свойственный всякому теоретическому или философскому речевому акту, а также неизбежную самонадеянность притязания на право обращаться к суждению других. См. Cavell, A Pitch of Philosophy, 1-51, и Moi, Whiat Is a Woman?, 233-235 и 249-250. 19 «Язык есть призыв к свободе другого, поскольку знак только тогда становится знаком, когда схватывается сознанием», -пишет Бовуар в работе «Пирр и Киней» (Pyrrhus et Cineas, 104). «Я могу лишь обратиться к свободе другого, но не ограничить ее», — добавляет она затем (112). (Обе цитаты даны в моем переводе.) Дальнейшее обсуждение идеи призыва к другому см. в: Moi. What Is a Woman?, 226-237. 20 Я развиваю намеченные здесь идеи в очерке «Подразумевая то, что говорим: "Политика теории", и ответственность интеллектуалов* («Meaning Wliat Wfe Say: The "Politics of Theory" and the Responsibility of Intellectuals»), который написала для сборника под редакцией Эмили Грошолц (Emily Grosholz). БИБЛИОГРАФИЯ Abel, Elizabeth and Abel, Emily (eds) (1983) The Signs' Reader: Women, Gender, and Scholarship. Chicago: University of Chicago Press.
Ardener, Edwin (1975) The «problem» revisited, in Ardener, Shirley (ed.), Perceiving Women. London: Malaby Press.
Ascher, Carol (1981) Simone de Beauvoir: A Life of Freedom. Brighton: Harvester.
Auerbach, Nina (1978) Communities of Women: An Idea in Fiction. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Bakhtin, Mikhail (1968) Rabelais and His World. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Barrett, Michele (ed.) (1979) Virginia Woolf: Women and Writing. London: The Women's Press. (1980) Women's Oppression Today. London: Verso.
Barthes, Roland (1970) 'L'etrangere', La quinzaine litteraire, 94, 1-15 mai, 19-20.
(1976) The Pleasure of the Text, trans. Miller, Richard. London: Jonathan Cape.
(1977) The death of the Author', in Heath, Stephen (ed.). Image Music Text. London: Fontana.
Bazin, Nancy Topping (1973) Virginia Woolf and the Androgynous Vision. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.
Beauvoir, Simone de (1949) Le deuxieme sexe. Paris: Gallimard. Trans. Parshley, H.M. (1972) The Second Sex. Harmondsworth: Penguin.
(1984) Simone de Beauvoir Today. Conversations with Alice Schwartzer 1972-1982. London: Chatto.
Beer, Gillian (1979) Beyond determinism: George Eliot and Virginia Woolf, in Jacobus, Mary (ed.), Women Writing and Writing About Women. London: Croom Helm, 80-99.
(1984) 'Hume, Stephen and elegy in To the Lighthouse', Essays in Criticism, 34, 33-55.
Beer, Patricia (1974} Reader, I Married Him: A Study of the Women Characters of Jane Austen, Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell and George Eliot. London: Macmillan.
Belsey, Catherine (1980) Critical Practice. London: Methuen.
Boumeiha, Penny (1982) Thomas Hardy and Women: Sexual Ideology and Narrative Form. Brighton: Harvester.
Bowlby, Rachel (1983) The feminine female'. Social Text, 7, Spring and Summer, 54-68.
Brown, Beverly and Adams, Parveen (1979) 'The feminine body and feminist polities', m/f, 3, 35-50.
Brown, Cheryl L. and Olson, Karen (eds) (1978) Feminist Criticism: Essays on Theory, Poetry and Prose. Metuchen: Scarecrow Press.
Burke, Carolyn (1980) 'Introduction to Luce Irigaray's «When our lips speak together» \ Signs, 6, 1, Autumn, 66-8. (1981) 'Irigaray through the looking glass', Feminist Studies, 7, 2 Summer, 288-306.
Chasseguet-Smirgel, Janine (ed.) (1970) Female Sexuality. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Chodorow, Nancy (1978) The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley: University of California Press.
Cixous, Helene (1968) L'Exil de James Joyce ou l'art du remplacement.
Paris: Grasset. Trans. Purcell, Sally (1972) The Exile of James Joyce or
the Art of Replacement. New York: David Lewis.
(1974) Prenoms de personne. Paris: Seuil.
(1975) La Jeune Nee (en collaboration avec Catherine Clement). Paris: UGE, 10/18. An excerpt from 'Sorties' is trans, by Liddle, Ann, in Marks, Elaine and Courtivron, Isabelle de (eds) (1980) New French Feminisms. Brighton: Harvester, 90-8.
- (1975) ‘Le Rire de la Meduse', L'Arc, 61, 39-54. Trans. Cohen, Keith and Cohen, Paula (1976) The laugh of the Medusa', Signs, 1, Summer, 875-99. Here quoted from the reprint in Marks, Elaine and Courtivron, Isabelle de (eds) (1980) New French Feminisms. Brighton: Harvester, 245-64.
- (1976) LA. Paris: Gallimard.
— (1976) ‘La Missexualite, ou jouis-je?'. Poetique, 26, 240-9.
- (1976) ‘Le Sexe ou la tete?' Les Cahiers du GR1F, 13, 5-15. Trans. Kuhn, Annette (1981) 'Castration or decapitation?', Signs, 7, 1, 41- 55.
— (1976) Portrait de Dora. Paris: des femmes. Trans. Burd, Sarah (1983) Portrait of Dora, Diacritics, 13, 1, Spring, 2-32.
— (1977) 'Entretien avec Francoise van Rossum-Guyon', Revue des sciences humaines, 168, octobre-decembre, 479—93.
(1977) La Venue a l'ecriture (en collaboration avec Annie Leclerc et Madeleine Gagnon). Paris; UGE, 10/18.
(1979) `L'Approche de Clarice Lispector', Poetique, 40, 408-19.
Conley, Verena Andermatt (1984) Helene Cixous: Writing the Feminine. Lincoln and London: University of Nebraska Press. Includes the appendix ‘An exchange with Helene Cixous', 129-61.
Coombes, Anna (1979) 'Virginia Woolfs The Waves: a materialist reading of an almost disembodied voice', in Barker, Francis et al. (eds), Proceedings of the Essex Conference on the Sociology of Literature, July 1978. Vol. 1: 1936: The Politics of Modernism. Colchester: University of Essex, 228-51.
Cornillon, Susan Koppelman (ed.) (1972) Images of Women in Fiction:
Feminist Perspectives. Bowling Green, Ohio: Bowling Green University Popular Press.
Coward, Rosalind (1983) Patriarchal Precedents. Sexuality and Social
Relations. London: Routledge & Kegan Paul.
— (1984) Female Desire. Women's Sexuality Today. London: Paladin.
— and Ellis, John (1977) Language and Materialism. London: Routledge & Kegan Paul.
Culler, Jonathan (1974) Flaubert. The Uses of Uncertainty. London: Paul
Elek. Dahlerup, Pil (1972) Omedvetna attityder hos en recensent', in Berg,
Karin Westman (ed.), Konsdiskriminering forr och nu. Stockholm: Prisma, 37-45.
Dardigna, Anne-Marie ( 1981 ) Les Chateaux d'Eros ou les infortunes du sexe des femmes. Paris: Maspero.
Delphy, Christine (1984) Close to Home. A Materialist Analysis of Women 's Oppression, trans, and ed. Leonard, Diana. London: Hutchinson.
Derrida, Jacques (1967) De la grammatologie. Paris: Minuit. Trans. Spivak, Gayatri (1976) Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
— (1967) L'Ecriture et la difference. Paris: Seuil, Trans. Bass, Alan (1978)
Writing and Difference. Chicago: University of Chicago Press.
—(1975) The purveyor of truth', Yale French Studies, 52, 31-114.
— (1978) Eperons. Les styles de Nietzsche. Paris: Flammarion.
— (1982) 'Choreographies'. Interview with Christie V. McDonald,
Diacritics, 12, 2, 66-76. Diacritics (1975) Winter. (1982) Summer.
Dijkstra, Sandra (1980) 'Simone de Beauvoir and Betty Friedan: the politics of omission'. Feminist Studies, 6, 2, Summer, 290-303.
Doederiein, Sue Warrick (1982) 'Comment on Jehlen', Signs, 8, 1, 164-6.
Donovan, Josephine (1972) 'Feminist style criticism', in Cornillon, Susan Koppelman (ed.), Images of Women in Fiction: Feminist Perspectives. Bowling Green, Ohio: Bowling Green University Popular Press, 341- 54.
(ed.) (1975) Feminist Literary Criticism: Explorations in Theory. Lexington: The University Press of Kentucky.
Eagleton, Terry (1976) Marxism and Literary Criticism. Berkeley: University of California Press.
(1983) Literary Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell. Eisenstein, Hester (1984) Contemporary Feminist Thought. London:
Allen & Unwin. and Jardine, Alice (eds) (1980) The Future of Difference. Boston, Mass.: G.K.Hall.
Ellmann. Mary (1968) Thinking About Women. New York: Harcourt.
Engelstad, Irene and Overland, Janncken (1981) Frihet til a skrive. Artikler om kvinnelitteratur fra Amalie Skram til Cecilie Loveid Oslo: Pax.
Faderman, Lillian (1981) Surpassing the Love of Men: Romantic Friendship and Cove Between Women From the Renaissance to the Present. New York: William Morrow.
Felman, Shoshana (1975) The critical phallacy', Diacritics, Winter, 2-10.
Felstiner, Mary Lowenthal (1980), 'Seeing The Second Sex through the second wave, Feminist Studies, 6, 2, Summer, 247-76.
Feminist Studies (1981) 7, 2, Summer.
Ferai, Josette (1978) 'Antigone or the irony of the tribe', Diacritics, Fall, 2-14. (1980) The powers of difference', in Eisenstein, Hester and Jardine, Alice (eds), The Future of Difference. Boston, Mass.: G. K. Hall, 88- 94.
Freud, Sigmund (1919) The uncanny', in Standard Edition. Vol. 17, 219- 52.
(1933) 'On femininity', in New Introductory Lectures on Psychoanalysis, Lecture 33. Pelican Freud Library. Vol. 2. Harmondsworth: Penguin (1971).
(1905) 'Dora', in Case Histories I. Pelican Freud Library. Vol. 8. Harmondsworth: Penguin (1977).
Friedan, Betty (1963) The Feminine Mystique. New York: Dell.
Fuchs, Jo-Ann P. (1980) 'Female eroticism in The Second Sex', Feminist Studies, 6, 2, Summer, 304-13.
Gallop, Jane (1982) Feminism and Psychoanalysis: The Daughter's Seduction. London: Macmillan and Burke, Carolyn G. (1980)
'Psychoanalysis and feminism in France', in Eisenstein, Hester and Jardine, Alice (eds), The Future of Difference. Boston, Mass.: G. K. Hall, 106-22. Gilbert, Sandra M. and Gubar, Susan (1979) The Madwoman in the Attic:
The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven: Yale University Press.
Greer, Germaine (1 970), The Female Eunuch. London: MacGibbon & Kee.
Greimas, Algirdas Julien (1966) Semantique structurale. Recherche de methode. Paris: Larousse.
Haukaa, Runa (1982) Bak Slagordene. Den nye kvinnebevegelsen i Norge. Oslo: Pax.
Heath, Stephen (1978) 'Difference', Screen, 19, 3, Autumn, 51-112.
Heilbrun, Carolvn G. (1973) Toward 'Androgyne. Aspects of Male and Female in Literature. London: Victor Gollancz.
Hemnann, Claudine (1976) Les Voleuses de langue. Paris: des femmes.
Holly, Marcia (1975) 'Consciousness and authenticity: towards a feminist aesthetic', in Donovan, Josephine (ed.), Feminist Literary Criticism. Explorations in Theory. Lexington: The University Press of Kentucky, 38-47.
Holm, Birgitta (1981) Fredrika Bremer och den borgerliga romanens fodelse. Romanens modrar I. Stockholm: Norstedt.
Irigaray, Luce (1973) Le Langage des dements. Paris: Mouton.
— (1974) Speculum de Vautre femme. Paris: Minuit.
— (1976) 'Wamen's Exile'. Interview in Ideology and Consciousness (1977)
1, May, 62-76. First published as 'Kvinner i eksil', in Haugsgjerd, Svein and Engelstad, Fredrik (eds) (1976) Seks samtaler om psykiatri.
Oslo: Pax.
— (1977) Ce sexe qui n'en est pas un. Paris: Minuit. Three articles from Ce sexe have been translated into English: 'Ce sexe qui n'en est pas un', as This sex which is not one', and 'Des marchandises entre elles', as 'When the goods get together', both trans. Reeder, Claudia (1980), in Marks, Elaine and Courtivron, Isabelle de (eds), New French Feminisms, Brighton: Harvester, 99-106 and 107-10 respectively; and 'Quand nos levres se parlent', trans. Burke, Carolyn (1980) 'When our lips speak together'. Signs 6, 1, Autumn, 69-79.
— (1977) 'Misere de la psychanalyse', Critique, 30, 365, octobre, 879-903.
— (1979) Et l'une ne bouge pas sans Vautre. Paris: Minuit. Trans. Wenzel,
Helene Vivienne (1981) 'And the one doesn't stir without the other',
Signs, 7, 1, Autumn, 60-7.
— (1980) Amante marine de Friedrich Nietzsche. Paris: Minuit.
— (1981) Le Corps-a-corps avec la mere. Montreal: les editions de la
pleine lune.
— (1982) Passions elementaires. Paris: Minuit.
— (1983) La Croyance тете. Paris: Galilee.
— (1983) L'Oubli de Vair chez Martin Heidegger. Paris: Minuit.
Jacobus, Mary (1979) 'The buried letter: feminism and romanticism in Villette', in Jacobus, Mary (ed.). Women Writing and Writing About Warnen. London, Croom Helm, 42-60. (ed.) (1979) Warnen Writing and Writing About Warnen* London: Croom Helm.
— (1981) 'Review of The Madwoman in the Attic', Signs, 6, 3, 517—23.
— (1982) 'Is there a woman in this text?'. New Literary History, XIV, 1, 117-41.
Jehlen, Myra (1981) 'Archimedes and the paradox of feminist criticism', Signs, 6, 4, 575-601.
Jones, Ann Rosalind (1981) 'Writing the body: toward an understanding of l'ecriture feminine', Feminist Studies, 7, 2, Summer, 247-63.
Kaplan, Cora (1978) 'Introduction' to Elizabeth Barrett Browning, Aurora Leigh and Other Poems. London: The Wamen's Press.
(1979)4 Radical feminism and literature: rethinking Milieu's Sexual Polities', Red Letters, 9, 4-16.
Katz-Stoker, Fraya (1972) The other criticism: feminism vs. formalism', in Cornillon, Susan Koppelman (ed.), images ofWomen in Fiction: Feminist Perspectives. Bowling Green, Ohio: Bowling Green University Popular Press, 315-27.
Keohane, Nannerl O., Rosaldo, Michelle Z. and Gelpi, Barbara С (eds) (1982) Feminist Theory: A Critique of Ideology. Chicago: The University of Chicago Press.
Kofman, Sarah (1980) L *enigme de la femme: la femme dans les textes de Freud. Paris: Galilee.
Kolodny, Annette (1975) 'Some notes on defining a «feminist literary criticism»1 Critical Inquiry, 2, 1, 75-92. Reprinted in Brown, Cheryl L. and Olson Karen (eds) (1978,) Feminist Criticism: Essays on Theory, Poetry and Prose. Metuchen: Scarecrow Press, 37-58.
— (1980)4 Dancing through the minefield: some observations on the theory, practice and politics of a feminist literary criticism', Feminist Studies, в, 1, 1-25.
— (1981) Turning the lens on «The Panther Captivity»: a feminist exercise in practical criticism'. Critical Inquiry, 8, 2, 329-45. I quote from the reprint in Abel, Elizabeth (ed.) (1982) Writing and Sexual Difference. Chicago: The University of Chicago Press, 159-75.
Kramarae, Cheris (1981) Wbmen and Men Speaking. Frameworks for Analysis. Rowley, Mass.: Newbury House.
Kramer, Cheris, Thome, Barrie and Henley, Nancy (1978) * Perspectives on language and communication', Signs, 3, 3, 638-51.
Kristeva, Julia (1969) Semeiotike. Recherches pour une semanalyse. Paris: Seuil.
— (1974) Des Chinoises. Paris: des femmes. Trans. Barrows, Anita (1977)
About Chinese Wfomen. London: Boyars.
— (1974) 4La femme, ce n'est jamais ca', Tel Quel, 59, Automne, 19-24.
— (1974) La Revolution du langage poetique. Paris: Seuil.
— (1975) The system and the speaking subject', in Sebeok, Thomas A.
(ed.). The Tell-Tale Sign. A Survey of Semiotics, Lisse, Netherlands: The Peter de Ridder Press, 47-55.
— (1977) ? partir de Polylogue'. Interview with Francoise van Rossum-
Guyon in Revue des sciences humaines, 168, decembre, 495-501.
— (1977) 'Herethique de l'amour'. Tel Quel, 74, Hiver, 30-49. Reprinted as 'Stabat mater', in Kristeva, Julia (1983) Histoires d'amour. Paris: Denoel, 225-47.
— (1977) Polylogue. Paris: Seuil.
— (1977) 'Pourquoi les Etats-Unis?' (avec Marcelin Pleynet, Philippe Sollers), Tel Quel, 71/73. Automne, 3-19. (1978) The U.S. now: a conversation', October, 6, Fall, 3—17.
— (1977) 'Un nouveau type d'intellectuel: le dissident*, Tel Quel, 74, Hiver, 3-8.
— (1980) Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art.
Ed. Roudiez, Leon S., trans. Jardine, Alice, Gora, Thomas and Roudiez, Leon. Oxford: Blackwell. — (1980) 'Motherhood according to Giovanni Bellini', in Kristeva, Julia,
Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature. Oxford: Blackwell, 237-70. The first part of this essay is also translated under the title The maternal body', trans. Pajaczkowska, Claire (1981), m/f,
5 and 6, 158-63.
— (1980) Pouvoirs de Vhorreur. Paris: Seuil. Trans. Leon Roudiez (1982)
Powers of Horror. New York: Columbia University Press. (1980) The ethics of linguistics', in Kristeva Julia, Desire in Language A Semiotic approach to Literature. Oxford: Blackwell, 23-35.
— (1981) 'Wamen's time'. Trans. Jardine, Alice and Blake, Harry Signs,
7, 1.13-35.
— (1983) Histoires d'amour. Paris: Denoel.
— (1984) 'Julia Kristeva in Conversation with Rosalind Coward', in Appignanesi, Lisa (ed.) Desire. London: ICA Documents, 22—7.
Kuhn, Annette and Walpe, Ann Marie (eds) (1978) Feminism and Materialism: Women and Modes of Production. London: Routledge & Kegan Paul.
Lacan, Jacques (1966) Ecrits. Paris: Seuil. A selection trans. Sheridan,
Alan (1977) Ecrits. London: Tavistock.
— (1975) Encore. Le seminaire livre XX. Paris: Seuil.
Laplanche, Jean (1976) Life and Death in Psychoanalysis, trans. Mehlman, Jeffrey. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Leclerc, Annie (1974) Parole de femme. Paris: Grasset.
Le Doeufif, Michele (1980) 'Simone de Beauvoir and existentialism', Feminist Studies, 6, 2, Summer, 277-89.
Lemaire, Anika (1977) Jacques Lacan. London: Routledge & Kegan Paul.
Lemoine-Luccioni, Eugenie (1975) 'Review of Speculum', Esprit, 43, 3, 466-9.
(1976) Portage des femmes. Paris: Seuil.
Levy, Jette Lundboe (1980) Dobbeltblikke. От ?/beskrive kvinder.
Ideologi og aestetik i Victoria Benedictssons ferfatterskab. Kobenhavn:
Tiderne Skitter.
Lewis, Philip, E. (1974) 'Revolutionary semiotics', Diacritics, 4, 3, Fall,
28-32.
Lovell, Terry (1982) Pictures of Reality. Aesthetics, Politics and Pleasure. London: British Film Institute.
Lukacs, Georg (1972) 'Preface', in Studies in European Realism. A Sociological Survey of the Writings of Balzac, Stendhal, Zola. Tolstoy, Gorki and others. London: Merlin Press, 1-19.
Machcrey, Pierre (1966) Pour une theorie de la production litteraire. Paris: Maspero. Trans. Will, GeofTrey (1978) A Theory of Literary Production. London: Routledge & Kegan Paul.
Makward, Christiane (1978) 'Structures du silence/du delire: Marguerite Duras, Helene Cixous', Poetique, 35, septembre, 314-24.
(1984) To be or not to be.... a feminist speaker', in Eisenstein, Hester and Jardine, Alice (eds). The Future of Difference. Boston, Mass.: G.K.Hall, 95-105.
Marcus, Jane (1981) Thinking back through our mothers', in Marcus, Jane (ed.). New Feminist Essays on Virginia Woolf London: Macmillan, 1-30.
Marcuse, Herbert (1968) 4A critique of Norman O. Brown', in Negations: Essays in Critical Theory. With translations from the German by Jeremy J. Shapiro, London, Allen Lane, 227-47.
Marder, Herbert (1968) Feminism and Art, A Study of Virginia Woolf. Chicago: The University of Chicago Press.
Marini, Marcelle (1977) Territoires du feminin avec Marguerite Duras. Paris: Minuit.
Mlarks, Elaine and Courtivron, Isabelle de (eds) (1980) New French Feminisms. Brighton: Harvester.
Martin, Wendy (1970) 'The feminine mystique in American fiction', in Howe, Florence (ed.), Female Studies II. Pittsburgh: KNOW
Marxist-Feminist Literature Collective (1978) 'Women's writing: Jane Eyre, Shirley, Villette, Aurora Leigh*, Ideology and Consciousness, 1,3, Spring, 27-48.
Meisel, Perry (1980) The Absent Father. Virginia Woolf and Walter Pater. New Haven: Yale University Press.
Millett, Kate (1969) Sexual Politics. London: Virago, 1977.
Mitchell, Juliet (1971) Woman's Estate. Harmondsworth: Penguin.
(1974) Psychoanalysis and Feminism. Harmondsworth: Penguin.
(1984) Women: The Longest Revolution. Essays in Feminism,
Literature and Psychoanalysis. London: Virago.
and Jacqueline Rose (eds) (1982) Feminine Sexuality. Jacques Lacan and the ecole Freudienne. London: Macmillan.
Moers, Ellen (1976) Literary W>men: The Great Writers. New York: Doubleday. Reprinted (1977) London: The Women's Press.
Moi, Toril (1981) 'Representation of patriarchy: sexuality and epistemology in Freud's «Dora», Feminist Review, 9, Autumn, 60-74.
Montrelay, Michele (1977) LOmbre et le nom. Sur la feminite. Paris: Minuit.
Morgan, Robin (cd.) (1970) Sisterhood is Powerful:, an anthology of writings from the women's liberation movement. New York: Vintage Books.
Neususs, Arnhelm (1968) 'Schwierigkeiten einer Soziologie des utopis chen Denkens', in Neususs, Arnhelm (Hrsg) Utopie. Begriff und Phanomen des Utopischen. Neuwied: Luchtcrhand, 13-112.
Newton, Judith Lowder (1981) Women, Power, and Subversion. Social Strategies in British Fiction 1778-1660. Athens, Georgia: University of Georgia Press.
Noms, Christopher (1982) Deconstruction. Theory and Practice. London: Methuen.
Olsen, Tillie (1980) Silences. London: Virago.
Ortner, Sherry B. (1974) 'Is female to male as nature is to culture?', in Rosaldo, Michelle Zimbalist, and Lamphere, Louise (eds) Woman, Culture and Society. Stanford: Stanford University Press, 67-87.
Pajaczkowska, Claire (1981) 'Introduction to Kristeva', m/f, 5 and 6, 149-57.
Plaza, Monique (1978)' «Phallomorphic power» and the psychology of «woman» \ Ideology and Consciousness, 4, Autumn, 4-36.
Prokop, Ulrike (1976) Weiblichen Lebenzusammenhang. von der Bescranktheit der Strategien und den Unangemessenheit der Wunsche. Frankfurt: Suhrkamp.
Questions feministes (collective) (1980) 'Variations on common themes', in Marks, Elaine and Courtivron, Isabelle de (eds). New French Feminisms. Brighton: Harvester, 212-30.
Register, Cheri (1975) 'American feminist literary criticism: a bibliographical introduction', in Donovan, Josephine (ed.), Feminist Literary Criticism. Explorations in Theory. Lexington: The University Press of Kentucky, 1-28.
Rich, Adrienne (1979) On Lies, Secrets and Silence, Selected Prose 1966- 1978. Reprinted (1980) London: Virago. — (1980) 'Compulsory hetcroscxuality and lesbian existence'. Signs, 5, 4. Reprinted as a separate pamphlet (1981), London; Onlywomen Press.
Rigney, Barbara Hill (1978) Madness and Sexual Politics in the Feminist Novel. Studies in Bronte, Woolf, Lessing and Atwood. Madison: The University of Wisconsin Press.
Robinson, Lillian S. (1978) 'Dwelling in decencies', in Brown, Cheryl L. and Olson, Karen (eds). Feminist Criticism: Essays on Theory, Poetry and Prose. Metuchcn: Scarecrow Press. 21-36. First published (1971) in College English, 32, May, 879-89.
— (1978) Sex, Class and Culture. Bloomington: Indiana University Press.
— and Vogel, Lise (1972) 'Modernism and history', in Cornillon, Susan
Koppelman (ed.) Images of Women in Fiction: Feminist Perspectives. Bowling Green, Ohio: Bowling Green University Popular Press, 278-307.
Rochefort, Christiane (1972) Archaosou le jardin etincelant. Paris: Grasset.
Rogers, Katharine, M. (1966) The Troublesome Helpmate. A History of Misogyny in Literature. Seattle: University of Washington Press.
Roudiez, Leon S. (1980) 'Introduction', in Kristeva, Julia, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Oxford: Blackwell, 1-20.
Rule, Jane (1975) Lesbian Images. Garden City, N.Y.: Doubleday.
Ruthven, K. K. (1984) Feminist Literary Studies: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Said, Edward W. (1975) Beginnings: Intention and Method. New York: Basic Books.
Schweickart, Patrocinio (1982) 'Comment on Jehlen\ Signs, 8, 1, 170-6
Showalter, Elaine (1971) 'Women and the literary curriculum', College English, 32, May.
— ( 1977) A Literature of Their Own. British Women Novelists from Bronte to Lessing. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
— (1979) Towards a feminist poetics', in Jacobus, Mary (ed.), Women Writing and Writing About Women. London: Croom Helm, 22-41.
— (1981)' Feminist criticism in the wilderness', Critical Inquiry, 8, 1, 179-
Reprinted in Abel, Elizabeth (cd.) (1982) Writing and Sexual Difference. Chicago: University of Chicago Press, 9-36. — (1982) 'Comment on Jehlen\ Signs, 8, 1, 160-4. Signs (1981) 7, 1, Autumn.
Smith, Barbara (1980) Towards a Black Feminist Criticism. Pamphlet, 19 pp. New York: Out and Out Books. First published in 1977 in Conditions: Two.
Spacks, Patricia Meyer (1976) The Female Imagination; A Literary and Psychological Investigation of Women's Writing. London: Allen & Unwin.
Spender, Dale (1980) Man Made Language. London: Routledge & Kegan Paul. (1982) Women of Ideas and What Men Have Done to Them. London: Routledge & Kegan Paul.
Spivak, Gayatri Chakravorty (1981) Trench feminism in an international frame', Yale French Studies, 62, 154-84.
Stanton, Domna С (1980) 'Language and revolution: the Franco-American dis-connection', in Eisenstein, Hester and Jardine, Alice (eds), The Future of Difference. Boston, Mass.: G. K. Hall, 73-87.
Stone, Jennifer (1983) The horrors of power: a critique of Kristeva // in Barker, Francis et al. (eds). The Politics of Theory. Proceedings of the Essex Conference on the Sociology of Literature, July 1982. Colchester: University of Essex, 38-48.
Stubbs, Patricia (1979) Women and Fiction. Feminism and the Novel 1880-1920. Brighton: Harvester; London: Methuen, 1981.
Taylor, Barbara (1983) Eve and the New Jerusalem: Socialism and Feminism in the Nineteenth Century. London: Virago.
Thome, Barrie and Henley, Nancy (1975) 'Difference and dominance: an overview of language, gender, and society', in Thorne Barrie and Henly, Nancy (eds.). Language and Sex: Difference and Dominance. Rowley, Mass.: Newbury House, 5-42.
Vblosinov, V. N. (1929) Marxism and the Philosophy of Language, Trans. Matejka, Ladislav and Titunik, I. R. (1973). New York: Seminar Press.
Wfenzel, Helene Vivienne (1981) 'Introduction to Luce Irigaray's «And the one doesn't stir without the other»', Signs, 7, 1, Autumn, 56-9
White, Allon (1977) 'L'eclatement du sujet’: The Theoretical Work of Julia Kristeva. Birmingham: University of Birmingham Centre for Contemporary Studies. Stencilled Occasional Paper no. 49.
Whitman, Wilt (1855) Leaves of Grass, in The Portable Walt Whitman. Harmondsworth: Penguin, 1977.
Wittgenstein, Ludwig (1963) Philosophical Investigations, trans Anscombe, GEM, Oxford: Blackwell.
Wolff, Janet (1981) The Social Production of Art. London. Macmillan
Woolf, Virginia (1925) Mrs Dalloway. Harmondsworth: Penguin, 1964. - (1927) To the Lighthouse. London. Dent, 1977 - (1929) A Room of One's Own. London: Granada, 1977. - (1938) Three Guineas. Harmondsworth' Penguin, 1977.
Wright, Elizabeth (1984) Psychoanalytic Criticism: Theory in Practice London: Methuen. Yale French Studies (1981) 62.
Zimmerman, Bonnie (1981) 'What has never been: an overview of lesbian feminist literary criticism', Feminist Studies, 7, 3, 451-76.
Увидевшая свет в 1985 году книга Торил Мой не только не утратила своей актуальности, но. напротив, вошла в число классических paбот по истории, теории и методологии женского литературного критицизма. В ней освещаются основные теории феминистской и нефеминистской критики, касающиеся понятий женской литературы, женского авторства, женского чтения, женского опыта и так называемых женских стилей письма. Автор подробно анализирует сильные и слабые стороны англо-американской и французской школ теоретической мысли, рассматривая работы таких критиков, как К. Миллегт. Э. Моэрс. С. Гилберт и С. Губар. Э. Шоуолгер, а также С.де Бовуар. Ю.Кристевой. Л. Иригарэ. Е. Сиксу и мн. др. Книга освещает вопросы взаимоогно- шений женской литературной критики с теориями новой критики, структурализмом, леконструктпвизмом, психоанализом. Написанная популярным, живым языком книга может представлять интерес не только для студентов и специалистов в области женской литературы, современной зарубежной философии и критики, тендерных исследований, но и для читателей, интересующихся современными культурными процессами, новыми тенденциями в области гуманитарных знаний.
© Rout ledge/Taylor and Francis Books
© Липовская О., перевод, 2004 ISBN 5-89826-226-1
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
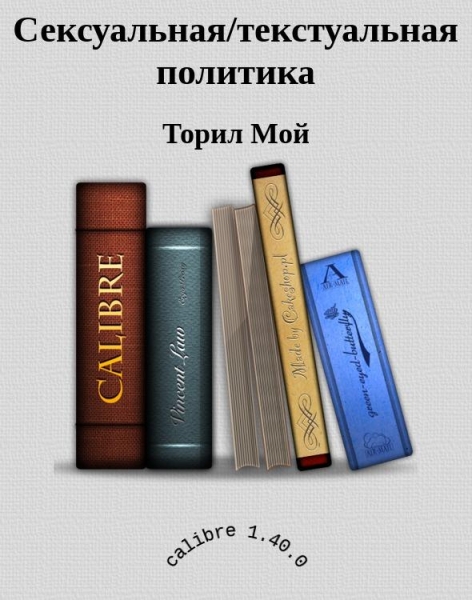


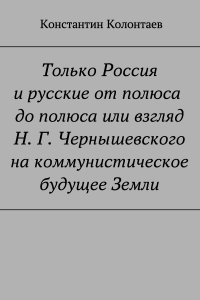
Комментарии к книге « Сексуальная/текстуальная политика», Торил Мой
Всего 0 комментариев