Это новое издание исследований и статей Анатолия Константиновича Котова выходит сейчас, в 1979 году, когда автору, будь он жив, исполнилось бы семьдесят лет. Дата, достойная того, чтобы отметить ее новым изданием большой, серьезной книги, вобравшей в себя главные плоды работы Анатолия Константиновича Котова как литературоведа и критика.
Анатолий Котов был талантливым исследователем, и я бы, пожалуй, добавил, исследователем–однолюбом; главное в его книге —это работы, связанные с творчеством Короленко, с историей его жизни и его произведений, с его записными книжками, с его перепиской с другими писателями, с оценками его книг и его благородной общественной деятельности, которая была дана многими замечательными современниками Короленко, и в их числе прежде всего Горьким.
В книге отдано немало страниц не только Короленко, а и другим писателям, но — невозможно ошибиться на этот счет — Короленко был главной любовью Котова как критика, как исследователя, да и, по–моему, просто как человека определенного склада души и определенных взглядов на жизнь. Не беру на себя смелости судить, так ли это, но, как мне кажется, с большой долей вероятности можно предполагать, что жизненный пример Короленко оставался для Котова значительным на протяжении всей его жизни и что в собственной жизни и работе ему хотелось следовать нравственному примеру того писателя, которого он любил и произведения которого исследовал с завидным постоянством.
Разумеется, Котов жил в другие времена, в эпоху иных политических и общественных проблем, но думается, что и в совсем иную эпоху высокий нравственный пример истинного демократизма, безотказного, самоотверженного служения людям, стремление соблюдать и восстанавливать справедливость, — все это, связанное с обликом Короленко, имело значение для человека, занимавшегося на протяжении многих лет его творчеством, и даже, по–моему, накладывало отпечаток на саму жизнь Котова, на его работу.
Я знал его на протяжении многих лет по его работе в Государственном издательстве художественной литературы. Первые наши встречи относились к 1933 году, когда я, восемнадцатилетним парнем, рискнул притащить свои первые стихи в литературную консультацию ГИХЛа, где вместе с другими добрыми людьми работал еще совсем молодой, двадцатичетырехлетний, начинающий тогда редактор — Анатолий Константинович Котов.
А последние наши встречи относились к 1956 году, когда Котов, к тому времени уже давно, на протяжении восьми лет, был директором издательства.
В издательстве он проработал почти четверть века, в сущности, если считать с окончания университета — всю свою жизнь, хотя работать ему привелось и до университета, работал он и совхозным сторожем, и сельским учителем, и сельским газетчиком. И наверное, его первые юношеские работы тоже наложили отпечаток на характер этого человека. Но главным образом характер этот проявился в Гослитиздате на всех тех должностях, которые занимал там Котов, начиная от самой скромной и кончая самой высокой.
Это был человек на редкость, удивительно не менявшийся — ни с годами, ни с должностями: такой же ровный, спокойный, внимательный, терпеливо–твердый в отстаивании своих взглядов и позиций и при этом неизменно, в самых сложных случаях, стремившийся найти справедливое решение того или иного, порой каверзного, издательского вопроса.
Есть люди, которых ты вспоминаешь очень разными: в молодости и безвестности — одними, в зрелости и в известности — другими. А есть люди, которых вспоминаешь неизменными, то есть, разумеется, их меняют и годы и опыт, — — но что–то самое главное, какие–то самые основные принципы отношения к людям и к делу у них не меняются. Обычно это и есть самые настоящие люди. К таким, самым настоящим, людям принадлежал и Анатолий Константинович Котов.
Работая в Гослитиздате, с годами он печатал все больше серьезных статей, занимался литературными исследованиями, стал членом Союза писателей, но что примечательно — он был не из тех людей, которые способны отрываться от главного, порученного им дела, — а таким делом он, пока работал в издательстве и пока руководил им, разумеется, считал издательство. Он был не из тех людей, которые, самоощущая себя творческими работниками, склонны искать себе поблажек в своих непосредственных служебных делах. Своими статьями, исследованиями он занимался только в свободное время, которого у него было — ох как мало! Но это лишь одна сторона дела. А вторая сторона дела состояла в том, что служебная деятельность в Гослитиздате для Котова — человека истинно и преданно любившего литературу — была главным литературным занятием в его жизни. Именно этим он прежде всего и жил как литератор. Каждая новая, хорошая, вышедшая в издательстве книга была его личной радостью. И быть может, именно поэтому — из–за той меры отдачи не только времени, но и душевных сил, с которой была связана для этого человека его работа в Г ослитиздате, — мы сейчас, когда ему исполнилось бы семьдесят лет, можем издать всего одну хорошую, серьезную, но все–таки лишь одну, написанную им самим книгу.
Но рядом с этой книгою остается еще и память о почти четверти века, проработанной Анатолием Котовым в издательстве, где сейчас выходит эта книга. И хочу добавить, что мне, например, не так уж часто в жизни приходилось встречаться со столь длительной и благодарной памятью, которая продолжает сохраняться в коллективе о человеке, ушедшем из этого коллектива уже больше двадцати лет тому назад.
Константин Симонов
ДЕНИС ДАВЫДОВ
В свое время Белинский писал о том, что Давыдову принадлежат «три славы: слава воина, слава поэта и слава отличного прозаического писателя». Действительно, знаменитый партизан Отечественной войны 1812 года был и замечательным поэтом, и первоклассным мастером повествования в прозе. Великий современник Дениса Давыдова Пушкин, всегда дороживший дружбой поэта–партизана, считал Давыдова в числе своих литературных учителей.
Первые стихи Дениса Давыдова относятся к 1803 году. Они прославили девятнадцатилетнего автора, хотя напечатаны не были. Освобожденные от условностей классического стиха XVIII века и прежде всего от традиционной благонамеренной морали, его стихи дышали той иронией, которая шла гораздо дальше простой поэтической вольности. Антиправительственные по духу, многие из этих стихов распространялись в рукописных копиях, конспиративным путем, и такие, например, из них, как басня «Голова и ноги» и «Сон», получили особенно широкую известность.
Много лет спустя, уже после кровавого подавления Декабрьского восстания 1825 года, один из декабристов писал из крепости: «Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободою, кто не цитировал басни Дениса Давыдова «Голова и ноги»…»
Ранние стихи Дениса Давыдова послужили основанием для преследований поэта. В 1804 году Денис Давыдов был взят на подозрение и вскоре переведен из гвардейского полка в Белорусский гусарский полк, расположенный в Киевской губернии.
Дальнейшая же слава Дениса Давыдова, как партизана и героя войны с Наполеоном, отнюдь не уберегла поэта от преследований и издевательств со стороны «людей сухой души и тяжкого рассудка», как называл Давыдов генералов аракчеевской поры.
В борьбе с Наполеоном Денису Давыдову принадлежит безусловно почетное место. Он был в числе немногих русских офицеров, своевременно оценивших великую силу гнева народа, поднявшего знамя партизанской борьбы.
В романе «Война и мир» Лев Толстой следующим образом пишет о Давыдове: «Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение той страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны».
Известно, что партизанский отряд Давыдова, действуя в тылу наполеоновской армии, первым научился бить французов. В 1813 году партизанский отряд Дениса Давыдова, как пишет Белинский, «рванулся вперед и занял половину Дрездена, защищенного корпусом Дюрота». Однако знаменитый партизан был принесен в жертву честолюбию крупных военных чиновников, которые боялись, что слава Дениса Давыдова затмит их имена. После взятия Дрездена Давыдов был послан в тыл.
Дальнейшая военная карьера Дениса Давыдова была неблестяща. В мрачные времена аракчеевщины он пробовал протестовать против черной реакции бездарных генералов, «у которых убито стремление к образованию» и которые предпочитали боевым людям «любителей изящной ремешковой службы». Однако Давыдов вынужден был выйти в отставку и поселиться в глухой деревне Симбирской губернии.
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу Попрали сильные. Счастливцы горделивы, Невольным пахарем влекут меня на нивы, —писал Денис Давыдов в стихотворении «Бородинское поле».
В это время в основном и создавались «Военные записки» Дениса Давыдова. «Не позволяют драться, я принялся описывать, как дрались», — говорил он.
Большой интерес представляют воспоминания Дениса Давыдова о Суворове, Кульневе и Багратионе. Встречам своим с Суворовым и Кульневым он посвятил специальные очерки. Он блестяще изобразил этих замечательных людей, в каждом из них найдя свои особенности, наиболее высоко оценивая Суворова, как первого русского полководца, подобно Наполеону «шагнувшего исполинским махом» в деле военного искусства. Денис Давыдов приводит большой материал, свидетельствующий о независимости, с которой держался Суворов в своих отношениях с царским двором.
Денис Давыдов первым из военных писателей выступил с разоблачением версии о морозах как единственной причине поражения армии Наполеона в России. Он блестяще доказал несостоятельность этой версии, широко поддерживаемой во французской мемуарно–исторической литературе, сославшись кстати на то обстоятельство, что осенью 1812 года сильных морозов не было, и выставил действительные причины разгрома наполеоновской армии: беспредельный героизм русского народа, его армии и партизанских частей, действовавших в тылу у неприятеля, и гениальный план Кутузова, «заманившего неприятеля» в Москву.
«Военные записки» Дениса Давыдова являются ценнейшими мемуарными произведениями русской литературы первой половины XIX века. Замечательна их форма, в высшей степени непринужденная, богатая действительно глубоким изображением интимного мира и в этом смысле приближающаяся к лучшим образцам художественной прозы. Отличен язык «Военных записок» — полный экспрессии и истинно поэтической одухотворенности. Давыдов сыграл большую роль в демократизации русского литературного языка, внеся в него просторечье солдатской лексики. Несомненно влияние прозы Дениса Давыдова на язык пушкинской прозы. Известно, как высоко оценивал мемуары Дениса Давыдова сам Пушкин, посвятивший своему «отцу и командиру» несколько стихотворений.
На 20–е и 30–е годы падает расцвет поэтической деятельности Дениса Давыдова. Он все больше и больше сближается с Пушкиным, сотрудничает в пушкинском «Современнике» и мечтает о составлении вольного общества поэтов.
Основной темой творчества Дениса Давыдова продолжает оставаться собственная жизнь воина–партизана. «Он был поэт в душе, — писал Белинский, — для него жизнь была поэзиею, а поэзия жизнью».
Военная тема, до того представленная в русской поэзии в отвлеченном, следовало бы сказать, одописном виде, в стихах Дениса Давыдова получила совершенно новое направление. Он сделал свой стих легким, полным внезапности, насытив его тем «энергическим порывом чувства», который особо подчеркивал Белинский, говоря о стихах Давыдова.
Большой интерес представляют «Военные записки» Дениса Давыдова. В них он пишет о партизанских действиях в 1812 году — о «нравственной силе народа, вознесшейся до героизма», много уделяет внимания военному быту того времени, в своем изображении часто поднимаясь до обличения военного начальства. Известно, что Пушкину, которому слал Давыдов свои повести, стоило немалых трудов спасти часть из них от «умогасительной цензуры» и напечатать в «Современнике».
Денисом Давыдовым еще не однажды будут заниматься историки и литературоведы. Он вполне заслуживает этого. Он заслуживает и глубокого уважения, которое в наше время и оказывается этому воину–партизану и прекрасному поэту.
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ В. Г. КОРОЛЕНКО
Записные книжки В. Г. Короленко представляют собой черновые наброски и первоначальные записи «с натуры», которые вел писатель в продолжение двадцати лет. Они начинаются в 1881 году с сибирских заметок, которые делал Короленко по пути в ссылку, и кончаются в 1900 году первоначальными набросками к неоконченной повести о Пугачеве. Период, который охватывают изданные записные книжки, в значительной мере был определяющим в формировании литературно–политических взглядов Короленко и творчески наиболее напряженным. Вот почему короленковские записные книжки за указанное двадцатилетие литературной деятельности писателя представляют особенно интересный материал и наряду с дневниками писателя наиболее полно знакомят с общественными и литературными взглядами Короленко и с техникой его работы, с процессом формирования образа, начиная от разрозненных замечаний о действительности, с записи значительных «мелочей» до законченных отрывков уже сложившихся произведений.
Короленко мастерски пользовался записной книжкой и чрезвычайно высоко ценил ее значение для своей работы. При любых обстоятельствах, по собственному замечанию Короленко, «в дороге или на остановках, в тюрьмах», в книжку записывался самый разнообразный материал. Короленко вносил сюда характерные выражения, просторечия, формулировки тем и сжатое их изложение, сцены и наиболее значительные факты, встречавшиеся писателю, наконец первоначальные наброски' очерков и рассказов, связанных с его пребыванием в Сибири, в Нижегородской губернии и с поездками в Румынию и на Урал. Уже характер записывания всего этого обнаруживает писательскую точку зрения и художнический подход к действительности. Разрозненные заметки и «натуральный», по выражению Короленко, материал записных книжек сразу обнаруживают точку зрения писателя, смело, хоть и непоследовательно критикующего современный ему строй и в силу своего свободомыслия разрешающего социальные вопросы. В формулировании темы о «придорожном столбе сибирского тракта» или о «бедном студенте», в списанных с натуры чертах российского держиморды, образу которого Короленко намеревался посвятить специальный рассказ «Последний Мымрецов», — постоянно ощутим этот писательский подход к действительности, сильный в своем протесте и беспомощный, как только дело доходило до беспощадных выводов.
Уже в отборе отдельных выражений и бытовых деталей видна не столько этнографическая любознательность, сколько устремленность художника запомнить для себя наиболее характерные признаки действительности, так, чтобы со временем по ним можно было восстановить необходимые для творческой работы обстоятельства и воссоздать образ, черты которого нередко были заключены для Короленко в одном таком выражении. Вот некоторые из отрывочных фраз, записанных писателем по пути из якутской ссылки:
«Я бросил судьбу свою в море».
«Тонки да долги версты у нас».
«Остался, собственно, по случая писаря».
«Я вижу, ямщику верь только до порога».
«Ну, со временем, я так думаю, от женщины и зло и добро происходит».
«Хоть худенький — худой бог, ну все же делам те правит».
Нетрудно понять, что для Короленко эти фразы были не только любопытными выражениями, но и в каждом отдельном случае содержательными намеками на определенные обстоятельства, нужные писателю для создания образа. Выражение о «худеньком боге» позднее определило собой образ Микеши в «Государевых ямщиках». По поводу этого выражения, почти через двадцать лет после занесения его в записную книжку, Короленко, боясь, что цензура не пропустит упоминания о «худеньком боге», специально писал Михайловскому: «Есть у меня в главе «Микеша» одно местечко о «худеньком боге». Было бы очень жаль, если бы цензор по недоразумению выкинул. Очерк сильно побледнеет. Да и причин для этого, думаю, нет. Ведь есть же и прямые язычники. Почему же не быть человеку, который верит в худенького бога»[1].
«Натуральный материал» записных книжек писателя с особенной точностью воспроизводит своеобразие языка и выразительность говорившего. Очевидно, какому социальному типу должна принадлежать, например, такая реплика: «Ах милые мои, родимые! Анделы вы мои любезные. Простите вы меня! Ах!.. Как бы мне вас, милые мои, не обидеть! А обижу, простите Христа ради». Так и чувствуется здесь разбитной, легкий на язык мещанин, который знает, что ему простится, как бы ни были обижены «анделы мои любезные», которых он, по собственному убеждению, кое в чем превосходит. Часто такие записи бывают чрезвычайно кратки, и тем не менее очевидно, что они содержат в себе значительную и характерную черту интересующей писателя действительности. Характерна такая запись, сделанная на пути из Якутской области и, как все сибирские заметки, отличающаяся особенной краткостью:
«Шум, споры.
— Отчего у вас такие споры? Неужто между собой не можете разобраться?
— Такая наша обязанность, ямщицкая.
— Ничего не поделаешь».
Опять–таки этот отрывочный разговор указывает на определенные обстоятельства, в связи с которыми он только и может быть с особой выразительностью воспроизведен.
Позднее Короленко расширял подобные записи, полнее и ощутимей намечая черты говорившего и сразу устанавливая последовательность и темп диалога. Вот запись 1889 года, полностью (несколько в исправленном виде) вошедшая в рассказ «Река играет».
«— Беда моя. Голову всеё разломило.
— Отчего? — От Тюлина несло довольно явственно водкой.
— Отчего? Кабы выпил — ну! А то не пил.
Он подумал.
— Давно не пью я… Положим, вчера выпил.
Опять подумал.
— Кабы много. Положим, довольно я выпил вчера. Так ведь сегодня не пил.
— Видно, с похмелья.
Он серьезно посмотрел на меня. Мысль показалась ему вероятной.
— Разве либо от этого, ноньче немного же выпил.
Пока таким образом Тюлин медленным, но тем не менее верным путем приближался к истине, — на том берегу между кустов замелькала по дороге над речкой телега».
Основные черты Тюлина, блестяще воспроизведенные в известном рассказе, уловлены уже в приведенных и продолжающихся далее записях «с натуры». Короленко из великого множества изученных им за время его скитаний по Поволжью людей отобрал этот богатый и знаменательный для тогдашней действительности тип и образом его, по выражению М. Горького, сказал «огромную правду».
Близки к таким записям и рассказы, занесенные писателем в записную книжку с чьих-либо слов. Как и всюду, Короленко сохраняет в таких случаях выразительность языка рассказчика, стараясь передать рассказ таким, как он его слышал сам. Сказочный сюжет, записанный Короленко на ветлужском пароходе, начинается так: «Жили–были старик со старухой, да и то же самое, как мы грешные, дожились до того же. Потому, видишь ты — старичок охотничек был, а у охотничков, знаешь сам, — что у киловязов, да у коновалов — поись нечего». Иным языком записан рассказ Петра Михайлова, бывшего солдата, с которым встречался Короленко в Румынии; уже начало этого рассказа прекрасно передает своеобразную выразительность речи этого бывалого, прошедшего «сквозь огонь и воду» человека: «Миколаевский был, у Севастополь ходил. Трудно было, ах трудно было под Севастополем. Много народу погибло. Товарища моего из одной деревни убили. Его вбили, а говорит: —• Слушай, Петр Михайлов, вбили меня. А у меня деньги. Так пропадуть деньги дарма. Бери из штанов себе 400 рублей, все бери. Вбили меня. — А я говорю: не возьму. — Почему не возьмешь, пропадуть (придуть после у поле турки или эгличи, как вороны на падаль, возьмуть усе равно). — Пущай беруть, а я не беру. Сейчас, говорю, тебя вбили, а потом меня убьют. Тут такой базар, что без денег себе смерть купишь. Не надо. — Ну прощай, — говорит. — Прощай. Помер. А я остался».
Внося в записную книжку чаще всего разрозненный фактический материал, Короленко иногда здесь же набрасывает и контур будущего произведения. Как правило, это делалось так: в изложение натурального материала вставляется прямое отступление, высказывающее отношение писателя к наблюдаемой действительности и намечающее в связи с этим круг вопросов, которые должны быть подняты в произведении. Такое отступление, имевшее место и в рассказах и очерках Короленко, определяет собой не только точку зрения, с которой писатель смотрит на излагаемые события, но и конструкцию будущего произведения. Изложение, например, фактического материала в записной книжке, которую вел Короленко по пути в сибирскую ссылку, снабжено таким отступлением: «Что рассказать, какие нарисовать картины? Громадность расстояний, единообразие, пустота и ширь, необъятная, величавая, дикая… Степь, так уж степь, река, так река — море; волны да небо, да низкий ровный, точно срезанный берег, поросший мелкой «талой». Лес — тайга непроходимая… А между тем эта пустота имеет свою физиономию. Она говорит вам своим языком, смотрит на вас своим, ей только свойственным взглядом… Попробую… Но для этого позвольте мне познакомить вас с моим спутником и чичероне».
На этом запись и обрывается, но читатель, усвоивший литературную манеру Короленко, уже представляет себе возможную композицию этого неоконченного произведения.
Записные книжки знакомят нас с одним из вариантов наиболее известного рассказа В. Г. Короленко «Сон Макара». Как известно, этот рассказ кончается примирением разгневанного Макара с добродушным Тойоном и «божьими работниками». Макар, как известно, за «таинственными гранями» находит впервые справедливость и попадает после «бедной своей жизни» в то особенное положение, которое возможно было только в иллюзии.
Совсем иначе выглядит вариант из записной книжки.
Здесь прежде всего усилена ярость Макара против тех, кто был ответствен за его скверную жизнь. Соответствующее место рассказа, посвященное описанию гнева Макара, в записных книжках дополнено следующими строками: «…и он стал засучивать рукава, готовясь вступить в драку… Он знал, что при этом ему страшно достанется, но даже в этом находил какую–то жестокую отраду: если так, — пусть же его бьют… Пусть бьют его насмерть, потому что и он будет бить… тоже насмерть». Больше того: в рассказе Макар остается в положении смиренного праведника, нашедшего истинную и вечную правду, в записных книжках Короленко возвращает Макара к действительности. Макара будит «его старуха», встревоженная слезами, которые он умиленно лил вместе со всеми присутствующими на небесном судилище. Макар проснулся, увидел черные стены своей избы, что склонились над ним, «как стенки гроба», и понял, что плачет, но «это были горькие слезы о том, что он жив, что он не умер действительно». Очевидно, что в рассказе по сравнению с этим поздним вариантом[2] смягчена резкость тона и сохранена надежда на возможность перед лицом «вечной правды» миролюбивого разрешения вопроса о социальном неравенстве. В записной книжке Короленко решительно разбивает собственную иллюзию и, по существу, возвращается к действительности, оставаясь верным тому реальному представлению о своем Макаре, в силу которого этот образ с особенным успехом был изображен именно в первой, большей части рассказа. Вот почему нельзя согласиться с предисловием к «Записным книжкам», которое тот факт, что Короленко отдал преимущество более умеренному варианту рассказа, расценивает только как «художественный такт» и вовсе не отмечает в варианте записной книжки проявления того революционного размаха, который сопутствовал короленковскому реализму и который Короленко постоянно сам «сдерживал» во имя им самим осмеянной «благонамеренной идеалистически–народнической лжи».
Само собой разумеется, что не все, что попадало в записную книжку, использовалось писателем в произведениях. Весь «натуральный материал» проходил сквозь призму творческой инициативы писателя и только в его законченных вещах объединялся в художественно–цельные организмы. Уже в очерках «Голодный год», написанных по фактическим материалам, которые предварительно были занесены в записную книжку, Короленко меняет объем и последовательность изложения и переделывает разрозненные заметки записной книжки в связное повествование о лукояновских событиях. Но чаще Короленко меняет не только границы содержания. Характерные и чрезвычайно яркие сибирские эпизоды, записанные писателем во время ссылки, только в рассказах о Сибири действительно оживают, но, как правило, они предстают в них в иной комбинации и с иной идеей.
Содержание рассказа «Черкес», появившегося в печати в 1892 году, излагает событие, описанное в записной книжке за 1884 год. Основной эпизод — встреча со спиртоносом–черкесом, которого пытаются ограбить сопровождающие Короленко жандармы, — в рассказе остается неизменным. Но в записной книжке вовсе не раскрыты образы сопровождавших писателя жандармов. О них просто сказано, что они смотрели на черкеса взглядом «цепной собаки, рассчитывающей — не коротка ли цепь, чтобы кинуться на добычу?». В рассказе эти «военные люди», особенно один из них, выведены достаточно полно. Целый ряд обстоятельств добавлен, и образ хищника, строящего планы на той практической мысли, что «народ у нас к вину наважен», получает резкую выразительность и определенность. Уточняется и образ самого «черкеса»: рассказ доводит до предела стихийную силу «черкеса», тогда как в записной книжке только читатель рассказа получает возможность сравнить трусливого и низменного человека правопорядка со свободным «хищником», чей «дикий крик» «носится в воздухе над печальной и дикой страной».
Особенно интересна история создания рассказа «Мороз». Основное обстоятельство, из которого возник сюжет этого рассказа, было записано писателем в 1884 году. Возвращаясь из ссылки, Короленко в лесу между двумя станциями увидел замерзающего человека. Он «увечный», как сообщает о нем ямщик, а идти ему «не менее 1000 верст». «Мы давно уже уехали, — добавляет Короленко, — но перед моими глазами все еще мерещилась между стволами синяя струйка дыма и эта темная фигура обреченного на скорую гибель человека… Так гибнет на морозе отсталая обессиленная птица, тоскливо следящая взорами за свободным полетом своих вольных товарищей».
В 1901 году в «Русском богатстве» Короленко опубликовал рассказ «Мороз». В рассказе излагался этот эпизод, но с совершенно неожиданным смыслом. Соответственно замыслу, в рассказ было введено много нового материала и героем был сделан человек, которого вовсе не было в первоначальных записях. Этот герой тоже видит замерзающего поселенца, но проезжает мимо него в страшный мороз (в записной книжке мороз только ожидается), когда «замерзают» человеческие чувства, а совесть вовсе превращается в ледяшку. В эти минуты поселенец и был предоставлен самому себе. Но стоило герою, мечтателю и романтику, приехать на станцию, как совесть оттаяла и человек особенно остро ощутил свое преступление. Смысл этого рассказа — в болезненном реагировании на возможность утери человеколюбия, горячий протест против «замерзнувшей совести». Именно эта идея и объединила разрозненные записи и отдельный эпизод через шестнадцать лет после записи его писателем превратила в художественно законченное произведение.
В таком отношении к записным книжкам (и дневникам) писателя стоит большинство произведений Короленко. Умея хорошо наблюдать и со слуха записывать, Короленко тем не менее подолгу работал над своими вещами и всегда мог идейно–художественным требованиям подчинять хроникальную и фактическую точность «натурального материала». Тем не менее и сам «натуральный материал», собранный писателем в действительности и занесенный в его записные книжки, был настолько значителен, что оставался действенным и при формировании этого материала в художественное произведение и постоянно предостерегал писателя от «народнической лжи». «Что писать? Лгать не хочу и не могу», — замечает Короленко в дневнике за 1897 год, когда слишком очевидно стало для него противоречие между «народническими книгами» и «натуральным материалом» самой действительности.
Вслед за чеховскими записными книжками записные книжки Короленко становятся в ряд учебных книг молодого писателя. Они знакомят с творчеством писателя с внутренней стороны, что не менее интересно и поучительно, чем знакомство с отдельным законченным произведением.
1935
В. Г. КОРОЛЕНКО
Писатель яркого и большого дарования, Короленко вошел в историю русской литературы как автор многочисленных повестей и рассказов, художественных очерков, четырехтомной «Истории моего современника», наконец как критик и публицист. Многие произведения Короленко могут быть поставлены в ряд с крупнейшими достижениями русской классической литературы. Его творчество, отмеченное чертами глубокой самобытности, составляет своеобразную летопись целой эпохи русской действительности. Повести, рассказы и очерки Короленко реалистически изображают русскую деревню в период быстрого развития капитализма на рубеже двух веков и раскрывают многие стороны народной жизни, которые до того не отмечались в литературе.
Расцвет литературной деятельности Короленко относится ко второй половине 80–х годов. В глухую полночь реакции, когда все передовое и свободолюбивое в русском обществе подавлялось полицейским произволом царизма, голос молодого писателя прозвучал новым на–поминанием о живых силах народа. Горячим защитником человека от рабства, зла и неправды капиталистического мира, непримиримым врагом насилия и реакции Короленко выступает и в последующем своем творчестве. Высоким гражданским пафосом, безграничной любовью к родине отмечена вся общественная и литературная деятельность Короленко, и весь он — человек и художник — встает перед нами, по справедливому замечанию А. М. Горького, как «идеальный образ русского писателя».
I
Владимир Галактионович Короленко родился 27 июля 1853 года на Украине, в городе Житомире Волынской губернии. Учился сначала в частном пансионе, затем в житомирской гимназии. Когда Короленко исполнилось тринадцать лет, его отца перевели по службе в маленький уездный городок Ровно, где будущий писатель окончил с серебряной медалью реальную гимназию.
Отец писателя, чиновник судебного ведомства, получивший образование в кишиневском «непривилегированном пансионе», выделялся в среде провинциального чиновничества разносторонностью культурных запросов и неподкупной честностью, что делало его для окружающих чудаковатым, непонятным человеком. После его смерти обыватели говорили: «Чудак был… а что вышло: умер, оставил нищих». Пятнадцатилетний Короленко, как и вся его семья, после смерти отца действительно оказался перед лицом непреодолимой бедности, и нужны были поистине героические усилия матери, чтобы он смог закончить гимназию. «Отец оставил семью без всяких средств, — вспоминал впоследствии писатель, — так как даже в то время, при старых порядках, он жил только жалованьем и с чрезвычайной щепетильностью ограждал себя от всяких благодарностей и косвенных и прямых приношений». Атмосфера семьи, где господствовали дружеские отношения, воспитывались честность, правдивость и прямота характера, благотворно сказалась на духовном развитии ребенка.
В детстве Короленко мечтал стать героем, пострадать за родной народ. «Маленький романтик», как он сам назвал себя впоследствии, помогал укрыться в заброшенном сарае крепостному мальчику, бежавшему от злого пана, горячо сочувствовал судьбе бедного крестьянского юноши — «Фомки из Сандомира», героя первой прочитанной книги. В эти годы Короленко был в значительной степени предоставлен самому себе и пользовался почти неограниченной свободой. Долгими вечерами, забившись в темный уголок кухни, он любил слушать украинскую сказку, которую рассказывал кучер отца или забежавшая на огонек соседка. Во время гимназических каникул он жил в деревне, наблюдая тяжелую, подневольную жизнь украинских крестьян. Впечатления детских и юношеских лет дали ему материал для многих произведений. Достаточно вспомнить образ Иохима из «Слепого музыканта», исполненный глубокой поэзии очерк «Ночью», яркий колорит сказочного «Иом–Кипура», описания украинской деревни в «Истории моего современника», чтобы понять, какой сильный отзвук в творчестве писателя нашла жизнь украинского народа.
В раннем детстве Короленко видел бесчеловечную жестокость времен крепостного права; зверские помещичьи расправы с крестьянами он наблюдал и после реформы 1861 года. Мимо его внимания не проходили и факты повального взяточничества чиновников. В «Истории моего современника» Короленко с великолепным мастерством нарисовал образы чиновников уездного суда и мрачные фигуры высшего начальства, этих, по выражению писателя, «сатрапов», власть которых обрушивалась на население с тупой и бессмысленной силой. С детства он знал и о национальном неравенстве, которое особенно давало себя чувствовать в Юго–Западном крае России, где прошли детские годы писателя.
Годы, проведенные в уездной гимназии, с ее «тусклым и жестоким режимом», с учителями-автоматами, с телесными наказаниями и карцером, но в то же время с дружной товарищеской средой, где втайне от администрации распространялись книги революционно–демократического направления, —-сыграли громадную роль в формировании характера и мировоззрения Короленко. И хотя в школьную программу не входили имена Гоголя, Тургенева, Некрасова, а за упоминание Белинского, Добролюбова, Чернышевского и Шевченко сажали в карцер и давали «волчий билет», Короленко с восторгом читал «Записки охотника», знал чуть ли не наизусть всего Некрасова и ставил себе в образец для подражания революционера Рахметова из романа Чернышевского «Что делать?».
Очень многим Короленко обязан учителю Ровенской гимназии Авдиеву. Именно на его уроках Короленко впервые услышал статьи Добролюбова, рассказы Тургенева, пьесы Островского, стихи Никитина и Некрасова. Авдиев читал гимназистам и стихи великого поэта Украины Тараса Шевченко, который незадолго до того умер, возвратившись из многолетней ссылки. Конечно, в условиях жестокого гимназического режима такой преподаватель попал под подозрение, и в конце концов Авдиеву пришлось уйти из гимназии. Вот как об этом вспоминал сам Короленко:
«Однажды Авдиев явился в класс серьезным и недовольным.
— У нас требуют присылки четвертных сочинений для просмотра в округ, — сказал он с особенной значительностью. — По ним будут судить не только о вашем изложении, но и об образе ваших мыслей. Я хочу вам напомнить, что наша программа кончается Пушкиным. Все, что я вам читал из Лермонтова, Тургенева, особенно Некрасова, не говоря о Шевченко, в программу не входит.
Ничего больше он нам не сказал, и мы не спрашивали… Чтение новых писателей продолжалось, но мы понимали, что все то, что будило в нас столько новых чувств и мыслей, кто–то хочет отнять от нас; кому–то нужно закрыть окно, в которое лилось столько света и воздуха, освежавшего застоявшуюся гимназическую атмосферу…»
Сознание Короленко было рано разбужено ощущением той большой неправды, которую он наблюдал в жизни. С желанием помочь народу и с «едким чувством вины за общественную неправду» Короленко в 1871 году, по окончании реальной гимназии, приехал в Петербург и поступил в Технологический институт. Его студенческая жизнь началась с того, что он окунулся в атмосферу общественных интересов, которыми жила передовая молодежь. Он становится участником многочисленных студенческих сходок, где велись горячие споры на философские и социально–экономические темы.
Вскоре Короленко принужден был оставить Технологический институт. «В Петербург я приехал с семнадцатью рублями, — вспоминал писатель, — и два года прошло в трудовой борьбе с нуждой». Вместо учебных занятий Короленко должен был взяться за труд «интеллигентного пролетария». Он раскрашивал ботанические атласы, выполнял чертежные работы, занимался корректурой. За все это он получал копейки, которых едва хватало, чтобы не умереть с голоду.
В 1874 году Короленко переезжает в Москву и поступает в Петровскую земледельческую и лесную академию. Здесь Короленко слушает лекции великого русского ученого К. А. Тимирязева и по его поручению рисует для его лекций демонстрационные таблицы. Дружеские отношения, начавшиеся между профессором и студентом, не прекращались до конца их жизни. Безгранично веривший в силу науки, убежденный материалист, Тимирязев вошел в сознание Короленко как идельный тип русского ученого. Позднее писатель не раз вспоминал о своем великом учителе. Под фамилией Изборского К. А. Тимирязев выведен в повести «С двух сторон»; ему посвящены глубоко прочувствованные страницы в «Истории моего современника». «Вы нас учили ценить разум, как святыню», — писал Короленко много лет спустя К. А. Тимирязеву, вспоминая о днях, проведенных в академии. В день своего шестидесятилетия Короленко писал Тимирязеву в ответ на его поздравительную телеграмму: «Много лет прошло с академии. Время делает менее заметной разницу возрастов. Но для меня Вы и теперь учитель в лучшем смысле слова».
В академии Короленко сближается с революционно настроенной молодежью, читает нелегальную литературу. Ему поручается заведование тайной студенческой библиотекой, распространяющей книги главным образом революционного содержания. По характеристике директора академии — человека реакционных убеждений, — Короленко принадлежал «к числу тех людей, которые до упрямства упорно держатся засевших в них воззрений, и если эти воззрения получают… ошибочное направление, то человек этот легко может увлечь за собой других, менее самостоятельных молодых людей».
В марте 1876 года Короленко за участие в составлении коллективного протеста студентов против администрации академии, выполнявшей чисто полицейские функции, был исключен из академии, арестован и выслан из Москвы. «Во время студенческих беспорядков, — пишет Короленко в своей автобиографии, — как депутат, избранный товарищами для подачи коллективного заявления, был выслан сначала в Вологодскую губернию, откуда возвращен в Кронштадт… под надзор полиции. По прошествии года переселился в Петербург, где вместе с братьями зарабатывал средства к жизни разными профессиями: уроками, рисованием и главным образом корректурой». Корректором он работал в мелкой, захудалой петербургской газете «Новости», рассчитанной на удовлетворение обывательских вкусов. Разумеется, работа в этой газете ни в какой степени не могла удовлетворить Короленко. Он помышляет о литературном творчестве и пишет свой первый рассказ — «Эпизоды из жизни искателя» (1879). Характер этого рассказа определен эпиграфом, взятым из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:
Средь мира дольного Для сердца вольного Есть два пути. Взвесь силу гордую, Взвесь волю твердую — Каким идти.Герой рассказа выбирает для себя трудный путь служения народу и отказывается от личного счастья. Это соответствовало настроению самого Короленко. В то время ему казалось, что движение народников способно победить самодержавие и что для этого необходимы только усилия передового общества. Как об этом можно судить по воспоминаниям современников, близко стоявших к общественному движению 70–х годов, на квартире Короленко скрывались участники революционного подполья, хранилась не дозволенная к распространению литература. Короленко готовился к деятельности пропагандиста и для того, чтобы иметь возможность легче войти в народную жизнь, изучал сапожное ремесло.
В марте 1879 года, после таких знаменательных событий конца 70–х годов, как похороны Некрасова, принявшие характер антиправительственной демонстрации, и убийство шефа жандармов Мезенцева, Короленко, по подозрению в печатании и распространении революционных воззваний, был снова арестован и заключен в Литовский замок. Летом 1879 года он был выслан в Глазов — глухой городок Вятской губернии. В ссылку Короленко ехал с сознанием необходимости сближения с народом, отвлеченные представления о котором должны были быть проверены — как это ему казалось — действительностью, трезвой и истинной. Полный энергии и молодой силы, он даже ссылку готов был рассматривать под углом зрения практического изучения жизни народа. С одного из этапов на пути в Глазов он писал своему другу по Петровской академии В. Н. Григорьеву: «Вы помните, что я мечтал о летнем путешествии, — ну вот хоть на привязи, а путешествую».
В эту пору у Короленко окончательно созрело желание всерьез приняться за литературную работу. В 1880 году появился в печати рассказ «Ненастоящий город», где, как признавался писатель, он, «сильно подражая Успенскому, описывал Глазов».
В ссылке Короленко был поставлен в тяжелейшие условия полицейских преследований и прямых утеснений. Исправник проверял его переписку, устраивал обыски, подслушивал разговоры. Для работы в таких условиях нужны были исключительное упорство, вера в свои силы, умение преодолевать трудности, Было ли все это у молодого Короленко? Вот как он сам отвечает на этот вопрос в письме из Глазова к сестрам: «…живем ли мы изо дня в день, как придется, или есть у нас желание и сила поработать, над собой хотя бы, есть цели впереди? — Есть. Можно ли работать над собой, стремиться и «достигать» в этом направлении в нынешней обстановке, в богоспасаемом граде Глазове?.. — Можно, можно везде, где есть люди». Эта уверенность в своих силах не покидает Короленко и в следующие периоды его скитаний по ссылкам.
В октябре 1879 года «в отвращение влияния его самостоятельных и дерзких наклонностей на других политических ссыльных, имеющих молодые лета», как писал глазовский исправник в докладе по начальству, Короленко вновь был выслан, теперь в наиболее отдаленный район Глазовского уезда — Березовские Починки. «Это ни село, ни деревня даже, — писал Короленко, — это просто несколько дворов, рассеянных на расстоянии 15–20 верст среди лесной и болотистой местности». В Березовских Починках проявилась одна из самых характерных черт Короленко: его глубокая близость к народу. В письмах из Березовских Починок он неоднократно пишет о стремлении быть полезным людям, среди которых он живет, и когда он писал родным: «Начинаю карьеру сапожника» — в этом не было ни рисовки, ни забавы, ни какого–либо позерства. В этом занятии Короленко видел живую необходимость. Он стремился к тому, чтобы на него не смотрели как на барина, и в одном из своих писем с большим удовлетворением рассказывает о том, что березовские крестьяне относятся к нему с уважением и называют его «мужиком роботным». В то же время работа сапожника давала ему возможность непосредственного общения с крестьянами. В письмах он настойчиво просит прислать ему сказку Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил», видимо желая использовать ее в пропагандистских целях. «Я здесь, к счастью, — пишет Короленко в письме от 11 января 1880 года, — не лишен возможности потолковать по душе с людьми, которым понятны не одни непосредственные брюховые интересы; и здесь выпадают хорошие, чистые минуты, когда забываешь и болота и леса и когда удается потолковать об окружающих, порой невеселых впечатлениях, разобраться в них; а там опять станешь свежее и бодрее смотреть на свет». Здесь Короленко, столкнувшись с жизнью крестьян, смог убедиться в иллюзорности народнических представлений об идеальном устройстве крестьянского быта.
Березовскими Починками не окончились ссыльные скитания молодого писателя. Вятская администрация не оставляла в покое Короленко, видя в нем весьма опасного врага самодержавия. В январе 1880 года против него было затеяно новое дело. Он обвинялся в самовольных отлучках с места ссылки и в недозволенных связях с политическими ссыльными. Вероятней всего, личность Короленко продолжала интересовать и высшие полицейские власти в связи с усилившейся деятельностью народовольцев. Вскоре после покушения на Александра II в январе 1880 года Короленко был арестован, доставлен в Вятку, а затем заключен в вышневолоцкую политическую тюрьму. Предполагалась ссылка его в Восточную Сибирь, но из Томска писатель был возвращен на поселение в Пермскую губернию.
Находясь в Перми на положении ссыльного, Короленко перепробовал несколько профессий: сапожника, табельщика, письмоводителя стола статистики на Уральско–Горнозаводской железной дороге. Здесь он работает до 11 августа 1881 года — дня очередного ареста, после которого последовала самая длительная и самая отдаленная ссылка.
Первого марта 1881 года был убит народовольцами Александр II. Правительство Александра III потребовало, чтобы часть политических ссыльных была приведена к специальной присяге. Текст такой присяги получил и Короленко, но подписать его демонстративно отказался. В заявлении на имя пермского губернатора Короленко называет факты дикого произвола царской власти, действия которой направлены исключительно на подавление народа. Вот почему, пишет Короленко, «совесть запрещает мне произнести требуемое от меня обещание в существующей форме». «Я не мог поступить иначе», — сообщал он тогда же в письме к брату.
В отказе от присяги полицейские власти усмотрели особо «враждебное настроение». В дело «государственного преступника», «сапожника и живописца», как именовался Короленко в жандармских документах, была дополнительно внесена резкая характеристика, требовавшая самых суровых мер наказания. Его арестовали и, соблюдая особые предосторожности, как крайне опасного преступника увезли в Сибирь. Не зная, что его ждет в дальнейшем, доведенный до отчаяния, Короленко, находясь в одиночке военнокаторжного отделения тобольской тюрьмы, написал стихотворение, где выразил невеселые свои настроения:
Вкруг меня оружье, шпоры, Сабли звякают, бренчат. И у «каторжной» затворы На пол падают, гремят. И за мной закрылись двери, Застонал, звеня, замок… Грязно, душно, стены серы… Мир — тюрьма… Я одинок… А в груди так много силы, Есть чем жить, страдать, любить… Но на дне тюрьмы–могилы Все приходится сложить… Страшно… Светлые мечтанья Вольной юности моей И святые упованья В силу гордую идей Смолкли все и в миг единый Улеглись в душе на дне… Божий мир сошелся клином, Только свету, что в окне!..Пессимистические мотивы стихотворения выражали лишь настроение минуты, ибо никогда больше они не повторялись ни в письмах, ни в творчестве Короленко.
В декабре 1881 года Короленко был доставлен в слободу Амгу Якутской области, расположенную в нескольких сотнях километров от Вилюйска, где в ту пору томился Чернышевский. Здесь в тяжелых условиях, вдали от каких–либо культурных центров началась его работа над такими произведениями, как «Сон Макара», «Убивец», «В дурном обществе». Однако выступать в печати ему было категорически запрещено. «Исправник прямо объявил мне, — писал Короленко в одном из своих писем из Амги, — что писать для печати безусловно не допускается».
Вспоминая о своих ссыльных скитаниях, Короленко иронически писал, что «в народ» он «был доставлен на казенный счет». Жизнь в Амге столкнула его с новыми для него формами народного быта и поставила, как он сам об этом сказал, «в отношения полного равенства» с народом: он шил сапоги, выполняя заказы «на сторону», и пахал землю. В то же время Короленко с глубоким вниманием изучал жизнь якутского народа, записывал фольклор, знакомился с языком. Впечатления тех лет послужили основанием для целого ряда сибирских рассказов и очерков, которые составили значительную часть в творческом наследии писателя. В 1885 году Короленко получил разрешение возвратиться в Европейскую Россию без права жительства в столичных городах. Он поселился в Нижнем Новгороде, где и прожил более десяти лет.
II
Свое литературное призвание Короленко осознал еще в юношеские годы. Как говорил сам писатель, у него еще «с юности была привычка облекать в слова свои впечатления, подыскивая для них наилучшую форму, не успокаиваясь, пока не находил ее».
Впервые Короленко выступил в печати в 1878 году. Это была газетная статья об уличном происшествии, в котором писатель разглядел проявление полицейского произвола над петербургской беднотой.
В следующем году появились в печати «Эпизоды из жизни искателя», а вскоре «Ненастоящий город» и «Яшка» (1880). Уже в «Ненастоящем городе» Короленко достигает значительного мастерства. В правдивом изображении захолустного города, жизнь которого «бьется в тоске и скудости», а сам он напоминает «амфибию с недоразвившимися задатками», проявилось стремление Короленко к реализму, к глубоко правдивому изображению действительности. Писатель подводил читателя к мысли, что выход из того тоскливого прозябания, в которое была погружена жизнь «ненастоящего города», не в возврате к первобытным формам существования, о чем говорила народническая литература, а в развитии промышленности, в установлении новых отношений между городом и деревней, которые породят новых, настоящих людей и откроют дальнейшую перспективу борьбы за народное счастье.
Однако наиболее значительным из рассказов, появившихся в печати до амгинской ссылки, следует признать «Яшку». Основной персонаж этого рассказа — крестьянин, заключенный в тюремную камеру для умалишенных за то, что он открыто протестовал против полицейского произвола и обличал «неправедных» начальников. В его протесте писатель видит «смесь мифологии и реализма». Яшка верит в отвлеченную идею добра, в несуществующий «правзакон», который якобы уже установлен, но скрыт от народа «беззаконниками», в то же время его протест направлен против кабалы и рабства, действительно существующих в жизни, — и в этом смысле он трезвый реалист. Для Короленко важна именно эта сторона характера Яшки — его непримиримое, не знающее компромиссов возмущение против реальных условий жизни. В не вошедшем в текст рассказа обращении к читателю Короленко следующим образом объяснял общественный смысл протеста Яшки: «Яшка, сказать правду, немножко смешон, несмотря на весь трагизм своего положения. Но знаете ли вы, откуда Яшка пришел, видели ли вы его в нормальных условиях, знаете ли вы среду и условия, его породившие, думаете ли вы, что все Яшки помещены уже в каморки, что жизнь не выведет их легионы из среды, мирно поившей телят. Конечно, если вы во всем этом уверены, то ответ ясен: погибнет Яшка безвестною смертию, и жизнь пройдет над его костьми… Но если бы… если бы количественно вопрос решился в пользу Яшки? Представьте, что, как грибы после дождика, пойдут из почвы Яшки за Яшками, все такие же неуклонные, непримиримые, всеотрицающие, и громко постучат в двери общественной жизни. Ведь тогда дело компромиссов, быть может и плодотворных и неуклонно прогрессивных, может взлететь на воздух, не дойдя и до одной десятой естественного пути своего. Тогда жизнь будет за Яшками, а дело компромиссов проиграет перед неумолимым судом истории». В этих словах, напоминающих по стилю щедринскую прозу, особо подчеркивается стихийная сила Яшкиного протеста, в котором Короленко видел проявление все нарастающего народного негодования.
«Яшкой» Короленко начинал одну из центральных тем своего творчества: тему свободолюбия и протеста. Характерен в этом отношении и рассказ «Чудная». Необычна судьба этого замечательного произведения Короленко.
Рассказ был написан в вышневолоцкой тюрьме, тайно от надзирателей и так же тайно передан на волю. Разумеется, он не мог появиться в русской печати того времени и распространялся нелегально. По одному из таких нелегальных изданий, «Чудная» была переведена на украинский язык и издана Ив. Франко. Только в 1905 году Короленко удалось напечатать рассказ под заглавием «Командировка» в «Русском богатстве». По существу, «Чудная» посвящена той же теме, что и «Яшка»: душевной стойкости, непоколебимому мужеству и упорству. Сюжет рассказа несложен. Девушка-революционерка попадает в ссылку. Она больна, физически совершенно беспомощна, и условия ссылки для нее гибельны. Злая грубость полицейщины и суровая зима одерживают верх над ее слабой природой, но в то же время духовно —• это победа непреклонной принципиальности, человеческого достоинства над той же самой действительностью, которая ее убивает. «Сломать ее… можно… ну, а согнуть… — не гнутся этакие», — говорится о ней в рассказе.
Ранние рассказы Короленко— «Ненастоящий город», «Яшка» и «Чудная» — объединяет писательское раздумье над тем, что в жизни является «настоящим». Короленко не находит ничего «настоящего» в жизни погрязшего в тине обывательщины захолустного городка. Яшка посажен в камеру для умалишенных, «чудной» называют девушку, не пожелавшую приспособиться к омерзительным условиям жизни. Но именно в них, в их характерах, во всем резко очерченном облике людей, поднявшихся до самопожертвования в своем протесте против полицейского насилия и произвола, Короленко видит первые признаки нарастающей волны будущих революционных потрясений.
После возвращения Короленко из амгинской ссылки появляется большая группа его рассказов и повестей, в которых читатель того времени увидел уже зрелого художника, принесшего в литературу новые образы и новые темы. Он как бы сказал читателю то, что тогда ожидалось, но никем еще не было сказано с такой силой и определенностью.
После убийства народниками Александра II в стране начался период жестокой реакции. В среде народнической интеллигенции участились случаи политического ренегатства, открытого предательства. Народники встали на путь либерального приспособления к буржуазной действительности. В литературе усиливается влияние натурализма с его призывом к отказу от высоких задач искусства. Однако состояние общественной мысли в России 80–х годов определялось не только этим.
В. И. Ленин писал: «…мы, революционеры, далеки от мысли отрицать революционную роль реакционных периодов. Мы знаем, что форма общественного движения меняется, что периоды непосредственного политического творчества народных масс сменяются в истории периодами, когда царит внешнее спокойствие, когда молчат или спят (по–видимому, спят) забитые и задавленные каторжной работой и нуждой массы, когда революционизируются особенно быстро способы производства, когда мысль передовых представителей человеческого разума подводит итоги прошлому, строит новые системы и новые методы исследования»[3].
В эту пору русская наука обогатилась бессмертными трудами Д. И. Менделеева, И. М. Сеченова, К. А. Тимирязева, а русское искусство — великими произведениями Л. Н. Толстого, П. И. Чайковского, И. Е. Репина, А. П. Чехова. К числу передовых людей этой эпохи принадлежал и Владимир Галактионович Короленко. Он выступил горячим защитником человека от враждебных сил собственнического строя, певцом человеческой воли, смелых порывов и помыслов. Это сразу выдвинуло Короленко как писателя, продолжавшего традиции русской демократической литературы с ее призывами к борьбе за народное счастье.
Первая книга Короленко, вышедшая в 1886 году, получила восторженный отзыв Чехова. Рассказ «Соколинец» он назвал «самым выдающимся произведением последнего времени»[4]. Найдя в молодом писателе близкие для себя настроения, Чехов в письме к Плещееву от 9 апреля 1888 года писал о Короленко, что «идти не только рядом, но даже за этим парнем, весело»[5]. Радостно приветствовал Короленко Гаршин, который противопоставлял его творчество модному тогда натурализму. «Я ставлю его ужасно высоко и люблю нежно его творчество, —писал Гаршин в 1886 году. — Это — еще одна розовая полоска на небе; взойдет солнце, еще нам неизвестное, и всякие на турализмы, боборыкизмы и прочая чепуха сгинет»[6]. Вернувшийся из многолетней ссылки Н. Г. Чернышевский с удовлетворением отметил появление в литературе Короленко. «Это большой талант, это тургеневский талант», — сказал о Короленко Чернышевский.
Короленко пишет о неведомых до того в русской литературе якутских крестьянах, ленских ямщиках, с остротой и силой он выводит типы обездоленных людей, протестующих против несправедливого устройства общества, полных стремлений к иной жизни. Он противопоставляет их, простых людей, которые в своем стремлении к свободе и счастью поднимаются над страшной своей жизнью, «добропорядочному» буржуазно–дворянскому обществу с его ложью и душевной пустотой. Знаменательно, что один из ранних рассказов Короленко «Федор Бесприютный» был запрещен цензором по причине «морального превосходства каторжника» над жандармским полковником.
Повесть «В дурном обществе» (1885) вводит нас в мир городской бедноты, людей «дна», ведущих нечеловечески тяжелую жизнь, вынужденных ютиться в могильном склепе, всем своим существом враждебных так называемому «порядочному» обществу. «Город их не признавал, — рассказывает Короленко о своих «проблематических натурах», — да они и не просили признания: их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, — брать самим, чем выпрашивать. Они или жестоко страдали от преследований, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужною для этого силой. Некоторые из этих фигур были отмечены чертами глубокого трагизма». Писатель рассказывает о страшной жизни детей, не имеющих родного угла, маленьких бездомных бродяг, которые с колыбели должны переносить ужасы голодного нищенского существования. Знаменательно то, что Короленко пишет об этих детях с такой нежностью и проникновенностью, которая превращает эту повесть в страстную защиту обездоленных. Именно в «дурном обществе» маленький герой повести находит истинную дружбу и любовь и получает первый урок подлинного гуманизма.
В одной из своих статей Короленко писал: «Заслуга реалистов–художников состоит в изучении человека всюду, где он проявляется». Сам Короленко нашел черты человечности в людях «дна», отщепенцах общества, заброшенных на край света бедняках–крестьянах.
Характерен в этом отношении и рассказ «Убивец» (1882). Герой рассказа Федор Силин — сибирский крестьянин — мучительно ищет правду. Этот глубоко симпатичный и честный человек, наделенный громадной физической силой и большой душой, случайно попадает под влияние секты «покаянников». «Согреши, — говорят ему, — познаешь сладость покаяния». Его толкают на совершение преступления — на убийство женщины и ее детей. Но в самую решительную минуту Федору Силину приходит на помощь сознание справедливости, и силу свою он обращает против того, кто заставлял его пойти на преступление.
Особую известность получил рассказ «Сон Макара» (1885), которым Короленко продолжил свою литературную деятельность по возвращении из ссылки. В рассказе отражены наблюдения писателя над жизнью амгинского крестьянина, которого «гоняли всю жизнь… старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!..». В образе Макара Короленко соединил индивидуальные черты амгинского крестьянина с народным образом Макара, на которого, как известно, «валятся все шишки». Заслуга писателя состояла в том, что он рассказал не только о злой доле крестьянина, но с особой силой подчеркнул возможность его протеста, аргументировал силу его возмущения, готовности к борьбе. Придав рассказу фантастический характер, Короленко позволил своему герою открыто высказаться о несправедливо устроенной жизни и потребовать для себя человеческого счастья. Гнев Макара превращается в социальный протест против несправедливого общественного строя царской России, при котором громадное большинство народа находилось на положении Макара.
Проблема освобождения народа поставлена в аллегорической форме в «Сказании о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды» (1886). Подобно горьковскому герою Данко, который десятилетием позднее с новой силой выразит настроение «великой любви к людям», герой этого рассказа Короленко — Менахем «по мере того, как ненавистный гнет усиливался… отдавал свое сердце народу — сердце, горевшее любовью». Своим личным примером он поднимает угнетенный народ на борьбу с врагами и побеждает в споре с теми, кто утверждал смирение.
В этом рассказе, как и в ряде других, Короленко выступает против учения Л. Толстого о непротивлении злу, имевшего распространение в середине 80–х годов среди части интеллигенции. «Я не могу считать насильником, — говорит Короленко в письме к А. И. Эртелю, — человека, который один защищает слабого и измученного раба против десяти работорговцев. Нет, каждый поворот его шпаги, каждый его удар для меня — благо. Он проливает кровь? Так что же? Ведь после этого и ланцет хирурга можно назвать орудием зла!»
Одна из центральных тем творчества Короленко — человеческое счастье, полнота духовной жизни. «Человек создан для счастья, как птица для полета», — говорит один из героев Короленко. Но с горькой иронией писатель называет рассказ, где произносится эта формула жизни, «Парадоксом». «Весь организм орла, — писал в 1903 году А. В. Луначарский об этом рассказе Короленко, — приспособлен к могучим полетам, и весь организм его есть парадокс, когда он сидит в клетке, и такой же парадокс современный человек и современное человечество»[7]. Как птица не может летать, когда у нее связаны крылья, так не может быть счастлив и человек в неволе. Вопросу о том, что такое счастье, где его границы и в чем его смысл, посвящает Короленко одно из наиболее значительных своих произведений — повесть «Слепой музыкант», впервые опубликованную в 1886 году.
Герой повести Петр Попельский слеп от рождения. Еще в раннем детстве он воспринимает свою слепоту как несчастье. Со временем ему начинает казаться, что он навсегда выброшен из жизни в темный, отгороженный от зрячих людей мир. В нем развивается деспотичность; слепота грозит стать единственным предметом его переживаний.
Лишив мальчика зрения, природа в то же время щедро наградила его в другом отношении: с детских лет Петр обнаруживает незаурядные музыкальные способности. Но история слепого как музыканта начинается с того момента, когда Петр Попельский знакомится с народной музыкой. Талантливые песни конюха Иохима, в которых нашли свое отражение и стремление украинского народа к лучшей доле, и печаль, и удаль, пробудили в мальчике любовь к музыке и приобщили его впервые к жизни родного народа. «Это увлечение музыкой стало центром его умственного роста… Заинтересованный песней, он знакомился с ее героями, с их судьбой, с судьбой своей родины».
Большую роль в воспитании слепого музыканта сыграл брат его матери, дядя Максим. В молодости дядя Максим героически сражался в отрядах Гарибальди за освобождение Италии. Изувеченный австрийскими шашками, Максим поселился в семье сестры. Старый гарибальдиец посвящает себя воспитанию слепого музыканта и в этом находит смысл собственной жизни. Кто знает, думал он, «ведь бороться можно не только копьем и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбою подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью, и тогда я недаром проживу на свете, изувеченный старый солдат…». В мысли о возможности воспитать из слепого активного участника жизни дядю Максима укрепляет судьба легендарного слепого бандуриста Юрка, который, несмотря на свою слепоту, участвовал в походах и был со славою погребен в одной могиле с казачьим атаманом.
Дядя Максим помогает слепому музыканту переосмыслить свою жизнь, осознать, что подлинное счастье человека невозможно вне общества, в отрыве от жизни народа.
История слепого мальчика, ставшего знаменитым музыкантом, — это не только борьба незрячего человека с тяжелым физическим недугом. В полном согласии с тезисом Добролюбова о том, что человек не может «успокоиться на своем одиноком, отдельном счастье», Короленко в «Слепом музыканте» намечает путь служения народу как единственно возможное осуществление счастья. Победа над тьмой в повести «Слепой музыкант» достигается близостью к народу, пониманием его жизни, его поэзии. «Да, он прозрел… — пишет Короленко. — Наместо слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость…» Это духовное прозрение и побеждает его личное горе, из которого, казалось, не было выхода. Имея в виду неполноту личного счастья в отрыве от жизни народа, от его борьбы за счастье общее, М. И. Калинин в своем выступлении 25 октября 1919 года на митинге, посвященном обороне Тулы от Деникина, упомянул об этой повести. «Величайший художник слова, Короленко в своем «Слепом музыканте» — говорил М. И. Калинин, —ясно показал, как проблематично, непрочно это отдельное человеческое счастье… Человек… может быть счастлив только тогда, когда всеми нитями своей души, когда всем телом и всем сердцем спаян он со своим классом, и только тогда его жизнь будет полна и цельна»[8]. В этом своем произведении Короленко утверждает глубоко прогрессивную мысль о том, что личность возвышается только в том случае, если живет одной жизнью с народом, если отдает себя служению обществу.
С самого начала своего литературного пути Короленко выступает горячим сторонником общественного назначения литературы, убежденным противником буржуазного объективизма в искусстве. В согласии с эстетикой революционных демократов Чернышевского и Добролюбова, для которых литература была орудием борьбы за освобождение народа, Короленко свою писательскую задачу видел в активном вмешательстве в жизнь общества. «Если… жизнь есть движение и борьба, — писал Короленко в дневнике в 1888 году, — то и искусство, верное отражение жизни, должно представлять то же движение, борьбу мнений, идей…» Называя литературу «зеркалом жизни», Короленко писал в том же дневнике: «Литература, кроме «отражения», — еще разлагает старое, из его обломков созидает новое, отрицает и призывает… Как ноги уносят человека, положим, от холода и тьмы к жилью и свету, так слово, ис–кусство, литература — помогают человечеству в его движении от прошлого к будущему».
В творчестве самого Короленко такое понимание задач литературы проявилось прежде всего в его типических обобщениях, в лирикоромантической окраске рассказов, наконец прямо и непосредственно — в обширной, общественно–активной публицистике. Выбранная писателем форма рассказа, где существенным элементом являлись публицистические отступления, давала возможность Короленко, не нарушая художественной композиции произведения, высказать свое отношение к изображаемым событиям и лицам, подчеркнуть остроту вопроса, усилить эмоциональное воздействие образа.
В изображении народной жизни Короленко резко отходит от приемов народнической беллетристики. Вспоминая о настроениях, вызванных творчеством Короленко в народнической среде конца 80–х—начала 90–х годов, Горький писал: «Он был в ссылке, написал «Сон Макара» — это, разумеется, очень выдвигало его. Но — в рассказах Короленко было нечто подозрительное, непривычное чувству и уму людей, плененных чтением житийной литературы о деревне и мужике»[9].
В своем творчестве Короленко изображал живые народные характеры, лишенные народнической слащавости, сохранившие черты действительного героизма, выражавшего демократический протест масс против существующего строя.
Основное место в творчестве Короленко занимает образ простого русского человека, увидевшего уродства капиталистической действительности, страстно ищущего правду и стремящегося к иной, лучшей жизни. Короленко пишет о людях самых широких демократических кругов, с проникновением большого художника подмечая свободолюбие народа, то типическое, все развивающееся в характере трудящихся масс, что впоследствии сыграло важную роль в революционном преобразовании страны. С большим удовлетворением художник наблюдает поднимающуюся волну народного негодования и протеста.
В ряде своих высказываний Короленко выступает против народнической реакционной теории о «героях и толпе», которая рассматривала народ как слепую инертную массу. «То, что мы называем героизмом, — писал Короленко в дневнике за 1887 год, —свойство не одних героев… Они не отличаются от массы качественно и даже в героизме массы почерпают свою силу… Таким образом, открыть значение личности на почве значения массы — вот задача нового искусства».
«Теперь уже «героизм» в литературе, — писал Короленко в письме к Н. К. Михайловскому в 1888 году, — если и явится, то непременно «не из головы»; если он и вырастет, то корни его будут не в одних учебниках политической экономии и не в трактатах об общине, а в той глубокой психической почве, где формируются вообще человеческие темпераменты, характеры и где логические взгляды, убеждения, чувства, личные склонности сливаются в одно психически неделимое целое, определяющее поступки и деятельность живого человека… И тогда из синтеза реализма с романтизмом возникнет новое направление художественной литературы…»
Эти взгляды Короленко объясняют то искреннее восхищение, с которым он встретил ранние рассказы Горького и особенно «Челкаш».
III
Широкое изображение жизни русской провинции 80–90–х годов дает Короленко в рассказах и очерках нижегородского периода, в таких произведениях, как «Река играет», «За иконой», «Павловские очерки», «В пустынных местах», «На затмении», «В голодный год», «В облачный день». В очерках и рассказах этого периода поднимаются и новые существенные вопросы общественного развития, которые в те годы не могли не захватить такого чуткого и внимательного к жизни художника, каким был Короленко. Претерпевают изменения и художественные формы творчества писателя. Многие общественные проблемы, которые решал Короленко на первых порах своего творчества, нередко прибегая к аллегории, к условноисторическому сюжету, теперь ставятся на строго фактическом, глубоко изученном и достоверном материале живой действительности. Именно в эту пору Короленко разрабатывает форму путевых очерков, в которых художественное повествование легко и свободно сливается с элементами публицистики. В таких классических образцах этого жанра, какими являются «В пустынных местах», «Павловские очерки», «Наши на Дунае», Короленко мастерски сочетал и чисто художественное изображение действительности, и публицистические размышления по поводу конкретных явлений жизни.
Основные вопросы, которые встали перед писателем еще в конце 80–х годов, были связаны с процессом проникновения капитализма в деревню. В освещении этих вопросов он решительно отходит от народнических беллетристов, которые настойчиво продолжали, по замечанию Короленко, рассматривать действительность «сквозь призму благонамеренной идеалистической народнической лжи».
Особое значение имели его «Павловские очерки», посвященные жизни кустарей известного села Павлово, близ Нижнего Новгорода. В народнической литературе это село с его старинными кустарными промыслами рассматривалось как пример некапиталистического уклада, сохранившего якобы характер «народного производства». Вышедшие в 1890 году «Павловские очерки» показали противоположное тому, что вопреки жизненной правде утверждали народники. Уже в первой вступительной главе очерков Короленко иронизирует над представлением о селе Павлове как «оплоте нашей самобытности» от вторжения капитализма. Писатель развертывает яркую картину жизни павловских кустарей, их непомерно тяжелого труда и полной зависимости от хищнической «скупки». Для Короленко не было сомнения, что кустари, работающие на дому и продающие изделия своего труда капиталисту-скупщику, давно уже утеряли свою хозяйственную самостоятельность.
Короленко рассказал о бесчеловечных формах «прижима» кустарей, которые применял кагшталист–скупщик. Здесь и знаменитый «промен», то есть удержание из заработка кустаря в пользу скупщика за размен денег, и «третья часть» — особая форма «прижима», когда кустарь должен был обязательно забирать у скупщика ненужный ему товар, и штрафы, и удержание из заработка кустаря, носившее название «на гуся». «Вот этаким способом с нашего брата по две шкуры и спускают», — говорит один из кустарей автору очерков. Создавая картины жизни кустарей, Короленко подводит читателя к мысли о том, что кустари подвергаются наиболее жестокой эксплуатации. «Нищета есть везде, — писал Короленко, — но такую нищету, за неисходною работой, вы увидите, пожалуй, в одном только кустарном селе. Жизнь городского нищего, протягивающего на улицах руку, да это рай в сравнении с этою рабочею жизнью!»
«Мы подошли, — пишет Короленко в «Павловских очерках», — к крохотной избушке, лепившейся к глинистому обрыву. Таких избушек в Павлове много, и снаружи они даже красивы: крохотные стены, крохотные крыши, крохотные окна. Так и кажется, что это игрушка, кукольный домик, где живут такие же кукольные, игрушечные люди.
И это отчасти правда… Когда мы, согнув головы, вошли в эту избушку, на нас испуганно взглянули три пары глаз, принадлежавших трем крохотным существам.
Три женские фигуры стояли у станков: старуха, девушка лет восемнадцати и маленькая девочка лет тринадцати. Впрочем, возраст ее определить было очень трудно: девочка была как две капли воды похожа на мать, такая же сморщенная, такая же старенькая, такая же поразительно худая.
Я не мог вынести ее взгляда… Это был буквально маленький скелет, с тоненькими руками, державшими тяжелый стальной напильник в длинных костлявых пальцах. Лицо, обтянутое прозрачной кожей, было просто страшно, зубы оскаливались, на шее, при поворотах, выступали одни сухожилия… Это было маленькое олицетворение… голода!..
Да, это была просто–напросто маленькая голодная смерть за рабочим станком. Того, что зарабатывают эти три женщины, едва хватает, чтобы поддержать искру существования в трех рабочих единицах кустарного села».
Короленко показывает, что причина нищенского существования кустарей не в субъективных качествах скупщика, о чем неизменно говорили народники, а в самом характере капиталистического производства. Неизбежность эксплуатации кустарей писатель подчеркивает следующей формулой: «конкуренция — пресс… кустарь — материал, лежащий под прессом, скупщик — винт, которым пресс нажимается».
Подойдя таким образом к пониманию законов капиталистического производства, Короленко, однако, в конце своих очерков предлагает чисто народническое решение вопроса, наивно указывая на организацию складочных артелей и ссудно–сберегательных товариществ как на выход из положения. К чести писателя следует сказать, что, готовя следующую публикацию очерков, Короленко исключил из текста обращение к обществу с призывом «организации и устроения» и отказался от народнических иллюзий.
«Павловские очерки» — одно из самых замечательных произведений русской литературы, посвященных жизни кустарей. Наряду с достоверностью фактов и глубиной анализа мы находим в них живые, полные ярких красок описания жизни рабочего села и художественно законченные образы представителей «скупщицкого сословия» и рабочих–кустарей. В книге «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин при характеристике положения кустарей сослался на «Павловские очерки» Короленко[10].
Изучая положение деревни, Короленко, подобно Глебу Успенскому, хорошо видел, что «признаком времени» становится резкое расслоение крестьянства и распад всех «устоев». Гармония интересов «единого крестьянства», которая на все лады воспевалась в либеральнонароднической литературе, представляется писателю–реалисту сплошной фикцией. «Нет просто мужика, — пишет Короленко в очерках о голодном годе, — есть бедняки и богачи, хозяева и работники». Однако писатель не ограничивается только констатацией факта широкого проникновения капитализма в деревню. «Признать наступление капиталистической эры совершившимся фактом, — пишет Короленко И. И. Сведенцову 17 января 1896 года, — …не значит помириться со всеми ее последствиями».
К началу 90–х годов относится книга очерков Короленко «В пустынных местах». Это своеобразная история путешествия автора по Ветлуге и Керженцу. Тема этих очерков — уходящее прошлое и новое, рубеж двух эпох. Писатель видел, как умирает «старая Русь» и в отдаленные, глухие места Керженца и Ветлуги приходят буржуазные порядки. Короленко далек от идеализации «пустынных мест» с их первобытной стариной, но и в том новом, что несут с собой буржуазные порядки, он видит новую форму кабалы для народа.
Зиму 1892 года Короленко провел в Лукояновском уезде Нижегородской губернии. Это был один из уездов, сильно пострадавших от голода, наступившего после неурожайного лета 1891 года. Крестьяне умирали целыми семьями, хозяйства их были разорены до основания. Короленко видел «мужиков и подростков с нетвердой, шатающейся походкой, с лицами землистого цвета». Тогда же реакционная газета «Московские ведомости» выступила с обвинениями крестьян в «пьяном разгуле» и в лени, от которых якобы и зависел голод. Короленко ответил очерками «В голодный год». Он подверг беспощадной критике «невежественную консервативную» лживость реакционной газеты и показал истинные причины крестьянского разорения.
Очерки вызвали большое беспокойство в цензуре, усмотревшей в книге Короленко идеи крестьянской революции. «Вот до чего договорился г. Короленко, — писал цензор, — откровенно братаясь на страницах подцензурного журнала в единомыслии с органами подпольной прессы».
На примере «крепостнического уезда», как называет Короленко Лукояновский уезд, писатель убедился в живучести крепостнических порядков в России 90–х годов.
С большой силой написана им в манере Щедрина сказка «Стой, солнце, и не движись, луна!», направленная против стремления реакции повернуть историю назад и «течение времени прекратить». В сатирических образах воеводы Устаревшего, полицейских Негодяева и Мрак–Могильного легко было рассмотреть реальные фигуры самодержавия и прежде всего самого царя, а во всей картине сказочного воеводства гиперболически, в заостренной форме выведены действительные силы реакции.
О грубом насилии над человеком в буржуазно–дворянском обществе рассказал Короленко в одном из значительных произведений сибирского цикла — «Ат–Даване» (1892). Подобно гоголевскому Акакию Акакиевичу, герой этого рассказа, «маленький человек» Кругликов, погибает из–за бесчеловечного отношения к нему людей, стоящих над ним. Печальная история Кругликова, который по прихоти своего начальника должен был сватать для него свою невесту, отношение к нему со стороны сибирского воротилы купца Копыленкова, усмотревшего в протесте оскорбленного человека черты опасного бунта против начальства, — во всем этом Короленко убедительно показывает нравственное убожество буржуазного мира, лживость и бесчеловечность его моральных устоев.
Очерк «В облачный день» (1896) раскрывает подлинное лицо дворянского либерализма: его лживое прекраснодушие, его пустое фразерство, враждебность интересам народа. Здесь сатирически изображен либерал–помещик, в 60–е годы увлекавшийся разговорами об эмансипации, а теперь вернувшийся в свою усадьбу и ставший типичным крепостником. В образе Заливного Короленко показывает, к каким позициям пришел дворянский либерал. Этот «радикал и энтузиаст», как иронически называет Короленко Заливного, когда–то требовал фортепиано для школ. «Крайность, конечно, — говорит о нем другой либерал–помещик, — но… крайность, согласись сам, симпатичная… И если теперь он внесет свой энтузиазм…
— Внес уже, — ответил Василий Иванович. — Теперь он требует полного закрытия школ».
Против реакции и правительственного мракобесия Короленко выступал и как общественный деятель и как публицист. Особо значительным было его выступление в 90–х годах в защиту крестьян–удмуртов, обвиненных царскими властями в ритуальном убийстве. Так называемое «Мултанское дело» было характерным проявлением народно–ненавистнической политики царского правительства. Затеянное с гнусной целью разжигания национальной вражды, обвинение основывалось на клевете. Однако семеро крестьян были осуждены на каторжные работы.
«Люди погибают невинно, совершается вопиющее дело, — и я не могу сейчас ни о чем больше думать», — — писал Короленко Соболевскому 18 октября 1895 года. Писатель с исключительным мужеством выступает в защиту преследуемой народности, печатает резкие, разоблачающие царский суд статьи и невероятными усилиями добивается пересмотра дела. Он берет на себя обязанности защитника. Подстроенное полицией клеветническое обвинение было разрушено неопровержимостью доказательств, приведенных Короленко. Удмуртские крестьяне были оправданы. О значении выступления Короленко в защиту удмуртского народа Горький писал: «мултанское жертвоприношение» вотяков — процесс не менее позорный, чем «дело Бейлиса», — принял бы еще более мрачный характер, если б В. Г. Короленко не вмешался в этот процесс и не заставил прессу обратить внимание на идиотское мракобесие самодержавной власти»[11].
Несправедливость общественного строя, кричащие социальные противоречия, произвол и открытое рабство обличает Короленко также в одном из крупнейших своих произведений того периода — в повести «Без языка» (1895).
Писал он ее после своей поездки в 1893 году на Чикагскую выставку. В капиталистической Америке писатель увидел жестокую безработицу, нищету и бесправие, рабство негров и безраздельное господство доллара. С негодованием Короленко записывает в дневнике во время своего пребывания в Америке: «Негр должен при встрече обходить американца. Два негра, беседующих на тротуаре, обязаны непременно посторониться оба, — американец оскорбляется, если ему пришлось свернуть. Цветные — держатся в терроре. От времени до времени идет крик, что негры зазнались, и при первом пустом проступке — линч и казнь… Экономические отношения проникнуты самым примитивным грабежом… негров заставляют брать в известных лавочках, за все ставят цены вдвое и втрое, держат их в невежестве и в вечном долгу».
Желая разобраться в социальных противоречиях американского строя и не соглашаясь с мнением, что будто бы в Америке существует «беспристрастное» отношение к любым мнениям и требованиям любых групп населения, Короленко писал в своем дневнике: «Вопрос стоит не о пристрастии к демократам и республиканцам, а к тем, кого одинаково ненавидят и боятся обе партии: к людям, объявившим войну основам капиталистического строя, на которых одинаково стоят и те и другие…»
В повести «Без языка» Короленко описал горестные похождения украинского крестьянина Матвея Лозинского, которого соблазнили поискать счастья в далекой заокеанской стране. Горькое разочарование постигло наивного крестьянина, поверившего, что там он может найти то, о чем мечтал у себя на родине. Названием повести писатель подчеркнул не только то, что Матвей Лозинский не знает языка той страны, куда он попал, но и что весь его душевный строй, лучшие стороны его натуры — прирожденная честность, любовь к труду, высокая нравственность, уважение к человеку — оказываются чуждыми понятиям и нравам капиталистической Америки. Не понимая бездушных законов капиталистического города и не приемля их, герой повести живет как бы без языка. Доведенный до исступления, Матвей говорит: «Слушай ты, Дыма, что тебе скажет Матвей Лозинский. Пусть гром разобьет твоих приятелей вместе с этим мерзавцем Таманиголлом или как там его зовут! Пусть гром разобьет этот проклятый город и выбранного вами какого–то мэра. Пусть гром разобьет и эту их медную свободу, там на острове… И пусть их возьмут все черти, вместе с теми, кто продает им свою душу…»
Ближе всего ему оказываются интересы безработных людей, которых капитализм лишил права на существование. На митинге безработных в Центральном парке Матвей осознает себя частью огромного коллектива, находит с ним общий язык. «В первый еще раз на американской земле он стоял в толпе людей, чувство которых ему было понятно, было в то же время и его собственным чувством… Ему захотелось еще большего, ему захотелось, чтобы и его увидели, чтобы узнали и его историю, чтобы эти люди поняли, что и он их понимает, чтобы они оказали ему участие, которое он чувствует теперь к ним… Он не знал, куда он хочет идти, что он хочет делать, он забыл, что у него нет языка и паспорта, что он бродяга в этой стране. Он все забыл и, ожидая чего–то, проталкивался вперед, опьяненный после одиночества сознанием своего единения с этой огромной массой в каком–то общем чувстве, которое билось и трепетало здесь, как море в крутых берегах».
В заключительной сцене повести Матвей с глубокой грустью всматривается в туманную даль океана, отделяющего его от родины.
Как бы подводя итог своим размышлениям, Короленко писал Улановской: «Плохо русскому человеку на чужбине и, пожалуй, хуже всего в Америке… там русский человек тоскует больше, чем где бы то ни было, в том числе и такой русский человек, который знавал Якутскую область».
Одной из вершин творчества Короленко является рассказ «Река играет» (1891). В этом произведении с новой силой поставлен вопрос о потенциальных возможностях русского крестьянина. Не случайно рассказ был назван «Река играет». Короленко этим как бы хотел сказать, что и душа и сила русского крестьянина в нужную минуту тоже способны «взыграть».
Герой этого рассказа — ветлужский паромщик Тюлин —в изображении Короленко не похож на тех «шоколадных мужичков», которыми народническая литература, по выражению Горького, «густо населила нищие и грязные деревни»[12]. Тюлин сохраняет массу живых черт человека, взятого из жизни. Но главное в его образе — способность освободиться от апатии, совершить подвиг. Во время бури вырастает другой Тюлин — энергичный, смышленый, сильный, знающий, что нужно делать.
В 1918 году А. М. Горький писал о Тюлине: «…правда, сказанная образом Тюлина, — огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан исторически верный тип великоруса — того человека, который ныне сорвался с крепких цепей мертвой старины и получил возможность строить жизнь по своей воле»[13].
Своеобразное развитие образ протестанта находит в рассказах Короленко «За иконой», «Птицы небесные», «Ушел!». Два первых из них были опубликованы в конце 80–х годов, «Ушел!» при жизни писателя в печати не появлялся, хотя именно этот рассказ логически завершает тему рассказов «За иконой» и «Птицы небесные». Все эти рассказы объединены образом Андрея Ивановича—сапожника городской окраины, вдохновенного обличителя неправды буржуазного мира, человека, болезненно реагирующего на инстинкты собственничества, на ханжество, пошлость, ложь «постылой действительности». Буйный демократизм Андрея Ивановича проявляется уже в колоритных сценах рассказа «За иконой» —в столкновении с купцом, торговцами, духовенством. «Работник он был примерный, — рассказывает о нем Короленко, — пользовался нераздельно доверием заказчиков… трудился с утра до вечера, с «давальцами» обращался очень почтительно. Только когда на время «снимал хомут», как сам он выражался, тогда сразу становился другим человеком. В нем проявлялся строптивый демократизм и наклонность к отрицанию. «Давальцев» он начинал рассматривать как своих личных врагов, духовенство обвинял в стяжательстве и в чревоугодии, полицию — в том, что она слишком величается над народом… Но больше всего доставалось купцам».
В «Птицах небесных» образ Андрея Ивановича приобретает еще большую художественную завершенность. Столкновения нижегородского сапожника с лицами «духовного прозвания» выясняют его органическую близость к народу. В известном смысле Андрей Иванович становится разоблачителем паразитического существования нетрудовых элементов общества, защитником народной правды. Однако в этих двух рассказах Андрей Иванович не только протестант и обличитель, но и мелкий буржуа, создающий себе иллюзию, что на деньги, «заработанные шилом», он сам сможет приобрести положение и обеспечить себе безбедную старость. Поэтому он неизменно смиряется перед доводами своей жены, Матрены Степановны, зовущей его к смирению и поддерживающей в нем наклонности домовитого хозяина.
В рассказе «Ушел!» Андрей Иванович появляется уже в совершенно новом освещении. Матрена Степановна получает наследство, и Андрей Иванович становится обладателем богатого дома в большом приволжском селе. Казалось бы, то, к чему стремился Андрей Иванович, случайно решилось само по себе, причем в масштабах, о которых он не мог и мечтать. Однако отсюда и возникает самый острый конфликт Андрея Ивановича с буржуазным миром. Тридцать лет не покладая рук, недосыпая и недоедая, работал Андрей Иванович, лелея мысль, что и он когда–нибудь выбьется в люди и покончит с окаянной бедностью. «Что вы думаете, — говорит он, — работал тридцать лет, с младых ногтей сами знаете как—недосыпал, недоедал… Кто может супротив меня сработать! Что сапог, что башмак, что калоши!.. Прошивные, выворотные, по старой вере, дратва в палец… Или рантовые — шва не найдешь, или на шпильке узором… Французский каблук присадишь… Все могу… в наилучшем виде». Но вот прошла жизнь и ничего ему не дала, кроме горького разочарования. Оказывается, не надо было любить труд, достигать мастерства, работать как лошадь. «Да, вот, работал, изводился, — говорит Андрей Иванович. — Думал — хибарочку. И вдруг, умирает старый дурак… извольте!.. Дом». Этот дом, доставшийся от богатого трактирщика, Андрей Иванович воспринимает как синоним наглого торжества торгашества, как осмеяние подвига его трудовой жизни. Настоящим драматизмом проникнуто то место рассказа, когда Андрей Иванович выбрасывает из окон вещи, приобретенные после получения наследства. «Андрей Иванович поднялся, — пишет Короленко. — Казалось, первое дыхание близкой грозы оказывало на него свое электрическое действие. Лицо его побледнело, глаза блуждали… Он упорно посмотрел на меня, как бы намереваясь спросить о чем–то, но затем двинулся к дому. Через минуту в верхнем этаже распахнулось окно… Раму сильно двинуло ветром, зазвенело разбитое стекло… Матрена Степановна оглянулась и замерла: в окне мелькнула дикая фигура супруга, и вдруг новенькая шляпа «цилиндровой формы» полетела вниз, в уличную пыль, за ней последовала белая — китайской соломы, за ними, беспомощно взмахнув на ветру рукавами, точно человек, падающий в пропасть, полетела модная разлетайка… Андрей Иванович опять появился в окне, и целая туча мелких предметов опять полетела на улицу».
Рассказ остался неоконченным. Короленко оборвал его на драматическом моменте ухода Андрея Ивановича «искать правду», не показав дальнейшей судьбы своего «строптивого демократа». К какой правде придет Андрей Иванович — Короленко не говорит. Наивный и немного смешной Андрей Иванович, разумеется, еще не тот человек, который сможет подняться до осознанного протеста, до активной борьбы. Но в нем Короленко сумел показать живую, мятущуюся душу простого русского человека, ищущего «широких формул, обнимающих жизнь и зовущих к жизни», и не согласного ни с моралью, ни с законами буржуазного общества.
IV
В 1896 году Короленко переезжает в Петербург, а с 1900 года живет в Полтаве. С неослабевающим интересом он продолжает следить за жизнью страны, отзываясь на все значительные события эпохи. Он участвует в организации защиты крестьян на судебных процессах в Харькове и Полтаве, созданных полицией в связи с так называемыми «аграрными беспорядками» на Украине, и выступает в печати с требованием судить не крестьян, а полицию, подавившую кровавыми расправами движение деревенской бедноты.
В 1902 году Короленко выступает с протестом против отмены выборов Горького в члены Академии наук. Как почетный академик по разряду изящной словесности Короленко принимал участие в избрании Горького, однако выборы были отменены по указанию Николая II. В газете появилось сообщение об их отмене, причем объявлялось это от имени Академии наук. Получалось, что сами академики, в числе которых был и Короленко, отменяли решение без какого–либо обсуждения на заседании Академии. Такая ложь не могла не оскорбить писателя. «Мне кажется, — писал он А. Н. Веселовскому, — что, участвуя в выборах, я имел право быть приглашенным также к обсуждению вопроса об их отмене, если эта отмена должна быть произведена от имени Академии. Тогда я имел бы возможность осуществить свое неотъемлемое право на заявление особого по этому предмету мнения». В апреле 1902 года Короленко приезжает в Петербург специально для того, чтобы добиться гласного обсуждения вопроса об отмене выборов Горького, и, испробовав все средства, которыми он располагал, 25 июля 1902 года подает заявление о выходе из Академии наук. В этом заявлении Короленко писал: «Ввиду всего изложенного, то есть: что сделанным от имени Академии объявлением затронут вопрос, очень существенный для русской литературы и жизни, что ему придан вид коллективного акта, что моя совесть, как писателя, не может примириться с молчаливым признанием принадлежности мне взгляда, противоположного моему действительному убеждению, что, наконец, я не нахожу выхода из этого положения в пределах деятельности Академии, — я вижу себя вынужденным сложить с себя нравственную ответственность за «объявление», оглашенное от имени Академии, в единственной доступной мне форме, то есть вместе с званием Почетного Академика».
Выступление Короленко с протестом против исключения Горького из состава почетных академиков, его открытая борьба с бесцеремонным произволом властей, отменивших избрание всенародно признанного писателя, наконец, его заявление и демонстративный уход из Академии наук—все это свидетельствует о том, как глубоко понимал Короленко общественную роль А. М. Горького, значение его как художника.
С 1899 по 1904 год появляются рассказы Короленко: «Марусина заимка», «Смиренные», «Мороз», «Огоньки», «Государевы ямщики», «Не страшное», «Мгновение», «Феодалы» и другие. В эти годы Короленко снова возвращается к сибирской теме и создает целый ряд значительных художественных характеристик. По сравнению с первым циклом сибирских рассказов, где внимание писателя было сосредоточено преимущественно на какой–либо одной стороне характера героя, в этих своих произведениях Короленко делает дальнейший шаг на пути реалистического изображения действительности. Во втором цикле сибирских рассказов расширяется драматический конфликт, образ получает более всестороннее и глубокое освещение. Прославление активного отношения к жизни, призыв к борьбе с социальным гнетом, феодальными репрессиями и полицейским произволом составляют основное содержание и других произведений этого периода деятельности Короленко.
В рассказе «Смиренные» Короленко взволнованно пишет о жизни деревни, разоблачает обывательское благодушие, общественный индифферентизм, мещанское смирение. С еще большей остротой эта тема развита в рассказе «Не страшное». Герой рассказа Будников, в прошлом человек «с идеями», радикал, превращается в стяжателя. Он отошел от общественных задач, душа его «выдохлась и опустела»; по мысли автора, страшное — в «не страшном», в терпимом отношении к обывательским формам быта, делающим самое существование человека бессмысленным и мерзким. «Да, есть,'— пишет Короленко, — в этом обыденном, в этой смиренной и спокойной на вид жизни благодатных уголков свой ужас… специфический, так сказать, не сразу заметный, серый… Где тут, собственно, злодеи, где жертвы, где правая сторона, где неправая?.. И так хочется, чтобы проник в этот туман хоть луч правды живой». «Не страшное» по силе разоблачения буржуазной интеллигенции, яркости типов, по мастерству сюжета может быть отнесен к числу лучших рассказов Короленко. Напечатанный в 1903 году, рассказ говорил о приближении бури, без которой невозможно дальнейшее развитие общества.
В произведениях, появившихся перед революцией 1905 года, Короленко рисует тяжелую жизнь людей подневольного труда, обличает полицейский произвол и крепостнический режим самодержавного строя. Писатель–гуманист, рассказывая о тяжелой жизни народа, неизменно верит в его победу. С предельной ясностью это выражено в миниатюре «Огоньки». «…Жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, — пишет Короленко, — а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла… Но все–таки… все–таки впереди — огни!» Эти слова Короленко в ту пору были восприняты как открытый призыв к борьбе с царизмом и реакцией во имя грядущего освобождения народа.
В момент общественного подъема, в годы, непосредственно предшествующие первой русской революции, усилия Короленко как писателя и общественного деятеля направляются на борьбу с охранителями самодержавия. Писатель выступает против еврейских погромов, поощряемых властями и полицией, объясняя, в чьих они интересах. В 1903 году Короленко пишет «Дом № 13» — одно из ярчайших произведений, направленных против антисемитской политики царского правительства.
В революционный год он печатает статью, разоблачающую провокаторскую деятельность попа Гапона и Зубатова, их намерение «запрячь молодое рабочее движение в полицейскую колесницу».
В 1906 году над писателем нависла новая угроза административных репрессий.
В декабре 1905 года полицейский карательный отряд под начальством Филонова учинил кровавую расправу над крестьянами села Сорочинцы Полтавской губернии. Короленко выступил в газете «Полтавщина» с «Открытым письмом», в котором требовал немедленного суда над Филоновым. Через несколько дней после опубликования этого письма Филонов был убит выстрелом из револьвера. Никакой прямой связи между выступлением Короленко и убийством Филонова не было, но черносотенная печать тут же начала травлю писателя, обвиняя его в «подстрекательстве к убийству». Газеты «Киевлянин» и «Полтавский вестник» поместили злопыхательские статейки с прямыми угрозами по адресу Короленко. Прямолинейные, резкие ответы писателя на все провокационные выпады черносотенной печати составили цикл очерков, известных под названием «Сорочинская трагедия».
Не оставляет Короленко разносторонней деятельности и в годы реакции после поражения революции 1905 года. Об его книге «Бытовое явление», которая немедленно подверглась запрету властей, Лев Толстой писал: «Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземплярах. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья»[14].
Материалом для «Бытового явления» послужили реальные факты «правительственной оргии» казней, расстрелов и полицейских издевательств после поражения первой русской революции.
В 1911 году в очерке, иронически названном «В успокоенной деревне», Короленко рассказал о бесчинствах царской полиции. В то время в правительственных газетах нередко можно было встретить выражения: «успокоенная деревня», «тишина в деревне». Царское правительство заверяло, будто после революции 1905 года «деревня успокоилась» и экономическое положение крестьян улучшилось. На самом деле правительство предоставило еще большую возможность деревенским кулакам эксплуатировать бедноту, и «успокоение» было достигнуто путем кровавых расправ жандармов над крестьянами.
В годы между двумя революциями Короленко большое внимание уделяет публицистике, которая, как и вся его литературная деятельность, — одно из наиболее ярких проявлений борьбы передовых, прогрессивных сил русского общества против реакции и самодержавного произвола.
Короленко был связан с редакцией журнала «Русское богатство» —органа либерального народничества. Однако в своем художественном творчестве и публицистике он всегда оставался правдивым писателем–реалистом, непримиримым борцом против рабского строя, врагом покорности, рабской психологии, смирения. В. И. Ленин, давший сокрушительную характеристику либеральному народничеству, относил Короленко к числу прогрессивных писателей. Громадное значение Короленко в борьбе народа за свое освобождение раскрыл А. М. Горький, высоко оценивший общественную деятельность и художественное творчество писателя.
Очерки Короленко о кишиневском погроме, Мултанском процессе, его книгу «Бытовое явление» А. М. Горький называл «прекрасными образцами публицистики» в русской литературе. С самого начала своей творческой деятельности Короленко выступил подлинным преемником и замечательным продолжателем революционных традиций гражданской публицистики Чернышевского, Герцена, Добролюбова, Салтыкова–Щедрина. В течение нескольких десятилетий Короленко в своих художественных и публицистических произведениях поднимал голос в защиту угнетенного, ограбленного и лишенного всех прав народа. В его творчестве нашла рельефное и яркое отражение жизнь русского народа во вторую половину XIX и начала XX столетия. В. И. Ленин писал, что в «эту эпоху, приблизительно отмечаемую годами 1871 —1914, «мирный» капитализм создавал условия жизни, весьма и весьма далекие от настоящего «мира» как в военном, так и в общеклассовом смысле. Для 9/ю населения передовых стран, для сотен миллионов населения колоний и отсталых стран эта эпоха была не «миром», а гнетом, мучением, ужасом, который был, пожалуй, тем ужаснее, что казался «ужасом без конца»[15].
Мужественный, беспощадно честный художник и гражданин, Короленко в своих публицистических очерках и фельетонах вскрывает разнообразные стороны этой чудовищной системы угнетения, открытого грабежа, полицейского произвола и бесчинства. Страшное самодурство властей предержащих, пьянеющих «от сознания своего всемогущества, своей безответственности», вызывает не только ужас, но и гневный протест писателя. Его жизненным делом, призванием и святым долгом становится борьба с самодержавием. Разоблачая ряд судебных процессов, Короленко убеждает в том, что царский суд является неправедным орудием правительственной реакции. Глубоко и всесторонне Короленко проник в существо самодержавия, которое Ленин определял как «самовластие чиновников и полиции и бесправие народа»[16]. И не случайно сам писатель, получивший к тому времени широкую известность, находился под судом за свое выступление в газетах по делу Бейлиса. Еще в июле 1916 года, готовясь к этому позорному для самодержавия суду, Короленко писал: «Я не имею надежды выиграть формально: наверное осудят, но и российской Фемиде не удастся опровергнуть сколько–нибудь убедительно, что она выучилась при Муравьеве и при Щегловитове играть краплеными картами». Лишь победа пролетарской революции в октябре 1917 года освободила Короленко от полицейского следствия и суда.
В пору, когда писатели–декаденты пропагандировали шовинистические и националистические идеи, воспевали культ личности, всячески поносили демократические традиции русской литературы, Короленко решительно встал на сторону прогресса и демократии, примкнув к лагерю передовых писателей. «Почитайте о Глебе Успенском, Гаршине, Салтыкове, о Герцене, —писал Горький одному из своих корреспондентов 23 декабря 1910 года, — посмотрите на ныне живущего Короленко — первого и талантливейшего писателя теперь у нас»[17]. Называя Короленко в этом ряду, Горький подчеркивает его прямую связь с русской демократической литературой XIX века. Об этом он пишет и в письме к Короленко от 6 марта 1913 года: «…Правда ли, что Вы решили возвратиться к художественной литературе? Простите за смелость, но — как это было бы хорошо для современного читателя, задерганного, запуганного базарным и лубочным «модернизмом»! Это был бы праздник для всех, кому дороги прекрасные традиции настоящей русской литературы, в которой Ваше имя горит таким благородным огнем»[18].
Во время первой мировой войны Короленко выступает как писатель, тесно связанный с жизнью трудящихся масс. В эту пору он пишет о нуждах крестьян, о фактах полицейского произвола, о шовинистическом угаре, охватившем реакционные круги. Письма Короленко этих лет полны предчувствия надвигающихся революционных событий.
Высокую оценку творчества Короленко и его общественной деятельности дала дооктябрьская «Правда».
В статье, опубликованной в связи с шестидесятилетием Короленко в 1913 году, «Правда» писала: «…его реализм не есть фотографическое воспроизведение жизни, — каждое его произведение согрето теплым, гуманным чувством. Короленко всегда ищет смысл жизни, он открывает нравственные ценности в жизни людей». Указав на гуманизм и пафос общественного негодования, которые в ряде произведений писателя «носят какой–то пророческий характер», и особо остановившись на значении выступлений Короленко в защиту национальных меньшинств против обвинений, вытащенных из средневекового архива «и пущенных в оборот для разжигания национальной травли», «Правда» писала: «Кто не помнит его прекрасной миниатюры «Мгновение», где в образе узника, рвущегося из мрака тюремных стен на волю, так хорошо выражено стремление к новой, свободной жизни?
В. Г. Короленко стоит в стороне от рабочего движения… Но он сам несомненный демократ, всякий шаг народа на пути к демократии всегда найдет в нем сочувствие и поддержку. Такие люди, как Короленко, редки и ценны.
Мы чтим в нем и чуткого, будящего художника, и писателя–гражданина, писателя–демократа»[19].
V
В богатом литературном наследстве В. Г. Короленко есть одно произведение, в котором с наибольшей полнотой выражены самые характерные черты его жизни и творчества. Это — четырехтомная «История моего современника». Повесть эта достойно завершает творческий путь Короленко и среди его произведений и по объему, и по художественному мастерству занимает первостепенное место.
«История моего современника» осталась незавершенной. Книга обрывается на событиях, связанных с возвращением В. Г. Короленко из якутской ссылки в 1884 году. «Нижегородский период», — по характеристике писателя, — «период борьбы с тогдашней диктатурой дворянства», должен был составить следующую книгу «Истории моего современника».
С «нижегородским периодом» (1885–1896) жизни Короленко связано необычайно быстрое выдвижение его как писателя. В течение нескольких лет Короленко опубликовал такие рассказы и повести, как «Сон Макара», «Соколинец», «Лес шумит», «В дурном обществе», «Слепой музыкант». В «нижегородский период» появляется его яркая общественно–активная публицистика — «Павловские очерки», «В голодный год». К годам «нижегородского периода» относится знакомство Короленко с Чернышевским, Глебом Успенским, Чеховым, М. Горьким, Львом Толстым. Бесспорно, сумей Короленко дописать «нижегородский период», как он того хотел сам, мы бы имели одно из интереснейших мемуарных повествований, пол–ных живого материала о русской провинции конца XIX века.
Но даже в незавершенном виде «История моего современника» остается главнейшим произведением Короленко. Так относился к ней сам автор. В 1916 году, принимаясь за работу над очередной частью своих воспоминаний, он писал: «Думаю о нем (то есть о «Истории моего современника». — А. К) с удовольствием и даже жадностью. А то, пожалуй, и не успеть кончить то, что я считаю своим главным делом».
Обширен и многообразен круг тем, затронутых в «Истории». В ней широким планом изображены семья и гимназия, студенческая аудитория и нелегальные сходки семидесятников, чердачные трущобы и тюрьмы, канцелярии чиновников и жизнь крестьянской избы. Исторические границы этой эпопеи захватывают почти тридцатилетний период: от пятидесятых до середины восьмидесятых годов. Географические масштабы грандиозны. Здесь и захолустная украинская деревенька «Гарный Луг», и губернский город Житомир, Москва и Петербург, Кронштадт и Вятка, Пермь и Иркутск, заброшенные на край света Березовские Починки и, наконец, отдаленная Амга Якутской области.
Начало работы Короленко над «Историей моего современника» относится к 1902–1905 годам. Первая книга полностью была опубликована в 1908 году. Вторая книга, начатая в 1909 году, была закончена лишь через десять лет.
В «Истории» Короленко стремился дать типическое изображение героя своего поколения, разночинца по условиям жизни, связанного с демократическими устремлениями эпохи 60—70–х годов. Писатель дает широкое обобщение, оживляя в своей памяти важнейшие эпизоды собственной жизни, блестяще анализируя духовные поиски Короленко — гимназиста, студента, «интеллигентного пролетария» и наконец «государственного преступника».
В предисловии к первым главам «Истории моего современника» Короленко писал: «Эти записки не биография… не исповедь… не портрет… В своей работе я стремился к возможно полной исторической правде, часто жертвуя ей красивыми или яркими чертами правды художественной. Здесь не будет ничего, что мне не встречалось в действительности, чего я не испытал, не чувствовал, не видел. И все же повторяю: я не пытаюсь дать собственный портрет. Здесь читатель найдет только черты из «Истории моего современника».
В целом ряде своих высказываний Короленко уточнил замысел своей «Истории». В черновике предисловия к первой книге он писал: «Все факты, впечатления, мысли и чувства, изложенные в этих очерках, — суть факты моей жизни, мои мысли, мои впечатления и мои чувства, насколько я в состоянии восстановить их с известной степенью живости и без прибавки позднейших наслоений. Но здесь не все факты, не все мысли, не все движения души, а лишь те, какие я считаю связанными с теми или другими общеинтересными мотивами».
Таким образом, автобиографический материал «Истории» современника был отобран взыскательным художником под углом зрения его типичности, исторической значимости.
«История моего современника», связанная с изображением далеких событий, отодвинутых от времени работы писателя над этим произведением на несколько десятилетий, своей идейной настроенностью близка общественным интересам Короленко в эпоху революции 1905 года и, главным образом, в период наступившей после ее поражения реакции. В 1905 году в предисловии к первым главам своей «Истории» Короленко отмечал: «Теперь я вижу многое из того, о чем мечтало и за что боролось мое поколение, врывающимся на арену жизни тревожно и бурно… мысли и чувства людей того времени и той среды не потеряли теперь интереса самой живой действительности… Наша жизнь колеблется и вздрагивает от острых столкновений новых начал с отжившими, и я надеюсь хоть отчасти осветить некоторые элементы этой борьбы». Позднее в заметке «От автора» повторена та же мысль: «В неблагоприятное время пустился «мой современник» в свое плавание, но, раз начав, он хочет доплыть до желанного берега, невзирая на крушения… Итак, мы будем продолжать свои очерки среди скрипа снастей и плеска бури. В начале очерков было сказано, что, начавшись тихими движениями детской мысли, они должны перейти к событиям и мотивам, тесно и непрерывно связанным с самыми болящими мотивами современности».
Таким образом, Короленко, работая над материалом далекого прошлого, не имел намерения спрятаться от живой жизни. Оглядываясь на несколько десятилетий назад, писатель с самого начала работы над повестью связывал ее проблемы с задачами современности. Характером изображения прошлого Короленко защищал свои позиции в условиях реакции, наступившей после 1905 года, когда в буржуазнодворянской литературе пышно расцвели упадочничество и декаданс. В его воспоминаниях о прошлом ощущается резкая полемика писателя–реалиста с литературой эпохи реакции.
«История моего современника» начинается с изображения жизни ребенка в губернском городе Житомире и уездном городке Ровно, что вполне соответствует личной биографии В. Г. Короленко. Память писателя сохранила картины жизни чиновничьей семьи. С великолепным мастерством Короленко воплотил в конкретные образы знакомые ему с детства фигуры чиновников уездного суда — смешные персонажи, достойные комедийных сюжетов, — мрачные фигуры высшего начальства, этих, по выражению писателя, «властных сатрапов», власть которых обрушивалась на обывателей с тупой и бессмысленной силой. С особым мастерством Короленко рассказал о гимназии, создав целую галерею типов казенных учителей, сторонников догматического воспитания.
Уже в изображении пробуждающегося и растущего сознания ребенка ощутимо критическое отношение к устройству жизни. Уверенность в полной законченности и нерушимости всего, что окружало ребенка, сменяется пониманием «изнанки» жизни, ощущением какой–то неправды, которая лежит в самой основе действительности. Это ощущение постепенно переходит у юноши в сознание социальной несправедливости, в убеждение, что государство помещиков и буржуазии основано на «лжи сверху донизу». В великолепном очерке, посвященном отцу, Короленко рассказывает, как разрушалось понятие о неизменяемости общественного устройства и как на смену ответственности лишь за свою личную деятельность пришло «едкое чувство вины за общественную неправду».
Жизнь глухой провинции в изображении Короленко по–своему отражала события, происходящие далеко за ее пределами. Гимназические реформы, правительственные уставы, направленные на укрепление власти полиции и губернаторов, — все это находило отражение в жизни уездного городка, и «История моего современника» создает картину того, как глупо и бессмысленно выглядели все эти «действия» высшей власти при их проведении в жизнь. Ярко изображен один из эпизодов реформы 1861 года. «Для выслушивания «манифеста», — пишет Короленко, — в город были «согнаны» представители от крестьян, и уже накануне улицы переполнились сермяжными свитами. Было много мужиков с медалями, а также много баб и детей. Это последнее обстоятельство объяснялось тем, что в народе прошел зловещий слух: паны взяли верх у царя, и никакой опять свободы не будет. Мужиков сгоняют в город и будут расстреливать из пушек… В панских кругах, наоборот, говорили, что неосторожно в такое время собирать в город такую массу народа. Толковали об этом накануне торжества и у нас. Отец, по обыкновению, махал рукой: «Толкуй больной с подлекарем!» В день торжества в центре города, на площади квадратом были расставлены войска. В одной стороне блестел ряд медных пушек, а напротив выстроились «свободные» мужики. Они производили впечатление угрюмой покорности судьбе, а бабы, которых полиция оттирала за шпалеры солдат, по временам то тяжко вздыхали, то принимались голосить. Когда после чтения какой–то бумаги грянули холостые выстрелы из пушек, в толпе послышались истерические крики и произошло большое замешательство… Бабы подумали, что это начинают расстреливать мужиков… Старое время завещало новому часть своего печального наследства…»
Большое место в «Истории моего современника» занимает студенческий период жизни Короленко. В ярких картинах изображено полуголодное существование Короленко во время его учебы в Технологическом институте, работа в корректорском бюро, «студенческий бунт» в Петровской академии.
Студенческие годы писателя совпали с периодом подъема русского общественного движения. В аудитории институтов и университетов пришла молодежь, знакомая с идеями Чернышевского и Добролюбова. Эта разночинная молодежь ютилась по чердакам и подвалам, жила впроголодь, и в ее среде вызревали туманные представления об освобождении народа, обсуждались вопросы мировоззрения и норм поведения. Главы, посвященные «артели нищих студентов», обитавших на чердаке № 12, дают одну из характернейших в русской литературе картин жизни разночинного студенчества.
Не обо всех периодах жизни Короленко изложено с одинаковой полнотой в «Истории моего современника». Кратко рассказано, например, о событиях, предшествующих второму аресту В. Г. Короленко, хотя и здесь со свойственной автору выразительностью нарисованы колоритные фигуры представителей тогдашней интеллигенции (например, фигура издателя газеты «Новости» Нотовича).
Повесть дает портреты многих участников общественного движения 60–70–х годов. В этой среде встречались и «дилетанты от революции», случайные люди, которые, после того как они попадали в руки полиции, давали предательские показания и считали своим долгом публично каяться в своих «заблуждениях» на страницах реакционной печати. Однако ссыльные скитания Короленко сводили его и с людьми значительного революционного темперамента и непреклонной воли, с участниками крупных политических процессов. Он встречался с людьми, привлекавшимися по делу Чернышевского и Писарева. Недалеко от Амги находились в ссылке Ромась и Павлов. О первом из них писал М. Горький в «Моих университетах» в связи с его деятельностью в селе Красновидове. Павлов был петербургским рабочим, членом «Северного союза русских рабочих» и учеником одного из крупнейших революционеров того времени, Степана Халтурина.
Третья и в особенности четвертая книги всего более приближаются к типу мемуаров. На эту сторону последних частей «Истории» указывал сам Короленко, говоря, что в нем борется бытописатель и художник и что ему приходится отдавать предпочтение бытописателю. Однако страницы, рассказывающие о том, как он занимался сельским хозяйством и жил в якутской юрте, могут быть отнесены к лучшим частям автобиографической повести Короленко. Но в то же время именно в этой книге все больше фактических погрешностей и пропусков бытовых подробностей.
Читая художественные мемуары Короленко, нельзя не вспомнить многих его рассказов, очерков и повестей, сюжеты и темы которых как бы выросли из материала «Истории моего современника». Иногда это касается детали, послужившей основанием к развитию темы, — как, например, шум соснового бора, завороживший Короленко в одну из загородных прогулок в детстве. Далекое воспоминание об этом легло в основу рассказа «Лес шумит». Или эпизод с куклой, изображенный в одной из первых глав повести, который послужил драматической развязкой в рассказе «В дурном обществе».
Иногда «История моего современника» объясняет происхождение темы того или другого рассказа Короленко. Так, из воспоминаний о детстве сложились рассказы «Парадокс» и «Ночь», основные мотивы которых развиты в первой книге биографической повести.
Очевидна прямая зависимость сибирских рассказов Короленко от автобиографического материала, воспроизведенного в тех частях «Истории моего современника», где идет речь об якутской ссылке писателя. В этой связи необходимо упомянуть как те рассказы, которые появились тотчас же после возвращения писателя из ссылки: «Соколинец», «Сон Макара», «Убивец», — так и те, которые были опубликованы много лет спустя: «Марусина заимка», «Мороз», «Государевы ямщики».
Короленко черпал из автобиографического материала не только сюжеты своих рассказов. Многие герои его произведений также «позаимствованы» из жизни. О. В. Аптекман, который отбывал ссылку в Амге в ту пору, когда там был и Короленко, пишет: «Его «Макар» — это хозяин юрты Захар… он привязывается к Владимиру Галактионовичу, ходит к нему, выкладывает перед ним все печали своей скорбной, беспросветной, трудовой жизни…»
Встреченные в Сибири ханжа–душегуб из секты «покаянников» и молодой ямщик с «неоформленными стремлениями к правде» составили сюжет рассказа «Убивец». «Я изобразил это сочетание, как умел, в расказе об «Убивце», — пишет Короленко. Бесспорно сходство между образом талантливого музыканта конюха Иохима из «Слепого музыканта» и деревенским парубком Антосем, страстным музыкантом, имевшим «сердце артиста», о печальной судьбе которого рассказано в главе «Деревенские отношения».
Поколение, представителя которого Короленко дает в образе своего современника, действовало в эпоху возникновения и развития революционного рабочего движения, завершившегося победой Великой Октябрьской социалистической революции. В сибирской ссылке, во время пребывания там Короленко, наряду с участниками народнического движения были рабочие–революционеры, члены первых пролетарских организаций. В эти годы передовые круги русской интеллигенции знакомятся с марксизмом. В 1883 году группа студентов Петровской сельскохозяйственной академии, где незадолго до того учился Короленко, просила Энгельса возложить венок на могилу Маркса со следующей надписью: «Защитнику прав труда в теории и борцу за их осуществление в жизни — от студентов Петровской сельскохозяйственной академии в Москве»[20].
Но теория научного социализма, марксизм, не была усвоена Короленко ни в пору его пребывания в ссылке, ни в более поздние годы. И хотя в своем творчестве он острее и глубже, чем многие другие писатели буржуазного мира предреволюционного периода, поставил вопросы, близкие пролетарскому движению, сам он остался в стороне от политической борьбы рабочего класса за социализм.
Изображая жизненный путь своего современника, Короленко показал широкий исторический фон эпохи. Однако особенности его личной биографии предопределили круг исторического материала, составившего содержание четырех книг «Истории моего современника». Последние главы повести всего полнее освещают деятельность народнической интеллигенции. Эти главы были написаны после Великой Октябрьской социалистической революции. Короленко не понял всемирно–исторического значения революции и в отдельных своих высказываниях исходил из ошибочных взглядов. Однако писатель не мог не видеть, что Октябрьская революция победила потому, что в ней участвовали самые широкие народные массы, что исторические задачи, которые она разрешила, отражали кровные интересы не только рабочего класса, но и многомиллионного крестьянства. Отдавая себе отчет в народном характере победившей социалистической революции, он яснее осознал всю бесплодность на–роднического движения в прошлом. Автор «Истории моего современника» показывает, сколь наивна была ставка народников на один лишь героизм «избранных» при полном отсутствии поддержки трудящихся масс. В действиях тех, кто становился на путь индивидуального террора, считая его единственным средством борьбы с царизмом, Короленко видел «акт отчаяния» и писал в связи с этим о «трагедии борьбы без народа».
Художественные мемуары Короленко, разумеется, не дают полного и всестороннего освещения эпохи. Автор порой субъективен в оценке лиц и современных ему явлений действительности, иногда исторически значительный материал он излагает с меньшей полнотой, чем материал, имеющий второстепенное значение. Тем не менее в целом художественные мемуары Короленко представляют большой интерес для советского читателя, который находит в них яркое изображение значительного периода русской истории. Начало этого периода (конец 50–х — начало 60–х годов) определяется подъемом общественного движения, когда «…самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»[21]. К Заканчивается период, изображенный Короленко, годами, непосредственно предшествовавшими возникновению марксистской рабочей партии, теоретические основы которой укреплялись в борьбе с народничеством.
Первая книга «Истории моего современника» получила высокую оценку А. М. Горького. В 1910 году в письме к М. М. Коцюбинскому А. М. Горький писал: «На каждой странице чувствуешь умную, человечью улыбку много думавшей, много пережившей большой души». Горький выделил повесть Короленко из всей литературы эпохи реакции. Идейному измельчанию и кичливому индивидуализму символистской литературы Горький противопоставил «серьезный тон» и общественный пафос повести Короленко. «Взял я превосходную эту книжку в руки и — перечитал ее еще раз, — писал Горький. — И буду читать часто, — нравится она мне все больше и серьезным своим тоном, и этой, мало знакомой современной нашей литературе, солидной какой–то скромностью. Ничего кричащего, — а все касается сердца. Голос — тихий, но ласковый и густой, настоящий человеческий голос»[22].
«История моего современника» имеет непреходящее значение и как выдающийся исторический документ, достоверно запечатлевший ряд общественных событий эпохи, и как большое художественное произведение, в котором с наибольшей полнотой и силой проявились особенности замечательного таланта выдающегося русского писателя. Эти бесспорные достоинства «Истории моего современника» поднимают ее над обычным уровнем мемуарной литературы и ставят в один ряд с «Былым и думами» Герцена и автобиографическими трилогиями Л. Толстого и М. Горького.
Работе над «Историей моего современника» Короленко отдал более чем пятнадцать лет своей жизни. До 1917 года были опубликованы лишь первая и частично вторая книги. За четыре года — 1918–1921 — была завершена начатая за десятилетие до того вторая книга и полностью написаны третья и четвертая книги повести. Над четвертой книгой Короленко работал уже тяжело больным. Это, разумеется, не могло не сказаться на характере последних страниц «Истории моего современника», в которых нередко писатель ограничивается лишь перечислением событий, не развертывая их в художественное действие.
Умер Короленко 25 декабря 1921 года в Полтаве. Многолюдные похороны писателя вылились в демонстрацию народной любви и уважения к человеку, чье имя было дорого всем советским людям.
Память Короленко отметил IX Всероссийский съезд Советов, проходивший в те дни. 27 декабря 1921 года на заседании съезда с внеочередной речью, посвященной Короленко, выступил Ф. Кон. «Для нас, — сказал Ф. Кон, — дорог Короленко потому, что на всем протяжении его жизни он был всюду, где слышалось горе, где чувствовалась обида». Всероссийский съезд Советов почтил вставанием память Короленко, как «погибшего борца» и «поборника правды».
Правительство Украинской республики передало в эти дни семье Короленко телеграмму, полученную от президиума ВЦИК и подписанную М. И. Калининым.
«Президиум ВЦИК просит вас передать семье покойного В. Г. Короленко, от имени Всероссийского съезда Советов, что сознательные рабочие и крестьяне с глубокой скорбью узнали о кончине благородного друга и защитника всех угнетенных—Владимира Короленко.
Советская власть примет все меры к широчайшему распространению произведений покойного среди трудящихся Республики»[23].
VI
Литературное наследство Короленко чрезвычайно велико и поражает разносторонностью художественного дарования писателя. Короленко было свойственно высокое понимание писательского долга, поэтому таким гражданским пафосом веет от всего его творчества, поэтому так благородны его замыслы, безгранична его вера в силы народа. В своем труде Короленко не знал усталости, до суровости был беспощаден к себе. Он не преувеличивал, когда говорил о своей профессиональной привычке «постоянно работать с карандашом» в любых условиях и при любых обстоятельствах. Нужно было быть до конца преданным литературе, иметь твердую волю и огромное самообладание, чтобы под сводами Вышневолоцкой политической тюрьмы создать рассказ «Чудная», на арестантской барже — очерк «Ненастоящий город», в суровых условиях якутской ссылки такие произведения, как «Сон Макара» и «В дурном обществе».
Короленко является для нас образцом писателя, самым теснейшим образом связанного с жизнью. Не было «…ни одного заметного события, — писал А. М. Горький, — которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко». В его дневниках и записных книжках упомянуты тысячи лиц, с которыми встречался писатель в жизни, записаны многочисленные факты, занесены прямо «с натуры» сотни сцен, послужившие материалом для многих его рассказов, очерков и газетных выступлений. Его Яшка–стукалыцик, Тюлин, многие герои сибирских рассказов вплоть до героев «Ат–Давана» — реально существующие люди. Известно, что после опубликования рассказа «Река играет» на Тюлина — ветлужского перевозчика — ездили специально смотреть, как на прообраз героя короленковского рассказа. Бесспорно, что Короленко стремился к наиболее точному воспроизведению жизни и, изображая ее, нередко брал реальные факты и реальных лиц. На эту особенность своего творчества он часто указывал в подзаголовках рассказов, называя их «эскизами из дорожного альбома», «из жизни в далекой стране», «из записок репортера», «из записной книжки путешественника». Но взыскательный художник был яростным врагом рабского списывания с натуры. Он неустанно напоминал молодым авторам о задаче художника не только увидеть то или иное явление, но и отразить его в наиболее характерном проявлении, «отрицая или благословляя». В своих художественных обобщениях Короленко поднимается до той типичности, глубокой правдивости изображения, которая отмечает подлинных мастеров литературы. Пользуясь в творческой работе своими дневниковыми записями, Короленко умел необычайно тонко и гармонично слить воедино поэтическую убедительность с чисто фактической достоверностью, бытовые наблюдения с художественным вымыслом.
Разрабатывая форму такого рассказа, когда действие излагается от первого лица, Короленко достигал стройной, естественно складывающейся композиции художественного произведения. Словно он запросто и задушевно беседовал с читателем. При этом писатель умел находить позицию рассказчика в зависимости от материала и замысла произведения. Когда читаешь Короленко, то видишь перед собой не только лицо, о котором идет речь, но и лицо, которое ведет речь. В этой связи нужно упомянуть о лукавом сказочнике, в духе гоголевского Панька Рудого, в «Иом–Кипуре», об интеллигентном наблюдателе в «Убивце», о человеке, страстно ищущем правды, в «Не страшном». Композиции его рассказов как бы не заданы заранее, в то же время нельзя не подивиться их поэтической утонченности, гармонии формы и содержания. Говоря о рассказе «Соколинец», А. П. Чехов, чутко понимавший природу художественного творчества, писал: «Он написан как хорошая музыкальная композиция, по всем тем правилам, которые подсказываются художнику его инстинктом»[24].
По мастерству владения языком Горький ставил Короленко в ряд с Тургеневым и Чеховым. Короленко постоянно искал сильное и выразительное слово и умел слышать его из уст простого народа.
Прекрасный знаток русского языка, Короленко, создавая речевую характеристику своих героев, умело отбирал в народных говорах меткие, яркие выражения, точные эпитеты. Все эти поэтические краски входят составными элементами в язык писателя, определяют то красочное единство речи, которое по праву выдвигает Короленко в число самых выдающихся и оригинальных художников слова.
С большим мастерством изображена в рассказах и повестях Короленко природа, которая с удивительной полнотой и поэтической силой раскрывается в тесной связи с изображением человека. «Для меня Волга — это Некрасов, исторические предания о движении русского народа, это — Стенька Разин и Пугачев», — пишет Короленко в «Истории моего современника». В рассказе «Лес шумит» трагическое повествование о возмущении крепостных крестьян Короленко ведет параллельно с описанием дремучего бора, шум которого уподобляется «тихой песне без слов», «неясному воспоминанию о прошедшем». Характер Тюлина напоминает «милую Ветлугу, способную «взыграть». В «Марусиной заимке» образ героини находится в соответствии с изображением «молодой искалеченной лиственницы». Таким образом, пейзаж у Короленко помогает раскрытию художественного замысла его произведений. В его рассказах, очерках, повестях нашло отражение все многообразие русской природы: леса Поволжья и степи Украины сменяются непроходимой сибирской тайгой, блещет спокойной красотой Волга, суровым величием веет от снежных просторов Лены. Пейзажи Короленко создают зрительное ощущение — словно они написаны красками на полотне.
«Короленко, — писала Роза Люксембург, — насквозь Русский писатель… Он не только любит свою страну — он влюблен в Россию, как юноша, влюблен в ее природу, в интимные красоты каждой местности исполинского государства, в каждую сонную речку, в каждую тихую, окаймленную лесом долину, влюблен в простой народ, в его типы… в его природный юмор и его напряженное раздумие»[25].
Посвятив свое творчество изображению жизни народа, Короленко с одинаковым мастерством показал и украинского крестьянина, и неизвестного до того в литературе ямщика с далекой Лены, и волжанина, и сибиряка, и павловского кустаря. Короленко защищал человека от враждебных ему сил собственнического строя. Писателю были ненавистны ложь, зло, насилие, на которых стояла власть буржуазии и помещиков. Большое общественное звучание имели его выступления в защиту национальных меньшинств против народоненавистнической политики царского правительства. В лучших своих произведениях он воспел мечту народа о таком общественном устройстве, в котором не будет угнетателей и угнетенных и где человек получит право на достойную жизнь.
Имеют большое художественное и историко-литературное значение и его критические статьи, а также воспоминания о писателях.
Как литературный критик и историк литературы Короленко начинает активно выступать еще с конца 80–х годов. Он является автором статей о Гоголе, Белинском, Щедрине, Гончарове, Тургеневе. Представляют значи–тельный интерес воспоминания Короленко о целом ряде современников и прежде всего о Чернышевском, Гаршине, Л. Толстом, Успенском, Чехове. В этих своих произведениях он достигает органического сочетания художественного портрета, живого изображения личности и исторического исследования, тонкого и вдумчивого анализа творчества. Заслуживают внимания многие его журнальные рецензии и среди них — рецензия на ранние рассказы А. С. Серафимовича, которая является одним из первых печатных отзывов о творчестве выдающегося пролетарского писателя. Вопросам эстетики посвящены многочисленные страницы дневников и записных книжек писателя. Сотнями писем Короленко откликался на произведения молодых авторов из народа, высказывая при этом ценные мысли о поэтическом мастерстве и задачах литературы.
В основе литературно–критических взглядов Короленко лежат традиции русской революционно–демократической критики XIX века. Короленко признает только то искусство, которое связано с жизнью народа и служит благородным целям освободительной борьбы. «Литература есть (и должна быть) самое демократическое из социальных явлений… — писал Короленко 24 января 1916 года литератору А. К. Лозине–Лозинскому. — Вот почему «Белеет парус», или «Горные вершины», или им подобные лирические перлы навсегда останутся не только самыми понятными, но и самыми лучшими образцами лирической поэзии, а «апельсины в шампанском» останутся виртуозными и курьезными памятниками извращения вкуса и упадка».
Короленко подчеркивает громадное значение Белинского, Некрасова, Щедрина и Чернышевского в развитии самосознания русского общества, в освободительной борьбе народа. «Подсчитайте, — писал Короленко В. А. Гольцеву 11 марта 1894 года, — ту огромную массу новых мыслей и чувств (нового отношения человека к миру), которую в свое время привел в движение Щедрин, — и вы увидите, что — проживи поэзия Фета тысячу лет, она не подымет и десятой доли этого…» В статье о Белинском он также подчеркивает значение «массы идей» великого критика, «которыми мы и за нами наши дети будут пользоваться». Блестящим образцом исследования творчества Гоголя является статья Короленко «Трагедия великого юмориста». Отмечая величайшее значение Гоголя в развитии русской литературы, Короленко в этой статье определяет писательскую драму Гоголя, как противоречие между реакционными тенденциями его взглядов и прогрессивным характером его творчества. Вслед за Белинским Короленко показывает, сколь органически чужды творческому гению Гоголя были ложные идеи «переписки с друзьями», которую буржуазная критика начала XX века объявила основной ценностью гоголевского наследства. «Горечь, — пишет Короленко в заключительной части статьи о Гоголе, — вызванная идеями «Переписки», очень живая в первые годы, давно стихла, а скорбный образ поэта, в самой душе которого происходила гибельная борьба старой и новой России, — стоит во всем своем трагическом обаянии». Тонким умением проникать в художественный мир писателя исполнены статьи Короленко о Гончарове, Гаршине, Толстом. С гордостью за русскую литературу I писал Короленко о мировом значении творчества Толстого: «Можно сказать смело, что по непосредственной силе творческой фантазии, по богатству и яркости художественного материала нет равного Толстому из современных художников».
Статьи Короленко не свободны от ошибочных толкований отдельных историко–литературных проблем и некоторых сторон творчества тех писателей, о которых он писал. Так, в воспоминаниях о Чернышевском, исполненных глубокого уважения и неподдельной любви к вождю русской революционной демократии, сказалось известное влияние либерально–народнических взглядов Михайловского. Короленко явно недооценил громадного значения философских взглядов Чернышевского, который, по словам В. И. Ленина, «…сумел с 50–х годов вплоть до 88–го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников»[26]. В статьях о Толстом Короленко незакономерно прибегает к сравнению великого русского писателя с выходцем из «первых веков христианства», этим самым ошибочно истолковывая социальные основы критики Толстого. При всем этом взятые вместе литературно–критические статьи Короленко, утверждавшие общественное предназначение литературы, решительно отвергавшие разного рода буржуазные извращения в вопросах искусства и сыгравшие глубоко положительную роль в формировании целого ряда писателей прогрессивного направления, не потеряли ни своего научного значения, ни обаяния живого писательского слова о выдающихся деятелях русской культуры и останутся как замечательные образцы передовой критики предреволюционной эпохи.
Бесспорное общественно–литературное значение имеет эпистолярное наследие Короленко. Он переписывался с Толстым, Чеховым, Горьким, Тимирязевым, с видными деятелями русского искусства, с крупнейшими писателями Украины. Письма Короленко содержат ценнейшие признания, помогающие проникнуть в его творческую лабораторию. Они являются существенным дополнением к его литературно–критическим статьям. По переписке Короленко 1900–1921 годов можно судить об его отношении к революции 1905–1907 годов, к первой мировой войне, к Февральской и Октябрьской революциям 1917 года.
Письма Короленко дополняют образ писателя рядом новых черт. Так, только по письмам можно судить обо всем объеме работы Короленко как редактора и литературного наставника ряда поколений писателей. Они свидетельствуют об исключительной заинтересованности писателя в судьбах прогрессивной литературы, в развитии искусства, тесными узами связанного с жизнью народа.
Глубокий интерес представляют высказывания Короленко по вопросам реалистического изображения жизни, о героизме в литературе. Отвергая «народническую слащавость» и догматизм, Короленко в своих письмах последовательно развивал мысль о героизме повседневности.
Материал писем уточняет позицию Короленко, которую он занимал в редакции «Русского богатства» в отношении к марксизму. Характерно в этом отношении письмо В. Н. Григорьеву от 27 января 1898 года. «У нас в редакции, — писал Короленко, — я и Николай Федорович составляем некоторый оттенок, стоящий ближе к марксизму. Явление во всяком случае живое и интересное. Несомненно, что они вносят свежую струю даже своими увлечениями, и уж во всяком случае заставляют многое пересмотреть заново».
Разумеется, по этим высказываниям нельзя отнести Короленко к марксистам, но они лишний раз утверждают положительное начало философских поисков писателя, нашедших свое воплощение в его творчестве.
Одной из характерных особенностей эпистолярного наследства Короленко является то, что оно непосредственным образом связано с его художественным творчеством и публицистикой. Многочисленны письма, истолковывающие замыслы его произведений, а порой предвосхищающие отдельные главы его рассказов и очерков. Многие его высказывания могут быть названы автокомментариями к его произведениям. В письмах, представляющих собой своеобразный семинар писательского мастерства, находим большое число высказываний Короленко о языке произведения и его композиции, по вопросам литературной техники.
Невозможно очертить круг лиц, с которыми переписывался Короленко, — здесь и рабочие, и крестьяне, и ученые, и писатели, и политические деятели, и артисты, и художники. Такой громадный размах переписки лишний раз свидетельствует о неустанном интересе Короленко к людям самых разных кругов и профессий и о глубоких связях писателя с жизнью страны. Переписка писателя отчетливо рисует гражданский облик художника, откликавшегося на важнейшие социально–политические события, на все значительные явления общественной жизни.
Короленко постоянно выступал непримиримым врагом литературной реакции, горячим защитником всего нового и передового. Из писателей старшего поколения он был первым, кто оценил талант Горького еще до появления его рассказов в печати. Глубоко заинтересованный его громадным художественным дарованием, Короленко тщательно следил за выступлениями Горького в первый период его литературной деятельности, откликался на каждое новое его произведение. «Я был дружен со многими литераторами, — писал Горький в 1925 году, — но ни один из них не мог внушить мне того чувства уважения, которое внушил В. Г. с первой моей встречи с ним. Он был моим учителем недолго, но он был им, и это моя гордость по сей день»[27]. С большим сочувствием Короленко отнесся к А. С. Серафимовичу, к С. П. Подъячеву, к автору известного романа «Разин Степан» А. П. Чапыгину и многим другим передовым писателям. Многие стороны творчества Короленко близки советской литературе, в которой живут и находят свое развитие лучшие традиции писателей предшествующих поколений. Бесспорно, например, его влия–ние на одного из крупнейших писателей Советской Белоруссии—Змитрока Бядули. Известный поэт Советской Латвии Ян Судрабкалн назвал Короленко в числе учителей лучших латышских писателей.
Теснейшими узами Короленко был связан с украинской литературой. Еще в 90–х годах он познакомился с творчеством украинского поэта–революционера Павла Грабовского, многие годы томившегося в царской тюрьме и безвременно умершего в ссылке. Короленко принимал деятельные меры к тому, чтобы замечательный труд поэта–революционера появился в печати и стал известен украинскому народу. Самые дружественные отношения существовали у Короленко с выдающимся украинским писателем М. Коцюбинским и замечательным драматургом и театральным деятелем Карпенко–Карым. Многие годы общался Короленко с таким мастером украинской прозы, как Панас Мирный. Творчество Короленко нашло высокую оценку у крупнейших представителей украинской литературы. Леся Украинка мечтала о том времени, когда его произведения будут переведены на украинский язык. Своим «любимым автором» называл Короленко М. Коцюбинский, который оценил его творчество как «книгу жизни», «удивительно понятой и удивительно верно отраженной великим художником».
В нашей стране творчество Короленко пользуется широкой популярностью. Советские люди чтят его, как выдающегося писателя, отдавшего свой талант на защиту человека от уродств капиталистического строя. Они видят в нем горячего патриота, верившего в могучие силы своего народа. Книги писателя переведены почти на все языки народов Советского Союза, в том числе и на языки тех народов, о которых Короленко писал тогда еще, когда они не имели своей письменности и жили под чудовищным гнетом царизма. Его произведения, вошедшие в богатое наследие классической литературы, не потеряли своего художественного значения и продолжают служить и сейчас делу борьбы с темными силами мировой реакции.
1954
А. С. СЕРАФИМОВИЧ
Александр Серафимович Серафимович прошел большой и славный путь писателя–революционера. Свой первый рассказ Серафимович написал еще в 1889 году. В ту пору за участие в революционном движении он находился в далекой ссылке на севере. «Меня на Север, — вспоминал много лет спустя Серафимович, — привезли два голубых архангела—два жандарма привезли в Мезень, у Ледовитого океана». В Мезени Серафимович близко познакомился с жизнью поморов — рыбаков и охотников. Поморы занимались промыслом, требующим не только большой сноровки и уменья, но и связанным с постоянным риском для жизни. Жили они в условиях беспросветной нужды в полной зависимости от кулаков–хозяйчиков.
Изображению тяжелой жизни поморов Серафимович и посвятил свой первый рассказ «На льдине». Этот рассказ был невелик по объему: в нем Серафимович ограничился всего лишь одним эпизодом из жизни помора–охотника. Но уже это первое произведение молодого писателя обратило на себя внимание ярким изображением того безвыходного положения, в котором находились люди, постоянно риско–вавшие жизнью и не имевшие возможности прокормить себя и свою семью.
Герой рассказа «На льдине» охотник Сорока отправляется в море охотиться на тюленей. «Прыгая со льдины на льдину, скользя, проваливаясь по пояс… он бежал вперед…» Спускалась ночь, приближалось время отлива, нужно было возвращаться обратно, но при одной мысли, что он вернется с пустыми руками, Сороке становилось страшно: чем он будет кормить семью, как расквитается с кулаком–хозяином, который уже ждет его с добычей на берегу! Наконец удача: Сорока встречает целое стадо тюленей. У него богатая добыча, но вот–вот начнется отлив, и тогда его на льдине может унести в море.
Сорока понимает, что он успеет добежать до берега лишь в том случае, если бросит часть добычи; но без большой добычи вернуться ему нельзя: его погубит кулак–хозяин. И Сороку уносит на льдине в море.
Рассказ «На льдине» и другие рассказы, написанные на материале далекого Севера, определили литературное направление Серафимовича: он пошел по пути писателя–реалиста и все свое творчество посвятил жизни рабочего класса и крестьян.
В 1890 году Серафимовичу было разрешено поселиться на Дону, в станице Усть–Медведицкой, ныне переименованной в город Серафимович. С этого времени писатель выступает с произведениями, повествующими о жизни рабочих Донбасса, железнодорожников, строителей крупных промышленных предприятий на южных окраинах России. Он пишет рассказы и очерки: «Стрелочник», «Под землей», «Маленький шахтер», «Семишкура» и многие другие. В этих рассказах и очерках Серафимович рисует неимоверно тяжелый труд рабочих на капиталистических предприятиях, бесправное положение рабочего класса и страшную, непроходимую бедность трудящихся людей.
Пишет Серафимович в эти годы и о деревенской бедноте. Для этой темы в творчестве Серафимовича показателен такой, например, рассказ, как «Никита». Крестьянин уходит из голодной деревни на работу в далекий город. Дома осталась без хлеба многочисленная семья, а он идет, тоже голодный, пешком сотни километров, потому что у него нет денег на железнодорожный билет. Наконец он добрался до большого южного города, но заводские ворота оказались закрытыми для подобных ему бедняков, пришедших из голодных деревень. «Полтора месяца слонялся Никита в поисках работы», в конце концов его взяли работать на завод, но к тому времени, когда он смог послать своей семье в деревню несколько рублей, дети его и жена умерли с голоду. А через некоторое время Никиту уволили с завода, потому что он обессилел от чрезмерно тяжелого труда. И он должен был снова возвратиться в деревню, где у него никого к тому времени не осталось.
В рассказах, написанных в период революционного подъема 1905 года, Серафимович рисует уже не только бесправное положение рабочих и крестьян и их тяжелую жизнь в царской России, но и создает образы рабочих–революционеров, поднявшихся на борьбу с буржуазией и помещиками. Рассказы и очерки Серафимовича этих лет создают как бы художественную хронику вооруженной борьбы московского пролетариата в период первой русской революции.
В рассказе «Бомбы» Серафимович создал замечательный образ рабочей женщины, которая, поняв великую правду освободительной борьбы пролетариата, помогает мужу вести революционную работу. Серафимович рассказал о том, как постепенно входит в сознание женщины–работницы понимание несправедливости буржуазного строя. По поводу образа героини этого рассказа Серафимович писал: «Таких жен, как Марья в рассказе «Бомбы», я наблюдал на Пресне. Ближе знакомясь с их семейным укладом, я убеждался, что некоторые из них не меньше, чем мужья, были охвачены энтузиазмом борьбы. В дни же декабрьского восстания в Москве многие женщины в рабочих семьях не только не проявляли трусости, но и активно толкали своих мужей, а матери — сыновей на улицу, на борьбу. Я знал таких пресненских работниц, они становились рядом с мужьями в колонны дружинников, неся на своих плечах наравне с мужчинами все тяготы неравной борьбы с самодержавием».
В целом ряде рассказов Серафимович показал бесчеловечную эксплуатацию детей на капиталистическом предприятии, их непосильный труд в семье.
В рассказе «Воробьиная ночь» десятилетний мальчик, работая подручным у паромщика «за хлеб», должен был выполнять тяжелую мужскую работу. Двенадцатилетний Пахомка из рассказа «Степь и море», оставшись после отца за хозяина в многочисленном семействе, несет непосильные для него обязанности морского рыбака. Но эти дети бедноты в изображении Серафимовича находчивы, изобретательны и богато одарены. Маленький охотник из рассказа «Лесная жизнь» проявляет большую смелость и изобретательность: он может найти дорогу ночью в лесу даже там, где нет следа человеческого; по едва уловимым признакам умеет определить берег. А сын бедного крестьянина из рассказа «Змеиная лужа» становится со временем знаменитым художником.
В 1910 году Серафимович закончил одно из крупнейших своих произведений— «Город в степи». Рассказывая в этом романе о возникновении среди донской степи большого промышленного города, писатель разоблачил звериную сущность капитализма и создал характерный образ капиталиста–предпринимателя, нажившегося на обмане и бесчестных делах. Большое место в этом романе уделено изображению жизни рабочего класса и росту в нем революционного сознания.
С первых же дней Великой Октябрьской социалистической революции Александр Серафимович Серафимович — в рядах активных борцов за коммунизм. Он отдается горячей созидательной работе в области новой, социалистической культуры.
Высокую оценку деятельности Серафимовича дал в 1920 году Владимир Ильич Ленин, «…мне очень хочется сказать Вам, — писал Владимир Ильич Серафимовичу, — как нужна рабочим и всем нам Ваша работа…»[28]
В 1923 году Серафимович заканчивает свой роман «Железный поток» — одно из лучших произведений советской литературы. В этом романе, рассказывающем о тяжком отступлении Таманской армии из охваченной контрреволюционным восстанием Кубани в годы гражданской войны, Серафимович образно показал процесс перерождения неорганизованной, стихийной массы в дисциплинированную боевую единицу — железную армию. В полном согласии с правдой жизни писатель раскрыл в этом произведении ведущую, организующую силу большевистской партии, показал, каким путем движется в революцию «железный поток» крестьянской бедноты, как в борьбе складывается самосознание народа, растет его героизм.
Немало произведений написал Серафимович и после «Железного потока»; они главным образом посвящены изображению новой, советской, социалистической деревни. Ряд рассказов и очерков написал Серафимович и в годы войны с фашистскими захватчиками — о героизме советских людей в тылу и на фронте. В день своего 85–летия, за год до смерти (Серафимович умер в январе 1949 года, в возрасте восьмидесяти шести лет), обращаясь к молодежи, писатель говорил: «Жизнь пахнет упоительно. Жизнь наша — необъятный голубой простор моря. Так украшайте эту жизнь еще более, еще более раздвигайте ее просторы!»
Писатель–большевик, Серафимович отдал все свои силы борьбе за свободу и счастье родного народа. Серафимович, как верно сказал о нем Дмитрий Фурманов, всегда выступал «певцом борьбы труда с капиталом».
1951
О РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»
«Обломов» — вершина творчества Гончарова. Ни в одном из своих произведений, в том числе «Обыкновенной истории» и «Обрыве», Гончаров не выступает таким великим художником слова, беспощадным обличителем крепостничества, как в романе «Обломов». «В типе Обломова и во всей этой обломовщине, — писал Добролюбов, — мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени». Одним «из самых лучших романов нашей литературы» назвал «Обломова» А. М. Горький.
Полностью «Обломов» был впервые опубликован в 1859 году в первых четырех номерах журнала «Отечественные записки». Начало работы писателя над романом относится к значительно более раннему периоду. Еще в 1849 году Гончаров опубликовал одну из центральных глав «Обломова» — «Сон Обломова», которую он сам назвал «увертюрой всего романа». Как позднее утверждал Гончаров, в 1849 году готов был план романа и вчерне закончена первая его часть. «Вскоре, — писал Гончаров, — после напечатания в 1847 г. в «Современнике», «Обыкновенной истории» —у меня уже в уме был готов план Обломова…»
Работа над романом была надолго прервана в связи с кругосветным путешествием Гончарова на фрегате «Паллада». Лишь летом 1857 года, после выхода из печати путевых очерков «Фрегат «Паллада», Гончаров возобновил работу над «Обломовым». Летом 1857 года он уезжает на курорт Мариенбад, где в течение нескольких недель закончил три части романа. «Я приехал сюда 21 июня нашего стиля, — писал Гончаров Ю. Д. Ефремовой, —а сегодня 29 июля, у меня закончена 1–я часть «Обломова», написана вся 2–я часть и довольно много третьей, так что лес уже редеет, и я вижу вдали… конец». В августе того же года Гончаров начал работать и над последней, четвертой частью романа, заключительные главы которой были написаны уже в 1858 году. «Неестественно покажется, —писал Гончаров 2 августа И. И. Льховскому, — как это в месяц кончил человек то, чего не мог кончить в года? На это отвечу, что если б не было годов, не написалось бы в м[еся]ц ничего. В том и дело, что роман выносился весь до мельчайших сцен и подробностей и оставалось только записывать его». Об этом же вспоминал Гончаров и в статье «Необыкновенная история»: «В голове у меня был уже обработан весь роман окончательно — и я переносил его на бумагу, как будто под диктовку. Я писал больше печатного листа в день…» Однако, готовя роман к печати, Гончаров в следующем, 1858, году заново переписал своего «Обломова», дополнив его новыми сценами, и произвел некоторые сокращения.
На замысле «Обломова» бесспорно сказалось влияние идей Белинского, в чем впоследствии признавался и сам Гончаров. «Беллетристы, изображавшие в повестях и очерках черты крепостного права, — писал Гончаров, вспоминая эпоху 40–х годов, — были, конечно, этим своим направлением более всего обязаны его горячей — и словесной и печатной проповеди»[29].
Важнейшим обстоятельством, непосредственно сказавшимся на замысле «Обломова», на его основной антикрепостнической идее, нужно считать выступление Белинского по поводу первого романа Гончарова — «Обыкновенная история». Подробно разбирая этот роман в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и анализируя образ дворянского романтика, «лишнего человека», без оснований претендующего на почетное место в жизни, Белинский дополнил характеристику Адуева-младшего целым рядом черт, которые отсутствуют у героя «Обыкновенной истории». Белинский подчеркнул бездеятельность такого романтика во всех сферах жизни, его лень и апатию. Требуя беспощадного разоблачения подобного героя, Белинский указывал и на возможность иного, чем в «Обыкновенной истории», завершения романа. Белинский писал: «Автор имел бы скорее право заставить своего героя заглохнуть в деревенской дичи в апатии и лени…»[30] При создании образа Обломова Гончаров несомненно воспользовался целым рядом характеристических черт, намеченных Белинским в разборе «Обыкновенной истории», а лень и апатию своего героя сделал, по выражению Добролюбова, «единственной пружиной действия» всего романа.
Таким образом, начало работы над «Обломовым» относится к периоду 40–х годов, когда Гончаров был лично близок к Белинскому и находился под значительным воздействием его антикрепостнических идей; окончание же работы над романом и его выход в свет — к периоду нового подъема общественного движения в России, периоду деятельности Чернышевского и Добролюбова.
Главное в романе «Обломов» — это антикрепостническая идейная направленность, обличение общественного строя, основанного на рабстве и угнетении народа.
Перед читателем романа проходит вся жизнь Обломова, начиная с его безмятежного детства в сонной Обломовке, кончая смертью в доме Пшеницыной. Пользуясь средствами реалистического искусства, Гончаров показал, как складывался характер Обломова, какие силы толкали его к неминуемой гибели. Он родился в Обломовке, был «нежно воспитан» и привык воспринимать труд как тяжелое бремя, составляющее удел крепостных рабов. «Он выгнал труд из своей жизни» еще в детстве. «Он только что проснется у себя дома, — читаем мы в романе, — как у постели его уже стоит Захарка» и, «как бывало нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос». «Начав с неумения надевать чулки, — пишет Гончаров, — Обломов кончил неумением жить». Он не умеет преодолевать малейшую трудность в жизни и постоянно склоняется ко всему легкому, доступному, ко всему, что не требует труда и напряжения мысли.
Не умея работать и презирая труд, Обломов способен только на бесплодные мечты, далекие от жизни и ненужные ей. Лежа в халате на своем диване, он воображает себя то непобедимым полководцем — и тогда он «воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия»; то избирает себе «арену мыслителя, великого художника — все поклоняются ему; он пожинает лавры; толпа гоняется за ним».
Обломов боится конкретного дела, его пугает сама мысль о какой–либо деятельности. Погруженный в апатию и лень, он не может заставить себя написать письмо старосте, дочитать книгу, переехать на другую квартиру. Иногда в нем просыпалось недовольство собой, он начинал понимать, что он упустил время, проспал жизнь — и тогда он за день хотел сделать то, что не сделал за многие годы лежания на диване. «Он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое–то хорошее, светлое начало… Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором». Обломовщина — это воплощение сна, застоя, море пустого фразерства, неосуществимых стремлений, жалких и смешных потуг на «высокое поприще» в жизни. Апатия и полное безразличие ко всему, что происходит на свете, выросшие на почве возможности жить за счет других, составляют сущность духовного облика Обломова. Жизнь в глазах Обломова разделялась на две половины: «одна состояла из труда и скуки — это у него были синонимы; другая — из покоя и мирного веселья». При полном отсутствии живого дела и интереса к окружающему Обломов порождает вокруг себя атмосферу апатии и мертвечины. Он не живет, а «переползает изо дня в день».
Гончаров не ставил себе целью писать шарж, карикатуру. Характер Обломова во многом противоречив. В нем проявляются добрые, душевные порывы, он высказывает сочувственное отношение к «падшим» людям, требует от литературы «человечности» и «гуманитета», но в то же время он крепостник и по условиям жизни, и по своим взглядам. Он хочет для себя только «вечного веселья, сладкой еды да сладкой лени» за счет крепостных мужиков. Он понимает, что жизнь чиновников, берущих взятки, гадко подхалимствующих перед начальством, ворующих где только можно, бессмысленна и постыдна. Но сам он ведет не менее бессмысленную жизнь. Даже мечта о светлой и нескончаемой любви к Ольге Ильинской не может вывести его из состояния бездеятельного покоя и апатии.
Блестящий анализ Обломова сделал Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?». Добролюбов дал исчерпывающую характеристику «родовых» черт дворянского ленивца и байбака, с гениальной силой воссозданных в образе Обломова. Исходя из мысли Белинского о том, что «создает человека природа, но развивает и образует его общество», Добролюбов указывал на условия жизни и воспитания Обломова, как на первопричину обломовской лени и косности. Обломов «не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, — писал Добролюбов, — а человек, тоже чего–то ищущий в своей жизни, о чем–то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства». Устанавливая черты «обломовского типа» в Онегине, в Печорине и в Рудине, Добролюбов в особую заслугу Гончарову ставит разоблачительное направление романа, низведение «лишнего человека» с «красивого пьедестала» в период, когда перед обществом стояли задачи практической борьбы за освобождение народа.
Как воспитанник Обломовки и носитель многих обломовских черт выводится в романе слуга Ильи Ильича — Захар. Он, так же как Обломов, ленив и апатичен. Оторванный от производительного труда, Захар, подобно своему барину, также стремится к покойному прозябанию, к ничегонеделанию, он тоже любит лежать, бездельничать, вкусно поесть, увильнуть от работы. Он представляет собой тип крепостного слуги, перенявшего от барина господскую спесь, презрение к труду. «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», — думает о нем Илья Ильич.
Колоритный образ Захара не лишен комических черт. Нельзя без улыбки читать знаменитый разговор Обломова с Захаром в начале романа, его рассуждения о том, что клопы не им выдуманы, сцену у ворот и другие места романа, где Захар высказывает свою наивную философию лукавого лакея.
В образе Штольца Гончаров создал тип буржуазного дельца–предпринимателя, устроителя личного счастья, неспособного даже к мысли о счастье народном. В противоположность Обломову Штольц отличается деловитостью и «уверенностью в своих силах». Он участник какой–то акционерной компании и составитель проектов, сулящих большие барыши. Отмечая его постоянное стремление к приобретательству, Добролюбов писал: «…как мог Штольц в своей деятельности успокоиться от всех стремлений и потребностей, которые одолевали даже Обломова, как мог он удовлетвориться своим положением, успокоиться на своем одиноком, отдельном, исключительном счастье… Не надо забывать, что под ним болото, что вблизи находится старая Обломовка, что нужно еще расчищать лес, чтобы выйти на большую дорогу и убежать от обломовщины. Делал ли что–нибудь для этого Штольц, что именно делал и как делал, — мы не знаем. А без этого мы не можем удовлетвориться его личностью… Можем сказать только то, что не он тот человек, который сумеет на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово: «вперед!».
Начиная с детских лет развитие Штольца идет по другому пути, чем Ильи Ильича Обломова. Он прилежен в учебе и упорно добивается выгодной карьеры. Штольц спасает Обломова от разорения, его не могут провести даже такие опытные «крючкотворы», как Тарантьев и братец Пшеницыной. Он высказывает широкие познания в области науки, интересуется искусством. Но под трезвым пониманием жизни, за всей его энергичной деятельностью скрывается деловой расчет буржуазного предпринимателя, подчинившего все свои стремления холодному практицизму.
Положительным образом романа является Ольга Ильинская. Ольгу отличают ясность мысли, способность к самопожертвованию, простота в отношениях с окружающими. Почувствовав, что в Обломове скрыты хорошие задатки, она пытается пробудить его к жизни, сделать полезным для общества человеком и порывает с ним только тогда, когда осознает всю тщетность своих стремлений. «Я любила будущего Обломова! — говорит Ольга во время своего последнего объяснения с Ильей Ильичом. — Ты кроток, честен, Илья; ты нежен… голубь; ты прячешь голову под крыло -— и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей… да я не такая: мне мало этого…» Она не может ограничиться и маленьким мирком домашнего уюта, созданным Штольцем, и стремится к такой деятельности, которая могла бы выявить все задатки ее богатой натуры. Сравнивая Ольгу со Штольцем с точки зрения борьбы с обломовщиной, близости к веяниям «новой жизни», Добролюбов писал: «В ней–то более, нежели в Штольце, можно видеть намек на новую русскую жизнь; от нее можно ожидать слова, которое сожжет и развеет обломовщину…» По своему развитию, характеру и стремлениям Ольга близка к Елене из романа Тургенева «Накануне», к Катерине из «Грозы» Островского, к Вере Павловне из «Что делать?» Чернышевского. Ольга, по определению Добролюбова, «представляет высший идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней русской жизни».
Гончаров поставил своей целью изобразить жизнь Ильи Ильича Обломова. Все действие романа сосредоточено на естественном развитии образа главного героя. «В первой части, — писал Добролюбов, — Обломов лежит на диване; во второй ездит к Ильинским и влюбляется в Ольгу, а она в него; в третьей она видит, что ошибалась в Обломове, и они расходятся; в четвертой — она выходит замуж за друга его, Штольца, а он женится на хозяйке того дома, где нанимает квартиру. Вот и все. Никаких внешних событий, никаких препятствий (кроме разве разведения моста через Неву, прекратившего свидания Ольги с Обломовым), никаких посторонних обстоятельств не вмешивается в роман. Лень и апатия Обломова — единственная пружина действия во всей его истории».
При всем этом роман создает картину более широкого плана, чем только жизнь Ильи Ильича Обломова. Роман Гончарова воспроизводит эпоху 40–50–х годов прошлого века и дает яркую реалистическую картину помещичьей Обломовки и чиновничьего Петербурга с его калейдоскопом социальных типов — от крепостных слуг до представителей столичного барства. С психологической верностью выводятся в романе скандалист и вымогатель Тарантьев, заведомый плут Мухояров, мещанка Пшеницына, светский прожигатель жизни Волков, чиновник–бюрократ Судьбинский.
Опубликованный в 1859 году, «Обломов» с его резко выраженной антикрепостнической направленностью был встречен как важнейшее общественное событие. «Обломов» «появился в эпоху общественного возбуждения, за несколько лет до крестьянской реформы, и был воспринят как призыв к борьбе против косности и застоя», — писала «Правда» в статье, посвященной 125–летней годовщине со дня рождения Гончарова.
Сразу же после выхода в свет роман явился предметом обсуждения в критике и среди писателей. Прочитав роман, Л. Н. Толстой в апреле 1859 года писал А. В. Дружинину: «Обломов — капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от Обломова… Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный…»[31] В майской книжке «Современника», то есть спустя месяц после опубликования «Отечественными записками» романа, появилась знаменитая статья Добролюбова «Что такое обломовщина?».
В годы революционной ситуации, когда, по определению В. И. Ленина, «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»[32], Добролюбов воспользовался образом, созданным Гончаровым, для пропаганды революционно–демократических идей. Указав на «необыкновенное богатство содержания романа» и на изумительную способность автора «охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его», Добролюбов в своей статье блестяще раскрыл социальный смысл романа и его огромную роль в борьбе с крепостничеством, с общественным застоем и рутиной. Великий русский критик, разоблачая обломовщину как порождение крепостнического строя, подчеркивал ее враждебность творческому, деятельному, активному отношению к жизни.
Гончаров признавал, что Добролюбов верно объяснил смысл и общественное значение романа. Будучи далек от демократических позиций великого критика, Гончаров, однако, в своих высказываниях о романе не возражал против той революционной заостренности, которую придал Добролюбов своему объяснению обломовщины.
Иначе подошла к «Обломову» эстетская и реакционная критика. Уже в 60–е годы появилось немало статей, защищавших обломовщину. Критики консервативного направления видели в Обломовке идеал человеческого существования и считали гончаровский роман не сатирой на крепостнический уклад жизни, а поэтическим изображением патриархальной старины. «Обломов» любезен всем нам, — писал Дружинин, — и стоит беспредельной любви».
Благодаря силе художественного обобщения образ Обломова стал нарицательным и вошел в галерею бессмертных типических образов мировой литературы.
Образ Обломова был широко использован в работах Владимира Ильича Ленина. В статье «Еще один поход на демократию» В. И. Ленин обращается к образу Обломова, чтобы охарактеризовать «гнилые, барски–обломовские иллюзии!»[33] народников. Борясь с попыткой меньшевиков умалить и принизить руководящую роль партии и ослабить партийную дисциплину, Владимир Ильич в работе «Шаг вперед, два шага назад» писал: «Людям, привыкшим к свободному халату и туфлям семейно–кружковой обломовщины, формальный устав кажется и узким, и тесным, и обременительным, и низменным, и бюрократическим, и крепостническим, и стеснительным для свободного «процесса» идейной борьбы»[34].
В работах послеоктябрьского периода В. И. Ленин упоминает обломовщину как наследие капиталистического строя, вредный пережиток старой психологии, проявляющийся прежде всего в отрицательном отношении к труду и боязни всего нового и передового. Ленин призывает беспощадно бороться с обломовщиной, с такими ее проявлениями, как расхлябанность, организационная неразбериха, беспечность и ротозейство, «…старый Обломов остался, — писал В. И. Ленин, — и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой–нибудь толк вышел»[35].
В романе Гончарова с полной силой проявились черты, характеризующие высшие достижения русской классической литературы с ее правдивостью в изображении жизни, типичностью характеров и благородным стремлением осудить все отсталое, отжившее, мешающее развитию нового.
Еще Белинский, имея в виду «Обыкновенную историю», отмечал поэтический талант Гончарова и его «чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся язык». В «Обломове» реалистическое мастерство писателя проявилось с особой силой. Подлинно поэтический язык Гончарова, его замечательное мастерство образного воспроизведения жизни, искусство создания типических характеров, композиционная завершенность и прежде всего громадная художественная сила картины обломовщины и образа Ильи Ильича Обломова — все это привлекало и будет привлекать читателя к этому бессмертному творению русской литературы.
1954
А. П. ЧЕХОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ
I
Полная творческого напряжения, жизнь Антона Павловича Чехова нашла разностороннее отражение в воспоминаниях современников. В их записях, имеющих порой не только историко–литературное, а и художественное значение, раскрывается внутренний мир Чехова, характеризуется его отношение к важнейшим событиям эпохи, приводятся существенные страницы его биографии. Советское литературоведение, освободившее Чехова от клеветы и извращений буржуазной критики и установившее подлинно научное понимание его творчества, опирается и на правдивые свидетельства современников писателя.
Биография Чехова связана с именами многих выдающихся деятелей русской литературы и искусства. Как художник и как человек Чехов представлял для своих современников глубочайший интерес, и, по существу, ни один из выдающихся писателей и деятелей искусства 80–90–х годов и начала XX века не прошел мимо Чехова.
Уже в самом начале его творческого пути, когда он был известен как автор литературных шуток и маленьких рассказов, находивших место в юмористических журналах, с Чеховым знакомятся писатели старшего поколения Лесков и Григорович. Со второй половины 80–х годов с Чеховым сближается его литературный сверстник Короленко, позднее дружеские отношения устанавливаются с Толстым, для которого Чехов вскоре становится любимым писателем и душевно близким человеком. Самые тесные и дружественные отношения существовали у Чехова с Горьким, могучее дарование и революционное значение которого ярко обнаружились уже при жизни Чехова.
В числе близких к Чехову людей были величайшие деятели русского искусства — Чайковский, Репин, Левитан, Станиславский. Влияние таланта Чехова и покоряющая сила его личности были так велики, что к Чехову, подолгу жившему вне Москвы и Петербурга, неизменно стремились люди самых разнообразных профессий, нередко далекие от чисто литературных интересов.
Высоко ценили Чехова виднейшие представители передовой науки, в частности К. А. Тимирязев и К. Э. Циолковский.
То обстоятельство, что Чехов в течение двух десятилетий стоял в центре русской литературы и искусства, работая в непосредственной близости и будучи связан личной дружбой со многими известными писателями, художниками, композиторами, актерами, придает мемуарам о Чехове особое значение. Они дают материал не только для знакомства с биографией Чехова, но освещают также и один из значительных периодов в развитии русского искусства, связанный с творчеством Льва Толстого и Горького, Чайковского и Репина, с организацией Московского Художественного театра.
Разумеется, далеко не все, близко знавшие Чехова, оставили о нем свои воспоминания. Многие из них сошли в могилу раньше Чехова, и об их отношениях с писателем мы узнаем из переписки и из воспоминаний других современников. При всем этом воспоминания современников о Чехове занимают одно из значительных мест в русской мемуарной литературе. С воспоминаниями о Чехове выступали многие из его выдающихся современников — Короленко, Репин, Куприн, Станиславский, Немирович–Данченко, Гарин–Михайловский, Качалов, Вересаев, Телешов и другие. Обстоятельные мемуары о детстве и первых годах литературной работы Антона Павловича оставили его братья — Александр и Михаил Чеховы. Особое место в мемуарной литературе о Чехове занимают воспоминания о нем Горького, который с наибольшей полнотой донес до нас духовный облик и передал подлинные черты живого Чехова. Выступление Горького со статьей о рассказе Чехова «В овраге» (1900), а позднее — с мемуарным очерком положило начало новому пониманию творчества Чехова.
В сборнике воспоминаний нельзя, разумеется, искать исчерпывающей биографии писателя. Значительное большинство мемуаристов отражают, например, ту пору жизни Чехова, когда его имя приобрело или уже начинало приобретать широкую известность. Его знакомство с большинством литераторов и театральных деятелей, которые оставили о нем свои воспоминания, началось со второй половины 80–х годов, — это естественно и определило границы их воспоминаний. С наибольшей полнотой в мемуарах освещается мелиховский и особенно ялтинский период жизни Чехова, когда литературные и общественные интересы сблизили его с большой группой молодых писателей и деятелей искусства.
Однако в той или иной мере все периоды жизни Чехова нашли отражение в воспоминаниях его современников.
Чехов родился в 1860 году, в Таганроге; там же он окончил гимназию и жил до переезда в Москву и поступления в Московский университет в 1879 году. О детстве, как и вообще о своей жизни, Чехов писал мало, лишь в его рассказах можно встретить черты быта, памятного ему по Таганрогу. Письма Чехова все же дают возможность безошибочно судить о его отношении к тем условиям жизни, в которых он рос. В письме литератору Щеглову Чехов писал: «Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание — с церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками».
Из воспоминаний современников можно узнать живые подробности быта семьи Чехова в Таганроге. Из них мы узнаем о тяжелых обязанностях гимназиста Чехова в лавке отца, о репетиторстве в шестнаддатилетнем возрасте, о гимназии с учителями, похожими на «человека в футляре», с отупляющей зубрежкой и безрассудными жестокостями. «Таганрогская гимназия, —вспоминал писатель Тан–Богораз, — в сущности представляла арестантские роты особого рода. То был исправительный батальон, только с заменою палок и розог греческими и латинскими экстемпоралями». Воспоминания современников позволяют живо представить Чехова за зубрежкой гимназических уроков, на выматывающих силы ночных спевках, в захудалой бакалейной лавчонке отца, где он должен был одновременно выполнять роль и продавца и кассира, наконец среди веселых, полных юмора чеховских забав, в которых уже проступают черты будущего Антоши Чехонте.
Чехов еще в детстве столкнулся с грубостью, пошлостью и ложью мещанского быта. «Деспотизм и ложь исковеркали наше детство», — сказал однажды Чехов. Об этом ярко рассказывает в своих воспоминаниях брат писателя Александр Чехов. «Антон Павлович, — писал он, — только издали видел счастливых детей, но сам никогда не переживал счастливого, беззаботного и жизнерадостного детства, о котором было бы приятно вспомнить, пересматривая прошлое». Но неверно было бы представлять себе гимназиста Чехова забитым, смирившимся со всем, что его окружает. Как об этом можно заключить по воспоминаниям другого его брата, Михаила Павловича, в Чехове рано проснулось желание высмеять житейские несуразности, смешных и жалких людей. Это легко почувствовать, читая в воспоминаниях Михаила Чехова и других современников, знавших Антона Павловича по Таганрогу, записи художественных импровизаций, пародий, инсценированных шуток. «Он устраивал лекции и сцены, — пишет М. П. Чехов, — кого–нибудь представляя или кому–нибудь подражая». Материал для этого ему в изобилии давала окружающая жизнь, в которой он рано подмечал несуразное и нелепое, — с этим он сталкивался в обиходе убогой бакалейной лавки, подобное видел в коммерческом суде, в гимназии. В его литературных шутках и пародиях неизменно подвергались осмеянию типические черточки, характерные особенности окружавшего его мещанского быта.
О чванстве и одновременно подхалимстве человека, потерявшего свое человеческое достоинство, была, например, импровизация Чехова, в которой изображались чиновники — один, достигший «значительных степеней», и другой — мелкий, заискивающий перед ним. Чехов сатирически переделывал и религиозные сюжеты. Как пишет один из современников, «особенно интересно у него выходили вариации о сотворении мира, когда коринка была до такой степени смешана с изюмом, что их невозможно было отличить, а луну должны были отмывать прачки». Во всем этом явственно проступают черты будущего Чехова.
В жизни каждого писателя есть период внутренней подготовки творчества, когда еще не оформились силы, обеспечивающие ему литературный успех, но когда уже определились направление и характер его будущей работы. Для Чехова периодом такой внутренней подготовки творчества были годы, проведенные им в таганрогской гимназии. Чехов вступил в литературу двадцатилетним юношей, и легко установить прямую связь между импровизациями, пародиями, литературными шутками, которыми он блистал, по свидетельству друзей его детства, в Таганроге, и первыми его напечатанными в журналах рассказами. Создается впечатление, что некоторые из них выросли из веселых сцен и шуток, которыми в детстве Чехов пародировал и вышучивал смешные стороны быта; и в дальнейшем Чехов сохранил пристрастие к неожиданной шутке, к смешной импровизации, что отразилось на многих его рассказах, которые написаны как драматические сцены и легко поддаются театральным переделкам. Однако творчество Чехова даже на протяжении первых лет его журнальной работы значительно шире того житейского опыта, с которым он приехал из Таганрога. Известно, как быстро рос талант Чехова, как широко раздвигались границы его творчества, захватывая все новые стороны и явления действительности.
В 1879 году Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета. Со следующего года он становится постоянным сотрудником юмористических журналов, издаваемых в Москве и Петербурге. Он пишет юмористические рассказы и веселые обозрения, дает смешные подписи под рисунками. По свидетельству современников, Чехов в поздние годы даже не помнил всех своих рассказов, которые печатались в юмористических журналах на заре его литературной работы, — так много он их писал. В 1883 году, например, было напечатано более ста его рассказов и очерков. Принимая участие в небольших журналах, в которых работали далекие от художественного творчества журналисты, Чехов на первых порах, разумеется, должен был соприкоснуться с миром газетных репортеров, больших и малых «сотрудников» тогдашней прессы. Этим, между прочим, объясняется то обстоятельство, что после смерти писателя' объявилось большое количество «друзей» Чехова, с которыми он якобы «вместе начинал», «имел задушевные беседы», был «связан дружбой» и т. д. На самом же деле можно говорить об известной близости Чехова лишь к весьма ограниченному кругу литераторов 80–х годов. Чехов с самого начала своей литературной деятельности ставил перед собой художественные задачи, и его творчество резко выделялось на общем фоне беллетристики тех журналов, где он печатался. Сквозь смешные эпизоды и курьезные детали, в изобретении которых Чехов, казалось, был неистощим, наиболее чуткие современники улавливали в его рассказах нечто более значительное, понимая, как тонко и сильно художник разоблачает ложь и лицемерие буржуазного общества. В том же 1883 году среди всего, что было написано Чеховым для юмористических журналов, появляются подлинные шедевры: «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона», «Толстый и тонкий».
Естественно, что Чехов не мог не чувствовать, сколь чужды были для него газетчики и беспринципные журналисты, с которыми ему пришлось столкнуться в редакциях газет и мелких журналов. Говоря о Гиляровском, которого он выделял из среды журналистов 80–х годов, Чехов в письме Горькому выразил свое отношение к «господам газетчикам»: «Я знаю его (Гиляровского. — А. К) уже почти 20 лет, мы с ним вместе начали в Москве нашу карьеру, и я пригляделся к нему весьма достаточно… В нем есть кое–что ноздревское, беспокойное, шумливое, но человек это простодушный, чистый сердцем, и в нем совершенно отсутствует элемент предательства, столь присущий господам газетчикам». Естественным было тяготение Чехова к более родственной для него среде, — такой была группа художников–реалистов во главе с Левитаном, Васнецовым и Коровиным.
По свидетельству Гиляровского, еще в начале 80–х годов «у Чеховых собирались художники, а И. И. Левитан с той поры и до самой своей смерти был всегда около Чеховых». «Большим другом нашей семьи» называет Левитана сестра писателя, Мария Павловна Чехова.
О близости Чехова к этой группе художников рассказывает в своем очерке В. А. Симов, впоследствии художник–декоратор МХАТа. Об отношениях Левитана с Чеховым, основанных на сердечной дружбе и общности в понимании задач искусства, известно по их письмам и воспоминаниям современников.
Годы первого периода творчества Чехова — ученье в Московском университете, медицинская практика в Чикинской и Звенигородской больницах и напряженная литературная работа, выдвинувшая его вровень с крупнейшими писателями того времени, — — нашли отражение в ряде мемуаров. Об этом периоде рассказывает брат писателя — М. П. Чехов, мемуары которого представляют значительный интерес. Весьма ценный материал содержится в очерке В. Г. Короленко. Передавая впечатления о своей первой встрече с Чеховым в 1887 году, Короленко свидетельствует о его активных общественных настроениях. Знаменательным нужно признать уже самый факт дружеского расположения Чехова к Короленко, который тогда только что вернулся из многолетней ссылки и находился на положении поднадзорного. Чехов прямо и горячо выразил свои глубокие симпатии и к личности Короленко, и к его творчеству. «Это мой любимый из современных писателей», — пишет он в феврале 1888 года. Чехов предлагает Короленко совместную работу над драмой, развивает идею о новом журнале, в котором должны участвовать «начинающие, вообще молодые». Свое отношение к Короленко Чехов выразил в письме к нему от 17 октября 1887 года. «…Скажу Вам, — писал Чехов, — что я чрезвычайно рад, что познакомился с Вами. Говорю я это искренно и от чистого сердца. Во–первых, я глубоко ценю и люблю Ваш талант; он дорог для меня по многим причинам. Во–вторых, мне кажется, что если я и Вы проживем на этом свете еще лет 10–20, то нам с Вами в будущем не обойтись без точек общего схода. Из всех ныне благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный… Вы же серьезны, крепки и верны. Разница между нами, как видите, большая, но тем не менее, читая Вас и теперь познакомившись с Вами, я думаю, что мы друг другу не чужды».
Воспоминания Короленко затрагивают одну очень важную сторону биографии Чехова, связанную с его отношением к либеральному народничеству. Как пишет об этом Короленко, ему не удалась попытка сблизить Чехова с либерально–народнической редакцией журнала «Северный вестник» во главе с Михайловским. Эго было вполне естественно, так как литературные позиции Чехова глубоко и принципиально расходились с либерально–народническими взглядами Михайловского. Короленко приводит некоторые данные, характеризующие и отношение Михайловского к Чехову. Однако здесь нужно сделать оговорку. Короленко писал свои воспоминания в 1904 году, тотчас же после смерти Чехова. В том же году умер и Михайловский, и, очевидно, Короленко счел неудобным в этих условиях говорить о подлинном отношении Михайловского к Чехову. Как бы то ни было, чувствуется желание Короленко смягчить это отношение, когда он пишет о том, что Михайловский «относился к Чехову с большой симпатией». И хотя он имеет в виду прежде всего личные отношения, все же подобное утверждение звучит по меньшей мере неожиданно в свете резких, прямо оскорбительных по отношению к Чехову выступлений Михайловского.
Кроме Гиляровского, оставившего несколько зарисовок о Чехове в первый период его литературной деятельности, из числа литераторов 80–х годов с мемуарами выступали А. С. Лазарев–Грузинский и И. Л. Щеглов. Первый из них познакомился с Чеховым в начале 1887 года; в дальнейшем они довольно часто встречались, главным образом в Москве и Мелихове, между ними была продолжительная переписка. Чехов принимал живейшее участие в его литературной судьбе. В мемуарах Лазарева–Грузинского приводится ряд заслуживающих внимания литературных суждений Чехова первых лет его писательской деятельности.
В том же году состоялось знакомство со Щегловым, которому на первых порах его литературной деятельности Чехов прочил большую писательскую будущность. В дальнейшем, однако, Щеглов не оправдал надежд Чехова. И если Чехов в первые годы их знакомства относился к Щеглову дружески, то в дальнейшем далеко отошел от него. Это было вызвано измельчанием Щеглова как писателя, беспринципностью и неразборчивостью, которые привели его к сближению с реакционными журналистскими кругами. В последние годы своей жизни Чехов лишь изредка переписывался с Щегловым и совсем не встречался с ним. Между тем в своих воспоминаниях Щеглов пишет: «…нежные, дружеские отношения, как завязались сразу, под веселую руку, так и остались душевно неприкосновенными на всю жизнь, невзирая на разность литературных положений и всяческие житейские превратности». Щеглов, таким образом, явно переоценивает «дружеские отношения» и умалчивает о причинах, которые в конце концов отдалили от него Чехова. Противоречит также истине заявление Щеглова, что Чехов якобы «не любил театра, и его связь со сценой была не столько органической, сколько экономической». Возможно, что к такому неправильному выводу Щеглов пришел на основании высказываний Чехова, относящихся к театральной деятельности самого Щеглова, явно противоречащей эстетическим принципам Чехова.
Несмотря на обилие мемуаров о первом периоде творчества Чехова, все же трудно составить по ним полное представление об идейной жизни писателя в годы его работы в юмористических журналах. В большинстве своем мемуаристы ограничивались передачей внешних фактов его биографии, зачастую ошибочно истолковывая литературные и эстетические взгляды писателя. Полнее других, несмотря на чрезмерно сжатый характер воспоминаний, эту область жизни Чехова раскрывает Короленко. Более полное представление о высказываниях Чехова на литературные и общественные темы дают письма самого писателя.
«Степь» (1888) —одно из крупнейших произведений нового этапа в творчестве Чехова. Последовавшие за «Степью» «Скучная история», «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Мужики», «Чайка» явились выражением дальнейшего развития художественного гения Чехова, более глубокого понимания им общественных задач литературы, живого общения с жизнью народа.
Важнейшими фактами биографии Чехова этого периода является взявшая у него много времени и сил поездка на остров Сахалин, медицинская практика и общественная деятельность в Мелихове, работа по оказанию помощи голодающим крестьянам Нижегородской губернии, участие в литературной и театральной жизни Москвы и Петербурга. «В этот период, — пишет Немирович–Данченко, — Чехов в самой гуще столичного водоворота, в писательских, артистических и художественных кружках… любит сборища, остроумные беседы, театральные кулисы; ездит много по России и за границу; жизнелюбив, по–прежнему скромен и по–прежнему больше слушает и наблюдает, чем говорит сам. Слава его непрестанно растет».
В конце 80–х и начале 90–х годов значительно расширяются связи Чехова с артистической, художественной и музыкальной средой. В 1887 году Чехов знакомится с Репиным, в следующем году —с Чайковским. В мемуарах справедливо указывается на глубокий интерес Чехова к творчеству Чайковского. В свою очередь и Чайковский неоднократно восторженно отзывался о творчестве Чехова. «Имеете ли Вы понятие о новом русском таланте Чехове… — писал Чайковский 21 июня 1889 года, — по–моему, это будущий столп нашей словесности». В эти же годы Чехов близко сходится с выдающимися русскими актерами — Ленским, Сумбатовым–Южиным, Свободиным. В 1895 году Чехов посещает в Ясной Поляне Толстого, и их дружественные отношения, занявшие большое место в биографиях обоих писателей, продолжаются до конца жизни Чехова.
Воспоминания современников, касающиеся этого периода жизни Чехова, значительно полнее и дают более законченное представление не только о внешних фактах биографии писателя, но также о его общественных и литературных взглядах. Записи современников сохранили высказывания Чехова о задачах литературы, о связях писателя с народом, о необходимости «зоркого и неугомонного» изучения жизни. Значительный материал приводится о жизни Чехова в Мелихове. В этой подмосковной усадьбе у Чехова любили бывать его друзья — артисты и писатели, сюда неоднократно приезжал Левитан. Мелиховские наблюдения легли в основу крупнейших произведений Чехова о русской деревне.
Этот период жизни Чехова, кроме ранее упомянутых мемуаристов, освещается в воспоминаниях писателей Потапенко и Щепкиной-Куперник. С Потапенко Чехов познакомился во время своей поездки в Одессу в 1889 году, более прочные отношения установились между ними позднее, в 90–х годах. Однако нет никаких оснований считать Потапенко в числе близких друзей Чехова. Его мемуары содержат ценные фактические сведения, но вовсе не свидетельствуют о том, что Потапенко понимал Чехова как художника.
Воспоминания Щепкиной–Куперник ярко рисуют жизнь Чехова в Мелихове, передают характер и колорит отношений между членами чеховской семьи. Немало существенных сведений можно почерпнуть в ее воспоминаниях также о взаимоотношениях Чехова с средой московских литераторов.
В особой оговорке нуждаются мемуары писательницы Авиловой. Они изобилуют повествовательным материалом о жизни их автора, в которой Чехову отводится преобладающее место. Авилова как бы пишет повесть о себе, комментируя свою довольно обширную переписку с Чеховым, длившуюся более десяти лет. Ее воспоминания дают ряд достоверных сведений, в частности о той среде, которая окружала Чехова во время его приездов в Петербург, о первых постановках его пьес в петербургских театрах, уточняют некоторые данные биографии писателя. При всем, этом нельзя не отметить чрезмерную субъективность и односторонность автора в освещении материала, связанного с Чеховым. Едва ли также можно считать вполне достоверным, что свои отношения к Авиловой Чехов выразил в рассказе «О любви».
В 1898 году туберкулезный процесс заставил Чехова переехать в Ялту: годом раньше болезнь приняла формы, угрожающие жизни писателя. Чехов попадает на положение тяжелобольного, некоторое время лежит в клинике. Как свидетельствуют современники, такое резкое обострение болезни было в значительной мере вызвано атмосферой заушательства, образовавшейся вокруг Чехова после неудачной постановки его «Чайки», осенью 1896 года, в Александрийском театре. Тогда уже были известны причины этой неудачи, — театр не мог правильно понять новизну чеховской пьесы. «Чайка» шла в бенефис комической актрисы Левкеевой, обычно игравшей роли, рассчитанные на легкий эффект, и совсем не подходившей для чеховской пьесы. «Левкеева, — пишет в своих воспоминаниях Потапенко, — веселая, смешная актриса, обыкновенно появлявшаяся в ролях бытовых, а то игравшая приживалок, старых дев, которые обыкновенно трактуются в комическом виде и говорят смешные слова, с смешными ужимками… Ее поклонниками были купцы, приказчики, гостинодворцы, офицеры… И вот эта–то публика и явилась ценительницей чеховских «новых форм», которые ей показали со сцены. Ничего другого и не могло произойти, кроме того, что произошло». Все это было на руку театральным рутинерам и мелким газетчикам, которые подняли кампанию не столько по поводу постановки «Чайки», сколько по адресу самого Чехова, его драматургии, изгонявшей со сцены театральные условности, ложь и мишуру.
Мемуары передают картину первого спектакля «Чайки» в Александрийском театре и всего, что за этим последовало; в них рассказывается об обывательской злобе и желании принизить Чехова. В то же время мемуары раскрывают настроение самого Чехова после неудачной постановки «Чайки», дальнейшие связи с театром. После постановки «Чайки» в Александрийском театре Чехов создал «Три сестры» и «Вишневый сад». Никогда он не уделял такого внимания театру, никогда не выступал таким страстным поборником новых театральных форм, как в ялтинский период своей жизни. Чехов близко сходится с организаторами Московского Художественного театра — К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Он является не только автором пьес, идущих в этом театре, но и одним из создателей его художественной программы, вдохновителем его борьбы за утверждение новых форм драматического искусства.
Последний период жизни Чехова ознаменован его близостью с А. М. Горьким. Чехов одним из первых увидел в молодом Горьком «талант несомненный и притом настоящий, большой талант». О впечатлении, которое производил на Чехова Горький, пишет в своих воспоминаниях О. Л. Книппер–Чехова: «В это же время был в Ялте и А. М. Горький, входивший в славу тогда быстро и сильно, как ракета. Он бывал у Антона Павловича, и как чудесно, увлекательно, красочно рассказывал о своих скитаниях. И он сам и то, что он рассказывал, — все казалось таким новым, свежим, и долго молча сидели мы в кабинете Антона Павловича и слушали…» «Горький очень талантлив и очень симпатичен как человек», — пишет Чехов в письме Тараховскому от 15 февраля 1900 года. В свою очередь и Горького влекло к Чехову. Едва освободившись из–под ареста в 1901 году, Горький надолго приезжает к Чехову в Ялту. Переписка этих двух великих людей, продолжавшаяся до последних дней жизни Чехова, имеет громадное историко–литературное значение. В 1902 году Чехов вместе с Короленко демонстративно отказался от звания академика в знак протеста против исключения, по распоряжению Николая II, из состава академиков Горького.
Ялтинский период жизни Чехова нашел широкое освещение в воспоминаниях современников. В те годы Чехов, уже тяжело больной, принимает живейшее участие в жизни страны. Он оказывается как бы в центре большой группы литераторов и актеров, которые в период мощного подъема революционного движения в канун революции 1905 года выступали с новыми темами. О ялтинском периоде жизни Чехова писали Куприн и Вересаев, большое место отведено Чехову в книгах воспоминаний Станиславского и Немировича–Данченко. Глубокий и всесторонний образ Чехова дан в очерке Горького, который раскрывает перед нами его богатый духовный мир, обаяние его личности и по праву занимает первое место среди живых свидетельств современников о великом писателе.
II
В воспоминаниях современников отразилось различное понимание Чехова. Горький тотчас же после смерти Чехова указал на опасность клеветы со стороны бесчисленных «воспоминаний» «уличных газет», за «лицемерной грустью» которых, как писал он, чувствовалось «холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего». Горький имел в виду выступления низкопробных газетчиков, мелких журналистов, вдруг объявивших себя «истинными друзьями» великого писателя. Все эти охотники поговорить о «живом писателе» пытались, подобно тому как это было в буржуазной критике, умалить мировое значение Чехова, поставить его в ряд с заурядными журналистами и связать его имя с желтой прессой. Сейчас же после смерти Чехова в газетах начали появляться подобные статейки, оскорбляющие память великого писателя. Их и имел в виду Горький, когда в июле 1904 года писал: «Газеты полны заметками о Чехове — в большинстве случаев — тупоумно, холодно и пошло. Скверно умирать для писателя. Всякая тля и плесень литературная тотчас же начинает чертить узоры на лице покойника». Придавая большое значение тому, как будет освещен Чехов в воспоминаниях современников, Горький деятельно хлопотал о создании специального сборника памяти Чехова. «Мы думаем издать книгу памяти Антона Павловича», — писал Горький в июле 1904 года, вскоре после смерти Чехова.
Громадную роль в борьбе с буржуазной критикой сыграла статья Горького «По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге». Эта статья впервые в русской и мировой критике определила величайшее идейное и художественное значение творчества Чехова. Известно, что буржуазно–эстетская критика настойчиво пыталась создать теорию о литературной и общественной неполноценности Чехова. Как справедливо писал Горький, эта критика даже похвалу превращала в «гнездо ос». Особенно много внимания уделялось Чехову в либерально–народнической публицистике. В выступлениях Михайловского упорно доказывалась мысль о безыдейности Чехова, об отсутствии в его творчестве живых общественных интересов. Об одной из лучших повестей Чехова, «Мужики», Михайловский писал как о произведении «скудном и поверхностном, из которого никаких общих выводов делать не следует, да и просто нельзя». Подчеркивалось в этой критике, что Чехов не поднимается до широких обобщений, находится в плену «частного случая».
Буржуазное литературоведение создало легенду о Чехове как «певце сумерек», скучных людей, жалких обывателей. Такого рода взгляд на творчество Чехова отвергал Маяковский, когда в 1914 году писал: «Из–за привычной обывателю фигуры ничем не довольного нытика, ходатая перед обществом за «смешных» людей, Чехова — «певца сумерек», выступают линии другого Чехова — сильного, веселого, художника слова».
В немалой доле статей, претендующих на объективное освещение живого Чехова, отразились взгляды, распространяемые буржуазной критикой. В 1909 году, через пять лет после смерти Чехова, были опубликованы «воспоминания» сотрудника реакционной прессы Н. Ежова, фальсифицирующие факты жизни Чехова, полные личных выпадов против великого писателя. Ежов пытался поколебать громадный авторитет чеховского таланта и принизить его роль в русской литературе. Стремясь попасть в тон установившемуся в буржуазной критике взгляду, такого рода «воспоминатели» клеветнически утверждали, например, что Чехов стремился уйти от общественной жизни, требовал, чтобы литература была свободна от актуальных задач. Немало было написано о душевной неустойчивости Чехова, об отсутствии у него убеждений, подчеркивалось сходство самого Чехова с безвольными, слабыми дюдьми из его рассказов и повестей.
Статья Горького разоблачала ложь и несостоятельность буржуазно–эстетской критики и выдвигала Чехова на то высокое место, которое он по праву занимал в русской литературе. Горький писал: «…когда умрет Чехов — умрет один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, правдивый, — друг, любящий ее, сострадающий ей во всем, и Россия вся дрогнет от горя и долго не забудет его, долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям, освещенным грустной улыбкой любящего сердца, по его рассказам, пропитанным глубоким знанием жизни, мудрым беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного и чуткого человека, который все понимает». Горький указал на «страшную силу» чеховского таланта, заключающуюся в том, что он пишет правду, «никогда ничего не выдумывает от себя». Значение Чехова Горький видел в его беспощадном осуждении нелепостей и хаоса жизни, в разоблачении лжи буржуазно–дворянского общества. Горький резко отделил Чехова от героев его повестей и рассказов, людей, не нашедших места в жизни. «Чехов очень много написал маленьких комедий, — писал он, — о людях, проглядевших жизнь, и этим нажил себе множество неприятелей».
В своих воспоминаниях Горький развивает мысли, высказанные им в статье 1900 года. В очерке Горького встает живой Чехов, с его темпераментом общественно активного человека, убежденного врага насилия, лжи и пошлости буржуазного мира. «Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, — писал Горький, — искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью».
Передавая впечатления о своих встречах с Чеховым, Горький рисует живой облик писателя. Горький показывает, что Чехов, подобно тому как он делал это в своих рассказах, — и в жизни изобличал пошлость и ложь, умея находить их под покровом многоречивого либерализма и внешней благопристойности. В мемуарном очерке Горький развил мысль об отношении Чехова к своим героям, «проглядевшим жизнь». Перечислив имена таких людей, взятых из чеховских рассказов и пьес, Горький писал: «Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал: «Скверно вы живете, господа!» Статья и мемуары Горького сыграли огромную роль в борьбе с либерально–народнической и эстетской критикой, пытавшейся доказать общественную пассивность Чехова, безыдейность его творчества, отсутствие в нем «направления».
Распространяемым этой критикой взглядам на Чехова как на безыдейного писателя и общественно пассивного человека противостоят воспоминания Короленко, Станиславского, Куприна, Вересаева, Телешова, Немировича–Данченко и других авторов. Все эти воспоминания дают большой материал об общественной активности Чехова и глубокой заинтересованности его в судьбах народа.
Новый подъем революционного движения в годы, предшествующие революции 1905 года, отразился и на творчестве Чехова. Об этом периоде В. И. Ленин писал: «Пролетарская борьба захватывала новые слои рабочих и распространялась по всей России, влияя в то же время косвенно и на оживление демократического духа в студенчестве и в других слоях населения»[36].
Воспоминания современников свидетельствуют о глубоком интересе, который проявлял Чехов к надвигающимся революционным событиям, и дают основания полагать, что в последний период своей жизни он пришел к мысли о неизбежности революции.
Характерные высказывания Чехова, в разговоре его с В. Ф. Коммиссаржевской, приводит в своих воспоминаниях Е. П. Карпов. Разговор этот происходил в июне 1902 года и касался вопросов, которые остро интересовали писателя в то время. Чехов указал на необычайный подъем общественного движения и на новые задачи, которые вставали тогда перед прогрессивной литературой. «Пережили мы серую канитель, — говорил Чехов. — Поворот идет… Круто повернули… Вот мне хотелось бы поймать это бодрое настроение… Написать пьесу… Бодрую пьесу… Может быть, и напишу… Очень интересно… Сколько силы, энергии, веры в народе… Прямо удивительно!»
Показательно его недовольство жизнью в Ялте, которая ограничивала его писательский кругозор и предоставляла в поле его внимания отголоски событий, а не сами события. Подобное настроение Чехова выражено в его письме от 10 ноября 1903 года: «…скучаю здесь в Ялте и чувствую, как мимо меня уходит жизнь и как я не вижу много такого, что, как литератор, должен бы видеть. Вижу только и, к счастью, понимаю, что жизнь и люди становятся все лучше и лучше, умнее и честнее — это в главном…»
Врач и писатель С. Я. Елпатьевский, который, так же как и Чехов, в те годы жил в Ялте, рассказывает: «Помню, когда я вернулся из Петербурга в период оживления Петербурга перед революцией 1905 года, он в тот же день звонил нетерпеливо по телефону, чтобы я как можно скорее, немедленно, сейчас же приехал к нему, что у него важнейшее, безотлагательное дело ко мне. Оказалось… что ему безотлагательно, сейчас же, нужно было знать, что делается в Москве и Петербурге, и не в литературных кругах… а в политическом мире, в надвигавшемся революционном движении… И когда мне, не чрезмерно обольщавшемуся всем, что происходило тогда, приходилось вносить некоторый скептицизм, он волновался и нападал на меня с резкими, несомневающимися, нечеховскими репликами. — Как вы можете говорить так! — кипятился он. — Разве вы не видите, что все сдвинулось сверху донизу! И общество и рабочие!»
«Его политическое развитие, — пишет другой современник Чехова, доктор М. А. Членов, — шло наряду с жизнью, и вместе с нею Чехов все более и более левел и в последние годы уже с необычайной для него страстностью, не перенося никаких возражений (в этих случаях он почему–то говорил: «Вы совершенный Аверкиев»), доказывал, что мы— «накануне революции». «Нередко Чехов говорил о революции, которая неизбежно и скоро будет в России», — свидетельствует Н. Д. Телешов. Хорошо осведомленный о настроениях Чехова в те годы, Станиславский пишет: «По мере того как сгущалась атмосфера и дело приближалось к революции, он становился все более решительным».
Чехов, конечно, не представлял себе конкретных путей и движущих сил революции, но его письма тех лет и воспоминания современников свидетельствуют о горячем желании понять характер нового общественного подъема и глубоком интересе, проявляемом им к тем новым силам, которые вступали на историческую арену. По свидетельству Горького, Чехов в последний период своего творчества хотел писать «о чем–то другом, для кого–то другого, строгого и честного» (из письма Горького В. А. Поссе, 1901 год). По словам одного из мемуаристов (проф. Анучина), Чехов видел значение Горького в том, что «он создал настроение, он вызвал интерес к новым типам». Что понимал Чехов под «новым типом», можно судить по его письму к Станиславскому от 20 января 1902 года, где он говорит о Ниле из горьковской пьесы «Мещане» как о «новом человеке». Он настойчиво рекомендует Московскому Художественному театру ставить «Мещан» и неоднократно указывает на роль Нила в этой пьесе как на «главную», «центральную», «героическую».
Воспоминания современников опровергают ложь буржуазной критики об общественной пассивности Чехова, о его безразличии к вопросам современности и помогают лучше понять творчество одного из тех писателей, которые, по выражению Горького, «делают эпохи в истории литературы и в настроениях общества».
III
Чехов не оставил сколько–нибудь подробной автобиографии. В его громадном литературном наследстве нет таких произведений, как, например, трилогии Л. Толстого и Горького или «История моего современника» Короленко. Воспоминания современников о Чехове приобретают поэтому особое значение, представляя важнейший материал о жизни и деятельности великого писателя и нередко являясь необходимым пособием для изучения его биографии.
Рассказы о жизни Чехова в Москве и Петербурге, Воскресенске и Бабкине и, наконец, в Мелихове и Ялте дают яркое представление о разносторонних связях Чехова с жизнью, о его глубочайшем интересе к человеку из народа. Вероятнее всего, Чехов потому не порывал совсем и с медициной, а, по свидетельству врачей — его современников и товарищей, — стремился к ней, что деятельность врача помогала ему общаться с самыми широкими народными слоями.
Как пишут многие из современников, автор «Ваньки», «Тоски», «Горя», «Мужиков» и других рассказов и повестей о крестьянах и бедном городском люде был неутомимым исследователем народной жизни. «Писателю, — говорил Чехов Щеглову в 1888 году, — надо непременно в себе выработать зоркого, неугомонного наблюдателя… Настолько, понимаете, выработать, чтоб это вошло прямо в привычку… сделалось как бы второй натурой!» Куприну он советует ездить почаще в третьем классе. Телешову, который тогда только входил в литературу, Чехов указал на общение с народом как на единственно возможный путь писателя. «Поезжайте, — говорил он Телешову, — куда–нибудь далеко, верст за тысячу, за две, за три… Сколько всего узнаете, сколько рассказов привезете! Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих почтовых станциях и в избах, совсем как в пушкинские времена… Только по железным дорогам надо ездить непременно в третьем классе, среди простого народа, а то ничего интересного не услышите. Если хотите быть писателем, завтра же купите билет до Нижнего. Оттуда — по Волге, по Каме…»
В советах молодым литераторам, в интересе, который проявлял Чехов к отдельным писателям и их творчеству, наконец в его отношении к театру и к художникам видна забота великого писателя о том, чтобы искусство в большей мере затрагивало народную жизнь. Характерен в этом смысле небольшой эпизод, который передает в своих воспоминаниях советский писатель И. А. Новиков, тогда студент и начинающий литератор. Новиков рассказывает, что на одной из выставок картин в Москве, когда печь зашла о портрете какого–то генерала, Чехов, похвалив мастерство художника, заметил: «Но кому это нужно, зачем?» И надолго остановился перед другой картиной. «Вот, — сказал он, — вот что я вам хотел показать. Это хорошо». «Я не помню, чья это была картина, — пишет И. А. Новиков, — но передо мной встают и теперь — фабричные задворки, вечер, лиловатая мгла и молодой рабочий с ребенком на руках; он держит его очень неловко и очень бережно, со скуповатою, может быть чуть–чуть стыдливою, нежностью, которую не хотел бы показать. Чем–то родственно этому сочетанию чувств было и само восприятие Чехова». Как пишет Куприн, Чехов «требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленец». Он учил писателей смелей вводить в литературу новые темы и новых людей, характеризующих действительные явления народной жизни. Под этим углом зрения и следует понимать многочисленные пожелания Чехова молодым писателям обращаться к тем темам, которые лежат за пределами их писательских кабинетов.
Творчество Чехова сыграло громадную роль в борьбе за утверждение реалистических принципов искусства. В мемуарах приводятся многочисленные высказывания его по литературноэстетическим вопросам, сущность которых сводится к безоговорочному осуждению «мистики и всякой чертовщины» в современной Чехову буржуазной литературе. Высказывая свои литературные симпатии, выдвигая требования к молодым писателям и намечая задачи, которые должно решить искусство, Чехов выступает горячим поборником жизненной правды искусства. Именно этим определяются его литературные симпатии, тяготение к определенному кругу писателей, художников, актеров. Большая жизненная правда взволновала Чехова в творчестве Мамина–Сибиряка, о симпатиях к которому рассказывает один из мемуаристов. Его внимание и постоянная забота о МХАТе также основываются на убеждениях, что только театр, сделавший жизненную правду своим принципом, имеет право на существование в будущем.
Большое место в жизни Чехова занимал театр. Известно, что Чехов не только писал пьесы, но и принимал личное участие в работе театра над их постановкой. Его связи с театром, начавшиеся еще с постановок ранних пьес Чехова и с дружеских отношений со многими крупнейшими актерами того времени, упрочились в последний период его жизни, когда его пьесы ставились в Московском Художественном театре и когда он близко сошелся со Станиславским, Немировичем–Данченко и со всеми ведущими актерами этого театра. По свидетельству современников Чехова — актеров и театральных деятелей, — он принимал живейшее участие в организации МХАТа. Часто бывал на репетициях тех пьес, которыми началась история этого театра, делал указания для исполнения отдельных ролей, сцен, вникал в многочисленные подробности театральной жизни. «Он любил, понимал и чувствовал театр, — конечно, с лучшей его стороны… — писал Станиславский. — Он любил тревожное настроение репетиций и спектакля, любил работу мастеров на сцене, любил прислушиваться к мелочам сценической жизни и техники театра…» Из воспоминаний Станиславского и других актеров мы немало узнаем о трактовке Чеховым отдельных образов его пьес, о его понимании задач искусства.
Величайший стилист, Чехов выступал среди своих литературных и театральных друзей неустанным пропагандистом чистоты литературного языка и предельной экономии речи. «Искусство писать, — говорил он Лазареву–Грузинскому, — состоит, собственно, не в искусстве писать, а в искусстве… вычеркивать плохо написанное». О постоянном внимании Чехова к языку свидетельствуют его поправки и замечания, которые он делал на рукописях молодых писателей, развивая у них нетерпимое отношение к литературным штампам, к заезженным оборотам и требуя от них поисков сильных, метких и выразительных слов.
Ближайшие к нему литераторы свидетельствуют, сколь велика и постоянна была забота Чехова о слове. От молодых писателей Чехов требовал неугомонного наблюдения жизни и одновременно — постоянного и зоркого изучения языка. «…Он сам неустанно работал над собою, — пишет Куприн, — обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду: из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден».
Значительный интерес представляют сообщения современников о неосуществленных чеховских сюжетах. Трудно судить, конечно, какую форму они бы могли принять впоследствии и почему Чехов забыл о них. Возможно, что они являлись простой импровизацией, которой он не придавал художественного значения; возможно также, что он просто не успел завершить их своевременно, а потом они оказались устаревшими. В письме от 27 октября 1888 года Чехов, в числе других сюжетов, которые «томятся» в голове, упоминает о замысле романа. И здесь же замечает, что задуман он давно, так что некоторые из действующих лиц уже устарели, не успев быть написаны. К числу «устаревших» замыслов, очевидно, относится и водевиль «Сила гипнотизма», содержание которого излагает Щеглов. Работу над этим водевилем Чехов откладывал, а потом просто отказался от него. Сюжет рассказа, который передает художник Симов, как он сам на это указывает, предназначался для «тесного, интимного кружка», поэтому не был завершен. Как бы то ни было, неосуществленные сюжеты показывают широту замыслов писателя и служат дополнительным материалом для изучения творческой лаборатории Чехова.
Воспоминания современников дополняют биографию писателя сведениями о работе Чехова врачом и о его интересе к медицинской науке. Как пишет известный невропатолог профессор Г. И. Россолимо, «Чехов не избегал, поскольку ему позволяло время и обстоятельства, практической врачебной деятельности…». По свидетельству Россолимо, Чехов одно время мечтал даже о преподавании в университете и о научной работе. Врач Членов, говоря об интересе Чехова к медицине, сообщает о его попытке создать в Москве научный институт для усовершенствования врачей. Современники, знавшие Чехова на протяжении ряда лет, приводят многочисленные примеры самоотверженного и бескорыстного выполнения им долга врача.
1954
С. П. ПОЪЯЧЕВ
На склоне своей жизни Подъячев, по совету М. Горького, написал повесть о самом себе. Он так и назвал ее — «Моя жизнь». В этой книге писатель рассказал о долгом своем жизненном и литературном пути, о лишениях и невзгодах деревенского бедняка, выпавших на его долю. Но эта тяжелая, по собственному выражению писателя— «жуткая», жизнь отражена не только в его автобиографической повести. Все многолетнее творчество Подъячева посвящено теме, близкой личной судьбе самого писателя. Изображая старую русскую деревню, ее беспросветную нищету, бесправие, произвол полиции, дикую власть кулаков и помещиков, Подъячев нередко писал о собственной жизни, о жизни своих однодеревенцев и спутников по горьким скитаниям в поисках куска хлеба. «Он живет в деревне, — писал о Подъячеве М. Горький, — обычной мужицкой жизнью, которая так просто и страшно описана в его книгах».
Но, рассказывая в своем творчестве о себе или о людях, близких ему, Подъячев создал немало типических характеристик и как в языке, так и в изображении лиц и событий достиг высокой формы реалистического повествования. Уже после опубликования своих первых очерков и повестей Подъячев получил признание широких демократических кругов и вошел в число наиболее популярных писателей, посвятивших свое творчество изображению крестьянской жизни.
Творчество Подъячева не исчерпывается только изображением дореволюционной русской деревни. Один из старейших советских писателей, Подъячев, начиная с 1917 года, активно выступал в советской печати с рассказами, очерками, статьями, посвященными созиданию новой деревни. Уже известным писателем он с восторгом приветствовал советскую деревню — «новую, идущую вперед, непохожую на прежнюю». «Я прошел суровую дореволюционную школу жизни, — говорил Подъячев. — Много писал с болью сердечной о темноте и дикости, и теперь вот, на закате жизни, я вижу иное, что глубоко трогает и волнует мою душу».
Семен Павлович Подъячев родился в 1866 году в бедной крестьянской семье в селе Обольянове (ныне Подъячево) Дмитровского уезда Московской губернии. Здесь прошла значительная часть его жизни. Здесь им были написаны повести и рассказы, открывшие в авторе яркое литературное дарование и принесшие ему широкую известность. В той деревне, где рос Подъячев, еще свежи были воспоминания и о крепостном праве. От матери он, например, слышал о том, как его деда, крепостного крестьянина, насмерть засек помещик. «Такие и им подобные рассказы, — говорил Подъячев, — сделали то, что я с детства впитал в свою душу непримиримую ненависть к тому сословию, которое называло себя «белой костью» и глумилось над нами, называя нас «подлыми людишками».
Большой радостью для Подъячева в детстве были книги. Он ухитрялся читать их в сарае, на чердаке, в огороде. Однажды он забрался в барскую рожь и там за чтением заинтересовавшей его книжки был застигнут «самим» барином. С тех пор отец будущего писателя выслушал немало грубых попреков за сына, который, с точки зрения крепостника–помещика, не имел права читать книги.
После окончания сельской школы Подъячев поступил в Череповецкое техническое училище, но на его пути к образованию непреодолимым препятствием стала бедность, и он вынужден был покинуть училище, проучившись лишь зиму. С этого времени начинается самостоятельная жизнь Подъячева. С рублем в кармане он уходит в Москву. «Пошел, — как пишет он сам, — мыкаться по местам». Он служит наборщиком в типографии, сторожем на железной дороге, дворником. Потом снова возвращается в деревню. Работает батраком в помещичьем имении и в монастырях, рабочим на торфяных болотах, угольщиком на выжиге древесного угля.
В это время он начинает писать — преимущественно стихи, подражая Кольцову, Никитину, Некрасову. Желая завязать литературные связи, Подъячев отправляется в Петербург. Однако из этого ничего не вышло, и вскоре он должен был пешком возвратиться к себе на родину. «Не меньше месяца плелся я пеш от Питера к Москве», — рассказывал Подъячев.
Дома его ждали нужда и унижения. «Вот теперь господа узнают, что ты пришел, — говорила ему мать, встречая его после долгой разлуки, — нам с отцом все глаза проколют тобой». Некоторое время Подъячев служил рассыльным в редакции небольшого московского журнальчика «Россия». Потеряв здоровье, он навсегда вернулся в родное село и стал вести жизнь труженика–крестьянина.
Несколько небольших рассказов Подъячева появилось в печати еще в конце 80–х годов прошлого века. Однако широкую писательскую известность он приобрел значительно позднее. Годы тяжелой борьбы за существование надолго задержали развитие его дарования. Рассказы Подъячева, напечатанные в 1888 году, остались незамеченными, и он сам не придавал им большого значения. Только перед революцией 1905 года Подъячев выступил в печати с очерками «Мытарства» и повестью «Среди рабочих» и вскоре стал известен как автор рассказов о тяжелой жизни крестьянской бедноты и деревенского пролетариата.
В очерках «Мытарства», которые появились в журнале «Русское богатство» в 1902 году, Подъячев показал страшную жизнь городского «дна», невыносимые страдания и унижения неимущих людей. Сам автор, как он вспоминал об этом позднее, пережил такие же горести, когда не мог найти места в Москве, «весь прожился, проел и пропил с себя одежонку и, очутившись, по обыкновению, в безвыходном положении, попал в работный дом. Попасть в этот работный дом, — вспоминал далее Подъячев, — в те времена считалось среди безработной бедноты последним делом, — то есть хуже уж этого ничего не могло быть». Эти очерки с их беспощадной правдивостью в передаче страшной обстановки работного дома отличаются глубоким внутренним драматизмом. Подъячев рисует целую галерею персонажей работного дома, не похожих друг на друга ни по своей психологии, ни по личной своей судьбе. Наряду с впавшими в нищету крестьянами и рабочими писатель изобразил здесь и спившегося дворянина, подметив в нем черты полного морального разложения.
Очерки «Мытарства», значительные по самому своему материалу, одушевленные горячим чувством протеста, обратили на себя внимание таких писателей, как Горький, Короленко и Серафимович.
«Прочитав очерки еще раз, — писал М. Горький, — я уловил в тоне рассказа Подъячева нечто, напоминающее мне «Нравы московских закоулков» Воронова и Левитова — писателей, которым были чужды сентиментализм и слащавость народопоклонников. А кроме этого, почуялось и еще что–то от самого Подъячева, что–то почти неуловимое, но своеобразное».
«Его «Мытарства», — сообщал в письме от 14 ноября 1902 года В. Г. Короленко, —-вызвали очень много разговоров, а в Москве они — целое событие».
В газете «Курьер», в номере от 29 июня 1903 года, на «Мытарства» Подъячева откликнулся А. С. Серафимович очерком «Призреваемые». «Семен Подъячев в «Русском богатстве» развернул потрясающую картину жизни в московском работном доме», — писал А. С. Серафимович.
Вслед за «Мытарствами» выходят в свет повести «По этапу» и «Среди рабочих» (1903— 1904). Эти произведения, построенные на отдельных моментах биографии Подъячева, как бы продолжают тему «Мытарств», раскрывая дальнейшую картину полуголодных скитаний крестьянина.
В 1903 году, уже после того, как были напечатаны его «Мытарства» и «По этапу», Подъячев решил наняться на торфяные разработки, где он работал в прежние годы. Об этом он сообщал В. Г. Короленко в письме от 19 октября 1903 года: «В мае месяце ходил на болота, но неудачно: меня не приняли на работу — не потому, что я негоден, а потому, что тот человек, который взял было мой паспорт (какой–то племянник фабриканта), читал «Мытарства» и вспомнил мою фамилию… Пришлось уходить, да еще чуть ли не с урядником». В этом же письме Подъячев говорит о характере и содержании своей новой повести: «В настоящее время я пишу очерки под названием «Среди рабочих», то есть описываю жизнь рабочих в одном барском большом имении, среди которых жил и работал я».
Эта повесть, напечатанная в 1904 году, передает настроения деревенской бедноты накануне революции 1905 года. Многими своими чертами она близка к рассказам А. С. Серафимовича, посвященным изображению деревни в период революционных событий. Подобно Серафимовичу, Подъячев показывает процесс нарастания революционных настроений среди беднейшего крестьянства.
В повести мы находим самобытные образы представителей деревенского пролетариата.
Молодой рабочий Тереха — пытливый и непосредственный человек, смотрящий на ужасы жизни с недоумением и постоянной внутренней тревогой. Ищущий правды Юфим, прекрасно понимающий, как несправедливо устроена жизнь; в решительную минуту он может мужественно встать на защиту интересов трудящихся. Кузнец — озлобленный своей бесправной нищенской жизнью; доведенный до крайности, он ворует у мужика деньги, которые тот выручил от продажи последней лошаденки, но, увидев, что обидел такого же бедняка, как и сам, с глубоким волнением возвращает деньги обратно. За внешне грубым его отношением к своим товарищам — батракам чувствуются искреннее дружелюбие и искренняя отзывчивость к их судьбе. Он яростно ненавидит бар, урядника, но не видит настоящих путей для борьбы с ними.
Глубокая человечность отличает взаимоотношения между рабочими и батраками; мотивы товарищества и дружбы с неослабевающей силой развиваются до конца повествования.
«Людская» в помещичьей усадьбе, как о ней рассказал Подъячев, с его великолепным знанием всей обстановки, нашла в лице автора повести «Среди рабочих» своего незаурядного, чуткого и своеобразного художника. Драматизм происходящих событий, страшный быт «людской», по мнению автора, вызываются дикой эксплуатацией деревенского пролетариата, нищетой и бесправием, которые бесчеловечно уродуют людей. Поставив себе целью рассказать правду, Подъячев пишет и о том, как в людскую проникала барская мораль угодничества и смирения, калеча людские души, внося атмосферу лжи и разложения. Рисуя людей, проникшихся рабским угодничеством, способных на подлость по отношению к рабочим, Подъячев характеризует их существование, как унизительное, гадкое и жалкое.
В повести изображены и другие сцены деревенской жизни. Весьма выразительно показана жизнь деревенского лавочника — пьяного и дикого человека, с его сумасбродством, гибельным для окружающих. В последующих рассказах и повестях Подъячев развивает тему уродливого и дикого существования деревенских кулаков, их паразитизма, духовной опустошенности.
Повесть «Среди рабочих» — одно из значительных произведений Подъячева. В широком плане рисует автор тяжелую, беспросветную жизнь старой русской деревни и вместе с тем показывает начало пробуждения ее перед революционными событиями 1905 года. Заслуга Подъячева в том, что он показал объединяющее деревенскую бедноту чувство ненависти к помещикам и кулакам и с суровой правдивостью создал образы деревенских рабочих, о которых сравнительно мало было написано до него.
В дальнейших своих повестях и рассказах, написанных в период между двумя революциями, Подъячев продолжает разработку темы из жизни русской деревни. Появляются такие его рассказы и повести, как «Разлад», «У староверов», «Зло», «Жизнь и смерть», «Семейное торжество», «Благодетель», «Шпитаты», «Карьера Захара Федорыча Дрыкалина», «Как Иван «провел время», «В народной гуще», «В трудное время», «За язык пропадаю». В этих и других произведениях Подъячев отражает дошедшее до крайних степеней разорение крестьян, их безысходную нужду и особенно тяжелое положение широких слоев многострадального крестьянства в период реакционной «столыпинщины». Столыпинская политика, делавшая ставку на усиление кулака в деревне, дававшая возможность деревенской буржуазии безнаказанно грабить трудовое крестьянство, привела деревню к крайнему обнищанию и резко обострила социальные противоречия.
Характерного деятеля «столыпинщины» Подъячев изобразил в рассказе «С новостями пришел». Герой этого рассказа, председатель волостного суда, — ярый поборник «решительных мер», проводившихся царским правительством в деревне. Он требует дальнейшего закабаления крестьян, ратует за закрытие школ. «Мужики в своей деревне его терпеть не могли, — пишет Подъячев, — и все собирались «переломать ребра» за то, что он сторонился их и лип к начальству, потрафляя ему язычком».
Таков и герой рассказа «Неприятности» — трактирщик — кулак, хам и живоглот. Он не считает крестьян за людей. «Живу — никого не боюсь… — рассуждает он, — Староста, медаль имею! А эту сволоту, мужичонков–то, я в ногах топчу… Что хочу, то и делаю. Они все у меня вот где зажаты; редкий не должен».
О том, до какого состояния был доведен крестьянин в ту пору, когда у власти стояли помещики и буржуазия, образно говорит герой из рассказа «Разлад»: «…обстругали меня добрые люди… Гляди, что на мне есть… Адам, истинный господь!..» Спасаясь от голода, крестьяне уходили в город и там попадали в условия крайней нищеты. Эта тема проходит через ряд произведений писателя.
Содержание многих рассказов Подъячева может быть названо трагическим. Кончает самоубийством затравленный местными кулаками писатель–самоучка («Жизнь и смерть»); бессмысленно и нелепо погибает крестьянин в рассказе «Как Иван «провел время»; тяжелая жизнь, полная несуразностей, составляет содержание повести «Забытые». Внимательный наблюдатель жизни, Подъячев понимал, что не эти люди, темные и до крайности забитые, виноваты во всем, что происходит вокруг. Семен Подъячев, писал А. М. Горький, «рассказывал о деревне… всегда как бы в тоне вопросов: — Разве это все можно считать человеческой жизнью? Разве такими должны быть люди? Но разве в этих условиях могут они быть иными?»
Изображение старой русской деревни в творчестве Подъячева противоположно тому чисто зоологическому подходу в освещении крестьянской темы, которым характеризовалась буржуазно–дворянская литература эпохи реакции. В такого рода литературе крестьянин наделялся звериными инстинктами, а темнота и убожество жизни объявлялись естественными признаками его существования, якобы не зависящими от социальных и общественных порядков. Как справедливо отметил в свое время Горький, Подъячев, с его суровой правдивостью и глубоким пониманием жизни деревни, продолжал традиции русской демократической литературы.
Подобно тому как это было в творчестве крупнейших писателей–демократов, неизменно веривших в силы народа, содержание рассказов, очерков и повестей Подъячева не ограничено темой безысходных страданий крестьянства. Он убедительно подчеркивает, что голод и нищета, бесправие и постоянная угроза полицейских насилий не погасили у крестьянской бедноты жгучего желания отомстить за свои обиды и изменить общественный порядок.
Крестьянин–батрак Демьяныч из повести «У староверов» (1907), высказывая обиды деревенского бедняка, у которого «горе одно… земли вовсе мало», выражает законное чувство ненависти к кулакам и помещикам.
Такие, не редкие в рассказах Подъячева, высказывания верно характеризовали настроения малоземельного крестьянства в период реакции, когда царское правительство жестокими репрессиями пыталось задушить малейшую искру крестьянского протеста и всячески укрепляло позицию кулака в деревне.
С особой обличающей силой выведены в творчестве Подъячева типы кулаков, деревенских лавочников, трактирщиков, монахов. О том, что такое деревенская лавка в старой деревне, говорится в рассказе «Как Иван «провел время» (1912): «В лавке этой обмеривали, обвешивали, всучали втридорога самый дешевый и дрянной товаришко. Редкий из покупателей не был должен в эту лавку. Редко кто мог постоянно брать «на чистые деньги» и выбирать товар по желанию. Должники поневоле получали и брали, что дают, выслушивая еще вдобавок попреки и ругательства».
Среди произведений, написанных Подъячевым о кулаках, особое место занимает рассказ «Карьера Захара Федорыча Дрыкалина». Этот тонкий иронический рассказ, написанный в духе щедринской сатиры, воспроизводит чисто комические эпизоды «дрыкалинской карьеры», в которой нелепости паразитического существования перемешиваются с фактами прямых подлогов и воровства. «Я вот не гнушался псов в рыло лизать, ан господь меня и превознес», — говорит герой этого рассказа, в лакействе и подлости видя отменные качества человеческой натуры.
Фигура стяжателя показана Подъячевым и в рассказе «Разлад». Деревенский кулак торгует женой своего сына, подло угодничает перед помещиком. Его жизнь основана на обмане, лжи, грязи и преступлении. Он убивает сына, не желавшего пресмыкаться перед помещиком, пытавшегося бороться с темными предрассудками отца.
О моральном разложении и растленных нравах кулацкой семьи рассказывает писатель в одной из ранних повестей — «У староверов». Эта повесть, подобно предыдущей — «Среди рабочих», освещает жизнь деревенского пролетариата и вместе с тем обличает животную, полную идиотизма жизнь деревенских кулаков. Самые дикие поступки, свидетельствующие о полном распаде моральных устоев, приводит Подъячев, изображая «лесное» существование кулацкой семьи.
О чувстве собственности, о том, к каким подлым поступкам это чувство может привести, Подъячев мастерски написал в рассказе «Благодетель» (1914). Герой этого рассказа, крестьянин Коза, в молодости способен был на благородный поступок: он усыновил двух сирот. Подъячев вспоминает, что когда–то, много лет назад, он работал вместе с ним и дружно жил в маленькой лесной землянке на выжиге древесного угля. По вечерам они вместе читали Гоголя и оплакивали гибель Тараса. «И столько неподдельной жалости, — говорит автор, — звучало в его голосе и столько молодой восприимчивости к вымыслу поэта, что я любил его в эти минуты». С тех пор прошло много лет. Коза стал зажиточным крестьянином, выросли приемыши–дети. Один из них ушел в город, у него уже своя семья, он работает где–то на фабрике и живет впроголодь. Нужно ему помочь. Но здесь–то и взыграло сердце собственника. Чтобы не дать приемному сыну полагающейся ему части хозяйства, Коза решает продать свой двор и уехать из деревни. Встретив настойчивый протест приемного сына, он избивает его и обещает сдать начальству как бунтовщика. С горечью заканчивает писатель свой рассказ о мнимом «благодетеле»: «Я вышел из дома своего приятеля и пошел опять по той же дороге. Так же сияло солнце и так же сверкала зелень, но мысли были иными… «Неужто, — думал я, — это тот же самый человек, с которым мы когда–то, под шум метели, в дымной землянке, зачитывались Гоголем? Или жизнь его подменила?..»
В этом ярком лирическом рассказе большое место занимает описание природы, к изображению которой Подъячев обращается вообще нередко. В его пейзаже нет простого любования, — здесь как бы подчеркивается по контрасту с красотой и поэзией внешнего мира безотрадность существования обездоленных людей. Природа в творчестве писателя нередко играет роль возбудителя активного отношения к жизни, жизнеутверждающего начала. Так, говоря о природе в рассказе «Благодетель», Подъячев пишет: «Я шел бодро и чувствовал, любуясь окружающей красотой, как у меня на душе поднимается что–то давно позабытое, хорошее, бодрое и честное».
Живя в деревне и пользуясь материалом, который в изобилии ему давала окружающая действительность, Подъячев пишет о новых настроениях среди крестьян, о надеждах крестьянской бедноты на социальные перемены. Крестьянин Грач из рассказа «В трудное время» (этот рассказ был написан за несколько месяцев до начала империалистической войны) утверждает неизбежность и необходимость серьезных перемен. «Что–то будет… — говорит он, — разволновался народ… чему–нибудь, а уж быть! Так не пройдет».
Рассказ «За язык пропадаю», с которым писатель выступил менее чем за год до Великой Октябрьской социалистической революции, также характерен этим предчувствием близких революционных изменений. «Со всех четырех сторон ветер нам встречу», — образно говорит темный и забитый крестьянин о своей жизни. Он уже заявляет о своих правах и, понимая, что ни писарь, ни старшина, ни земский начальник, ни поп, ни кулацкие заправилы из кредитного товарищества не склонны ему помочь, идет к Подъячеву с решительным вопросом: «Когда мы жить–то будем как надо?.. Все мы вот так и живем, все ждем чего–то, помог бы нам кто–нибудь…»
Показывая, как глубоко крестьянин ненавидит тех, кто живет за его счет, держит в темноте и невежестве, лишает самых элементарных человеческих прав, писатель верно характеризует то положение, которое сложилось в деревне в канун революции. Он понимает, сколь законным желанием была социалистическая революция для деревни и насколько готова была к ней деревенская беднота.
В ряде рассказов Подъячев отразил также глубокий процесс растущего недоверия к лживым либерально–буржуазным декларациям и к официальной печати.
В повести «Забытые» (1909), рассказывающей о тоскливой жизни уездного мещанства, Подъячев дает резкую характеристику буржуазной печати. Говоря о том, как читались в трактире газеты, выписываемые трактирщиком, Подъячев пишет: «Газеты зачитывались, переходя из рук в руки, до того, что под конец превращались в какие–то серые скомканные портянки, хотя, собственно говоря, по своему духу они были тоже не лучше портянок».
После выхода повести «Среди рабочих» Подъячев написал несколько десятков рассказов, очерков и повестей, нашедших признание у демократического читателя. В. Г. Короленко, в свое время отметивший успех очерков о работном доме, в 1908 году назвал творчество Подъячева «интересным литературным явлением». Позднее, говоря о творчестве Подъячева, Короленко отметил, что «у него есть свой читатель», и назвал его талант «ярким, сильным, необычайно правдивым».
В большом литературном наследстве Подъячева, однако, не все равноценно, не все написано с одинаковым мастерством. Изображая подробности быта старой деревни и создавая картины бесспорно правдивые, Подъячев в некоторых очерках и рассказах варьирует близкие сюжеты, а иногда переносит похожие события из одного очерка или рассказа в другой. На это обратил внимание еще Короленко, указавший, что ряд своих рассказов Подъячев начинает с одного и того же — например, с перебранки женщин в избе. Любовно следивший за литературной работой Подъячева, Короленко неоднократно указывал и на излишнюю растянутость, «громоздкость формы» его очерков и повестей. «Ваша сила — знание быта и наблюдательность. Слабость — однообразие и громоздкость формы», — писал он Подъячеву 22 декабря 1905 года. В другом письме (от 22 сентября 1915 года) Короленко также указывал на недостатки некоторых рассказов Подъячева: «…надо лучше отделывать изложение. Вы страшно растягиваете. Тема для небольшого наброска в ’/г листа, ну в 3/4 печатного листа, у Вас разогнана больше чем на два. Одно из важных требований от художественного произведения — чувство меры, сжатость изложения. Если слов много больше, чем требуется для отчетливости образов, — то рассказ, даже живой по теме, становится вял и скучен. Внимание невольно притупляется и тускнеет; выжмите из него воду, — и он оживает, становится сразу ярче. Самая выразительная форма — всегда почти и самая краткая. Не следует, конечно, засушивать, изгонять нужные оттенки, — но нужно истреблять длинноты и повторения как в слоге, так и вообще во всем изложении». Некоторые из рассказов изобилуют натуралистическими подробностями. В известном смысле это можно сказать о рассказе «Зло», который в целом был высоко оценен Горьким. «Не помню, кто писал — и написано ли? — говорил Горький, — о том, как мужик любит и ревнует, как он слагает песни от горя и печали своей жизни и вообще каков он внутри самого себя. Насколько я помню, Семен Подъячев первый очень просто и страшно показал в своем рассказе «Зло», как мужик ревнует жену».
Слабые стороны творчества Подъячева, проявившиеся в отдельных рассказах, не могут, разумеется, умалить высокой литературной заслуги писателя. Его рассказы, на первый взгляд похожие на простые рисунки с натуры, отличаются внутренней слаженностью, которая достигалась высоким мастерством тонкого и проникновенного наблюдателя жизни. Подъячев умеет передать настроение, не прибегая к внешним эффектам, пользуясь лишь динамикой речи для развития нередко очень сложного и тонкого психологического сюжета. Ярок и колоритен язык его рассказов и повестей. Едва ли можно заподозрить Подъячева в увлечении областническими или искаженными произношением словами. Их нет в авторской речи. Отступления от грамматических норм он допускает только в языке героев, воспроизводя интонации и обороты крестьянской речи. Но и здесь писатель обнаруживал художественный такт и отличное знание русского языка.
Дореволюционное творчество Подъячева развивалось в русле демократической литературы и испытывало благотворное влияние Горького. Об этом свидетельствует их многолетняя переписка, из которой выясняется исключительно большое значение А. М. Горького в воспитании литературного таланта Подъячева. В письмах к нему Горький неизменно указывает на общественное значение литературной работы писателя–демократа, нередко определяя задачи, стоящие перед революционной литературой. «Мы с Вами люди хорошего дела, — писал он в 1915 году. — Человек живет затем, чтобы сопротивляться всей массе условий, угнетающих его…» «Нам следует беречь себя для своего хорошего дела», —напоминал А. М. Горький в одном из своих писем, поощряя Подъячева в его важной работе.
Радостно встретил Подъячев Великую Октябрьскую социалистическую революцию, покончившую с миром нищеты и насилия. В 1918 году он вступил в партию большевиков. С первых же дней советской власти Подъячев — активный участник строительства новой деревни. Он заведует волостным отделом народного образования, создает общественную библиотеку в родном селе, организует детский дом для беспризорных детей. «С великого Октября, — писал Подъячев, — жизнь моя потекла по другому, бурному и радостному для меня руслу». Он активно выступает в печати с рассказами и очерками о новой, советской деревне.
Основное содержание творчества Подъячева после Октябрьской революции — борьба нового, передового, светлого с отсталым и косным. Он пишет о борьбе деревенских коммунистов и комсомольцев с врагами революции, с кулачеством, всякого рода предрассудками, мешавшими революционному переустройству деревни.
Один из сборников Подъячева, объединивший рассказы первой половины 20–х годов, назывался «Злобная тьма». Сюда вошли рассказы, разоблачающие злобствующих на революцию кулаков, церковных проповедников и всяких темных людей, пытавшихся набить карман за счет ограбления крестьян. В ряде рассказов Подъячев показал мерзкие фигурки угодников старых бар — помещичьих лакеев, прихлебателей прежних хозяев жизни. Об одном из них он написал в рассказе «Письмо». Бывший барский кучер получил от сбежавшего за границу помещика письмо, которое привело в жалкое умиление этого «графского гужееда», как его звали в деревне. Но совсем иначе к «графским милостям», обещанным в этом письме, отнеслись крестьяне. Гордые за свою новую, свободную жизнь, они с презрением выслушали графское послание и по заслугам оценили холуйское умиление лакея. Подобной теме посвящен и рассказ «Сон Калистрата Степаныча». Калистрат Степаныч — бывший графский дворецкий, в свое время облеченный доверием «его сиятельства», держиморда и лакей по убеждению. После революции «его, — как пишет Подъячев, — Калистрата Степаныча, дворецкого, которого все боялись и величали «вы», сшибли, так сказать, с копыльев, сравняв с каким–нибудь последним, презираемым им захудалым мужичонком — дядей Митрием». Этот Калистрат Степаныч злобно шипит на новую жизнь и мечтает о том, как вернется граф, как он перепорет арапником крестьян, в крови потопит все завоевания революции и снова поставит народ на положение раба. Однако даже сам Калистрат Степаныч понимает, что ничего этого не будет и что «этот сон наяву никогда не повторится».
Похож на Калистрата Степаныча и человек из рассказа «Извели, окаянные». Он неистовствует в бессильной ярости от одной мысли о том, что в бывшей барской усадьбе находится теперь детский дом. Его темным мыслям противопоставлена в рассказе радостная жизнь детворы из детдома. Борьба со «злобной тьмой» в ту пору требовала жертв, и Подъячев, очевидец кровавых преступлений кулаков в деревне, их черных дел, направленных против народа, — рассказывает об этом читателю.
В очерке «Два мира» писатель с горечью пишет о пережитках старины в быту деревни, о том, например, как в престольный праздник обезумевшие от пьянства люди избивают человека. Однако содержание рассказа не ограничивается только этой картиной, —в противовес ей автор дает изображение «другого мира», характеризующегося победным шествием новой жизни. Так, рассказывая о спектакле в местном клубе, Подъячев взволнованно пишет: «Молодые люди — девушки, нарядно одетые, «кавалеры», кто в гимнастерках, кто в блузе, кто в длинных сапогах, кто в баретках, а кто просто в валенках, —• все это кружилось, пело, танцевало, смеялось и радовалось той хорошей радостью молодости, вольной и свободной, от которой и глядя на которую мне, старику, хотелось крикнуть идущей ко мне навстречу смерти: «Подожди, дай мне пожить еще! Дай порадоваться на эту молодежь! Посмотреть, как она окончательно сдвинет и сбросит со своего пути все преграды и очистит дорогу, широкую и всю залитую лучезарным светом восходящего прямо из райских дверей солнца…»
Подъячев с гордостью отмечает ростки нового в жизни деревни. Писатель–коммунист, которому дорога судьба крестьянства, полным голосом говорит о возникшем в крестьянской бедноте большом революционном чувстве коллективизма и общей ответственности за великое дело социалистического переустройства. Характерен в этом плане его рассказ «Новые полсапожки», в котором писатель раскрывает психологию советского крестьянина, испытавшего новое для него большое чувство радости от того, что он оказал помощь чужому ребенку. Ощущению нового посвящен рассказ «Понял». Это рассказ о старом крестьянине, в жизни которого в прошлом «все было темно, убого, принижено, забито». Революция разбудила его, он понял, какую страшную, нечеловеческую жизнь он прожил, на что убил свои силы — и какие светлые горизонты раскрываются в новой, советской жизни.
В свое время пришлось Подъячеву за кусок хлеба немало поработать и в монастырях. Живя на положении батрака в «святых» пристанищах, он мог наблюдать всю ложь, мерзость и обман монастырской жизни. С большой обличающей силой еще в дореволюционные годы раскрывает он эксплуататорскую сущность монастырей, ханжество и праздность духовенства. В письме к В. Г. Короленко в 1902 году Подъячев следующим образом отозвался о своем пребывании в монастыре: «Прожив год в этом пристанище, я удрал, ибо невозможно жить там. Такой срамоты, лжи, ненависти, бессердечия, грязи и гадости вряд ли где и найдешь в другом месте».
В этой связи необходимо указать, что многие крестьяне, выведенные в повестях и рассказах Подъячева, иронически относятся к религии или прямо высказывают свое возмущение против слепого повиновения религиозным предрассудкам.
Понимая необходимость борьбы с пережитками прошлого и высоко расценивая значение пропаганды художественным словом, Подъячев пишет сатирические рассказы, разоблачая носителей старины, высмеивая проделки деревенских церковников.
Последний период жизни Подъячева связан с работой над большой автобиографической повестью «Моя жизнь». О значении этой его работы Горький писал еще в 1926 году: «Очень полезно было бы деревенской молодежи, если бы Вы написали Вашу автобиографию». В письме от 14 января 1929 года Горький снова убеждает писателя в необходимости выступить с автобиографической повестью. «Как живете? Пишете ли воспоминания? — спрашивает он. — Это нужно писать. Нужно, чтобы молодое советское крестьянство знало, как жил и работал его, родной ему писатель. Жизнь Ваша глубоко поучительна. Вы сами едва ли в состоянии понять это. Уж очень Вы скромный человек… И вообще мало цените себя! Но необходимо, чтобы другие оценили Вашу долголетнюю работу…»
В отличие от многих произведений автобиографического жанра, «Моя жизнь» охватывает не только детство или дописательский период жизни автора, — Подъячев рассказал в своей повести, по существу, о всей своей жизни, и о том ее периоде, когда он был уже известным писателем. Поэтому «Моя жизнь» —-не только эпопея страданий, мытарств и ужасов, сквозь которые прошел автор, но — несмотря на некоторую сжатость изложения в последней части — превосходный рассказ о том, как складывался и рос талант писателя вопреки всем темным силам прошлой жизни. Глубоко волнующими строками Подъячев заканчивает свою художественную автобиографию: «…на закате своей жизни глубоко убежден в том, что страна наша, наш рабоче–крестьянский Союз в конце концов всколыхнет весь трудовой мир и приведет его под свои красные знамена!
Счастлив, что мне пришлось жить в первые незабвенные годы революции, и счастлив тем, что в нашем трудовом улье есть маленькая частица и моего меда…»
Умер С. П. Подъячев в 1934 году и похоронен в родном ему селе Обольянове, которое теперь в память писателя называется Подъячево.
С. П. Подъячев занимает видное место в истории русской литературы первых десятилетий XX века. Лучшие его произведения имеют большое общественное и художественное значение. Его рассказы, повести и очерки могут быть названы живым свидетельством о крестьянской жизни на протяжении нескольких десятилетий.
Творчество Подъячева не потеряло своего значения и по сей день. Советский читатель с интересом читает произведения писателя–реалиста, тонкого и проникновенного знатока жизни русской деревни. «Семен Павлович Подъячев, — писал А. М. Горький, — русский писатель, правдивый и бесстрашный друг людей: он вполне достоин, чтобы его читали вдумчиво и много».
1955
А. М. ГОРЬКИЙ И В. Г. КОРОЛЕНКО
«С именем В. Г. Короленко у меня связано немало добрых воспоминаний», — так начинает A. М. Горький свой очерк «Из воспоминаний о B. Г. Короленко». Литературные связи, длительное личное общение, большая, продолжавшаяся в течение трех десятилетий переписка между Горьким и Короленко — все это оставило значительный след в истории русской литературы конца прошлого и первых десятилетий нынешнего столетия.
Знаменательна уже первая встреча молодого Горького с Короленко. В пору, когда Горький начинал свой литературный путь, Короленко был известным писателем и находился в расцвете творческих сил и таланта. Признанный большой художник, Короленко с искренним участием отнесся к ранним литературным опытам Горького и первым отметил, еще до появления рассказа Горького в печати, его литературное дарование. Как позднее говорил сам Горький: «Он был моим учителем недолго, но он был им, и это моя гордость по сей день».
Несмотря на различие идейного пути и неповторимый характер творчества каждого из писателей, Горький и Короленко были близки друг другу в понимании задач литературы и занимали общую позицию в борьбе с антидемократическими течениями буржуазного искусства. Важнейшие литературные и социальные вопросы затрагивает переписка писателей, а такой, например, документ, как письмо Короленко по поводу исключения Горького из числа почетных академиков, напечатанное в 1902 году в ленинской газете «Искра», является не только фактом писательской биографии, но и значительным документом эпохи.
Знакомство Горького и Короленко состоялось в 1889 году. «Приехав в Нижний Новгород, — рассказывает Горький, — не помню откуда, я узнал, что в городе этом живет писатель Короленко, недавно отбывший политическую ссылку в Сибири. Я уже читал рассказы, подписанные этим именем, и помню — они вызвали у меня впечатление новое, не согласное с тем, что я воспринял от литературы «народников»…
Двадцатилетний юноша принес известному писателю, о редакторском таланте которого впоследствии он упоминал неоднократно, свои первые литературные опыты — стихи и поэму «Песнь старого дуба». «Короленко, — вспоминал Горький, — первый сказал мне веские человечьи слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что — писательство не легкое дело».
В литературной пробе начинающего писателя Короленко увидел не только недостатки. Читая стихи, он почувствовал ярко переданное настроение, что наводило на мысль о литературном даровании их автора. В глазах Короленко Горький бесспорно отличался от многих начинающих писат&лей, с которыми ему приходилось иметь дело. Все это нашло отражение в коротеньком отзыве Короленко, которым он сопроводил рукопись Горького. «По «Песне» трудно судить о Ваших способностях, — писал Короленко, — но, кажется, у Вас они есть. Напишите о чем–либо пережитом Вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, Ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие».
Как известно, весной 1891 года Горький ушел из Нижнего Новгорода, и его общение с Короленко на длительное время прервалось. Странствуя по югу России, Горький прошел донские степи, работал грузчиком в порту Ростова–на–Дону и в Одессе, жил с рыбаками на Днепропетровском лимане, работал на постройке шоссе Сухум — Новороссийск. «Я ушел из Нижнего, — вспоминал Горький, — и воротился туда года через три, обойдя Центральную Русь, Украину, побывав и пожив в Бессарабии, в Крыму, на Кавказе». В Нижний Новгород Горький вернулся уже автором напечатанного рассказа «Макар Чудра», которому суждено было начать писательскую биографию Максима Горького. Однако в ту пору Горькому понадобилось потратить немало сил, преодолеть много препятствий, пройти через ряд жестоких огорчений, чтобы «пробиться» в большую журнальную литературу.
По возвращении Горького в Нижний Новгород возобновились и его встречи с Короленко. Уже в мае 1893 года Короленко в письме к редактору журнала «Русское богатство».
Н. К. Михайловскому пишет: «Посылаю Вам при сем же еще два стихотворения некоего Пешкова… На сей раз и стихи и человек много интереснее: это самородок с несомненным литературным талантом, еще не совсем отыскавшим свою дорогу. Из присылаемых стихотворений— первое слабее по форме, но картина осмыслена и есть несомненная поэтическая струйка…» В 1893 году Горький напечатал несколько рассказов в газетах «Волжский вестник» и «Волгарь».
В течение двух–трех лет Короленко просмотрел такие рассказы и сказки Горького, как «Емельян Пиляй», «О рыбаке и фее», «Старуха Изергиль», «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины», «Граф Нелепо и все тут», «На соли», «У моря», «Озорник», «Дед Архип и Ленька», «Челкаш», «Ошибка». Глубоко почувствовав яркий и самобытный талант Горького, Короленко тщательно следил за его выступлениями в поволжской печати, за каждым новым его произведением. «Я так рад, — писал Горький Короленко в апреле 1895 года, — что вы за мной посматриваете и не отказываетесь так хорошо и просто указать мне на мои ошибки». Для Короленко теперь уже не стоял вопрос— талантлив ли Горький? Короленко понимал, что автор «Старухи Изергиль» не нуждается в элементарной литературной помощи и наставническом руководстве. Имея в виду свои отношения с Горьким в этот период, Короленко в письме к Т. Н. Галапуре 2 декабря 1916 года писал: «Многие считают, что благодаря моему покровительству Горький стал писателем. Это басня. Он стал писателем благодаря большому таланту. Я только прочитывал (да и то не все) его первые рассказы и стихотворения и говорил свое мнение». Короленко действительно не прибегал к литературной правке рассказов Горького — в этом не было нужды. Но в пору работы Горького над созданием первых произведений мнение Короленко имело для него немаловажное значение. К литературным оценкам Короленко Горький был внимателен не только потому, что чувствовал в них доброжелательное отношение к себе, но прежде всего потому, что они не расходились с его взглядами и утверждали именно те стороны его творчества, которым сам Горький придавал первостепенное значение.
Не соглашаясь с мнением редакции «Русского богатства» о рассказе «Ошибка», который был отвергнут народническим журналом, Горький в апреле 1895 года писал Короленко: «Я не верю в справедливость этого приговора, памятуя Ваш отзыв об «Ошибке» и будучи сам убежден в ее порядочности». Много лет спустя в статье к Собранию сочинений С. П. Подъячева Горький также упомянул, что оценкам В. Г. Короленко он верил. Напряженный интерес Горького к Короленко был вызван творчеством автора «Река играет», дававшим новое освещение народной жизни, которую стремилась монополизировать народническая беллетристика. Горькому была близка литературная позиция Короленко, изображавшего в своих рассказах живые, народные типы, лишенные народнической слащавости, предвзятости и догматизма. В то же время эти люди обладали героическим характером, отражавшим демократический протест масс против социального угнетения. «Теперь уже «героизм» в литературе, — писал Короленко в своем дневнике в 1888 году, — если и явится, то непременно «не из головы», если он и вырастет, то корни его будут не в одних учебниках политической экономии и не в трактатах об общине, а в той глубокой психической почве, где формируются вообще человеческие темпераменты, характеры и где логические взгляды, убеждения, чувства, личные склонности сливаются в одно психически неделимое целое, определяющее поступки и деятельность живого человека… И тогда из синтеза реализма с романтизмом возникнет новое направление художественной литературы». Горькому было близко и понимание Короленко литературы как эстетического орудия общественной борьбы. «Как ноги уносят человека, — писал Короленко в дневнике, — положим, от холода и тьмы к жилью и свету, так слово, искусство, литература — помогают человечеству в его движении от прошлого к будущему».
В свете этих взглядов Короленко понятен интерес, с каким он встретил такие рассказы Горького, как «Старуха Изергиль» и особенно «Челкаш». «Пишете вы очень своеобразно, — говорил Короленко Горькому. — Не слажено все у вас, шероховато, но — любопытно». Эта характеристика довольно полно передает отношение Короленко к ранним работам Горького. Короленко настойчиво боролся за сохранение своеобразной художественной струи и новаторского содержания творчества молодого писателя. Только искренней заинтересованностью, тонким пониманием того, что порой за отдельными недостатками формы таится громадная художественная сила, и желанием помочь можно объяснить ту горячую поддержку, которую оказывал Горькому Короленко, отстаивая его рассказы от огульных и лишенных убедительной аргументации нападок со стороны редакций газет и журналов либерально–народнического толка. Об этом свидетельствует не только переписка двух писателей, но и многочисленные обращения Короленко в редакции «Русских ведомостей» и «Русского богатства» с рекомендациями рассказов Горького к печати. Так, уже в письме к Михайловскому 30 мая 1893 года Короленко рекомендовал «Русскому богатству» принять два стихотворения Горького. «Это самородок с несомненным литературным талантом, еще не совсем отыскавшим свою дорогу». 14 ноября того же года Короленко в письме к редакционному работнику «Русских ведомостей» Саблину напоминает о рассказах Горького «Граф Нелепо и все тут» и «На соли». «Вот уже несколько месяцев прошло, — писал Короленко, — а рассказы не появляются, хотя, по–видимому, у вас не особенное богатство беллетристики. Автор — наш нижегородец, — и я буду тебе весьма благодарен за скорую справку и ответ: когда именно появятся эти рассказы». После сообщения Саблина о том, что рассказы не могут быть напечатаны, Короленко в короткой записке дружески писал Горькому: «Голубчик Алексей Максимович. Неприятное известие из «Русских ведомостей». Забегите на досуге, — потолкуем». Очевидно, Короленко не удовлетворил ответ редакции «Русских ведомостей». Не был согласен Короленко и с оценкой Михайловским рассказа Горького «Ошибка». «Рассказ написан сильно, — писал Короленко Горькому 15 апреля 1895 года, — и выдержан лучше многих других Ваших рассказов». Высказывая предположения о мотивах, по которым Михайловский отверг рассказ, Короленко прямо сказал Горькому: «Я все–таки бы рассказ напечатал». Короленко настойчиво продвигал в печать и «Старуху Изергиль». 4 октября 1894 года он писал тому же Саблину: «Редакция предубеждена против Пешкова. Это напрасно». 23 ноября 1894 года Короленко снова напоминает о «Старухе Изергиль»: «Я был бы глубоко благодарен за сообщение мне окончательного мнения о нем и решения его судьбы… Бедняга автор находится в обстоятельствах весьма печальных, к тому же рассказчик, по–моему, весьма изрядный, и мне кажется, что хорошо бы поддержать начинающего и несомненно способного молодого писателя». Известно, как восторженно отозвался Короленко о рассказе «Челкаш».
Однако рассказы Горького продолжали оставаться неприемлемыми для столичных журналов и газет. Редакции либеральных изданий относились к творчеству Горького как к «бессодержательному» и «бесцельному». «Русское богатство» вернуло Горькому рассказ «Ошибка», не объяснив даже причин отказа. Только после настойчивой просьбы Короленко Михайловский прислал отзыв на «Ошибку». В письме к Короленко он сообщил, что «рассказ кажется ему бесцельным, а психология двух сумасшедших произвольной». «Автор несомненно талантлив, — писал Михайловский, — сила есть, но в пустом пространстве размахивать руками, хотя бы и сильными, — нет смысла». Холодным, по существу недоброжелательным письмом откликнулся И. К. Михайловский и на рассказ Горького «Челкаш». «Вы прислали своего «Челкаша» для печати и мнения моего об нем, может быть, вовсе не желаете знать, — писал Михайловский Горькому. — Но я не могу ответить простым «да» или «нет», ввиду некоторых особенностей рассказа…» Михайловскому рассказ Горького показался «растянутым», содержащим «немало повторений». В особый упрек Горькому он ставит «отвлеченность» рассказа. «Гаврилу я себе представить не могу… — писал Михайловский, — не пахнут жизнью, «бытом» и все разговоры Гаврилы». Судя по письму Михайловского, рассказ принимался «Русским богатством» при условии «серьезных поправок» в духе народнических требований, и то обстоятельство, что он все же появился в печати без каких–либо редакционных исправлений, большая заслуга Короленко.
Отстаивая рассказы Горького от нападок Михайловского, Короленко понимал, конечно, по какой линии они идут. Творчество Горького наносило удары по народническим взглядам, и Михайловский, выступая против его рассказов, так же как и против Чехова, делал последние усилия повернуть литературу на либеральнонароднические пути. Короленко, творчество которого, в свою очередь, коренным образом расходилось с народническими требованиями, понимал всю несостоятельноть попыток Михайловского заставить Горького писать в духе «Русского богатства». Через несколько лет, учитывая огромную популярность Горького, Михайловский стал настойчиво добиваться его сотрудничества в «Русском богатстве», от которого, кстати сказать, отказался и Чехов. В письме к Короленко Михайловский ставил в связь отсутствие в журнале Горького и Чехова с тем, что Короленко не пожелал уговорить их сотрудничать в «Русском богатстве». Отвечая Михайловскому, Короленко 14 февраля 1902 года писал: «По моему мнению, отсутствие у нас Горького и Чехова объясняется многими обстоятельствами, посущественнее того, кто их приглашает. Я не думаю, чтобы мое приглашение было действительнее, чем Ваше».
В начале 1895 года, по совету Короленко, Горький переехал из Нижнего Новгорода в Самару и начал сотрудничать в «Самарской газете». Наряду с чисто литературными вопросами содержанием переписки между писателями становится теперь волновавший Горького вопрос «ведения газеты». В этот период переписка между писателями была особенно интенсивна. Оказавшись перед фактом редакционных дрязг и всякого рода провинциальных сплетен, понимая также, что его личные убеждения коренным образом расходятся с требованиями редактора, Горький нередко обращается за советом к Короленко не только как к знаменитому писателю, автору широко известных рассказов и очерков, но и авторитетному журналисту, немало поработавшему в провинциальной печати. «Короленко, — вспоминал Горький, — посылал мне письма, критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но — всегда дружески». Однако в понимании задач печати и ее общественной роли, а также в понимании некоторых общелитературных вопросов у Горького с Короленко имелись существенные расхождения.
За Короленко был большой опыт работы в провинциальной печати. Исключительный общественный резонанс имели его очерки «В голодный год», в которых он прямо указывал на крепостнические порядки России, как на причину повального обнищания крестьян. Как известно, реакционная печать усмотрела в этой книге Короленко прямой призыв к крестьянской революции. По собственному признанию писателя, им руководило «страстное желание вмешаться в жизнь, открыть форточку в затхлых помещениях, громко крикнуть, чтобы рассеять кошмарное молчание общества». Газетные выступления Короленко, основанные на частных фактах нижегородской жизни, имели, разумеется, большое общественное значение, так как вскрывали язвы буржуазно–дворянского правопорядка в целом. Но позиции, из которых исходил Короленко, определяя задачи публицистики, — будить самосознание общества, чтобы только в будущем решать вопросы социального переустройства, — не могли удовлетворить Горького. В его полемике с Короленко содержатся новые требования, которые в интересах революционной борьбы должны определить демократическое направление печати. В одном из своих фельетонов, напечатанных в «Самарской газете» в июне 1895 года («Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты»), Горький пишет о незначительности и пошлости материала, составлявшего содержание газеты. Горький иронически указывает, что требование «быть ближе к жизни» ведет к тому, чтобы «защищать интересы обывателя», а задача газеты — «поддержать дух общества» означает, что «с печальными явлениями нужно обращаться осторожно и не часто рассказывать о них обществу, — это ведет к пессимизму». Горький ставил перед газетой задачи беспощадного разоблачения собственнического строя, «руковождения обществом», постановки новых революционных тем. Нужно, писал Горький в письме Короленко, чтобы газета «колотила по пустым башкам, как молот».
Не удовлетворяла Горького и среда, на которую ориентировалась «Самарская газета». «Дикая здешняя публика совершенно лишена веры во что–либо порядочное», — писал Горький Короленко 15 марта 1895 года. «Город мертвый — публика странная…» — отмечал он в одном из следующих писем.
Горький мечтал о более широкой аудитории для газеты и в своих фельетонах и очерках обращался не к обывателю, составлявшему обычный круг газетных подписчиков, а к демократическому читателю. По существу одобряя деятельность Горького в «Самарской газете», Короленко тем не менее не упускал случая указать ему на отсутствие «меры» и «сдержанности» в его фельетонах. «Нельзя противопоставлять себя обывательской среде», — пишет Короленко Горькому. «Вы что–то оскорбляете самарского обывателя», — снова напоминает он.
Короленко считал, что роль публициста, ставящего перед собой демократические задачи, можно выполнить в газете любого направления, лишь бы она не была реакционной. Горький же чувствовал себя в подобных условиях «квартирующим на раскаленной сковороде и вкушающим горячие угли» (из фельетона в «Самарской газете»). Это различие точек зрения в известной мере определяло и дальнейший путь Горького и Короленко: Горький связал свою публицистическую деятельность с революционной печатью рабочего класса, Короленко продолжал сотрудничать в буржуазных газетах и журналах, хотя и занимал там свое особое место демократического писателя.
В переписке Горького и Короленко имела место также полемика по поводу отношения к «замечательным личностям»; Непосредственной причиной для нее послужило появление в печати воспоминаний Михайловского о Некрасове. Горький откликнулся на эти воспоминания, содержащие попытки умалить значение Некрасова тенденциозным подбором бытовых фактов, резкой статьей в «Самарской газете».
В письмах к Горькому Короленко осторожно защищал Михайловского, пытаясь оправдать характер его воспоминаний тем, что ему неудобно было замалчивать широко известные факты жизни Некрасова. «Грязное белье писателя в руках публики, — не соглашался Горький с Короленко, — это ее возражения по существу против идей и деятельности его… Характер же наших «литературных воспоминаний» — на мой взгляд совершенно непорядочен. Вспоминающий то и дело кладет клейма на лбы покойников. Это бесполезно. Жизнь — справедлива в этом случае, она сама заклеймит кого нужно». Подобные мысли об умалении роли замечательной личности в буржуазной мемуаристике Горький высказал и позднее в связи с появлением воспоминаний о Чехове, также принижающих историческое значение великого писателя. «Скверно умирать для писателя, — писал в 1904 году Горький. — Всякая тля и плесень литературная тотчас же начинает чертить узоры на лице покойника».
Эта короткая полемика свидетельствует о различном подходе к литературным суждениям Михайловского. Для Горького они были вовсе неприемлемы, Короленко же относился к ним критически, но полностью их не отвергал. Горький с его безграничной верой в силу революционных идей, выступая против Михайловского, боролся за авторитет великого революционного поэта Некрасова, на которого посягала либеральная критика.
Расхождения Горького и Короленко по этому, казалось бы, частному вопросу почти десятилетием позднее снова обнаружились, уже на более широкой основе. В № 8 «Русского богатства» за 1904 год Короленко выступил с критическими замечаниями в связи с рассказом Горького «Человек», опубликованным в сборнике «Знание» за 1903 год. Не соглашаясь с «лирико–философской» концепцией «Человека», Короленко истолковал смысл этого рассказа — прославление разума, прославление великой всепобеждающей силы идей — как якобы лишенный демократичности и направленный против жизни. Короленко ошибочно толковал образ горьковского Человека, «свободного, гордого», идущего «впереди людей и выше жизни», как некий фантом, лишенный реальной связи с действительностью. Однако следует при этом вспомнить, что Короленко одобрительно отозвался о рассказе «Старуха Изергиль», в котором Данко также идет «впереди людей». Видимо, Короленко смущала другая сторона этого рассказа. «Биографу Горького, — писал Короленко, — придется отметить основной мотив «Человека»: прославление мысли и притом одной мысли как двигателя человечества по пути «вперед и выше». До сих пор, пожалуй, в произведениях г–на Горького можно было заметить скорее превознесение сильных непосредственных импульсов и темпераментов».
Таким образом, возражение Короленко как бы вытекало из не разрешенного им самим вопроса — найдена ли такая мысль, силой которой можно вести «человечество по пути вперед и выше»? Для Горького, стоявшего на позициях революционного марксизма, такая всеобъемлющая мысль, разрушающая устои старого мира и указывающая путь к созданию нового, реально существовала уже в те годы. «Я призван для того, — говорит горьковский Человек, — чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком животных, взаимно пожирающих друг друга!
Я создан Мыслию затем, чтобы опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все злое, — и новое создать на выкованных мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям!
— Непримиримый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был Человеком!»
Совершенно естественно, что так написал писатель, связавший свое творчество с революционной борьбой рабочего класса и безгранично веривший во всепобеждающую силу идей научного социализма. Короленко же исходил из позиций человека, для которого «создание великого образа коллективного человека» — дело неопределенного будущего. «Заслуга реалистов–художников состоит в изучении человека всюду, где он проявляется», — писал Короленко. Вот почему, видя заслугу Горького «в том, что он нашел черты человечности еще в одном темном и мало вскрытом до него закоулке жизни», Короленко отказывался признать Человека Горького с его концепцией революционной мысли.
Советское литературоведение отмечало известное сходство в характеристике героев, изображении сильной, противостоящей буржуазному миру личности в творчестве Короленко и ранних рассказах Горького. В дальнейшем, однако, пути писателей разошлись: произведения Горького стали первыми вехами социалистического реализма, тогда как Короленко до конца своих дней оставался на позициях этикогуманистического направления, характерного для передовой литературы 80–х годов.
Крупнейшее место в истории взаимоотношений Горького и Короленко занимает так называемый «академический инцидент». В 1901 году А. М. Горький был избран почетным академиком по разряду изящной словесности Академии наук. В числе «подавших голос» за Горького был и Короленко, избранный в состав почетных академиков несколько ранее. Однако царь отменил избрание Горького, причем сообщение об отмене его выборов было сделано от имени Академии наук. Получалось, что сами же академики, избравшие Горького, отменяли решение без какого–либо обсуждения этого вопроса. Такая ложь не могла не оскорбить Короленко. В апреле 1902 года Короленко приезжает в Петербург специально для того, чтобы добиться гласного обсуждения вопроса об отмене выборов Горького, и, испробовав все средства, которыми он располагал, 25 июля 1902 года демон стративно подает заявление о выходе из Академии наук. В этом заявлении Короленко писал: «Ввиду всего изложенного, то есть: что сделанным от имени Академии объявлением затронут вопрос, очень существенный для русской литературы и жизни, что ему придан характер коллективного акта, что моя совесть, как писателя, не может примириться с молчаливым признанием принадлежности мне взгляда, противоположного моему действительному убеждению, что, наконец, я не нахожу выхода из этого положения в пределах деятельности Академии, я вижу себя вынужденным сложить с себя нравственную ответственность за «объявление», оглашенное от имени Академии, в единственной доступной мне форме, то есть вместе с званием Почетного Академика. Поэтому, принося искреннюю признательность уважаемому учреждению, почтившему меня своим выбором, я прошу вместе с тем исключить меня из списков и более Почетным Академиком не числить».
Выступление Короленко с протестом против исключения Горького из состава почетных академиков, его открытая борьба с произволом властей, отменивших избрание всенародно признанного писателя, наконец его прямое и честное заявление и демонстративный уход из Академии наук — все это свидетельствует о глубоком понимании Короленко общественной роли А. М. Горького.
Подобное заявление подал и А. П. Чехов, к которому Короленко в мае 1902 года ездил в Ялту «для разговора об одном общем заявлении» (из воспоминаний В. Г. Короленко об А. П. Чехове).
Начиная с 1900 года, в связи с переездом Короленко в Полтаву, затем длительным пребыванием Горького за границей, исчезла возможность личного общения писателей, а переписка приняла в известной мере эпизодический характер, однако продолжалась она вплоть до 1921 года — последнего года жизни Короленко. Известно, что Короленко печатался в «Русском богатстве» и в силу целого ряда формальных причин был объявлен «издателем» этого журнала. Разумеется, Короленко не имел исключительного влияния на направление журнала и в своей литературной деятельности не руководствовался узкогрупповыми требованиями народнической редакции «Русского богатства». Обо всем этом отлично знал Горький, который никогда не смешивал Короленко с направлением «Русского богатства», понимая всю условность его связей с редакцией журнала и уже прямую фиктивность его положения в роли издателя этого журнала. Это не скрывал и сам Короленко. «Вы, вероятно, знаете, что издательство — это для меня чистая фикция, приносящая мне, однако, тысячи разнородных терзаний», — признавался Короленко в письме к Горькому от 14 марта 1902 года. Письма Короленко к Горькому, как и его письма к другим лицам, свободны от постановки каких–либо чисто народнических вопросов, связанных с догматизмом теоретиков народничества.
Отмечая 60–летие Короленко, «Рабочая правда» в 1913 году поместила статью о его литературной и общественной деятельности[37]. «Эта годовщина, — говорилось в газете, — далаповод всей мыслящей России приветствовать и чествовать любимого писателя». Газета указала на общественный пафос его творчества, на выдающееся значение его публицистической деятельности, в которой он «отдает свои силы на службу общественному движению».
Письма Короленко к Горькому характерны постановкой коренных общественных вопросов и свидетельствуют о глубоком интересе писателя–демократа к живым явлениям эпохи.
Переписка Горького и Короленко затрагивала важнейшие общественные и литературные события, которые глубоко волновали обоих писателей в период между двумя революциями. Прогрессивный писатель, по определению В. И. Ленина, Короленко был близок Горькому последовательной критикой и неустанным разоблачением язв собственнического строя, глубоким сочувствием освободительной борьбе народа. В 1910 году между писателями завязывается активная переписка по поводу «противосмертнической литературной демонстрации». Короленко предложил Горькому принять участие в такого рода «демонстрации», организуемой кадетской газетой «Речь». Хотя Короленко не считал себя единомышленником этой право–либеральной газеты (в письме он относит себя к «противникам» «речистов») и, как писал он, «в «Речи» не сотрудничал», но для данного случая допускал исключение, так как ему казалось, что «вопрос о смертной казни выходит за пределы наших споров». Горький взглянул на этот вопрос иначе. «Принять участие в протесте, организуемом «Речью», — не могу, — писал Горький. — Я думаю, видите ли, что все эти «речисты» и «вехисты» сами начнут вешать, дайте–ка им силу! Скорее в черта поверю, чем в искренность людей, которые вчера были нигилистами, а сегодня — оставаясь в душе таковыми же — притворяются не только верующими, а почти церковниками, вчера выдавали себя защитниками демократии, а ныне наименовались «оппозицией его величества»… Не соглашусь, что «вопрос о смертной казни выходит за пределы наших споров». Не выходит. Спор идет о бытии русского народа. Он не однажды еще превратится в смертную драку… Драться — но не до смерти? Мечта». Горький, таким образом, исходил из перспектив революционный борьбы, в которой какие–либо «союзы» с кадетами, как с врагами рабочего класса, считал недопустимыми. Короленко остался при своем мнении, но в то же время с достоинством оценил революционную позицию Горького. «Взгляд Ваш и Ваше настроение понимаю… — писал он Горькому. — Хотя Вы и не пошли на призыв, но я все–таки очень рад, что по этому поводу мы опять с Вами, дорогой Алексей Максимович, перемолвились словечком–другим. Может, это будет и не последний раз».
Придавая большое значение выступлениям Короленко с рядом статей против полицейского произвола царского правительства, Горький принимал меры к широкому распространению их не только в России, но и за рубежом. Имея в виду статью Короленко «Черты военного правосудия», Горький писал автору в октябре 1910 года: «Статья Ваша отправлена в Милан для издания на итальянском языке. Было бы хорошо, если б Вы сейчас же прислали два, три оттиска — необходимо послать в Англию, Германию, Францию». В мае 1913 года Горький обратился к Короленко с предложением принять участие в сборнике в честь Ив. Франко.
Горький считал необходимым широко распространить статью Короленко «Мариампольская измена», направленную против шовинистического угара, распространяемого реакционными кругами. Письма Короленко были созвучны настроению Горького предчувствием надвигающихся революционных событий, нетерпимым отношением к продажности и ренегатству буржуазной интеллигенции. Отвечая на очередные письма Горького, содержащие факты дикого разгула полицейщины и беспардонного ренегатства вчерашних либералов, Короленко 30 ноября 1916 года писал: «А мир представляется мне таким же, как в молодости, то есть смесью мрака и тьмы, добра и зла. И нужна сила, чтобы пробираться сквозь это разнообразие к тому, что считаешь светом. У меня ее может не хватить, но у мира хватает… Много мрака и гибели, но свет так же реален, как мрак, а жизнь реальна не менее смерти».
Группа писем Горького и Короленко связана с обсуждением совместных издательских мероприятий.
Вся переписка Горького и Короленко пронизана глубоким чувством взаимного уважения, любви и полного доверия. Писатели вверяли друг другу самые сокровенные мысли, душевные волнения. Так, потрясенный известием о смерти Льва Толстого, Горький пишет большое письмо Короленко, обращаясь именно к нему в те тяжелые минуты. «Не разъединенный мысленно с Вами», — писал Горький Короленко. Содержание этого письма составило значительную часть воспоминаний Горького о Толстом.
Письма Горького и Короленко, относящиеся к периоду 1917 года, отразили ошибочность взглядов Горького на процесс развития пролетарской революции. В дальнейшем сам Горький осудил свои ошибки и дал им правильное истолкование.
После смерти Короленко (25 декабря 1921 года) Горький переписывался с семьей покойного писателя — его женой, Евдокией Семеновной, и дочерьми, Софьей Владимировной и Натальей Владимировной. В этих письмах содержатся характеристики творчества Короленко, в том числе его дневников и писем, которые впервые были опубликованы после Великой Октябрьской социалистической революции; значительны высказывания Горького о Короленко как о писателе и человеке. «У меня к нему было чувство непоколебимого доверия, — писал Горький. — Я был дружен со многими литераторами, но ни один из них не мог внушить мне того чувства уважения, которое внушил В. Г. с первой моей встречи с ним».
Горькому принадлежит заслуга наиболее полного и глубокого истолкования творчества Короленко и его разносторонней общественной деятельности. По своему историко–литературному и художественному значению и по содержащемуся в них познавательному материалу воспоминания Горького о Короленко могут быть поставлены наравне с воспоминаниями Горького о Толстом и Чехове. Горький высоко оценивал Короленко как писателя–демократа, чья деятельность «разбудила дремавшее правосознание огромного количества русских людей».
В творчестве Короленко Горький видел прежде всего продолжение лучших традиций русской литературы. В одном из своих писем от 23 декабря 1910 года Горький, рекомендует своему адресату: «Почитайте о Глебе Успенском, Гаршине, Салтыкове, о Герцене, посмотрите на ныне живущего Короленко — первого и талантливейшего писателя теперь у нас». Называя Короленко в этом ряду, Горький подчеркивает его прямую связь с русской демократической литературой XIX века. Значение Короленко Горький видел в правдивом изображении народной жизни, в горячем сочувствии борьбе масс, в его личной борьбе с полицейским произволом. Горький высоко отзывался о деятельности Короленко, направленной в защиту национальных меньшинств, против погромной политики самодержавия. Имея в виду выступления Короленко в защиту крестьян–удмуртов, обвиненных царской полицией в ритуальных убийствах, Горький писал: «Мултанское жертвоприношение» вотяков — процесс не менее позорный, чем «дело Бейлиса», — принял бы еще более мрачный характер, если б В. Г. Короленко не вмешался в этот процесс и не заставил прессу обратить внимание на идиотское мракобесие самодержавной власти». В период, когда правительство пуришкевичей избрало «погромное средство»[38] для войны с народом и реакция разжигала национальную вражду, пытаясь этим погасить революционное движение масс, выступления Короленко, разоблачающие реакционную сущность «воинствующего национализма», имели громадное общественное значение.
Горький отмечал также роль Короленко в борьбе с реакционными формами буржуазного искусства. Определяя задачи прогрессивной литературы и борясь с попытками буржуазной критики умалить художественное значение Короленко, Горький в 1910 году писал: «А еще вот что надобно: выдвигать из тени В. Г. Короленко, как единственного писателя, способного занять место во челе литературы нашей… В то же время он и по таланту, не говоря о его общественных заслугах гражданского характера, — ныне первый… вообще сейчас хорошая статья о Короленке и общественно и литературно необходима».
В творчестве Короленко Горький увидел «новый подход к изображению народа», противоположный предвзятому народническому освещению жизни деревни. Особенно высоко он отзывался о рассказе «Река играет», который вызывал резкие возражения народнических теоретиков. Как пишет Горький, их «раздражал Тюлин… человек, несомненно, всем хорошо знакомый в жизни, но совершенно не похожий на обычного литературного мужичка, на Поликушку, дядю Миная и других излюбленных интеллигентом идеалистов, страстотерпцев, мучеников и правдолюбов, которыми литература густо населила нищие и грязные деревни». В образе Тюлина Горький отметил «огромную правду», типическое изображение русского крестьянина, способного преодолеть вековую апатию и в нужную минуту совершить подвиг. Горький писал: «…правда, сказанная образом Тюлина, — огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан исторически верный тип великоруса — того человека, который ныне сорвался с крепких цепей мертвой старины и получил возможность строить жизнь по своей воле». Горький указывал также и на значение этого рассказа Короленко в дальнейшем развитии крестьянской темы в русской литературе конца XIX и начала XX века. «В художественной литературе, — — писал Горький в предисловии к Собранию сочинений С. П. Подъячева, — первый сказал о мужике новое и веское слово — В. Г. Короленко в рассказе «Река играет». «Без Тюлина невозможны «Мужики», «В овраге» Чехова», — указывает он в письме к К. Чуковскому. Большое значение имеют также замечания Горького о рассказе «Турчин и мы», об «Истории моего современника», наконец о публицистике Короленко. Касаясь рассказа «Турчин и мы», Горький в письме к А. Н. Тихонову от 5 июня 1913 года писал: «Это как раз та оценка славянского характера, которая сложилась у меня. Когда читал, то — местами— даже странно было: мои слова! Какой это умный и зоркий человек, В. Г. И так приятно читать его вещь среди разных Кондурашкиных…»
В 1910 году Горький получил от Короленко первую книгу «Истории моего современника». В ноябре того же года в письме к М. М. Коцюбинскому он восторженно отозвался о ней. «На каждой странице, — писал Горький, — чувствуешь умную, человечью улыбку много думавшей, много пережившей большой души». Горький выделил ее среди литературы эпохи реакции и указал черты, которыми повесть Короленко резко отличается от модернистской прозы буржуазных писателей. Идейному измельчанию и кичливому индивидуализму символистской литературы Горький противопоставляет «серьезный тон» «Истории моего современника», ее высокий общественный пафос. «Взял я превосходную эту книжку в руки и—перечитал ее еще раз, — писал Горький. — И буду читать часто, — нравится она мне все больше и серьезным своим тоном и этой мало знакомой современной нашей литературе солидной какой–то скромностью. Ничего кричащего, — все касается сердца. Голос — тихий, но ласковый и густой, настоящий человеческий голос».
«Прекрасными образцами публицистики» в русской литературе Горький называет «Бытовое явление» Короленко, его очерки о «самозванцах», о кишиневском погроме, Мултанском процессе.
В письмах к начинающим писателям Горький неоднократно указывал на язык Короленко как на образец русского литературного языка и ставил автора «Истории моего современника» в пример как знатока и мастера слова, вровень с Тургеневым, Лесковым и Чеховым.
Придавая большое значение популяризации творчества Короленко, Горький в письме в издательство «Асабегша» от 13 июля 1935 года указывал на необходимость «издать всю его беллетристику».
В 1926 году Горький, познакомившись с «Дневниками» Короленко, изданными незадолго до того, писал, обращаясь к Е. С. Короленко: «Ценная книга, очень красноречиво говорит об эпохе и — сколько в ней большой художник посеял таланта, сколько умного сердца в ней».
Переписка писателей, их высказывания друг о друге, воспоминания Горького о Короленко — все это живые документы эпохи, яркие свидетельства, запечатлевшие литературные связи родоначальника советской литературы и одного из крупнейших демократических писателей конца XIX и начала XX века.
1956
Примечания
1
В. Г. Короленко. Письма. М., 1922, с. 71.
(обратно)2
Сам Короленко датирует рассказ 1883 годом, указанный вариант был записан в записной книжке за 1884 год.
(обратно)3
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 12, с. 331.
(обратно)4
А. П. Чехов. Поли. собр. соч., т. XIV. М., Гослитиздат, 1949, с. 12.
(обратно)5
Там же, с. 79.
(обратно)6
В. М. Гаршин. Поли. собр. соч., т. III. М. —Л., 1934, с. 375.
(обратно)7
«Образование», 1903, № 9, с. 168.
(обратно)8
М. И. Калинин. За эти годы, кн. 3–я, 1929, с. 188–189.
(обратно)9
М. Горький. Собр. соч. в 30–ти томах, т. 15. М., Гослитиздат, 1949, с. 18.
(обратно)10
См.: В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 3, с. 436.
(обратно)11
М. Горький. Собр. соч. в 30–ти томах, т. 25, с. 251.
(обратно)12
М. Горький. Собр. соч. в 30–ти томах, т. 14, с. 242.
(обратно)13
Там же, с. 245.
(обратно)14
Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 81–82, с. 187.
(обратно)15
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 27, с. 94.
(обратно)16
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 4, с. 252.
(обратно)17
М. Горький. Собр. соч. в 30–ти томах, т. 29, с. 148.
(обратно)18
Там же, с. 299–300.
(обратно)19
Сб. «Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе». М., Гослитиздат, 1937, с. 169, 171.
(обратно)20
«Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». Госполитиздат, 1947, с. 217.
(обратно)21
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, с. 30.
(обратно)22
М. Горький. Собр. соч. в 30–ти томах, т. 29, с. 136–137.
(обратно)23
Газета «Известия» от 1 января 1922 года.
(обратно)24
А. П. Чехов. Поли. собр. соч., т. XIV, с. 12.
(обратно)25
Р. Люксембург. О литературе. М. —Л., «Academia», 1934, с. 124.
(обратно)26
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, с. 384.
(обратно)27
М. Горький. Собр. соч. в 30–ти томах, т. 29, с. 444.
(обратно)28
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 51, с. 198.
(обратно)29
И. А. Гончаров. Заметки о личности Белинского. — Собр. соч., т. 8. М., 1955, с. 54.
(обратно)30
В. Г. Белинский. Поли. собр. соч, т. X. М., 1956, Изд–во АН СССР, с. 343.
(обратно)31
Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 60, с. 290.
(обратно)32
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, с. 30.
(обратно)33
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, с. 84.
(обратно)34
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 8, с. 380.
(обратно)35
Там же, т. 45, с. 13.
(обратно)36
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 181.
(обратно)37
«Рабочая правда» от 21 июля 1913 г., № 8.
(обратно)38
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, с. 65.
(обратно)

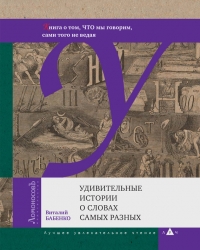

Комментарии к книге «Статьи о русских писателях», Анатолий Константинович Котов
Всего 0 комментариев