Предисловие
Работы, собранные в этой книге, написаны в период с 1934 по 1936 год. Это — предисловия к отдельным произведениям классической литературы, статьи юбилейного характера и т. д. Я полагаю, однако, что кроме единой точки зрения автора их объединяют и некоторые существенные моменты самого содержания. В каждой из этих статей речь идет о преимуществах классического реализма по сравнению с позднейшим буржуазным декаденством. В этом смысле статьи, расположенные в хронологическом историко-литературном порядке, взаимно дополняют друг друга. Разумеется, полный анализ всех элементов классического реализма и всех разнообразных этапов его развития может дать только систематический курс истории литературы.
Я позволил себе собрать эти статьи воедино только потому, что их основная тенденция не лишена актуальности. Во-первых, у нас еще распространены — хотя и в более скрытой форме — вульгарно-социологические теории, стирающие разницу между величием подлинной классики и натуралистическим эпигонством. Во-вторых, современный фашизм делает все для того, чтобы исказить и фальсифицировать историю литературы. Его лакеи забрасывают грязью великих реалистов прошлого или стремятся превратить их в предшественников фашизма. В борьбе с реакционными тенденциями новейшей буржуазной литературы мы должны строго разграничивать подлинный реализм в искусстве от всякого распада и вырождения.
В действительной истории существует, конечно, много незаметных переходов. Изучение их очень существенно для истории литературы, и я надеюсь в будущем к ним обратиться. Однако анализ переходных этапов, даже самый тщательный, не должен заслонять от нас главного- необходимости бороться с различными традициями буржуазного вырождения, сохранившимися в виде пережитков и в нашей литературе. Только в процессе преодоления подобных пережитков может развиваться социалистический реализм.
Автор этой книги старался содействовать скорейшему освобождению нашей литературной теории от представлений, несовместимых с идеей социалистического реализма. В какой мере это ему удалось, может сказать только читатель.
Георг Лукач
Москва, июль 1938 г.
Гете "Страдания молодого Вертера"
Год появления "Вертера" (1774) — значительная дата не только в истории немецкой литературы. Колоссальный успех "Вертера" впервые обнаружил кратковременное, но получившее большое значение, преобладание немецкой литературы и философии во всей Европе. Он возвестил наступление лучшей эпохи немецкой культуры. Франция на некоторое время перестает быть страной наиболее передовой в литературном отношении. Ее влияние отступает на задний план по сравнению с влиянием таких писателей, как Гете. Конечно, немецкая литература и до появления "Вертера" обладала произведениями всемирно-историческом значения. Достаточно вспомнить Винкельмана и Лессинга. Но чрезвычайно широкое и серьезное влияние, которое "Вертер" Гете оказал на все общество его времени, впервые выдвинуло на первое место немецкое Просвещение.
Немецкое Просвещение? спросит с изумлением читатель, воспитанный на литературных легендах буржуазной историографии и зависящей от нее вульгарной социологии. В буржуазной истории литературы и в вульгарной социологии стало общим местом, что эпоха Просвещения и т. наз. период "бури и натиска", к которому относят обычно "Страдания молодого Вертера", находятся между собой в состоянии резкой противоположности. Эта литературная легенда обязана своим происхождением знаменитой книге романтической писательницы г-жи де Сталь "О Германии". Впоследствии реакционные историки литературы империалистического периода всячески раздували эту легенду, ибо она — превосходное средство для того, чтобы воздвигнуть китайскую стену между Просвещением вообще и немецкой классической литературой, для того чтобы унизить Просвещение по сравнению с позднейшими реакционными тенденциями в романтизме.
Сочинители подобного рода легенд меньше всего беспокоятся об исторической истине; они просто равнодушны к тому, что эти легенды противоречат самым элементарным фактам. Корыстные интересы буржуазии являются для них единственным побудительным мотивом. Даже буржуазная история литературы вынуждена признать в Ричардсоне и Руссо литературных предшественников "Вертера". Но, устанавливая эту связь, она все же не желает отказаться от старой иллюзии будто между "Вертером" Гете и умственным движением просветительной эпохи существует диаметральная противоположность.
Более умные представители реакционного лагеря чувствуют, правда, что здесь имеется какая-то неясность. Для того чтобы решить вопрос, они приводят самого Руссо в резкое противоречие с Просвещением, делая из него прямого предшественника романтизма. Но в случае с Ричардсоном подобные ухищрения несостоятельны. Ричардсон был типичным представителем буржуазного Просвещения. Его произведения имели большой успех именно среди прогрессивной буржуазии Европы; передовые борцы европейского Просвещения, как Дидро и Лессинг, были самыми восторженными провозвестниками его славы.
Чем же мотивирует буржуазная история литературы свое стремление отделить молодого Гете от эпохи Просвещении? Дело в том, что Просвещение якобы принимало но внимание только "разум". Период "бури и натиска" в Германии был, напротив, возмущением "чувства", "души", "неясного томления" против подобной тирании разума. При помощи этой абстрактной схемы возвеличиваются всякого рода иррационалистические тенденции, для буржуазного декаданса находятся всевозможные исторические "основания", "источники" и т. д. Традиции революционного периода буржуазного развития подвергаются дешевой и пристрастной критике. У либеральных историков литературы, типа Брандеса, эта теория имеет еще эклектический и компромиссный характер. Открытые реакционеры обращаются уже без всяких оговорок против наследства эпохи Просвещения, клевещут на него открыто и бесстыдно.
В чем состояла сущность ославленной идеи "разума" эпохи Просвещения? В беспощадной критике религии, зараженной богословием философии, феодальных учреждений, освященных "старым режимом" заповедей морали и т. д. Легко понять, что для буржуазии, завершившей свою эволюцию от демократии к реакции, беспощадная борьба просветителей должна казаться роковой ошибкой.
Реакционные историки постоянно твердил, что просветительной эпохе нехватает "душевного" элемента. Нет нужды доказывать, насколько такое утверждение односторонне, насколько оно несправедливо.
Приведем здесь только один пример. Известно, что Лессинг боролся с теорией и практикой т. наз. классической трагедии. С какой же точки зрения он выступает против ложноклассицизма? Лессинг исходит именно из того, что концепция трагического у Корнеля не имеет конкретно-человеческого характера и что Корнель не принимает во внимание душевный мир, мир человеческих чувств; что, оставаясь в плену придворно-аристократическпх условностей своей эпохи, он создает мертвые и чисто рассудочные конструкции. Литературно-теоретическая борьба таких просветителей, как Дидро и Лессинг, была направлена против аристократических условностей. Они восставали против этих условностей, показывая их рассудочную холодность и — одновременно-их противоречие разуму. Между борьбой с этой холодностью и провозглашением прав разума у таких просветителей, как Лессинг, нет никакого внутреннего противоречия.
Ибо каждый великий общественно-политический переворот творит новый тип человека. В литературной борьбе дело идет о защите этого нового конкретного человека от исчезающего старого и ненавистного общественного строя. Но борьбы "чувства" и "разума" одной изолированной и абстрактной особенности человека против другой никогда не бывает в действительности, она происходит только в банальных конструкциях реакционной истории литературы.
Лишь разрушение подобного рода исторических легенд открывает путь к познанию действительных внутренних противоречий эпохи Просвещения. Они являются идеологическим отображением противоречий буржуазной революции, ее социального содержания и ее движущих сил, возникновения, роста и развития всего буржуазного общества. Здесь нет ничего раз навсегда данного и застывшего. Наоборот, внутренние противоречия культурного развития нарастают в высшей степени неравномерно, в соответствии с неравномерностью общественного развития. В определенные периоды они как бы ослабевают и находят себе мирное разрешение, но лишь для того, чтобы на более высокой ступени возникнуть снова, в более углубленной, более простой и наглядной форме. Литературная полемика среди просветителей, критика общих, отвлеченных принципов эпохи Просвещения самими просветителями есть определенный исторический факт. Внутренняя сложность и противоречивость просветительного движения, не доступная пониманию реакционных историков, является только отражением противоречий самого общественного развития; это борьба отдельных течений внутри Просвещения, столкновение отдельных ступеней развития просветительной философии и литературы.
Меринг стоял на правильном пути в своем изображении борьбы Лессинга против Вольтера. Он убедительно доказал, что Лессинг критикует отсталые стороны мировоззрения Вольтера с точки зрения более высокой ступени всего просветительного движения. Особенный интерес приобретает этот вопрос по отношению к Руссо. В философии Руссо впервые ярко выступает идеологическое отражение плебейского способа осуществления буржуазной революции; соответственно внутренней диалектике этого движения, воззрения Руссо иной раз проникнуты мелкобуржуазными, реакционными чертами; иногда это смутное плебейство выступает на первый план, оттесняя реальные проблемы буржуазно-демократической революции. Критики Руссо среди просветителей — Вольтер, Даламбер и др., а также Лессинг — правы, отстаивая эти реальные проблемы, но в своей полемике с Руссо они часто проходят мимо действительно ценного в нем, мимо его плебейского радикализма, мимо начинающегося диалектического нарастания противоречий буржуазного общества. Художественное творчество Руссо самым тесным образом связано с основными тенденциями его мировоззрения. Благодаря этому, он поднимает ричардсоновское изображение психологических конфликтов обыденной жизни на гораздо более высокую ступень как с точки зрения мысли, так и с точки зрения поэзии. Лессинг часто выражает свое несогласие с Руссо и вместе с Мендельсоном ставит романы Ричардсона выше произведений Жан-Жака. Но в этом случае он сам консервативен, не желая признать существенные черты новой, более высокой и более противоречивой ступени т. наз. Просвещения.
Творчество молодого Гете является дальнейшим развитием линии Руссо. Конечно, на немецкий лад, что, несомненно, снова усложняет вопрос. Специфически немецкие черты Гете тесно связаны с экономической и социальной отсталостью Германии, с ее бедственным положением в эту эпоху. Не следует, однако, преувеличивать эту отсталость или понимать ее слишком упрощенно. Само собой разумеется, что немецкой литературе недостает отчетливой социальной целеустремленности и твердости французов, нет в ней и характерного для англичан XVIII в. реалистического отображения широко развитого буржуазного общества. Эта литература носит на себе отпечаток мелочности, свойственной отсталой, раздробленной Германии. Но с другой стороны, не надо забывать, что противоречия буржуазного развития с наибольшей страстностью и пластической силой выражены в немецкой литературе конца XVIII в. Вспомним буржуазную драму, Возникнув в Англии и Франции, она не достигла в этих странах такой высоты, как немецкая драма уже в "Эмилии Галотти" Лессинга и особенно в "Разбойниках" и "Коварстве и любви" молодого Шиллера.
Конечно, создатель "Вертера" не был революционером даже в смысле молодого Шиллера. Но в широком историческом смысле, в смысле внутренней связанности с основными проблемами буржуазной революции, творчество молодого Гете является в некоторых отношениях кульминационным пунктом революционной мысли Просвещения.
Центральный пункт "Вертера" образует гуманистическая проблема прогрессивной буржуазной демократии, проблема свободного и всестороннего развития человеческой личности. Фейербах говорит: "Пусть нашим идеалом будет не кастрированное, лишенное телесности, отвлеченное существо, а цельный, действительный, всесторонний, совершенный, развитой человек". В своих "философских тетрадях" Ленин называет это стремление идеалом "передовой буржуазной демократии или революционной буржуазной демократии" [1].
Гете ставит эту проблему глубоко и всесторонне. Его анализ касается не только полуфеодального, мелко-княжеского мира его родной Германии. Противоречие личности и общества, раскрытое в "Страданиях молодого Вер-тера", присуще буржуазному строю и в его наиболее чистом виде, которого еще не знала Европа эпохи Просвещения. Поэтому в "Вертере" много пророческих черт. Конечно, протест молодого Гете направлен против конкретных форм угнетения и оскудения человеческой личности, которые наблюдались в Германии его эпохи. Но глубина его концепции обнаруживается в том, что он не останавливается на критике одних лишь симптомов, не ограничивается полемическим изображением бросающихся в глаза явлений. Напротив, Гете изображает повседневную жизнь своей эпохи с такой обобщенной простотой, что значение его критики сразу вышло далеко за пределы провинциальной немецкой жизни. Восторженный прием, который имела книга у более развитых буржуазных наций, лучше всего показывает, что в страданиях молодого Вертера передовое человечество увидело свою собственную судьбу: tua res agitur[2].
Гете не только показывает, какие непосредственные препятствия общество ставит развитию личности, не только сатирически изображает сословный строй своего времени. Он видит также, что буржуазное общество, которое выдвигает с такой остротой проблему развития личности, само непрерывно ставит препятствия ее подлинному развитию. Законы и учреждения, которые служат развитию личности в узко классовом смысле слова (обеспечивают, например, свободу торговли), в то же самое время беспощадно душат действительные ростки индивидуальности. Капиталистическое разделение труда, которое служит материальным базисом для развитой личности, покоряет себе человека, калечит его личность, подчиняя ее односторонней специализации. Конечно, молодой Гете не мог обнаружить экономической основы этих связей. Тем больше приходится удивляться той поэтической гениальности, с которой обрисовано у него противоречивое положение человеческой личности в буржуазном обществе.
Изображение действительности у Гете вполне конкретно; живая ткань художественных образов нигде не прерывается искусственными сентенциями автора. Вертер- сложная фигура, это человек углубленный в себя и склонный к размышлениям над высокими и тонкими материями. А между тем, связь его переживаний с реальными противоречиями действительности повсюду ясна, ее даже и известной мере сознают сами действующие лица. Вспомним, например, что говорит Вертер об отношении природы к искусству, ко всему, что создано общественным развитием: "Лишь она одна бесконечно богата, лишь она одна создает великого художника. В пользу установленных правил можно многое сказать, приблизительно столько же, сколько можно сказать в похвалу человеческого общества".
Мы уже сказали выше, что центральную проблему произведения образует всестороннее развитие человеческой личности. В "Поэзии и правде" престарелый Гете подробно анализирует принципиальные основы своих юношеских взглядов, подвергает разбору мировоззрение Гамана, который, наряду с Руссо и Гердером, больше всего повлиял на образование этих взглядов, и выражает следующими словами основной принцип своих ранних стремлений: "Все, что человек начинает предпринимать, будет ли оно выражено посредством дела, слова или как-либо иначе, должно вытекать из всех его объединенных сил; разъединенное должно быть отвергнуто. Великолепная максима, которой, однако, трудно следовать".
Основное поэтическое содержание "Вертера" — это борьба за осуществление этой максимы, борьба с внешними и внутренними препятствиями, мешающими ее осуществлению. В эстетическом смысле это борьба с условными "правилами" искусства, о которой мы уже слышали. И здесь следует предостеречь от метафизической абстрактности. Вертер, а вместе с ним молодой Гете, враги всяких правил, но это "отсутствие правил" вовсе не означает для них погружение в мир иррационального. Оно означает страстное стремление к реализму, означает преклонение перед Гомером, Клопштоком, Гольдсмитом, Лессингом.
Еще более энергичный и страстный характер носит у молодого Гете возмущение против правил морали. Буржуазное общество ставит на место сословных и местных привилегий единую национальную систему права. Это историческое движение находит свое отображение и в этике — в виде стремления к общеобязательным законам человеческого поведения. В дальнейшем эта общественная тенденция находит свое высшее философское выражение в идеалистической этике Канта и Фихте. Но как тенденция она существовала задолго до них и выросла из самой практической жизни.
Хотя подобная эволюция морали с исторической точки зрения необходима, на деле она является все же одним из препятствий для развития личности. Этика в смысле Канта и Фихте стремится к единой системе правил, лишенной всякого противоречия, и хочет объявить ее непреложным законом для общества, основным движущим принципом которого является само противоречие. Индивидуум, действующий в этом обществе, неизбежно признает систему правил поведения в общих чертах, так сказать в принципе, но в конкретной жизни он непрерывно впадает в противоречия с этой системой. Подобный конфликт вовсе не является следствием антагонизма между низшими эгоистическими стремлениями человека и его высшими этическими "нормами, как думал Кант. Напротив, противоречия очень часто возникают в тех случаях, когда в дело замешаны лучшие и благороднейшие страсти человека. Лишь значительно позднее диалектика Гегеля создает логический образ, который (в идеалистической форме) до некоторой степени отображает полное противоречий взаимодействие между человеческой страстью и общественным развитием.
Но даже самая лучшая логическая концепция не может разрешить ни одного реально существующего противоречия действительности. И поколение молодого Гете, которое глубоко переживало это жизненное противоречие, хотя и не могло его выразить в логических формулах, с бурной страстностью поднялось против моральных препятствий к свободному развитию личности.
Друг молодости Гете, Фридрих Генрих Якоби, в открытом письме к Фихте ярко выразил это общественное настроение: "Да, я атеист и безбожник, который… хочет лгать, как лжет умирающая Дездемона, лгать и обманывать, как Пилад, выдающий себя за Ореста, убивать, как Тимолеон, нарушать закон и присягу, как Эпаминонд и как Иоанн де Витт, совершать самоубийство, как Отон, грабить храм, как Давид, да вырывать колосья в субботу только потому, что я голоден и что закон дан ради человека, а не человек ради закона". Восстание против абстрактных норм морали Якоби называет "прерогативой человека, печатью его достоинства".
Этические проблемы "Вертера" стоят под знаком этого протеста. В своем романе Гете очень скупо показывает действие, но при этом почти всегда подбирает такие фигуры и такие события, в которых обнаруживаются противоречия между человеческими страстями и законами общества. Так в нескольких кратких сценах с поразительным искусством изображена трагическая судьба влюбленного молодого работника, убивающего свою возлюбленную и соперника. Это преступление образует мрачную параллель к самоубийству Вертера.
Борьба за осуществление гуманистических идеалов тесно связана у молодого Гете с народностью его стремлений. В этом отношении он является продолжателем тенденций Руссо и руссоизма. Весь "Вертер"- это пламенное признание того нового человека, который выступает во Франции накануне буржуазной революции, того всестороннего пробуждения деятельности людей, которое колоссально ускоряет развитие буржуазного общества и в то же время осуждает его на гибель.
Восхождение этого человеческого типа совершается в непрерывном драматическом контрасте к сословному обществу и мещанскому филистерству. Новая, более демократическая культура противопоставляется тупости и отсутствию умственных интересов у "высших сословий", с одной стороны, и мертвой, застывшей, мелочно-эгоистической жизни мещанства, с другой. Каждое из этих противопоставлений как бы подсказывает мысль, что только у самого народа можно найти действительное понимание жизни, живое разрешение ее вопросов. Косности аристократии и мещанства противопоставлен в качестве живого человека и представителя новых начал не только Вертер, но и целый ряд фигур из народа. Вертер сам является представителем народного и жизненного элемента, в противоположность сословному окостенению высших классов. Этому подчинены и многочисленные рассуждения о живописи и литературе. Гомер и Оссиан для Вертера (и молодого Гете) — великие народные поэты, выразители творческой духовной жизни, которую следует искать только у трудящегося народа.
Итак, не будучи революционером и прямым представителем плебейской массы, молодой Гете провозглашает, в рамках общего буржуазно-демократического движения, идеалы народно-революционные. Враги революции тотчас же поняли эту тенденцию "Вертера" и соответствующим образом оценили ее. Получивший печальную известность, вследствие своей полемики с Лессингом, ортодоксальный священник Геце писал, например, что такие книги, как "Вертер", это матери Равальяка, убийцы Генриха IV и Дамиена, покушавшегося на Людовика XV. Много лет спустя лорд Бристоль обрушился на Гете за то, что тот своим "Вертером" сделал несчастными стольких людей. Очень интересно, что Гете, обычно столь утонченно вежливый, ответил на эту жалобу резкой грубостью, перечислив изумленному лорду все грехи господствующих классов. Все это сближает "Вертера" с революционными драмами молодого Шиллера. Престарелый Гете приводит весьма характерную оценку этих драм со стороны реакционеров. Какой-то из немецких князей сказал ему однажды, что если бы он был всемогущим богом и знал, что сотворение мира приведет за собой также появление "Разбойников" Шиллера, то он воздержался бы от этого необдуманного поступка.
Такого рода враждебные оценки лучше всего обнаруживают действительное значение литературы эпохи "бури и натиска". Своим успехом во всем мире "Вертер" был обязан именно заложенной в нем революционной тенденции, что бы ни говорили представители реакционной философии культуры. Борьба молодого Гете за свободного, всесторонне развитого человека, который нашел себе выражение также в "Геце", фрагменте "Прометея", в первых набросках к "Фаусту", достигла в "Вертере" своего кульминационного пункта.
Было бы неправильно видеть в этом произведении только символ преходящего, чрезмерно сентиментального настроения, которое сам Гете преодолел очень быстро (через три года после "Вертера" Гете написал веселую и задорную пародию на него — "Триумф чувствительности"). Буржуазная история литературы обращает внимание на то, что Гете изображает "Элоизу" Руссо и своего собственного "Вертера" как проявление сентиментальности. Но она проходит мимо того, что Гете осмеивает только придворно-аристократическую пародию на "Вертера", вырождающуюся в нечто противоестественное. Сам Вертер бежит к природе и к народу от дворянского общества, застывшего в своей мертвой неподвижности. Напротив, герой пародии создает себе из кулис искусственную природу, боится действительности, а его чувствительность не имеет ничего общего с жизненной энергией настоящих людей. Таким образом, "Триумф чувствительности" только подчеркивает народную тенденцию "Вертера"; это — пародия на непредусмотренное автором влияние "Вертера" — влияние его на "ооразо-ванных" людей.
В "Вертере" мы видим сочетание лучших реалистических тенденций XVIII века. В смысле художественного реализма Гете превосходит своих предшественников — Ричардсона и Руссо. В то время как у Руссо весь внешний мир, за исключением ландшафта, еще поглощается субъективным настроением, молодой Гете является преемником объективно ясного изображения действительного общественного и природного мира; он продолжатель не только Ричардсона и Руссо, но также Фильдинга и Гольдсмита.
С внешней и технической стороны "Вертер" является кульминационным пунктом литературного субъективизма второй половины XVIII в., и этот субъективизм не играет в романе чисто внешней роли, а является адэкватным художественным выражением гуманистического возмущения Гете. Но все, что происходит в рамках повествования, объективировано у Гете с неслыханной простотой и пластичностью, взятыми у великих реалистов. Только к концу произведения, по мере развития трагедии молодого Вертера, туманный мир Оссиана вытесняет ясную пластику Гомера.
Но роман молодого Гете возвышается над произведениями его предшественников не только в художественном отношении. "Вертер" не только кульминационный пункт художественного развития просветительной эпохи, но и предвосхищение реалистической литературы XIX столетия, литературы великих проблем и великих противоречий. Буржуазная историография видит преемника молодого Гете в Шатобриане. Но это неверно. Именно глубочайшие реалисты XIX века, Бальзак и Стендаль, продолжают тенденции "Вертера". В их произведениях полностью раскрыты те конфликты, которые пророчески угадал Гете в "Страданиям молодого Вертера". Правда, Гете рисует только самые общие черты трагедии буржуазно-демократических идеалов, трагедии, которая становится очевидной лишь много времени спустя. Благодаря этому он еще не нуждается в грандиозном фоне романов Бальзака и может ограничиться изображением небольшого, идиллически замкнутого мирка, напоминающего провинциальные сцены Гольдсмита и Фильдинга. Но это изображение наполнено уже тем внутренним драматизмом, который во времена Стендаля и Бальзака образует существенно новое в романе XIX века.
"Страдания молодого Вертера" обычно изображается, как роман любовных переживаний. Верно ли это? Да, "Вертер" — одно из самых значительных созданий этого рода в мировой литературе. Но как всякое действительно крупное поэтическое. изображение любви роман молодого Гете не ограничивается этим чувством. Гете удалось вложить в любовный конфликт глубокие проблемы развития личности. Любовная трагедия Вертера является перед нашим взором как мгновенная вспышка всех человеческих страстей, которые в обычной жизни выступают разъединенно и только в пламенной страсти Вертера к Лотте сливаются в единую пылающую и светящуюся массу.
Любовь Вертера к Лотте возвышается в мастерском изображении Гете до выражения общенародных тенденций. Сам Гете говорил позднее, что любовь к Лотте примиряла Вертера с жизнью. Еще важнее в этом смысле композиция самого произведения. Замечая, в какой неразрешимый конфликт вовлекает его любовь, Вертер ищет убежища в практической жизни, в деятельности. Он берется за работу в посольстве. Эта попытка терпит крушение, вследствие препятствий, которые аристократическое общество ставит мещанину. Лишь после того, как Вертер потерпел эту неудачу, происходит его вторичная трагическая встреча с Лоттой.
Один из почитателей Гете — Наполеон Бонапарт, захвативший "Вертера" с собой даже в египетский поход, упрекал великого писателя за то, что он вводит общественный конфликт в любовную трагедию. Старый Гете, со своей тонкой придворной иронией, ответил, что великий Наполеон, правда, очень внимательно изучал "Вертера", но изучал его так, "как уголовный следователь изучает свои дела". Критика Наполеона с очевидностью доказывает, что он не понял широкого и всеобъемлющего характера проблемы "Вертера". Конечно и в качестве трагедии любви "Вертер" заключал в себе великое и типическое. Но намерения Гете носили более глубокий характер. Под оболочкой любовного конфликта он показал неразрешимое противоречие между развитием личности и общественными условиями в мире частной собственности. А для этого было необходимо развить этот конфликт во всех направлениях. Критика Наполеона доказывает, что он отвергал универсальный характер трагического конфликта, изображенного в "Вертере", — что, впрочем, с его точки зрения вполне понятно.
Такими как будто окольными путями произведение Гете приводит нас к заключительной катастрофе. Лотта в свою очередь полюбила Вертера и, благодаря неожиданному порыву с его стороны, она доходит до сознания своего чувства. Но именно это приводит к катастрофе: Лотта — буржуазная женщина, которая инстинктивно держится за свой брак и пугается собственной страсти. Трагедия Вертера, таким образом, не только трагедия несчастной любви, но и совершенное изображение внутреннего противоречия буржуазного брака: этот брак связан с историей индивидуальной любви, которая возникает вместе с ним, но" вместе с тем материальная основа буржуазного брака находится в неразрешимом противоречии с чувством индивидуальной любви. Социальное содержание любовной трагедии Гете показывает очень ясно, хотя и сдержанно. После столкновения с аристократическим обществом посольства Вертер уезжает в деревню. Здесь читает он то замечательное место из Гомера, где рассказывается как вернувшийся на родину Одиссей дружески беседует со свинопасом. В ночь самоубийства последняя книга, которую читает Вертер, — это "Эмилия Галотти" Лессинга, наиболее революционное произведение предшествующей немецкой литературы.
Итак, "Страдания молодого Вертера" — один из лучших романов в мировой литературе, ибо Гете сумел вложить в изображение любовной трагедии всю жизнь своей эпохи, со всеми ее конфликтами.
Но именно поэтому значение "Вертера" выходит далеко за пределы его эпохи. Престарелый Гете сказал однажды Эккерману: "Эпоха Вертера, о которой так много говорилось, если всмотреться ближе, принадлежит не определенной стадии развития мировой культуры, а жизненному развитию каждого отдельного человека, который с врожденными его природе свободными наклонностями должен найти себе место и приспособляться к гнетущим формам существования в устарелом мире. Разбитое счастье, разрушенная деятельность, неудовлетворенное желание — это несчастья не какой-либо особой эпохи, но каждого отдельного человека, и было бы плохо, если бы каждому не приходилось хоть раз в своей жизни переживать такую эпоху, когда Вертер воспринимается так, как будто он написан специально для него".
Может быть Гете несколько преувеличивает "вневременный" характер "Вертера", поскольку изображенный конфликт является конфликтом личности и общества в рамках буржуазного строя. Но не в этом дело. Прочитав во французском журнале "Globe" рецензию, в которой его "Тассо" назван "преувеличенным Вертером", старик Гете с воодушевлением примкнул к этой оценке. Французский критик правильно указал те нити, которые связывают "Вертера" и позднейшие сочинения Гете. В "Тассо" проблемы "Вертера" представлены в преувеличенном виде, подчеркнуты более энергично, но именно поэтому конфликт получает менее чистое разрешение. Вертер погибает вследствие противоречия между человеческой личностью и буржуазным обществом, но он погибает трагически, не загрязняя своей души компромиссом с дурной действительностью буржуазного строя.
Трагедия "Тассо" ближе к выдающимся романам XIX в., поскольку решение конфликта здесь более напоминает компромисс, чем трагическое столкновение. Линия "Тассо" становится лейтмотивом романов XIX в. от Бальзака до новейшего времени. О целом ряде героев этих романов можно сказать, что они также являются "преувеличенными Вертерами". Они погибают вследствие тех же конфликтов, что и Вертер. Но их гибель носит менее героический, менее славный характер; она более загрязнена компромиссами и капитуляциями. Вертер лишает себя жизни именно потому, что он ничем не хочет, пожертвовать из своих гуманистически-революционных идеалов. В подобных вопросах он не знает компромиссов. И эта трагическая непреклонность озаряет его гибель той сияющей красотой, которая и теперь еще придает особое обаяние этой книге.
Красота, о которой мы говорим, не только результат гениальности молодого Гете. Она является следствием более глубоких причин. Хотя герой произведения Гете погибает вследствие универсального конфликта с буржуазным обществом, он, тем не менее, сам является продуктом раннего героического периода буржуазного развития. Подобно тому как деятели французской революции шли на смерть, исполненные героических иллюзий своего времени, так юный Вертер расстается с жизнью, не желая расстаться с героическими иллюзиями буржуазного гуманизма.
Биографы Гете единогласно утверждают, что великий немецкий писатель очень скоро преодолел свой вертерианский период. Это несомнению так. Дальнейшее развитие Гете выходит далеко за пределы прежнего горизонта. Гете пережил распад героических иллюзий революционного периода и, несмотря на это, сохранил в своеобразной форме гуманистические идеалы своей молодости, изобразил их конфликт с буржуазным обществом более полно, широко и всесторонне.
И все же — живое чувство ценности того жизненного содержания, которое заложено в "Вертере", он сохранил до самой смерти. Гете преодолел Вертера не в том вульгарном смысле, который отстаивает буржуазная история литературы, не так, как поумневший и примирившийся с действительностью буржуа преодолевает свои "увлечения молодости". Когда через пятьдесят лет после появления "Вертера" Гете должен был написать к нему новое предисловие, он создал первое стихотворение "Трилогии страстей", полное меланхолического отношения к герою его молодости:
Zum Bleiben ich, zum Scheiden du, erkoren, Giingsit du voran — und hast nicht viel verloren.Эта грусть престарелого Гете яснее всего выражает диалектику преодоления "Вертера". Развитие буржуазного общества вышло за пределы цельного и чистого трагизма Вертера. Великий реалист Гете никогда не оспаривает этого факта. Глубокое понимание смысла действительности всегда остается основой его поэзии. Но в то же время он чувствует свою утрату, чувствует что потеряло человечество вместе с падением героических иллюзий более ранней эпохи. Он сознает, что сияние этой эпохи, раз навсегда ушедшей в прошлое, образует бессмертную красоту его "Вертера", как сияние утренней зари, за которой последовал восход солнца — Первая французская революция.
"Вильгельм Мейстер"
"Вильгельм Мейстер" — самый значительный из романов, написанных на грани XVIIII и XIX вв. Это произведение заключает в себе черты обоих столетий. Не случайно, что окончательный текст романа относится к 1793–1795 гг., т. е. к тому времени, когда революционный кризис, разделяющий обе эпохи, достиг своего кульминационного пункта.
Правда, начало работы над созданием романа относится к значительно более раннему времени: его основная концепция сложилась уже к 1777 году. В 1785 году 6 книг "Театральных посланий Вильгельма Мейстера" были уже написаны. Эта первая редакция романа была утрачена и нашлась по счастливой случайности только в 1910 г. Она дает возможность выяснить то новое, что мы находим в окончательном варианте романа "Ученические годы Вильгельма Мейстера".
Первая редакция выдержана в духе молодого Гете. В центре этого произведения, так же как в "Тассо", стоит проблема отношения писателя к буржуазному миру; бунтарство Вертера здесь одновременно ослабевает и углубляется.
В первом наброске полностью господствует проблема театра и драмы. Театр знаменует собой освобождение поэтической души от прозаической узости буржуазного мира. Гете говорит о своем герое: "Разве сцена не должна стать для него одним из тех мест исцеления, где он в любую погоду мог бы удобно, словно под крышей, с изумлением созерцать мир как на ладони, разглядывать как в зеркале свои переживания и будущие деяния, образы своих друзей, братьев, героев и во всем своем блеске расстилающееся перед ним великолепие природы?"
В позднейшей редакции эта проблема расширяется до противоречия между гуманистическим воспитанием человеческой личности и буржуазным обществом. Решившись отдаться искусству, Вильгельм Мейстер ставит вопрос следующим образом: "Что пользы мне фабриковать хорошее железо, раз моя душа полна шлаков? И к чему мне приводить в порядок имение, когда я нахожусь в разладе с самим собою?" Он убежден в том, что полное развитие всех его способностей при существующих общественных условиях может дать только театр. Театр, драматическое творчество являются, следовательно, только средством для свободного и полного развития человеческой личности.
Этому взгляду вполне соответствует то обстоятельство, что "Ученические годы" выходят далеко за пределы театра и что театр для Вильгельма Мейстера отнюдь не становится призванием, а остается только переходным моментом.
Описанию театральной жизни, заполняющему в первой редакции все изложение, здесь отведена только первая часть романа. Более зрелый Вильгельм Мейстер рассматривает театральную жизнь лишь как временное заблуждение, как обходный путь к цели. Новая редакция более широка и заключает в себе картину общества. В "Вертере" эта картина показана лишь сквозь призму мятежного субъективного восприятия героя. "Театральные послания" в смысле изображения буржуазного мира много объективнее, но ограничиваются изображением только тех общественных сил и типов, которые прямо или косвенно связаны с театром и драмой. Переход к объективному изображению всего буржуазного общества происходит у Гете только в окончательном тексте "Ученических лет". Необходимо отметить, что этому произведению предшествовала небольшая сатирическая эпопея "Рейнеке Лис" (1793); этот шедевр, в котором Гете дает широкую ироническую картину возникающего буржуазного общества.
Тем самым театр становится лишь частью рассматриваемого целого. Гете черпает из первой редакции многое: большинство образов, схему действия, целый ряд отдельных сцен и т. д. Но с истинно художественной беспощадностью удаляет он из первой редакции все, что необходимо было только с точки зрения центрального значения театра. (Постановка драмы, написанной Вильгельмом Мейстером, и вообще подробное описание его поэтического развития, разбор французского классицизма и т. д.) Одновременно с этим многие моменты, имеющие в первой редакции лишь эпизодическое значение, углубляются и энергично выдвигаются на передний план. Сюда относится, прежде всего, постановка "Гамлета" и в связи с этим обсуждение вопроса о Шекспире.
Этим, казалось бы, еще сильнее подчеркивается значение театра и драмы. Но так только кажется, ибо вопрос о Шекспире выходит для Гете далеко за пределы театра. Шекспир для него — великий воспитатель всесторонне развитой личности, воспитатель человеческого достоинства. Его драмы дают образцы того, как происходило развитие личности в великие гуманистические периоды и как должно происходить оно в позднейшую эпоху. Постановка Шекспира на тогдашней сцене — это компромисс поневоле. Вильгельм Мейстер все время чувствует, как далеко выходит Шекспир за обязательные условные рамки. Стремления Вильгельма направлены к тому, чтобы по возможности спасти в Шекспире самое в существенное. Таким образом, кульминационный пункт театральных устремлений Вильгельма Мейстера — постановка "Гамлета" — превращена в отчетливое доказательство того положения, что театр и драма, поэзия вообще- только одна сторона, только часть огромного комплекса проблем развития личности, гуманизма.
Со всех точек зрения театр рассматривается здесь, как переходный этап. В "Театральных посланиях" любое изображение общества еще имело отношение к сцене. Критика узости буржуазной жизни давалась с точки зрения творческих стремлений Вильгельма Мейстера; дворянство изображалось с точки зрения меценатства и т. д. Наоборот, в окончательной редакции Ярно следующим образом увещевает Вильгельма, когда тот с раздражением говорит о своем разочаровании в театре: "…знаете ли вы, друг мой… что вы описали не театр, но весь мир, что я мог бы вам найти во всех сословиях немало лиц и поступков, подобных тем, которые вы нарисовали суровыми мазками вашей кисти". Это относится, конечно, не только ко второй половине романа, но и к переработке его театральной части. Так, непосредственно после появления "Ученических лет" выдающийся критик Фридрих Шлегель писал о сцене в замке: "Из чистого гримасничанья его (актера. — Г. Л.) через огромную пропасть сословных различий милостивым взором приветствует граф; барон своей духовной ограниченностью, баронесса своей нравственной пошлостью не уступят никому; сама графиня не более как обаятельный предлог для оправдания щегольства; и эти дворяне, если не говорить об их сословии, только тем предпочтительнее актеров, что пошлость их более основательная".
Осуществление гуманистического идеала в этом романе снова и снова показывает, говоря словами Шиллера, что: "Когда дело доходит до чего-нибудь чисто человеческого, происхождение и сословие вновь отбрасываются и сходят совсем на нет; это так и должно быть, на этот счет незачем терять лишних слов".
Изображение различных сословий и типов всегда исходит у Гете из этой основной точки зрения. Поэтому критика буржуазии не является здесь только критикой ее специфически немецкой мелочности, но в то же время и критикой капиталистического разделения труда, чрезмерной специализации, уничтожения целостности человеческой личности. Мещанин, говорит Вильгельм Мейстер, не может быть общественной личностью. "Бюргер может отличаться заслугами и, в крайнем случае, образовать свой ум, но личность его погибнет, как бы он там ни старался. Он не должен спрашивать: кто ты такой, а только: что ты имеешь? Что ты знаешь и что ты можешь, какое у тебя состояние?.. Он должен развить в себе отдельные способности, чтобы стать пригодным к чему-либо, и уж заранее предполагается, что в его натуре нет и не может быть никакой гармонии, ибо, чтобы сделать себя пригодным для чего-нибудь одного, он должен пренебречь всем остальным".
Отсюда, как это ни странно, происходит у Гете то "возвеличение дворянства", которое постоянно подчеркивает буржуазная история литературы. Верно, что Вильгельм Мейстер пространно говорит о том, что дворянское происхождение и образ жизни уничтожают препятствия для свободного и полного развития личности, те препятствия, которые присущи буржуазной среде. Но для Гете дворянство имеет значение только, как трамплин, как благоприятное условие для развития личности. И даже Вильгельм Мейстер — не говоря уже о самом Гете — ясно видит, что прыжок с этого трамплина вовсе не является чем-то вполне естественным и легким, что эти условия ни в коем случае сами собой не превращаются в действительность.
Наоборот. Гуманистическая критика общества направлена не только против капиталистического разделения труда, но и против сужающей, уродующей человеческую сущность сословной ограниченности. Покидая графский замок, Вильгельм Мейстер говорит о дворянстве: "Кому унаследованные богатства доставили совершенно беззаботное существование… тот большей частью привыкает видеть в этих благах самое главное и самое великое в жизни; достоинства человека, богато, одаренного природой, не так ему заметны. Отношения знатных к людям более низкого происхождения и друг к другу измеряются внешними преимуществами; позволяют они каждому красоваться своим титулом, положением, одеждой и обстановкой, но только не своими заслугами".
Правда, во второй части дворянское общество представляется уже совсем иначе. В особенности это относится к Лотарио и Наталии, в которых Гете воплощает свой гуманистический идеал. Оттого, быть может, эти фигуры и вышли много бледнее, чем те, которые изображены не столь совершенными. Но на примере жизненного пути Лотарио Гете показывает, каково должно быть использование тех возможностей, которые дает для всестороннего развития личности дворянское происхождение и полученное по "наследству состояние. Лотарио объездил весь свет, а в Америке участвовал в освободительной войне на стороне Вашингтона; вступив во владение своими поместьями, он ставит себе целью добровольно ликвидировать феодальные привилегии. Развитие действия во второй половине романа идет все время в том же направлении. В конце романа заключаются браки, являющиеся с сословной точки зрения "мезальянсами", браки между представителями дворянства и бюргерства. Поэтому Шиллер прав, усматривая здесь доказательство "ничтожности" сословных границ в свете гуманистического идеала.
Переработка первой редакции приносит с собой не только этот совершенно новый мир гуманизированного дворянства и слившегося с ним бюргерства, но захватывает также и первую часть — театральную. В первой редакции Филина является не слишком значительной, второстепенной фигурой. Во второй редакции ее образ углубляется. Это — единственная фигура в романе, обладающая стихийной, естественной человечностью и гармонией. Гете набросал ее образ реалистически, наделив ее чертами хитрости и умения приспособляться. Но это лукавство соединено у Филины с верным природным инстинктом: она никогда не изменяет себе, при всем ее легкомыслии она никогда не калечит, не обезображивает себя. И весьма интересно, что свое глубочайшее восприятие жизни, свое отношение к природе и человеку Гете вкладывает именно в уста Филины.
Когда спасенный Филиной Вильгельм хочет отослать ее, она высмеивает его моральную щепетильность; "Ты дурак, — говорит она, — и никогда не поумнеешь. Я лучше знаю, что хорошо для тебя. Я останусь здесь и с места не тронусь. На благодарность мужчин я никогда не рассчитывала, в том числе и на твою, и если я люблю тебя, то что тебе до этого?"
Подобным же образом, но с совершенно другой окраской, углубляется образ Варвары, старой сводницы, служанки первой возлюбленной Вильгельма — Марианны. В первых сценах ее несимпатичные черты проявляются резче и выразительнее. Однако в той сцене, где она сообщает Вильгельму о смерти Марианны, обвинение, бросаемое ею обществу, вынуждающему бедняков к моральному падению и губящему их, подымается до подлинного трагического величия.
Осуществление гуманистического идеала дает определенную меру для оценки отдельных классов и становится движущей силой и критерием действия всего романа.
У Вильгельма Мейстера и ряда других персонажей книг Гете осуществление этого идеала является более или менее осознанным мотивом поведения. Конечно, этого нельзя сказать о всех фигурах романа. Большинство из них действует из эгоистических побуждений, они преследуют свои более или менее значительные личные выгоды. Но то, как показано у Гете достижение этих целей или неудача, повсюду теснейшим образом связано с осуществлением гуманистического идеала.
Гете изображает в своем романе клубок переплетающихся между собой жизненных путей. Он рисует гибель одних, безвинную или заслуженную; он изображает людей, чья жизнь проходит как пустоцвет; он показывает фигуры, у которых специализация, обусловленная капиталистическим разделением труда, развивает, доводя до карикатурности, одну какую-нибудь черту, калеча все остальное в их человеческом образе; он показывает и тех, чья жизнь, лишенная связующего центра, утрачивается бесцельно. При всей этой путанице характеров и положений в центре внимания всегда остается человек, осуществление и развитие его личности. Само собой разумеется, что это гуманистическое мировоззрение не является персональной собственностью Гете. Напротив, оно господствует во всей европейской литературе со времен Возрождения, оно является центром всей литературы просветительной эпохи. Но особенность романа Гете заключается в том, что проблема развития человеческой личности вполне сознательно, с подчеркиванием ее философски-эмоционального характера, все время выдвигается в качестве центральной, что она становится сознательной, движущей силой всего воссозданного им мира образов. Гете показывает нам на примерах развития конкретных людей в конкретных обстоятельствах то осуществление идеала всесторонне развитой личности, о котором грезили Ренессанс и Просвещение и которое в буржуазном обществе всегда остается утопией. Произведения эпохи Возрождения и XVIII в. создавали образы определенных людей, которые в особо благоприятных условиях достигали многостороннего развития личности. В других случаях эти произведения вполне сознательно переносили читателя в царство утопической гармонии (Телемское аббатство у Рабле). Только в романе Гете мы находим конкретное изображение положительного идеала буржуазной революции в применении к человеческому характеру. (На первый план выдвигается действенная сторона осуществления этого идеала и его общественный характер. По мнению Гете личность человека может развиваться только в действии. А действие всегда означает активное взаимодействие людей внутри общества. Реалист Гете не может сомневаться в том, что буржуазное общество его времени и особенно жалкая, неразвитая Германия очень далеки от осуществления этого идеала. Реалистическое изображение буржуазного общества отнюдь не оправдывает веру в гуманистический идеал всесторонне развитой личности. С другой стороны, Гете с величайшей ясностью и глубиной ощущает, что идеал этот все же является необходимым продуктом развития общества. Как бы ни было враждебно гуманистическому идеалу буржуазное общество, он все же вырос на его собственной почве и в культурном отношении этот идеал является самым ценным из всего, что породило развитие капитализма.
Соответственно этой противоречивой основе своей общественной концепции Гете создает своего рода "островок" внутри буржуазного мира. Было бы поверхностно усматривать в этом только бегство от повседневной жизни. Конечно, в буржуазном мире изображение гуманистического идеала необходимо должно заключать в себе известные элементы утопии, т. е. бегства от действительности. Ни один писатель-реалист не в состоянии соединить осуществление этого идеала с изображением нормального хода вещей в буржуазном обществе. Однако "островок", созданный Гете, — это группа деятельных, действующих в обществе людей. Жизненный путь каждого из них вырастает из действительных общественных основ. И даже тот факт, что эти люди сходятся и объединяются, нельзя назвать голой выдумкой. Намеренная стилизация ограничивается тем, что этому соединению Гете придает определенные (правда, иронически преодолеваемые) твердые формы, что этот "островок" он пытается представить, как общество внутри общества, как зародыш постепенного перерождения всего буржуазного мира. Позднее великий утопический социалист Фурье мечтал о том, что если бы легендарный миллионер дал ему возможность основать один фаланстер, то это привело бы к распространению социализма по всей земле.
Добиться того, чтобы созданный Гете "островок" действовал убеждающе можно было лишь путем, конкретного изображения человеческого развития. Мастерство Гете проявляется в том, что гуманистический идеал нигде не облечен у него в завершенную форму утопии, но всегда выполняет весьма определенные действенные и психологические функции, как элемент дальнейшего подъема определенных людей на определенных поворотных пунктах их личного развития.
Это вовсе не означает исключения сознательного взгляда в будущее. Наоборот, Гете в этом отношении является последовательным продолжателем Просвещения; он приписывает исключительное значение сознательному руководству человеческим развитием, воспитанию; очень тонко и сдержанно, несколькими короткими сценами он дает понять, что развитие Вильгельма Мейстера с самого начала находится под таинственным наблюдением и определеннным образом направляется.
Правда, это воспитание своеобразное: оно стремится совершенствовать людей, развивающих все свои свойства свободно и самопроизвольно. В жизни человека Гете ищет единства планомерности и случая, сознательного руководства и свободной самопроизвольности во всех поступках людей. Поэтому в романе все время проповедуется ненависть к идее фаталистической покорности. Поэтому в романе воспитатели непрерывно подчеркивают презрение к моральным "заповедям". Не рабски подчиняться навязанной морали должен человек, но становиться общественным человеком на основе свободной органической самодеятельности, должен уметь сочетать разностороннее развитие своей индивидуальности с интересами и счастьем ближних.
Соответственно этому центральным моментом романа является идеал "прекрасной души". Впервые ясно выступает этот идеал в названии 6-й книги: "Признания прекрасной души". Однако тот, кто захочет увидеть идеал самого Гете в образе канониссы, совершит глубокую ошибку. Для Гете "прекрасная душа" — это гармоническое соединение сознательного воздействия и самопроизвольности, светской активности и гармонично построенной внутренней жизни. Канонисса, напротив, это чисто субъективная, углубленная в себя до крайности натура, как и большинство образов первой части, как сам Вильгельм Мейстер, как Аврелия. Их искания образуют в романе прямой и односторонний контраст по отношению к пустому практицизму какого-нибудь Вернера, Лаэрта и даже Зерло. Поворот в развитии Вильгельма Мейстера состоит именно в отходе от чистого погружения во внутреннюю жизнь, которое с точки зрения Гете, как и с точки зрения Гегеля в "Феноменологии духа", абстрактно и бесплодно. Правда, критическое отношение к образу канониссы дается у Гете очень сдержанно и тонко. Но уже самое место "Признаний" в общей композиции романа, то обстоятельство, что они появляются в момент кризиса прежнего, чисто субъективного развития Вильгельма, в момент трагической гибели Аврелии до известной степени показывает направление критики Гете. В конце "Признаний" Гете высказывается уже довольно ясно: аббат, являющийся воплощением принципа воспитания, держит юных родственников канониссы — Лотарио, Наталию и др. — вдали от нее, следит за тем, чтобы они не могли попасть под ее влияние. И только в таких образах, как Лотарио и Наталия, только в том, к чему стремится сам Вильгельм Мейстер, воплощается характер действительно "прекрасной души", преодолевающей противоречие между двумя крайностями: погружением в собственный внутренний мир, с одной стороны, и светской активностью, с другой.
Но эта образная полемика Гете направлена не только (против двух указанных крайностей; роман провозглашает также борьбу за преодоление романтических тенденций. Той новой поэзии жизни, поэзии гармоничного, активно созидающего жизнь человека, которую так страстно мечтал осуществить Гете, угрожает проза капитализма. Идеал гуманности противостоит обыденной жизни. Но Гете осуждает не только прозу буржуазной действительности, но и слепое восстание против нее. Фальшь романтического ухода в мир мечтаний состоит, по мысли Гете, именно в ее беспочвенности. Этой беспочвенности присуща соблазнительная поэтическая сила непосредственного стихийного восстания против прозы буржуазной жизни. Именно благодаря этой непосредственности она лишь соблазнительна, но не плодотворна; она не является преодолением прозы, а только проходит мимо нее, оставляет ее в стороне и тем самым дает этой прозе процветать без всякой помехи.
Весь роман заполнен преодолением бесплодной романтики. Стремление Вильгельма к театру — вот первый этап этой борьбы. Романтика религии в "Признаниях прекрасной души" — второй этап. Через все повествование проходят бесприютные, романтические образы Миньоны и арфиста, как в высшей степени поэтическое олицетворение романтики. В одном из писем к Гете Шиллер делает очень тонкое замечание по поводу полемической окраски этих образов: "Как хорошо задумано то, что практически чудовищное, патетически страшное в судьбе Миньоны и арфиста вы выводите из теоретически чудовищного, из порождений рассудка… Только в чреве глупого суеверия может быть выкована та чудовищная судьба, которая преследует Миньону и арфиста". Соблазнительная красота этих образов является причиной того, что большинство романтиков проглядели тонко выраженную полемику Гете против немецкого романтизма, и "Вильгельм Мейстер" стал прообразом для многих романтических романов. Только наиболее последовательный в своем мышлении Новалис ясно понял антиромантическую тенденцию романа Гете и ожесточенно боролся против нее. Приведем несколько весьма характерных замечаний Новалиса по поводу "Вильгельма Мейстера": "Это в основе своей противная и неумная книга… по духу своему в высшей степени непоэтическая, как бы поэтично ни было изображение… Экономическая сущность — вот что в конце концов остается… Поэзия же — арлекин во всем этом фарсе… Герой несколько задерживает внедрение евангелия экономии… Вильгельм Мейстер, собственно говоря, Кандид, обращенный против поэзии". В этой озлобленной критике антиромантические тенденции Гете поняты во многом более правильно, чем в многочи сленных восторженных подражаниях образам Миньоны и арфиста.
Новалис пытается поэтически преодолеть "Вильгельма Мейстера", т. е. написать роман, в котором поэзия жизни одержала бы действительную победу над прозой. Его роман "Генрих фон Офтердинген" остался лишь фрагментом. Но и так достаточно ясно, что могло получиться в случае его завершения: туманное царство магической мистики, в котором затерялись всякие следы реального понимания мира, путешествие в страну безжизненных и бесформенных грез.
Против такого растворения действительности в грезах, в чисто субъективных представлениях или идеалах и направлена борьба гуманиста Гете. Как всякий крупный писатель, Гете в основном рисует борьбу идеалов с действительностью, борьбу за их претворение в жизнь. Мы уже видели, что решительный поворот в развитии Вильгельма Мейстера заключается именно в том, что он отказывается от чисто внутреннего, чисто субъективного подхода к миру и пробивается к пониманию объективной действительности, к деятельности в действительном мире, таком, каков он есть.
"Ученические годы Вильгельма Мейстера" — это роман воспитания человека, воспитания для практической деятельности в мире. Впоследствии эту идею воспитания человека для действительной жизни поставил в центр своей теории романа Гегель. "Это романтическое начало есть не что иное, как рыцарство, которое снова приобрело серьезное значение и действительное содержание. Случайность внешнего бытия превратилась в прочный, обеспеченный порядок буржуазного общества и государства. Так что теперь полиция, суды, войско, государственное управление стали на место химерических целей, которые выдвигал перед собой рыцарь. Тем самым, изменяется и рыцарство действующих в новых романах героев. Они в качестве индивидов, с их субъективными целями любви, чести, честолюбия или с их идеалами улучшения мира, противостоят существующему порядку и прозе действительности, которая со всех сторон ставит на их пути препятствия". Гегель подробно изображает, возникающие на этой почве конфликты и приходит к следующему заключению: "Однако эта борьба в современном мире есть не более, как ученические годы, воспитание индивида на существующей действительности и в этом приобретает она свой истинный смысл. Ибо завершение этих ученических лет состоит в том, что субъект приходит к необходимости остепениться; он проникается в своих желаниях и мнениях существующими отношениями и их разумностью, вступает в сцепление обстоятельств в мире и завоевывает себе в нем соответствующее положение".
Совершенно очевидно, что Гегель намекает здесь на роман Гете. И действительно, его рассуждения касаются самого существа "Ученических лет Вильгельма Мейстера". Но эти рассуждения возникли на почве иной, гораздо более развитой ступени буржуазного общества, той ступени борьбы между поэзией и прозой, когда победа прозы была уже решена, и осуществление человеческих идеалов должно было представляться совсем иначе. Для произведений реалистической литературы первой половины ХIХ века, — включая сюда позднейшие романы Гете — "Избирательное сродство" и "Страннические годы Вильгельма Мейстера", — гегелевский взгляд на соотношения между поэзией и прозой, идеалом и действительностью является совершенно правильным.
Но "Ученические годы Вильгельма Мейстера" заключают в себе еще совершенно иное воззрение на результат борьбы между поэзией сердца и прозой действительной жизни.
Создатель "Ученических лет" верит не только в идеалы гуманизма, коренящиеся в самых сокровенных основах природы человека. Он верит и в то, что, хотя осуществление этих идеалов затруднительно и требует долгого времени, оно все же возможно. Правда, Гете периода "Ученических лет" уже видит конкретные противоречия между идеалами гуманизма и реальностью капиталистического общества, но эти противоречия не являются для него принципиально неразрешимыми.
В этом сказывается глубокое влияние французской революции. Оно сказывается на всех представителях классической философии и поэзии Германии. Еще старый Гегель писал о революции 1789 г.: "Это был великолепный восход солнца. Все мыслящие существа праздновали эту эпоху. В то время господствовали трогательные чувства, энтузиазм духа охватил весь мир, как будто бы теперь впервые настало действительное примирение божественного начала с миром".
И Гете сам в "Германе и Доротее", произведении, написанном тотчас же за "Вильгельмом Мейстером", заставляет одного очень спокойного и рассудительного человека произносить следующие слова:
Кто не сознается, как трепетало в нем весело сердце,
Как в свободной груди все пульсы забились живее
В ту минуту, когда засветилось новое солнце,
Как услыхали впервые об общих правах человека,
О вдохновенной свободе и равенстве также похвальном?
Всякий в то время надеялся жить для себя и, казалось,
Все оковы в руках эгоизма и лени, так долго
Многие страны собой угнетавшие, разом распались.
В эту годину не все ли народы равно обратили
Взоры свои на столицу вселенной, которая долго
Ею была и теперь название вполне оправдала?
Не были ль те имена провозвестников радости равны,
Самым ярко блестящим, подъятым на звездное небо?
Разом отваги, и духу, и речи прибавилось в каждом.[3]
Гете также полон веры в живительные последствия французской революции для развития человеческой личности. Отношения между гуманистическим идеалом и действительностью в "Вильгельме Мейстере" определяются именно этой верой. Правда, Гете не верит в плебейские методы самой французской революции; он их отрицает резко и безоговорочно. Но у него это вовсе не означает отрицания общественного и человеческого содержания буржуазной революции. Наоборот, именно в эту эпоху его вера в способность человечества к возрождению становится сильнее, чем когда-либо в его жизни. Идея воспитания а "Вильгельме Мейстере" — это раскрытие тех методов, с помощью которых дремлющие силы каждого отдельного человека пробуждаются к плодотворной деятельности, к такому познанию действительности и к такому противоречию с ней, которые "способствуют воспитанию личности.
Аббат, истинный носитель идеи воспитания в "Вильгельме Мейстере", наиболее ясно высказывает эту концепцию Гете: "Только все люди создают человечество и только все силы в своей совокупности — мир. Силы эти часто приходят между собой в столкновение; они стремятся друг друга уничтожить, и этим природа сдерживает их и вновь воссоздает", Гете делает последовательные выводы из этого понимания сущности человека и связи человеческих страстей с историческим развитием. Он говорит устами сельского священника: "Долг воспитания людей не в том, чтобы предостерегать от заблуждений, а в том, чтоб руководить заблуждающимися, даже дать ему выпить полную чашу своего заблуждения: вот мудрость наставника. Кто лишь отведал заблуждений, тот долго тянется к ним и радуется им как редкому счастью; но тот, кто выпил эту чашу до дна, сознает свое заблуждение, если он не безумный".
Тот взгляд, что свободное развитие человеческих сил, под влиянием правильного, а не насилующего их руководства, должно привести к гармонии личности и к гармоничному взаимодействию свободных людей друг с другом, является старой идеей всех великих мыслителей со времен Ренессанса и эпохи Просвещения. В очень узких границах свобода человеческого развития осуществляется и при капитализме, в т. наз. "свободной конкуренции" раннего буржуазного строя. Освобождение экономической деятельности от оков феодального общества нашло свое рациональное выражение в экономических системах физиократов и классиков. Однако в практическом и в теоретическом воплощении той части гуманистического идеала, которая осуществима в условиях буржуазного общества, яснее всего проявляется противоречие между свободой человеческого развития и социально-экономической основой буржуазного строя. Признание неразрешимости этого противоречия заполняет великую реалистическую литературу более позднего времени — произведения Бальзака и Стендаля. Это противоречие теоретически формулируется Гегелем в последние годы его жизни. Попытки разрешить или уничтожить это противоречие чисто логическим путем и создать в соответствии с этим "гармонию личности", приспособленную к миру капиталистической свободной конкуренции, приводят к лживой апологетике и пустому академизму XIX в.
Но этим не исчерпываются возможные позиции по отношению к вышеочерченной проблеме. Сознание все более растущей остроты противоречий приводило к попыткам утопического разрешения этой проблемы. Попытки такого рода связаны с более или менее ясным требованием социалистической перестройки общества, как предпосылки гармоничного развития человеческих способностей, порождающего богатство полноценной личности. Фурье является самым значительным представителем этого направления. С большим упорством и настойчивостью он снова и снова повторяет, что нет таких человеческих страстей, которые сами по себе были бы плохи или вредны. Существовавшее до сих пор общество не было в состоянии осуществить гармоническое взаимодействие страстей. И социализм, по мнению Фурье, в первую очередь должен заботиться об осуществлении этой гармонии.
Разумеется, у Гете утопический социализм отсутствует. И всякий, кто когда-либо пытался обнаружить его в произведениях Гете, должен был притти к искажению взглядов великого писателя. Гете доходит только до глубокого сознания общественных противоречий и только в общих чертах отражает действительно существовавшие попытки разрешить эти противоречия в рамках буржуазного общества. В его поэтическом творчестве очерчены те тенденции общественного развития, которые как-то направлены в сторону осуществления гуманистического идеала. Надежда на обновление человечества, пробужденная в умах буржуазной революцией во Франции, предопределила общий характер "Вильгельма Мейстера"; она создала в воображении Гете ту малочисленную группу выдающихся людей, тот "островок", который должен стать зародышем будущего.
Противоречие, лежащее в основе этой концепции, нигде открыто не выражено в "Вильгельме Мейстере". Однако, ощущение противоречия заложено во всем художественном построении второй части. Оно выступает в исключительно тонкой и глубокой иронии, которая проникает собой всю поэтическую ткань этой части произведения.
Гуманистический идеал осуществляется у Гете путем сознательного взаимодействия группы людей, старающихся воспитывать друг друга. После всего изложенного выше, ясно, что содержание этих стремлений и надежда на их осуществление относятся к самым глубоким убеждениям Гете. Вышеприведенные рассуждения аббата являются взглядами самого Гете и находятся в тесной связи с его пониманием природы и общества. В то же самое время Гете иронически освещает эти убеждения аббата, пользуясь речами таких значительных персонажей своего произведения, как Наталия и Ярно. И отнюдь случайно, что сознательное руководство воспитанием Вильгельма со стороны общества башни Гете делает самым важным фактором действия, а с другой стороны, рассматривает это руководство, как своеобразную игру, нечто принятое обществом всерьез, но затем потерявшее в его глазах свое серьезное значение.
Этой иронией Гете подчеркивает реальный и в то же время фантастический характер осуществления гуманистического идеала в обществе его времени. Он совершенно ясно представляет себе, что в этом пункте он вынужден черпать из воображения, а не из действительной жизни. Но у него заметна глубокая уверенность в том, что он дает здесь синтез лучших тенденций человечества, которые снова и снова проявляются у самых выдающихся людей. Известная стилизация заключается у него лишь в том, что все эти тенденции он объединяет в рамках небольшого общества второй части романа, и этот утопический синтез противопоставляет остальному буржуазному обществу. Ирония служит Гете для того, чтобы снова низвести на уровень действительности стилизованный синтез этих элементов и тенденций.
Таким образом, "Вильгельм Мейстер" стоит на грани двух эпох: он выражает кризис гуманистического идеала буржуазии и начало, пока еще утопического, перерастания гуманистического идеала за пределы буржуазного общества. То, что этот кризис воспроизведен у Гете в светлых тонах завершенного искусства, изложен оптимистически, является, как мы уже видели, рефлексом французской революции. Но это сияние красок не заставляет забыть о трагической пропасти, открывшейся, перед глазами лучших представителей революционной буржуазии. По всему своему содержанию "Вильгельм Мейстер" является результатом кризиса, произведением весьма кратковременной переходной эпохи. У него было мало прямых предшественников и так же мало могло быть и действительных художественных повторений. Высокий peaлизм первой половины XIX столетия возникает уже после завершения "героического периода", после краха противоречивых надежд, связанных с этой эпохой.
Эстетика Шеллинга, возникшая в самом начале XIX в., справедливо оценивает "Мейстера", как произведение единственное в своем роде. Только "Дон Кихота" и "Вильгельма Мейстера" Шеллинг признает романами в высоком эстетическом смысле. И не без основания, поскольку в этих произведениях две переходных эпохи, два грандиозны: кризиса человеческого общества достигли своего высшего художественного выражения.
Стиль "Вильгельма Мейстера" несет на себе прямо отпечаток этого переходного характера. С одной стороны, он заключает в себе много элементов XVIII века. Из просветительного романа, из т. наз. "искусственного эпоса" предшествующей эпохи Гете воспринимает развитие действия при помощи "машинерии" (башня и прочее). Он часто связывает действие при помощи бледных приемов XVII и XVIII столетий, как неожиданно выясняющееся "недоразумение" (происхождение Терезы), искусственно придуманная "случайная встреча" и т. д.
Но более внимательно рассматривая творческие ycилия Гете при переработке "Театральных посланий" в "Годы учения", мы можем заметить развитие тех тенденций, которые позднее, в лучших романах XIX столетия стали решающими. Это в первую очередь — концентрация действия в драматических сценах, а также более тесная, приближающаяся к драме, связь лиц и событий, тенденция, которую позднее теоретически провозгласил практически воплотил Бальзак, как существенную черту современного романа в противовес романистике XVII–XVIII столетий.
Сравнивая введение таких фигур, как Филина и Миньона в "Театральных посланиях" и в "Вильгельме Мейстере", мы совершенно ясно видим драматическую тенденцию Гете. В позднейшей обработке она вовсе не является чем-то внешним. С одной стороны, Гете создает теперь более подвижные и богатые конфликтами фигуры, придает их характерам большую внутреннюю широту и большую напряженность. Напомним, хотя бы ранее набросанную заключительную сцену "Варвары". С другой стороны, Гете стремится к более концентрированному выражению самого существенного, причем это существенное становится теперь во всех отношениях более сложным, чем прежде. Поэтому он урезывает эпизодические части, а то, что от них остается, более строго и многообразно связывает основным развитием действия. Основные принципы этой переработки можно совершенно точно проследить в разговорах о "Гамлете"; в беседе с Зерло о постановке "Гамлета" на сцене Вильгельм Мейстер делает предложение сократить у Шекспира то, что по его мнению является эпизодическим.
В "Вильгельме Мейстере" заметно приближение к принципам классического реализма первой половины XIX столетия. Но только приближение. Гете хочет показать более сложные характеры и более сложные отношения между людьми, чем это делали писатели XVII и XVIII вв., чем это было намечено у самого Гете в первом варианте его произведения. Но эта сложность построения имеет еще очень мало общего с аналитическим характером реализма Стендаля и Бальзака; во всяком случае гораздо меньше, чем поздний роман Гете "Избирательное сродство".
Гете создает свои фигуры и положения с большой легкостью и все же придает им пластичность и четкость классических образов. Такие фигуры, как Филина или Миньона, намеченные немногими штрихами и в то же время достигающие высокой внешней и внутренней выразительности, трудно найти в мировой литературе. Гете творит несколько небольших, крайне насыщенных сцен, в которых проявляется все богатство этих характеров. Все эти сцены полны внутреннего действия; они имеют эпический оттенок. Тем самым открываются большие возможности для нарастания действия, и Гете рисует это нарастание очень тонкими средствами, без особого акцентирования. При всяком изменении событий он дает почувствовать скрытое богатство содержания и в зависимости от обстоятельств сознательно выдвигает какую-нибудь важную черту. Так например, после того как Филина с Фридрихом покинули труппу актеров, Гете замечает, что ее уход послужил причиной начавшегося распада труппы. До этого момента ни слова не было сказано о том, что легкомысленная Филина была связующим элементом труппы. Однако, оглянувшись назад, читатель сразу поймет, что именно легкость характера и подвижность Филины играли связующую роль в труппе актеров.
По этой способности — без всякого напряжения выдвинуть самое значительное и духовно сложное, сделать все это ощутимо ярким, незабываемым, жизненным — "Вильгельм Мейстер" является одним из высших достижений в истории повествовательного искусства. И до появления "Вильгельма Мейстера" и особенно после него общество изображалось в литературе с большей широтой и с более определенным реализмом. В этом отношении "Вильгельма Мейстера" нельзя сравнить ни с произведениями Лесажа и Дефо, ни с творчеством Бальзака и Стендаля. Однако, по сравнению с классической завершенностью искусства Гете, этой богато оживленной гибкостью композиции и отдельных характеристик Лесаж — сух, а Бальзак — запутан и перегружен.
В своей переписке Шиллер несколько раз очень тонко характеризует стилистические особенности этой единственной в своем роде книги. Однажды он написал по поводу "Вильгельма Мейстера": "Спокойно и глубоко, ясно и все же непостижимо, как природа".
Высокая творческая культура Гете покоится на его обычном, действительном понимании жизни. Изображение может быть таким нежным и мягким, таким пластическим и ясным только потому, что понимание человека и взаимоотношений людей друг с другом в самой жизни отличается у Гете глубоко продуманной, действительной культурой чувства. Ему не нужно прибегать ни к грубо чувственным, ни к псевдо-щепетильным приемам анализа, для того чтобы изобразить конфликты, возникающие между людьми, показать изменения чувств человеческих взаимоотношений. Шиллер правильно указывает на это отличие Гете от других писателей. Об осложнениях между Лотарио и Терезой, Вильгельмом и Наталией в последней книге "Мейстера" он пишет следующее: "Я не представлял себе, как это ложное взаимоотношение могло быть разрешено более мягко, тонко и благородно. Как хотелось бы, верно, Ричардсоном и всем остальным сделать из этого сцену и как они, копаясь в деликатных чувствах, были бы сугубо неделикатны".
Мастерство Гете — в глубоком охвате самых существенных особенностей людей, в выработке типически общих и индивидуально различных черт отдельных персонажей, в продуманной систематизации родства, контрастов и различных оттенков их взаимоотношения, в способности претворить все эти черты отдельных людей в живое, характерное действие. Действующие лица этого романа группируются в борьбе за осуществление гуманистического идеала вокруг двух противоположных тенденций: практицизма и мечтательности. Остановившись с особой любовью на образах Лотарио и Наталии (представляющих преодоление этих крайностей), Гете создает целую галлерею "практицистов" от Ярно и Терезы до Вернера и Мелины. В этой галлерее ни один человек не походит на другого, и без всяких комментариев совершенно непринужденно возникает целая иерархия человеческого достоинства в зависимости от степени приближения личности к гуманистическому идеалу. В этом способе изображения, недоступном даже лучшим представителям европейского реализма, как бы ни превосходили они Гете в других отношениях, заключается непреходящее достоинство "Вильгельма Мейстера". Это достоинство делает роман Гете исключительно ценным для нас, поскольку единство спокойной гармонии и чувственной выразительности является одной из великих задач, которые должен решить социалистически реализм.
"Гиперион" Гельдерлина
Слава Гельдерлина-слава поэта высокого эллинского идеала. Всякий, кто читал произведения Гельдерлина, знает, что его понимание античности носит иной, более темный, более проникнутый идеей страдания характер, чем светлая утопия, созданная Возрождением и просветительной эпохой. Это свидетельствует о более позднем характере его мировоззрения. Однако эллинство Гельдерлина не имеет ничего общего с академическим классицизмом XIX столетия или с позднейшим грубо модернизированным эллинством Ницше. Ключ к пониманию Гельдерлина — в своеобразии его взгляда на греческую культуру.
Маркс с неподражаемой ясностью вскрыл общественную основу преклонения перед античностью в период французской революции."…Как ни мало героично буржуазное общество, для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, междоусобная война и битвы народов. В классически строгих преданиях Римской республики борцы за буржуазное общество нашли идеалы и искусственные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии"[1].
Германия эпохи Гельдерлина еще далеко не созрела для буржуазной революции, но в головах ее передовых идеологов уже должно было вспыхнуть пламя героических иллюзий. Переход от века героев, от идеала республики, возрожденного Робеспьером и Сен-Жюстом, к прозе капиталистических отношений осуществляется здесь чисто идеологически, без предшествующей революции.
Три молодых студента тюбингенской семинарии с восторгом встретили великие дни освобождения Франции. Они с юношеским воодушевлением сажали дерево свободы, плясали вокруг него и клялись в вечной верности идеалу освободительной борьбы. Эта троица — Гегель, Гельдерлин, Шеллинг — представляет в дальнейшем три возможных типа развития немецкой интеллигенции в связи с развитием революционных событий во Франции. Жизненный путь Шеллинга теряется подконец в обскурантизме романтической реакции начала 40-х годов. Гегель и Гельдерлин не изменили своей революционной клятве, но различие между ними все же очень велико. Они представляют собой два пути, по которым могла и должна была пойти подготовка буржуазной революции в Германии.
Оба друга не успели еще овладеть идеями французской революции, как в Париже уже скатилась с эшафота голова Робеспьера, начался термидор и после него наполеоновский период. Выработка их миросозерцания должна было осуществляться на основе этого поворота в революционном развитии Франции. Но с термидором яснее выступило на первый план прозаическое содержание идеальной античной формы — буржуазное обществo со всей его неизменной прогрессивностью и всеми отталкивающими сторонами. Наполеоновский период во Франции еще сохранил, хотя и в измененном виде, оттенок героизма и вкус к античности. Он поставил немецких буржуазных идеологов перед двумя противоречивыми фактами. С одной стороны, Франция была светлым идеалом национального величия, которое могло расцвести только почве победоносной революции, а с другой стороны- хозяйничание французского императора привело Германию в состояние глубочайшего национального унижения. В немецких странах отсутствовали объективные условия для буржуазной революции, которая была бы в состоянии противопоставить стремлениям Наполеона революционную защиту отечества (подобно тому, как Франция 1793 г. защищалась от интервенции). Поэтому для буржуазно-революционных стремлений к национальному освобождению создавалась неразрешимая дилемма, которая должна была привести немецкую интеллигенцию к реакционной романтике. "Все войны за независимость, которые в то время велись против Франции, — говорит Маркс, — носили двойственный характер: возрождения и реакции в одно и то же время"[2].
Ни Гегель, ни Гельдерлин не примкнули к этому реакционному романтическому течению. В этом их общая черта. Однако их отношение к ситуации, сложившейся после термидора, диаметрально противоположно. Гегель строит свою философию, исходя из завершения революционного периода буржуазного развития. Гельдерлин не вступает в компромисс с буржуазным обществом, он остается верен старому демократическому идеалу греческого полиса и терпит крушение, сталкиваясь с действительностью, которая изгоняла подобные идеалы даже из мира поэзии и философии.
И тем не "менее, философское примирение Гегеля с действительным развитием общества сделало возможным дальнейшее развитие философии в сторону материалистической диалектики (созданной Марксом в борьбе с идеализмом Гегеля).
Наоборот, непримиримость Гельдерлина привела его в трагический тупик: неведомый и неоплаканный, пал он, защищаясь от мутной волны термидорианства, как поэтический Леонид, верный античным идеалам якобинского периода.
Гегель отошел от республиканских взглядов своей юности и пришел к восхищению перед Наполеоном, а затем к философскому прославлению прусской конституционной монархии. Это развитие великого немецкого философа- общеизвестный факт. Но, с другой стороны, вернувшись из царства античных иллюзий в мир действительный, Гегель сделал глубокие философские открытия; он разгадал диалектику буржуазного общества, хотя она выступает у него в идеалистически искаженной, поставленной на голову форме.
Завоевания классиков английской экономической мысли впервые входят у Гегеля в общую диалектическую концепцию мировой истории. Якобинский идеал равенства имуществ на основе частной собственности исчезает, уступая место циничному признанию противоречий капитализма в духе Рикардо. "Фабрики, мануфактуры основывают свое существование именно на нищете определенного класса", — так пишет Гегель после своего поворота к буржуазной действительности. Античная республика, как идеал, подлежащий осуществлению, сходит со сцены. Греция становится далеким прошлым, которое никогда больше не вернется.
Историческое значение этой позиции Гегеля заключается в том, что он понял движение буржуазии как целостный процесс, в котором революционный террор, термидорианство и наполеоновская империя являются последовательными моментами развития. Героический период буржуазной революции становится у Гегеля невозвратимым прошлым так же, как античная республика, но таким прошлым, которое было совершенно необходимо для возникновения будничного буржуазного общества, признанного отныне исторически прогрессивным.
Глубокие философские достоинства тесно переплетены в этой теории с преклонением перед господствующим порядком вещей. И тем не менее, обращение к действительности буржуазного общества, отречение от якобинских иллюзий было для Гегеля единственной дорогой к диалектическому истолкованию истории.
Гельдерлин неизменно отказывается признать правильность этого пути. Кое-что из развития общества в период упадка французской революции отразилось и в его мировоззрении. В т. наз. франкфуртский период развития Гегеля, в период его "термидорианского поворота", оба мыслителя снова жили и работали вместе. Но для Гельдерлина "термидорианский поворот" означает только устранение аскетических элементов эллинского идеала, более решительное подчеркивание Афин, как образца, в противовес сухой спартанской или римской добродетели французского якобинства. Гельдерлин продолжает оставаться республиканцем. В его позднем произведении герой отвечает жителям Агригента, предлагающим ему корону: "Не время ныне выбирать царя". И проповедует, — конечно, в мистических формах — идеал полного революционного обновления человечества:
Что обрели, что почитали,
Что передали предки вам, отцы, -
Закон, обряд, божеств предавних имя, -
Забудьте вы. К божественной природе,
Как новорожденные, взоры ввысь!
Эта природа — природа Руссо и Робеспьера. Это мечта о восстановлении законченной гармонии человека с обществом, которое стало второй природой, восстановление гармонии человека с природой. "Что было природой — стало идеалом", — говорит Гиперион Гельдерлина в духе Шиллера, но с большим революционным пафосом.
Этим именно идеалом, который был когда-то живой действительностью, природой к является для Гельдерлина эллинство.
"Некогда вышли народы из гармонии детей, — продолжает Гиперион, — гармония духов будет началом новой всемирной истории".
"Все за одного и один за всех!" — таков общественный идеал Гипериона, бросающегося в революционную борьбу за вооруженное освобождение Греции от турецкого ига. Это — мечта о национальной освободительной войне, которая в то же время должна сделаться войною за освобождение всего человечества. Примерно так же надеялись на войны французской республики радикальные мечтатели великой революции, как Анахарсис Клоотс. Гиперион говорит: "Пусть впредь никто не узнает народ наш по одному только флагу. Все должно обновиться, все должно в корне стать иным: удовольствие — исполненным серьезности, и труд — веселья. Ничто, самое ничтожное, повседневное, не смеет быть без духа и богов. Любовь, ненависть и наш каждый возглас должны отчуждать от нас пошлость мира, и даже мгновение не смеет, хотя бы раз, напомнить нам о низменном прошлом".
Итак, Гельдерлин проходит мимо ограниченности и противоречий буржуазной революции. Поэтому его теория общества теряется в мистике, мистике спутанных предчувствий действительного общественного переворота, действительного обновления человечества. Эти предчувствия гораздо более утопичны, чем утопии отдельных мечтателей дореволюционной и революционной Франции. В неразвитой Германии Гельдерлин не видел даже простых зачатков, зародышей тех общественных тенденций, которые могли бы вывести его за пределы буржуазного горизонта. Его утопия чисто идеологична. Это — мечта о возвращении золотого века, мечта, в которой предчувствие развития буржуазного общества соединяется с идеалом некоего действительного освобождения человечества. Любопытно, что Гельдерлин постоянно борется с переоценкой роли государства. Это особенно резко бросается в глаза в "Гиперионе". А между тем его утопическая концепция государства будущего в основе своей недалека от представлений первых либеральных идеологов Германии, как Вильгельм Гумбольдт.
Краеугольным камнем возрождения общества может быть для Гельдерлина только новая религия, новая церковь. Такого рода обращение к религии (при полном разрыве с религией официальной) весьма характерно для многих революционных умов этого времени, желавших углубить революцию, но не нашедших реального пути к этому углублению. Наиболее яркий пример — культ "Высшего Существа", введенный Робеспьером.
Гельдерлин не мог избежать этой уступки религии. Его Гиперион хочет ограничить пределы государственной власти и при этом грезит о возникновении новой церкви, которая должна стать носительницей его общественных идеалов. Типичный характер этой утопии подтверждается тем, что она в определенное время появляется и у Гегеля. После своего "термидорианского поворота" Гегель так же был охвачен идеей новой религии, "в которую входит бесконечная боль и вся тягость ее противоположности, которая, однако, снимается нетронутой и чистой, если возникнет свободный народ и если для разума возродится вновь его реальность, как нравственный дух, который найдет смелость на собственной почве и из собственного величия принять свой чистый образ".
В рамках подобных представлений разыгрывается драма Гипериона. Исходным пунктом действия является попытка восстания греков против турок в 1770 году, которая осуществилась с помощью русского флота. Внутреннее действие романа создает борьба двух направлений в осуществлении революционной утопии Гельдерлина. Герой войны Алабанда, которому приданы черты Фихте, представляет тенденцию вооруженного восстания. Героиня романа, Диотима, — тенденцию идейно-религиозного, мирного просвещения; она хочет сделать из Гипериона воспитателя своего народа. Конфликт оканчивается сперва победою воинственного принципа. Гиперион присоединяется к Алабанде, чтобы подготовить и провести вооруженное восстание[3]. На предостережение Диотимы- "Ты победишь и забудешь, во имя чего побеждал" — Гиперион отвечает: "Рабская служба убивает, но правая война делает каждую душу живой". Диотима видит трагический конфликт, заключающийся в этом для Гипериона, т. е., в конце концов, для Гельдерлина: "Твоя переполненная душа повелевает тебе. Не последовать за ней — часто погибель, но и последовать за ней-доля равная". Катастрофа наступает. После нескольких победоносных стычек повстанцы занимают Мизистру, прежнюю Спарту. Но после захвата в ней происходят грабежи и убийства. Гиперион разочарованно отворачивается от повстанцев. "И подумать только, что за несообразнейший проект: создать Элизиум при помощи банды разбойников!"
Вскоре после этого повстанцы терпят решительное поражение и рассеиваются. Гиперион ищет смерти в битвах русского флота, но тщетно.
Это отношение Гельдерлина к вооруженному восстанию не было новостью в Германии. Покаянное настроение Гипериона является повторением отчаяния шиллеровского Карла Моора в конце "Разбойников": "Двое таких людей, как я, могли бы уничтожить все здание нравственного мира". Отнюдь не случайно, что эллинизирующий классик Гельдерлин до самого конца своей сознательной жизни высоко ценил юношеские драмы Шиллера. Он обосновывает эту оценку композиционными анализами, но настоящая причина заключается в его духовном родстве с Шиллером. Однако, наряду с этой близостью, следует выделить и различия между ними. Молодой Шиллер в ужасе отшатнулся не только от суровости революционных методов, но точно так же-от радикального содержания революции. Он опасается, как бы во время переворота не обрушились нравственные основы мира (буржуазного общества). Гельдерлин этого вовсе не боится: он не чувствует себя внутренне связанным с какой бы то ни было видимой формой проявления общества. Он надеется именно на полный переворот — переворот, при котором от современного ему состояния общества не осталось бы ничего. Гельдерлин в ужасе отступает перед революционной стихией, он боится решительности революционного метода, полагая, как всякий идеалист, что применение силы может только увековечить старые общественные условия в новой форме.
Это трагическое раздвоение было для Гельдерлина непреодолимо, ибо оно вытекало из классовых отношений Германии. При всех исторически необходимых иллюзиях насчет возрождения античности революционные якобинцы во Франции черпали свои порывы, свою энергию из связи с плебейскими элементами революции. Опираясь на массы, они могли — разумеется очень кратковременно и противоречиво — бороться с эгоистической низостью, и трусостью и корыстолюбием французской буржуазии и двигать буржуазную революцию дальше плебейскими методами. Антибуржуазная черта этой плебейской революционности очень сильна в Гельдерлине. Его Алабанда говорит о буржуазии: "Вас не спрашивают, хотите ли вы. Вы ведь никогда не хотите, вы, рабы и варвары! Вас и улучшать никто не собирается, ибо это ни к чему бы не привело. Мы позаботимся только о том, чтобы убрать вас с победного пути человечества".
Так мог говорить парижский якобинец 1793 г. при шумном одобрении плебейской массы. Подобное настроение в Германии 1797 г. означало безнадежную оторванность от реальной общественной обстановки: здесь не было такого общественного класса, к которому могли быть обращены эти слова. После крушения майнцского восстания Георг Форстер мог, по крайней мере, отправиться в революционный Париж. Для Гельдерлина не было родины ни в Германии, ни вне Германии. Нет ничего удивительного в том, что путь Гипериона после крушения революции теряется в безнадежной мистике, что Алабанда и Диотима гибнут благодаря крушению Гипериона; нет ничего удивительного в том, что следующее большoe произведение Гельдерлина, оставшееся в виде фрагмента, трагедия "Эмпедокл", имеет темой жертвенную смерть.
Реакция с давних пор цепляется за это мистическое разложение миросозерцания Гельдерлина. После того как официальная немецкая история литературы в течение долгого времени трактовала творчество Гельдерлина как небольшой эпизод, побочное течение романтики (Гайм),
его снова "открыли" в империалистический период, для того чтобы использовать в интересах реакции. Дильтей делает из него предшественника Шопенгауэра и Ницше. Гундольф уже различает у Гельдерлина "первичное" и "вторичное" переживание.
"Вторичное переживание"-это, разумеется, все ревoлюционное, все "обусловленное только временем", не имеющее отношения к существу вопроса. Существенное- это "орфическая мистика". В изображении Гундольфа от Гельдерлина также ведет путь к Ницше и через Ницше — к "обожествлению тела" у Стефана Георге. Трагический образ одинокого немецкого якобинца становится у Гундольфа предвосхищением паразитической философии упадочной буржуазии; элегия Гельдерлина, воспоминании о потерянной политической и духовной свободе растворяется якобы в оранжерейной декадентской лирике Стефана Георге[4].
Дильтей и Гундолъф воображают, что раскрыть сокровенную суть творчества Гельдерлина можно, отметая "обусловленные временем" черты. Сам Гельдерлин очень хорошо знал, что элегическая черта его поэзии, его тоска о потерянной Греции, короче, то что было для него существенно в политическом отношении, всецело обусловлено временем. Гиперион говорит: "Но эта, эта боль. С ней ничто не сравнится. Она — непрестанное чувство полного уничтожения, когда жизнь наша до того теряет свой смысл, когда уже так говоришь себе в сердце своем: ты должен исчезнуть, и ничто не напомнит о тебе; ты и цветка не насадил, и лачуги не построил, чтобы иметь хотя бы право сказать: и мой след остался на земле… Довольно, довольно! Если бы я вырос с Фемистоклом, если бы жил при Сципионах, моя душа поистине никогда бы не обнаружила себя такой".
А мистика природы? А слияние природы и культуры, человека и божества в "переживании" эллинства? Так может возразить современный почитатель Гельдерлина, испытавший влияние Дильтея или Гундольфа. Мы уже указали на руссоистский характер культа природы и культа античности у Гельдерлина. В большом стихотворении "Архипелаг" (которое Гундольф избрал в качестве исходного пункта своей интерпретации Гельдерлина) греческая природа и величие выросшей из нее афинской культуры изображено с захватывающим элегическим пафосом. Однако в конце стихотворения Гельдерлин с той же патетической силой говорит о причине своей скорби следующее:
Увы! Все блуждает во мраке ночном, словно в Орке,
Род наш, не ведая бога. Прикованы люди
Роком к нуждам своим, и в дымной, грохочущей кузне
Каждый лишь слышит себя, и трудятся безумцы
Мощной рукой неустанно. Но вечно и вечно,
Словно фурий труды, бесплодны усилья несчастных[5]
Такие места у Гельдерлина не единичны. После того как борьба за свободу в Греции была подавлена и Гиперион пережил глубокое разочарование, в конце романа Гельдерлин обращается против современной ему Германии. Эта глава-гневная ода в прозе о деградации человека в жалком филистерски узком мире зарождающегося немецкого капитализма. Идеал Греции, как единства культуры и природы, является у Гельдерлина обвинением современного мира, призывом (хотя и тщетным) к действию, к разрушению этой жалкой действительности.
"Тонкий анализ" Дильтея и Гундольфа удаляет из творчества Гельдерлина всякие черты общественного трагизма и дает основу для грубо-демагогических фальсификаций фашистских "историков литературы". Молиться на Гельдерлина как на великого предтечу Третьей империи считается теперь у фашистских литераторов хорошим тоном. А между тем, доказать наличие у Гельдерлина таких воззрений, которые роднили бы его с идеологами фашизма, — задача неосуществимая. Гундольфу было легче справиться со своей задачей, так как его теория искусства для искусства позволяла ему высоко оценивать художественную форму произведений Гельдерлина и благодаря этому внутренние противоречия созданногo им фальшивого образа не сразу бросались в глаза.
Взяв за основу этот "тонкий анализ", Розенберг делает из Гельдерлина представителя германского "чисто расового" томления духа. Он пытается впутать Гельдерлина в социальную демагогию национал-социализма. "Разве Гельдерлин, — говорит Розенберг, делая демагогические выпады против капиталистов, — не страдал от этих людей уже в то время, когда они еще не властвовали над нашей жизнью в качестве всемогущих буржуа; уже тогда, когда в поисках великих душ Гипериону пришлось убедиться, что благодаря трудолюбию, науке, благодаря даже своей религии они сделались только варварами? Гиперион находил только ремесленников, мыслителей, священников, носителей разных титулов, но людей не находил; перед ним были только фабричные изделия без душевного единства, без внутренних порывов, без жизненной полноты". Однако Розенберг остерегается конкретизировать эту социальную критику Гельдерлина. Дело сводится к тому, что Гельдерлин объявляется носителем розенберговской бессмыслицы насчет "эстетической воли".
В том же духе выдержаны и позднейшие дорисовки фашистского портрета Гельдерллна. В ряде статей открывается "великий поворот" в жизни Гельдерлина: его отход от "восемнадцатого века", его обращение к христианству, а вместе с тем, к фашистски-романтической "немецкой действительности". Гельдерлин должен быть включен в романтику, специально сконструированную по фашистскому образцу, и доставлен рядом с Новалисом и Гересом. Маттес Циглер в "Национал-социалистическом ежемесячнике" изображает в качестве предшественников фашизма мейстера Экгарда, Гельдерлина, Киркегарда и Ницше. "Трагедия Гельдерлина, — пишет Циглер, — заключалась в том, что он ушел от человеческого общества, прежде чем ему было дано видеть создание новой общественности. Он остался одиноким, непонятым своей эпохой, но унес с собой веру в будущее. Он не хотел оживления древней Греции, не хотел никакой новой Греции, но обрел в эллинстве северно-героическое жизненное ядро, погибшее в Германии его времени, между тем как только из этого ядра может вырасти грядущее общество. Он должен был говорить на языке своего времени и пользоваться представлениями своего времени, и поэтому-то нам, теперешним людям, сформировавшимся в переживаниях нашей современности, часто бывает трудно понять его. Но наша борьба за создание империи — борьба за то же дело, которого не мог выполнить Гельдерлин, ибо время еще не настало". Итак, Гельдерлин — предшественник Гитлера! Трудно себе представить более дикий бред. В изображении Гельдерлина национал-социалистические литераторы идут еще дальше Дильтея и Гундольфа, делают его образ еще более абстрактным, еще более лишенным всяких индивидуальных и общественно-исторических черт. Гельдерлин немецких фашистов- это любой стилизованный в коричневом духе романтический поэт: он почти ничем не отличается от Георга Бюхнера, которого так же оболгали, превратив в представителя "героического пессимизма", в предшественника "героического реализма" Ницше-Беумлера. Фашистская фальсификация истории окрашивает всякий образ в коричневый цвет.
Гельдерлин, по существу дела, отнюдь не романтик, хотя его критика развивающегося капитализма носит некоторые романтические черты. Если романтики, начиная с экономиста Сисмонди и кончая поэтом-мистиком Новалисом, бегут от капитализма в мир простого товарного хозяйства и противопоставляют анархическому буржуазному строю упорядоченное средневековье, то Гельдерлин критикует буржуазное общество с совершенно иной сто роны. Как и романтики, он ненавидит капиталистическое разделение труда, но, по мнению Гельдерлина, самым существенным моментом в деградации человека, с которой следует бороться, является потеря свободы. И эта идея свободы имеет тенденцию выйти за пределы узко понятой политической свободы буржуазного общества. Различие в тематике между Гельдерлином и романтиками — Греция против средневековья — является, таким образом, различием политическим.
Погружаясь в праздничные таинства древней Греции, Гельдерлин скорбит об утерянной демократической общественности. В этом он идет не только рука об руку с молодым Гегелем, но следует, в сущности, по пути, проложенному Робеспьером и якобинцами. В большой речи, служившей как бы введением к культу "высшего существа", Робеспьер говорит: "Истинный священник Высшего Существа-природа; его храм-вселенная; его культ- добродетель; его праздники — радость великого народа, соединенного перед его очами, чтобы теснее связать узы всеобщего братства и чтобы предложить ему почитание чувствительных и чистых сердец". В той же речи он ссылается на греческие празднества как на прообраз этого демократически-республиканского воспитания освобожденного народа.
Конечно, мистические элементы поэзии Гельдерлина выходят далеко за пределы тех героических иллюзий, которые были у Робеспьера. Эти элементы — тоска по смерти, смерти жертвенной, смерти как средства к соединению с природой. Но мистика природы у Гельдерлина также не целиком реакционна. В ней постоянно проглядывает руссоистско-революционный источник. Kaк идеалист Гельдерлин поневоле должен был стремиться возвысить социально обусловленный трагизм своих стремлений до степени космического трагизма. Однако его идея жертвенной смерти носит ясно выраженный пантеистический, антирелигиозный характер. Прежде чем Алабанда идет на смерть, он говорит: "…Если меня создала рука горшечника, то пусть он и разбивает свой сосуд, как ему заблагорассудится. Но то, что там живет, то не зарождено, то уже в семени своем божественно по природе, то превыше всякой мощи, всякого искусства и потому нерушимо, вечно". Жизнь его "не бог создал".
Почти то же самое пишет Диотима в своем прощальном письме к Гипериону о "божественной свободе, которую дает нам смерть". "Если бы я даже обратилась в растение, разве уж так велика беда? Я буду существовать. Как могла бы я исчезнуть из сферы жизни, где всех животных соединяет та же общая для всех вечная любовь? Как могла бы я выпасть из связи, которая скрепляет все существа?"
Если современный читатель хочет обрести исторически правильную точку зрения на немецкую натурфилософию начала XIX века, то он никогда не должен забывать, что это была эпоха открытия диалектики природы (конечно, в форме идеалистической и абстрактной). Это — период натурфилософии Гете, молодого Гегеля и молодого Шеллинга. (Маркс писал об "искренней юношеской мысли Шеллинга"[6]). Это — период, в котором мистика есть не только мертвый балласт, сохранившийся от теологического прошлого, но часто, в почти неотделимой форме, — идеалистический туман, который окутывает еще не найденные, смутно угаданные пути диалектического познания. Как в начале буржуазного развития, в эпоху Ренессанса, в материализме Бекона упоение новым познанием принимает чрезмерные и фантастические формы, так обстоит дело и в начале XIX столетия, с расцветом диалектического метода. То, что Маркс говорит о философии Бекона ("Материя улыбается своим поэтическим, чувственным блеском всему человеку. Но изложенное афористической форме учение Бэкона еще полно теологической непоследовательности"[7]) относится — mutatis mutandis — и к нашему периоду. Сам Гельдерлин принимает активное участие в первоначальной разработке диалектического метода. Он не только товарищ юности, но и философский попутчик Шеллинга и Гегеля. Гиперион говорит о Гераклите, и гераклитово "в себе самом различенное единство" является для него исходным пунктом мышления. "Это-сущность красоты, и до того, как оно было найдено, не существовало никакой красоты". Таким образом, для Гельдерлина философия также тождественна с диалектикой. Конечно, с диалектикой идеалистической и еще теряющейся в мистике.
Эта мистика выступает у Гельдерлина особенно резко, ибо она имеет для него существенную задачу: преобразовать трагизм его положения в нечто космическое, указать выход из исторической безвыходности этого положения- путь к осмысленной гибели. Однако эта теряющаяся в мистическом тумане перспектива также является общей чертой его эпохи. Смерть Гипериона и Эмпедокла не более мистична, чем судьба Макарии из "Страннических лет Вильгельма Мейстера" Гете, чем судьба Луи Ламбера и Серафиты у Бальзака. И подобно тому как этот мистический оттенок, не отделимый от творчества Гете и Бальзака, не может устранить высокий реализм этого творчества, точно так же мистика жертвенной смерти у Гельдерлина не устраняет революционного характера его поэзии.
Гельдерлин — один из глубочайших элегиков всех времен и народов. В своем определении элегии Шиллер говорит: "В элегии скорбь должна вытекать только из одушевления, пробужденного идеалом". Со строгостью, может быть слишком прямолинейной, Шиллер осуждает всех представителей элегического жанра, которые грустят только об участи частного человека (как Овидий). В поэзии Гельдерлина судьба отдельного человека и общества сливается в редко встречающуюся трагическую гармонию. Гельдерлин во всем в своей жизни потерпел крушение. Он не сумел подняться над материальным уровнем домашнего учителя и далее в качестве домашнего учителя Гельдерлин не мог создать себе сносного существования. Как поэт он, несмотря на благожелательное покровительство Шиллера, несмотря на похвалу самого значительного критика того времени, А. В. Шлегеля, остался в неизвестности, Его любовь к Сюзетте Гонтар окончилась трагическим отречением. Как внешняя, так и внутренняя жизнь Гельдерлина была настолько безнадежна, что многие историки видели нечто фатально-необходимое даже в сумасшествии, которым закончилось его жизненное развитие.
Однако скорбный характер поэзии Гельдерлина не имеет ничего общего с жалобой на неудачно сложившуюся личную жизнь. Неизменное содержание его жалоб образует контраст однажды утраченного, но подлежащего революционному возрождению эллинства-с мизерностью немецкой современности. Скорбь Гельдерлина — это патетический обвинительный акт против его эпохи. Это — элегическая печаль об утраченных революционных иллюзиях "героического периода" буржуазного общества. Это — жалоба на безысходное одиночество личности, которое создается железной необходимостью экономического развития общества.
Пламя французской революции погасло. Но историческое движение еще могло порождать пламенные, души. В Жюльене Сореле Стендаля революционный огонь якобинской эпохи еще живет так же, как в образах Гельдерлина. Хотя в мировоззрении Стендаля безнадежность носит совершенно иной характер, хотя образ Жюльена не элегическая жалоба, а тип человека, борющегося против общественной низости эпохи Реставрации при помощи средств лицемерных и макиавеллистических, все же социальные корни этой безнадежности здесь те же самые Жюльен Сорель также не идет дальше псевдогероической жертвенной смерти, и после жизни, полной недостойного лицемерия, швыряет, наконец, в лицо ненавистному обществу свое презрение возмущенного плебея. В Англии запоздалые якобинцы — Китс и Шелли — выступили как сторонники элегически окрашенного классицизма. В этом отношении они ближе к Гельдерлину, чем Стендаль. Жизнь Китса имела много родственных черт с судьбою Гельдерлина, но у Шелли новое солнце пробивается сквозь мистический туман и элегическую меланхолию. В самом большом из своих поэтических фрагментов Китс оплакивает судьбу титанов, поверженных новыми низменными богами. Шелли также воспевает эту теогонию? — борьбу старых и новых божеств, борьбу Прометея против Зевса. Узурпаторы — новые боги — терпят поражение, и свобода человечества, восстановление "золотого века", открывается торжественным гимном. Шелли — поэт восходящего солнца пролетарской революции. Его освобождение Прометея — призыв к восстанию против капиталистической эксплоатации:
Пусть твой посев тиран не жнет,
Плод рук твоих к плутам нейдет.
Тки плащ и сам его носи ты.
Куй меч, но для самозащиты.
Около 1819 года это поэтическое провидение было возможно в Англии для революционного гения, подобного Шелли. В Германии конца XVIII века оно не было возможно ни для кого. Противоречия внутреннего и всемирно-исторического положения Германии толкали немецкую буржуазную интеллигенцию в болото романтического обскурантизма; "примирение с действительностью" Гете и Гегеля спасло от гибели лучшее из революционного наследия буржуазной мысли, хотя во многих отношениях в приниженной и измельченной форме. Напротив, героическая непримиримость, лишенная революционной почвы, должна была завести Гельдерлина в безнадежный тупик. Действительно, Гельдерлин единственный в своем роде поэт, у которого не было и не могло быть никаких последователей, — однако, вовсе не потому, что он недостаточно гениален, а потому что положение его было исторически неповторимым. Какой-нибудь позднейший Гельдерлин, не сумевший подняться до уровня Шелли, уже не был бы Гельдерлином, а только ограниченным "классиком" в либерально-гимназическом духе. В "Переписке 1843", помещенной в "Немецко-французских ежегодниках", Руге начинает свое письмо знаменитой жало-бой Гельдерлина по адресу Германии. Маркс отвечает ему: "Ваше письмо, мой дорогой друг, хорошая элегия, надрывающая душу надгробная песнь; но политического в нем нет решительно ничего. Никакой народ не отчаивается, и пусть народ долгое время надеется просто по глупости, все же когда-нибудь, после долгих лет, он осуществит, в момент внезапного просветления, все свои благочестивые пожелания"[8].
Похвала Маркса может быть отнесена к Гельдерлину, ибо Руге в дальнейшем только плоско варьирует его афоризмы, а порицание относится ко всем, кто пытался возобновить элегический тон поэзии Гельдерлина после того как оправдывающая причина — объективная безнадежность его позиции — была упразднена самой историей.
У Гельдерлина не могло быть никаких поэтических последователей. Позднейшие разочарованные поэты XIX столетия (в Западной Европе) жалуются на свою личную судьбу, гораздо более мелкую. Там, где они скорбят о жалком характере всей современной им жизни, их скорбь лишена глубокой и чистой веры в человечество, с которой она неразрывно связана у Гельдерлина. Этот контраст высоко поднимает нашего поэта над общераспространенной ложной дилеммой XIX столетия, он не принадлежит к категории плоских оптимистов, но в то же время его нельзя отнести и к отчаявшимся. В стилистическом отношении Гельдерлин избегает академического объективизма, и в то же время он свободен от импрессионистической расплывчатости. Его лирика лишена дидактической сухости, но недостаток мысли, свойственный "поэзии настроения", не принадлежит к порокам Гельдерлина. Лирика Гельдерлина — лирика мысли. Якобинский идеал греческой республики и жалкая буржуазная действительность — обе стороны противоречия этой эпохи, — живут в его поэзии реальной, чувственной жизнью. В мастерской поэтической обработке этой темы, темы всей его жизни, заключается непреходящее величие Гельдерлина. Он не только пал как мученик революционной мысли на (покинутой баррикаде якобинства, но превратил свое мученичество в бессмертную песнь.
Роман "Гиперион" также обладает лирико-элегическим характером. Гельдерлин меньше рассказывает, чем жалуется и обвиняет. Однако буржуазные историки, без всякого основания, находят в "Гиперионе" такое же лирическое разложение повествовательной формы, как в "Генрихе фон Офтердингене" Новалиса. Гельдерлин и в стилистическом отношении не является романтиком. Теоретически он не принимает шиллеровской концепции античного эпоса, как "наивного" (в противоположность новой "сентиментальной" поэзии), но по тенденции он движется в том же направлении. Революционная объективностъ является его стилистическим идеалом. "Эпическое, по видимости наивное стихотворение, — пишет Гельдерлин, — героично по своему значению. Это метафора великих стремлений". Итак, эпический героизм приводит только к порыву, из великих стремлений может быть создана только элегическая метафора. Эпическая полнота переходит из мира действенной жизни в мир чисто духовный. Это следствие общей безысходности мировоззрения поэта. Однако внутреннему действию-борьбе душевных движений- Гельдерлин придает высокую чувственную пластику и объективность. Крушение его попытки создать большую эпическую форму также героично: "воспитательному роману" Гете, в духе примирения с действительностью, он противопоставляет "воспитательный роман" в духе героического сопротивления ей. Он не хочет "поэтизировать" прозу мира, как это делают романтики Тик или Новалис, в противовес "Вильгельму Мейстеру" Гете; немецкой парадигме классического буржуазного романа он противопоставляет набросок романа гражданской добродетели. Попытка эпически изобразить "гражданина" французской революции должна была кончиться неудачей. Но из этой неудачи вырастает своеобразный лирико-эпический стиль: это стиль резкой критики вырождения буржуазного мира, утратившего прелесть "героических иллюзий" — стиль, полный объективной горечи. Роман Гельдерлина, наполненный действием только в лирическом или даже только в "метафорическом" смысле, стоит, таким образом, одиноко в истории литературы. Нигде нет такого чувственно-пластического, объективного изображения внутреннего действия, как в "Гиперионе"; нигде лирическая установка поэта не внедряется так далеко в повествовательный стиль, как здесь. Гельдерлин не выступал против классического буржуазного романа своего времени, как Новалис. Несмотря на это, он противопоставляет ему совершенно иной тип романа. Если "Вильгельм Мейстер" органически вырастает из социальных и стилистических проблем англо-французского романа XVIII века, то Гельдерлин является в некотором смысле продолжателем Мильтона. Мильтон сделал неудачную попытку перенести идеальную гражданственность буржуазной революции в мир пластических форм, соединить христианскую мораль с греческим эпосом. Пластика эпоса разрешилась у Мильтона великолепными лирическими описаниями и лирико-патетическими взрывами. Гельдерлин с самого начала отказывается от невозможного — от стремления создать действительный эпос на буржуазной почве: он с самого начала ставит своих героев в круг повседневной буржуазной жизни, хотя бы и стилизованной. Благодаря этому его стоический "гражданин" не лишен некоторой связи с миром буржуазии. Хотя идеальные герои "Гипериона" и не живут полнокровной материальной жизнью, все же Гёльдерлин приближается к пластическому реализму больше, чем любой из его предшественников по изображению революционного "гражданина". Именно личная и общественная трагедия поэта, превратившая героические иллюзии якобинства в скорбную жалобу о погибшем идеале, создала вместе с тем и высокие преимущества его поэтического стиля. Никогда душевные конфликты, изображенный буржуазным писателем, не были так далеки от чисто субъективных, узко личных мотивов, не были так близки к современной им общественной обстановке, как в этом произведении Гельдерлина. Лирико-элегический роман Гельдерлина, несмотря на его неизбежную неудачу, является объективным гражданским эпосом буржуазной эпохи.
Трагедия Генриха Фон Клейста
Творчеством Клейста начался современный период немецкой литературы — период ее нисходящего развития.
Клейст жил и творил, непонятый своими современниками. Его литературная слава начинается сравнительно поздно и достигает апогея в эпоху империализма. В это время он становится — по крайней мере для литературно образованных кругов буржуазной интеллигенции-самым популярным и самым "актуальным" из классиков. Особенно драмы Клейста признаются образцовыми и все более вытесняют драматическое наследие Шиллера.
Уже Гундольф говорит о Клейсте, как о подлинно немецком драматурге, как о поэте, который стал драматургом, непосредственно подчиняясь своему изначальному инстинкту, а не в итоге сложного, обходного развития (как Лессинг, Гете и Шиллер). Фашистская журналистика развизвивает эту оценку: драматург Клейст становится в ее изображении великим антагонистом гуманизма Гете и Шиллера, становится "истинным германцем" среди драматургов, представителем дионисической силы, с помощью которой только и можно преодолеть гуманистическое господство разума.
Эта "актуализация" Клейста, даже в откровенно-реакционной форме, которую она приняла у фашистов, имеет какие-то реальные основания. В данном случае реакционные историки литературы могут обойтись при помощи меньшей фальсификации, чем в тех случаях, когда они пытаются сделать провозвестников фашистских устремлений из Гельдерлина или Бюхнера.
Франц Меринг был, вероятно, прав, когда, варьируя беглое замечание Трейчке, сказал, что Клейст "всю свою жизнь оставался прусским офицером старой школы". При этом Meринг с полным основанием подчеркивает слово "оставался". Он отрицает довольно распространенное мнение о том, что Клейст в известный период своей жизни восставал против современной ему прогнившей прусской действительности.
Итак, при первой же попытке определить литературный облик Клейста мы наталкиваемся на серьезное противоречие: лейтенант старой прусской школы является в то же время предвестником модернистских трагедий, изображающих маниакальные страсти, неизлечимое, без выходное одиночество человека в капиталистическом обществе, является предтечей варварской "дионисийской" обработки античной культуры и античного гуманизма.
При ближайшем знакомстве с личностью и судьбой Клейста это противоречие еще больше углубляется Клейст — исключительно яркий представитель романтической оппозиции со всеми ее реакционными тенденциями, направленными против классического гуманизма, развитого Шиллером и Гете (в веймарский период). Несмотря на это, Клейст остается одиноким и непонятым в такое время, когда поднимались на щит любые, самые посредственные представители романтической мысли и чувства, проповедники тупого национализма, питавшегося борьбой против Франции (Адам Мюллер, Фуке и др.). Хотя в политическом отношении Клейст занимал крайне реакционную позицию и настойчиво защищал ее в своих публицистических статьях в "Берлинер Абендблеттер" (181 1811), он и здесь оказался совершенно изолированным. Не поладив со своей семьей, презираемый ею, получая лишь весьма холодные, сопровождаемые всевозможными оговорками комплименты от своих политических союзников (романтиков Арнима, Брентано и др.), он бесславно гибнет накануне национального подъема, приводящего к "освободительным войнам".
Смерть Клейста — двойное самоубийство, совершенное им вместе с женщиной, решившейся на смерть из-за неизлечимой болезни, — подчеркивает необычайность его жизненного пути. Идея двойного самоубийства, как желанного выхода из неразрешимых противоречий, всегда играла у Клейста большую роль. Указания, относящиеся к различным периодам его жизни, свидетельствуют о том, что такое самоубийство не произошло раньше только из-за несогласия его жены Марии фон Клейст. В прощальном письме к жене он откровенно говорит, что изменил ей и пошел на смерть с другой женщиной только потому, что она, Мария, отклонила его предложение-умереть вместе.
1
Безотрадное одиночество всех людей, безнадежная непостижимость мира и всего происходящего в мире, — вот атмосфера трагедии Клейста как в жизни, так и в литературе.
Может быть сильнее всего выразил это чувство Сильвестр фон Шроффенштейн, один из персонажей его первой драмы:
Я для тебя, наверное, загадка,
Не правда ли? Утешься: бог-загадка мне.
В одном из своих писем позднейшего периода Клейст высказывает ту же мысль: "Во главе мира не может стоять злой дух; это просто дух непонятный".
При таком жизнеощущении смерть приобретает ужасный и в то же время манящий облик; для Клейста и созданных им образов — это всегда разверстая пропасть; она влечет к себе и замораживает в жилах кровь. (Впоследствии, благодаря Эдгару По и Бодлеру, это ощущение широко распространилось в мировой литературе.) Впечатление, которое производят трагические сцены Клейста, почти всегда связано с сильным и выпуклым изображением этого мироощущения.
Рассказы современников сохранили для нас одну сцену из уничтоженной ('или оставшейся незаконченной) юношеской трагедии Клейста. Австрийские рыцари играют в кости перед битвой при Земпахе. Они решают в шутку, что тот, у кого ляжет черная кость, будет убит в завтрашней битве. Первому же рыцарю ложится черная кость. Общий смех и шутки. Второму — тоже черная. Шутки становятся все принужденнее. Когда всем до одного ложатся черные кости, возникает страшное предчувствие битвы, в которой швейцарцы действительно уничтожили все рыцарское войско до последнего человека.
Сцены, подобные этой, встречаются во всех трагедиях Клейста. Так в "Hermannschlacht" германцы окружают римского полководца Бара. Бесстрашный римлянин готовится отразить натиск врагов. Вдруг в лесу появляется германская альруана, вещая дева. Приводим ту часть разговора, которая лучше всего определяет создаваемое Клейстом настроение:
Вар:…Окуда?
Альруана: Из ничего, Квинтйлий Bap!
Вар: Куда иду я?
Альруана: В ничто, Квинтилий Вар!
Вар:…Где я?
Альруана: Квинтйлий Вар, ты в двух шагах от гроба, И позади и впереди — ничто!>
Судьбы людей в изображении Клейста носят на ceбе вечную печать глубоко радикального отрицания какого бы то ни было смысла жизни, а персонажи его трагедий, не находя исхода из своего одиночества, отделенные друг от друга непроходимой пропастью, судорожно мечутся между страхом смерти и страстным влечением к ней. Именно эти черты, лежащие в основе творчества Клейста, и сделали его поэзию столь исключительно "современной" для последних десятилетий существования капиталистического мира.
Как же согласуется это мироощущение упадка с консервативным юнкерством Клейста, с тем, что он "всегда оставался офицером старой прусской школы"?
Этот вопрос, если взять его отвлеченно, кажется неразрешимым — противоречия здесь полярны и повидимому, исключают друг друга. Но, как это всегда бывает, конкретизация вопроса показывает, что в жизни самые непримиримые противоречия взаимно связаны. Хорошо известно, что даже очень глубокие потрясения, глубокие, доходящие до отчаяния душевные кризисы вовсе не обязательно меняют отношение человека к его прежней социальной основе. В тех случаях, когда этот кризис связан с религиозно окрашенным, метафизически раздутым вопросом о "смысле мироздания", он может даже при-вести к укреплению, консервированию прежних социальных устремлений человека. Так обстояло дело у Клейста.
Основное, чувство Клейста — чувство одиночества — возникло в сущности из положения человека в капиталистическом обществе, из отношения человека к этому обществу. Сам Клейст этого не понял. Но очень характерно, что наиболее выпуклые, пластические образы соз-62
даны им во время пребывания в Париже. Это изображение одиночества человека в большом городе.
"Холодно проходит каждый человек мимо другого; пробирается на улицах через толпу людей, для которых нет ничего более безразличного, чем им подобные; не успевает дойти до сознания один облик, как он уже вытеснен десятком других; человек не привязан ни к кому и никто к нему не привязан. Здесь вежливо приветствуют друг друга, но сердце здесь так же бесполезно, как легкое под воздушным колоколом, и если из него вырвется невзначай какое-нибудь чувство, оно будет заглушено, как звук флейты в бурю".
Протест чувства и мысли против этого одиночества проявляется у Клейста очень неравномерно, порывами. Как только он обращается к социальным причинам своих переживаний, в нем тотчас же усиливается слепая и бешеная ненависть ко всему новому к возникающему и в Германии миру буржуазных отношений. Он с ненавистью относится к Парижу, французской революции, Наполеону, Фихте, Смиту, Гарденбергу. Все же ненависть эта остается слепой, инстинктивной, идущей от чувства. Она неспособна расширить первоначальный кругозор Клейста, вывести его из рамок старого пруссачества. С течением времени эта ненависть даже укрепляет расшатавшиеся было связи Клейста с юнкерски-абсолютистской старой Пруссией.
В одной глубокой и тонко написанной новелле Томаса Манна русская художница Лизавета называет художника декадента Тонио Крейгера "заблудившимся обывателем". Она хочет этим сказать, что хотя все декадентски утонченные тенденции рафинированного протеста и проводят резкую грань между Крейгером и рядовым буржуа, делают его в глазах рядовых буржуа человеком чуждым, опасным и даже преступным, — все же эти самые чувства всегда и неуклонно ведут Тонио назад, к буржуазности. С таким же основанием Генриха фон Клейста можно назвать "заблудившимся старопрусским юнкером".
Эти "блуждания" начинаются у Клейста очень рано. Он стал офицером по фамильной традиции, но чувствовал себя не на месте в разлагавшейся армии Фридриха. Его не удовлетворяет ни мир, ни война. Он стремится к общению с людьми, к гармоническому примирению своих инстинктов с тем или иным мировоззрением. Само собой разумеется, в первую очередь Клейст должен был разобраться в философии Просвещения. Решающим для его развития оказалось влияние Руссо. Очень характерно, что он был одним из первых — во всяком случае в Германии- кто переработал руссоистскую критику цивилизации в недвусмысленно реакционное отрицание буржуазного общества. Правда, отрицание это имело специфически немецкие черты. Слабость немецкого Просвещения заключается в том, что оно далеко от глубокой социальной критики в духе французских просветителей и столь же далеко от атеизма французов. На место критики религии оно ставит "религию разума". На этой же почве — на почве ослабленного, в значительной мере лишенного своей остроты Просвещения, и возникает руссоизм Клейста.
Просветительные идеи имели широкое распространение в юнкерских кругах тогдашней Пруссии: мы знаем, например, что Вольтер и Гельвеции были настольными книгами любимой сестры Клейста, Ульрики. Увлечение просветительной философией, попытка во что бы то ни стало создать себе определенное мировоззрение путем страстного и беспорядочного накопления знаний резко обрывается у Клейста его знаменитым "кантианским кризисом". Чтение Канта (или, как думает Эрнст Кассирер, — Фихте) убивает в Клейсте его прежние надежды.
Реакционное "литературоведение" с особым тщанием цепляется за этот "кантианский кризис". Так, Вернер Дейбель, по примеру Пауля Эрнста, видит в Канте великую философскую помеху для создания немецкой трагедии. Кант, по мнению Дейбеля, погубил трагика в Шиллере. Но по той же теории кантианский кризис Клейста представляет собой (восстание здоровых германских инстинктов против западного, рассудочного, чуждого мировоззрения. (Приходится с большим сожалением констатировать, что некоторые антифашистские писатели, например Стефан Цвейг, а недавно и Кнут Керстен попались на эту реакционную удочку.)
Мы не ставим здесь вопрос о кантианстве во всей его широте. Укажем только, что отношение к философии Канта у Шиллера развивается в совершенно ином направлении, чем "кантианский кризис" Клейста. Шиллер пытается преодолеть субъективный идеализм в некотором подобии идеализма объективного; как теоретик он является в этом отношении предшественником Гегеля, как поэт (несмотря на всю противоположность их творческих тенденций) — соратником Гете. Для Клейста основные достоинства философии Канта-в разрушении метафизического "богопознания", особенно в его двойственной форме немецкого Просвещения.
До этого кризиса Клейст создал себе миросозерцание, основой которого была вера в своего рода переселение душ, в продолжение морального усовершенствования индивидуума после смерти. Столкновение с философией Канта разбило эти идеи. В своих письмах к сестре и невесте Клейст жалуется на возникшее в связи с этим ощущение пустоты и бесцельности.
"Мысль о том, что мы здесь, на земле, ничего, совсем ничего не знаем об истине, и то, что мы называем здесь истиной, после смерти называется совсем иначе, что поэтому стремление создать себе достояние, которое можно было бы унести с собой в гроб, совершенно бесцельно и бесплодно, — эта мысль потрясла святая святых моей души".
Речь идет о непосредственном отношении самого Клейста к вселенной, к личному божеству.
Клейст всегда с величайшей искренностью описывает возникающие перед ним проблемы. Вскоре после "кантианского кризиса" он едет со своей сестрой в Париж. В дороге происходит несчастный случай. Клейст и его сестра остаются невредимы. Вот что пишет об этом Клейст своей невесте:
"Итак, человеческая жизнь зависела от крика осла? Ну, а если бы она прервалась? Это значило бы, что я жил ради этого? Таково было намерение творца в этой темной, загадочной земной жизни? Этому должен был я в ней научиться, это совершить — и больше ничего?.. Для чего отсрочило небо конец этой жизни? Как знать!"
Из всего этого явствует, что кантианский кризис затронул только протестантизм Клейста, слегка окрашенный идеями "просвещения" (веру в непосредственную связь человеческой души с богом).
Из кризиса вырастает уже известный нам радикальный нигилизм, смесь страха смерти с жаждой смерти. Очень интересно проследить, как при всяком душевном кризисе у Клейста возникает все тот же основной вопрос, определяющий его отношение к миру, вопрос о непосредственном, абсолютном смысле реального бытия индивидуума. Клейст категорически исключает все промежуточные звенья между собой и миром, особенно социальные звенья. Ограниченно-религиозная постановка основной проблемы не меняется от того, что надежды поэта сменились полным отчаянием. Эта особенность духовного кризиса Клейста и сделала его столь популярным в новейшее время, в период глубочайшего падения идейного уровня буржуазной интеллигенции. Такие душевные кризисы — субъективно искренние, но вместе с тем детски наивные — могут казаться чем-то особенно "глубоким" только в этот период.
Мироощущение Клейста вырисовывается теперь для нас более четко. Мы видим, как он сужает проблемы современного ему гуманизма, низводя их до уровня мономанической психологии, и переживает эти псевдопроблемы с каким-то диким пафосом и религиозным пылом. Особый тон, звучащий у Клейста после кантианского кризиса, придает его идеям старание всеми способами унизить разум. Ведь разум, по мнению Клейста, не приспособлен для подлинного познания — познания смысла жизни отдельного индивидуума. Борьба с разумом приводит к прославлению бессознательного чувства и презрительному отношению ко всему осознанному: "Каждое первое движение, все непроизвольное — прекрасно; все себя осознавшее — искажено и нелепо".
Эта патетическая чрезмерность доходит у Клейста до истерии, до мономании, ибо на самом деле у него нет наивного чувства, нет действительного инстинкта. Он сознает, что чувства его все время находятся под угрозой и непрестанно борется с ней; отныне только чувство служит ему компасом в жизни, надежным путеводителем. "Не смущай мое чувство", — говорит герой его произведения Герман, когда ему предстоит принять политическое решение. Все герои Клейста, так же как и сам поэт, живут как во сне. Это дает им возможность доводить в безвоздушном пространстве своего "я", обращенного только к самому себе, свои страсти до мономании. Вместе с тем, они смутно сознают наличие внешнего мира, их не покидает страх перед пробуждением от сна и смутное предчувствие, что пробуждение это неизбежно.
Но именно эта мономания страсти укрепляет в Клейсте ветхого Адама — юнкерское пруссачество. Правда, декадентские идеи Клейста производят дикое впечатление на
людей одного с ним сословия, даже на его близких. Несомненно, однако, что в самом поэте черты декадентства, судорожного и вместе с тем окостенелого, являются патетическим превознесением инстинктов "заблудшего" прусского юнкера.
Известие о разгроме пруссаков в битве при Иене (1806) резко вторгается во внутренний мир Клейста, в котором, казалось, не было места общественным интересам. Этот разгром вызывает у Клейста новый кризис, не менее сильный, чем у других его современников. В трудное время подготовки к национальному восстанию против Наполеона реакционные инстинкты Клейста выступают со всей силой. На политические события 1806 года он отвечает яростной ненавистью ко всему французскому, бешеным и слепым национализмом.
Клейст мечтает о покушении на жизнь Наполеона. Он пишет стихи о восстании и призывает в них немецкий народ уничтожить французов, как бешеных собак, как диких зверей. Он пишет драму "Германова битва"-первое произведение, тема которого выходит за пределы изображения субъективных страстей. Это — единственная немецкая драма того времени, в которой, несмотря на всю реакционность содержания, художественно изображено страстное стремление немцев к национальному освобождению. Клейст выступает на арену публицистики, становится редактором "Берлинер Абендблеттер". В этой газете он, вместе с другими сторонниками романтически-юнкерской реакции, вместе с Людвигом Арнимом, Брентано, Адамом Мюллером, ведет борьбу против реформаторских планов Гарденберга. Он превращает свою газету в орган юнкерской фронды против реформ Штейна, Шарнгорста и Гнейзенау.
Отношение Клейста к прусской партии реформ ясно показывает реакционность его тенденций. Анализ программы, выдвинутой этой партией, не входит в задачи настоящей статьи. Но как бы противоречивы, наивны и утопичны ни были по существу планы Шарнгорста и Гнейзенау, все же реформы, которых они добились, очень умеренные и половинчатые, обеспечили единственную возможность создания прусской армии, которая впоследствии могла померяться силами с Наполеоном. Если бы победили Клейст и его товарищи, их политика неизбежно привела бы к второй Иене.
И все же для Клейста — человека и поэта — этот этап развития был большим шагом вперед. Впервые его глубоко взволновали проблемы, имеющие общественное значение, вопросы национальные, социальные. Впервые в жизни он стал членом какого-то коллектива. "Блудный сын" вернулся домой.
Правда, слово домой следовало бы также поставить в кавычки. Для настоящих помещиков — даже для своей собственной семьи — Клейст остается "пропащим литератором". Посетив после краха "Абендблеттер" свою семью, поэт пишет Марии фон Клейст, что ему легче будет десять раз умереть, чем повторить еще раз эту встречу. Для правительства, которое с помощью беспощадных цензурных мероприятий подавило юнкерскую фронду "Абендблеттер", лейтенант в отставке Клейст — просто докучливый проситель, для романтиков-соратников — озлобленный чудак. Отзывы Арнима и Брентано о Клейсте всегда очень сдержаны, похвалы скупы и сопровождаются всевозможными оговорками. При громадном поэтическом превосходстве Клейста над Арнимом и Брентано эти условные похвалы производят сейчас поистине комичное впечатление.
Клейст потерпел крушение и в личной, и в общественной жизни. Пруссия заключила союз с Наполеоном для похода против России. Партия, искавшая войны с Наполеоном, потерпела поражение.
В нашу задачу не входит отыскание "основного" из тех многочисленных мотивов, которые толкнули Клейста на самоубийство. Каждого из них в отдельности было бы достаточно для того, чтобы дальнейшая жизнь показалась Клейсту бесцельной и безнадежной.
Клейст уходил из жизни, достигнув апогея своей творческой зрелости. Его последняя драма "Принц Гомбургский" свидетельствует о дальнейшем творческом развитии. Устремления действующих лиц этой драмы имеют уже не только общенациональный характер, как это было в "Германовой битве". В форме конфликта между личностью и общество, внутри общества, Клейст впервые изображает в своей последней драме столкновение противоречивых сил. Правда, на этой вершине развития Клейста как драматурга ярче всего проявляется и его юнкерская идеология. Объективная социальная сила, которую он прославляет, — это старое пруссачество, которое привело к поражению при Иене.
2
Психологической основой всех без исключения драм и новелл Клейста является, как мы уже говорили, одиночество человека, а в результате этого одиночества — неизлечимое недоверие его персонажей друг к другу. Все произведения Клейста полны страстного, но неисполнимого стремления — преодолеть это недоверие, опрокинуть преграды, воздвигнутые солипсическим одиночеством. Но это стремление, никогда не достигающее цели, только подчеркивает общую основу произведений Клейста.
В соответствии с этим, фабула произведений Клейста строится на обмане, взаимном непонимании и самообмане. Схема развития действия всегда построена на непрестанном, весьма оригинальном и сложном разоблачении фальшивых отношений между людьми: каждое новое "разоблачение" только усугубляет путаницу, каждый шаг заводит все глубже в непроглядную чащу непонимания, и только финальная катастрофа раскрывает подлинное положение вещей, — часто совершенно неожиданно и внезапно.
В "первенце" Клейста — "Семейство Шроффенштейн"- все эти тенденции выявляются уже очень ясно, в художественно зрелой форме. От первых произведений других поэтов эта драма резко отличается именно своей художественной и особенно технической законченностью. Молодость автора сказывается только в том, что специфические проблемы драматургии Клейста предстают здесь совершенно обнаженными, без какого бы то ни было общечеловеческого, социального фона. Клейст даже не пытается создать для этих проблем какую-нибудь реальную основу. Средневековое рыцарство, кровавая распря между двумя ответвлениями семейства Шроффенштейн изображены совершенно условно; изображение сведено к литературно-техническим моментам, необходимым для развития действия.
Тематически эта драма тесно связана с "Ромео и Джульеттой" Шекспира. Но тематическое сродство особенно ярко подчеркивает оригинальность Клейста. Различие между этими произведениями сказывается уже в самом развитии действия. У Шекспира между враждующими домами существует настоящая кровавая распря: Тибальд убивает Меркуцио, Ромео — Тибальда; и убийства эти действительно находятся в тесной связи с фамильной распрей, У Клейста убийство, с которого начинается развитие действия, в действительности не является результатом борьбы двух ветвей семейства Шроффенштейн, а только представляется им таковым. Кровавая месть, возникающая на основе этого недоразумения, влечет за собой ряд таких же недоразумений, разъясняющихся только в самом конце. Только в конце драмы главы двух семей, оставшиеся в живых, видят, что не из-за чего им было бороться друг с другом, что они погубили своих детей без всякой необходимости. У Шекспира новое, гуманистическое утверждение права на индивидуальную любовь вступает в трагический конфликт с варварской кровной местью средневековья. У Клейста все сводится к изображению "рока", возникающего из хаоса непонятных и недоступных пониманию человечества страстей.
Это коренное различие сказывается и в психологии главных героев. Любовь Ромео и Джульетты-стихийная страсть, сметающая на своем пути все препятствия. Сама по себе эта любовь совершенно чиста, она приводит к трагедии только вследствие общественного конфликта. У Клейста всеобщее взаимное недоверие проникает и в психологию любящих. Они требуют друг от друга абсолютного доверия и вместе с тем отношения их окрашены непрерывным взаимным недоверием. Таков общий характер драматургии Клейста. Шекспир создает в своем произведении изумительную трагическую атмосферу: страсть любящих, как могучая, очищающая воздух гроза проносится над развалинами феодализма; индивидуальная любовная трагедия открывает безграничные, свободные горизонты развития человечества (хотя этот вывод и не изложен непосредственно в трагедии, но вытекает из нее). "Семейство Шроффенштейн" погружает нас в душную и тяжелую атмосферу, создаваемую своеобразной смесью глухих, страстных порывов и мучительной, острой и изощренной рефлексии. В этой душной атмосфере назревает гроза.
Такое построение действия приближает первую драму Клейста к весьма актуальным в его время "трагедиям рока". Буржуазные историки литературы ломают себе голову над тем, как и когда возникла "трагедия рока", можно ли причислить к подобным трагедиям "Мессинскую невесту" Шиллера и т. д. Внимательное изучение мировоззрения, лежащего в основе "трагедии рока", показывает, что оно порождено непониманием и фантастическим обобщением неумолимой закономерности общественного развития. В начальный период капитализма, когда примитивная вера в доброго бога-творца, непосредственно вмешивающегося в мирские дела, была разрушена, возникла кальвинистская мифология непознаваемого предопределения судеб человеческих, мифология сокровенного бога. В период духовного кризиса, которым питалось мировоззрение Клейста, это "мифологизированное" представление о тайнах мироздания находит свое эстетическое воплощение в так называемой "трагедии рока".
Чувство неотвратимости, слепого рока, попирающего все человеческие интересы, проявляется в форме восприятия жизни как злого обмана. Геббель правильно пишет о "Мессинской невесте": "Почему же все это происходит? Что смывается этой кровью?.. Напрасно задавать себе эти вопросы: в этом произведении судьба играет в жмурки с человеком". Это критическое замечание Геббеля можно в полной мере отнести и к драме Клейста.
Но было бы неправильно механически подводить под одну и ту же схему различные "драмы рока". Шиллер видит фатальное предопределение в том, что историческая необходимость делает человека преступным помимо его воли, даже вопреки его воле. Он прекрасно выражает это мироощущение в "Валленштейне"; только в "Мессинской невесте" абстрактное, оторванное от социальной основы развитие этой темы приводит к абсурду. Эта абсурдность, проявившаяся у Шиллера только эпизодически, в его эксперименте, каким является "Мессинская невеста", становится центральной проблемой у романтиков. Так у Захарии Вернера (мы берем наиболее значительный случай) эта бессмысленность, непостижимость рока — единственная тема творчества. Все посредствующие социально-человеческие звенья выпадают, подчинение буржуазной действительности переходит в фантастический мировой закон. Чисто внешние моменты (определение даты или вещи) намеренно превращаются в иероглифы неотвратимой судьбы.
Взгляд Клейста отличается от философии драмы Шиллера и романтиков, хотя все они имеют общую социальную основу, создающую общность некоторых эстетических моментов. Посредствующим звеном для проявления рока служит у Клейста индивидуальная психология людей. Эта концепция и делает его предшественником современной буржуазной драмы в самом непосредственном смысле. Фатализм, которым проникнуты, например, поздние драмы Стриндберга, близко подходит к удушливой атмосфере произведений Клейста.
Основные драматические проблемы "Семейства Шроффенштейн" образуют канву и позднейших драм Клейста. Повсюду сталкиваемся мы с роковыми тайнами, с неясными, темными ситуациями, которые запутываются все больше и больше вследствие взаимного, непреодолимого недоверия людей друг к другу, и неожиданно разъясняются только в момент трагической развязки. Такое развитие действия, такая психология персонажей объединяются, однако, в цельное мироощущение; психология действующих лиц и развитие сюжета не только согласованы, не только проникнуты одним настроением, но стихийно вытекают из единого чувства. Поэтому произведения Клейста представляют собой оригинальное и органическое целое.
Композиция произведений Клейста диаметрально противоположна композиционному принципу античной трагедии. Так называемые "сцены узнавания", о которых говорит Аристотель и которые позднее играют большую роль в драматургии Шекспира, всегда разъясняют неизвестные, но разумные, понятные события. Это путь из тьмы к свету, от путаницы к ясности, — хотя последний безжалостный луч освещает иногда неразрешимое трагическое противоречие. Подобная неразрешимость изображается греками и Шекспиром лишь как этап исторического развития человечества. За неразрешимыми противоречиями скрываются реальные противоречия общественного прогресса. Напротив, у Клейста каждая "сцена узнавания" заводит в еще более глухие дебри. Она может разъяснить какое-нибудь недоразумение между двумя действующими лицами, но тут же создает новое, еще более глубокое и роковое. "Сцены узнавания" раскрывают не диалектику социально-исторического развития, а только духовную пропасть, зияющую между одинокими людьми этого мира.
В большом фрагменте "Гвискар" Клейст пытается найти для своей концепции судьбы такое выражение, которое имело бы общечеловеческую и историческую значимость. Рок, грозящий Гвискару, вождю норманов, осаждающему Константинополь, — это чума. "Тайна", определяющая развитие действия, заключается в том, что сам Гвискар болен чумой, но его болезнь держится в строжайшем секрете. Клейст хотел придать своей концепции судьбы античную простоту, величие и универсальность. Сохранившиеся вводные сцены исполнены той величественной красоты, которой Клейсту не удалось достигнуть ни в одном из остальных своих произведений.
Тщетное борение с этой темой в конечном итоге привело поэта к катастрофе, к уничтожению законченной рукописи и попытке самоубийства. Возникает вопрос: не связана ли эта творческая катастрофа с самой сущностью темы?
Напомним, однако, что в "Эдипе" Софокла, который, очевидно, послужил образцом для драмы Клейста, также свирепствует чума. Но у Софокла чума является только поводом для начала действия, для создания соответствующего настроения, толчком для трагедии Эдипа, которая разворачивается в совершенно ином плане. У Клейста же именно болезнь является настоящим протагонистом героя. Так как этот противник не социальная сила, его нельзя воплотить ни в каком личном образе, вокруг него не удается создать никакого драматического действия. Гвискар борется с невидимым врагом.
Таким образом, драматическое развитие этой ситуации оказалось невозможным вследствие основной слабости миросозерцания Клейста (которую в современной Германии считают признаком особой его глубины), вследствие того, что он, совершенно не считаясь с реальными посредствующими звеньями, непосредственно противопоставляет человека судьбе, т. е. мистически фетишизированным общественным силам, перенесенным в отвлеченную сферу.
Самое желание покончить с собой после неудачной работы над "Гвискаром" ярко характеризует глубокое равнодушие к социально-историческим событиям эпохи. Будучи крайне враждебен Наполеону, Клейст добровольно хочет принять участие в подготовлявшейся тогда экспедиции французского флота против Англии и мечтает о том, чтобы связать свою смерть с грандиозной гибелью этого флота. Исторические события являются для него в это время безразличным фоном индивидуальной судьбы.
Большие драмы на тему эротической страсти, которые следуют за неудачей "Гвискара" ("Амфитрион", "Пентезилея", "Кетхен из Хейльбронна") ведут поэта все дальше по пути субъективизма. В центре драмы никогда не стоит столкновение индивидуальной страсти с какой-нибудь объективной силой. Напротив, центральное место сознательно и последовательно отводится внутренней диалектике чисто субъективных стремлений.
Со времени создания "Семейства Шроффенштейн" Клейст как художник ушел далеко вперед. Он уже не способен удовлетвориться чисто условным окружением своих героев, как в первой драме. Правда, и в "Кетхен из Хейльброина" средневековье нарисовано условными чертами, но сказочно-фантастические элементы психологии и сюжета имеют здесь совершенно иной, гораздо более живой колорит.
В двух других эротических драмах Клейст идет по новому пути, имевшему большие последствия для немецкой драмы. Чтобы получить возможность пластически, выпукло изобразить совершенно эксцентрические, доходящие до мономании страсти, Клейст создает в этих драмах "свой собственный", им самим изобретенный социальный мир. Государство амазонок в "Пентезилее" совершенно фантастично. Страсть Пентезилеи вырастает не в реальном мире, как страсти героев Шекспира и Гете. Ее страсть — порождение одинокой, замкнутой души поэта, человека, изолированного и сознательно изолирующего себя. В полной противоположности к великим поэтам прошлого Клейст искусственно сочиняет социальную среду, подходящую для изображаемой страсти и якобы объясняющую ее.
В этом отношении Клейст имеет только одного предшественника в немецкой драматургии, а именно Шиллера в "Мессинской невесте"; там в качестве фона для проявления силы рока также была создана фантастическая смесь Востока, античности и средневековья. В позднейшей немецкой драме эта искусственная среда, это извращение истинного отношения между обществом и отдельной индивидуальностью играет очень большую роль. Стоит вспомнить трагедию Геббеля "Гигес и его кольцо", "Либуссу" Грилльпарцера и т. д.
У Клейста подобная композиция возникает из стремления создать социальный фон для совершенно эксцентрической страсти. Когда декадентская психология распространилась среди широких кругов буржуазии, потребность в стилизации (по крайней мере, внешней) в известной мере отпала. Вместо фантастического царства амазонок стали изображать реально существующую среду декадентской интеллигенции, переживающей "эксцентрические" чувства, изолированно от жизни всего остального общества; внутренние проблемы жалкой личности раздувались в великие конфликты между "человеком и судьбой". Конечно, всякое произведение, которое берет из действительности только узкий мирок людей из господствующих классов и рассматривает его в отрыве от жизни народа, всегда нуждается в ложной стилизации, уводящей от подлинного реализма. В этом смысле буржуазная литература эпохи упадка всегда достаточно стилизована. Однако с внешней стороны эта стилизация становится менее заметна, так как изображенный художником "особый" мир эксцентрических чувств находит соответствующую реальность в действительной жизни капиталистического общества.
На первый взгляд здесь есть какое-то приближение литературы к действительности. Однако это только видимость: образы реальных людей декадентского пошиба изолированы от больших проблем общественной жизни в еще большей степени, чем их предшественники, искусственно созданные фантазией художника. В этих последних отражались еще извращенные, но все же серьезные жизненные вопросы, тогда как у декадентов все сводится к курьезной "специфике" отщепенцев, взятых в полном отрыве от общественной жизни. В самом общем смысле такие драмы, как "Дух земли" и "Ящик Пандоры" Ведекинда являются выродившимися и совершенно измельчавшими правнуками "Амфитриона" и "Пентезилеи" Клейста.
Для истории немецкой драмы "Амфитрион" и "Пентезилея" были поворотным пунктом еще в одном отношении. Сюжеты их заимствованы из античности, но античность эта модернизована и лишена присущего ей гуманизма. Они привносят в древность анархию чувств, характерную для эпохи нового, буржуазного варварства. Клейст является здесь предшественником тех тенденций, которые достигли своего апогея в философии Ницше, а также в драматургии империалистического периода, особенно в "Электре" Гофмансталя. (Вряд ли нужно подчеркивать, что мы говорим об "апогее" только в смысле варваризации античности. В эстетическом отношении Гофмансталь стоит несравненно ниже Клейста.)
"Пентезилея" является типическим продуктом новой фазы развития Клейста еще и в том отношении, что чисто субъективный, мономанический характер индивидуальной страсти подчеркнут здесь самым решительным и последовательным образом. Пентезилея и ее амазонки врываются, как безумный ураган, в битвы Троянской войны. Ни троянцы, ни греки не знают, за кого и против кого бьются амазонки. Во время этой бессмысленной борьбы Пентезилея отделяется от амазонок, Ахилл — от греков. Они разыгрывают свою трагедию любовной ненависти, ненавидящей любви вне времени и пространства, оторванные от своего народа, в атмосфере недоразумений и взаимного непонимания. Эта драма — грандиозный гротеск; целое войско со своими боевыми колесницами и слонами играет в ней роль простого реквизита. Пентезилея в ярости направляет свои силы против Ахилла точно так же, как доведенный до отчаяния капитан у Стриндберга бросает лампу вслед своей жене.
Клейст неоднократно подчеркивает чисто субъективный характер драматической необходимости, царящей в его пьесе. Приведем в качестве примера хотя бы тот момент, когда амазонки должны бежать от греков, но Пентезилея не хочет этого:
Мероя: Но разве бегства путь уж ей закрыт?
Верховная жрица: Закрыт,
Когда ничто ее извне не держит,
Лишь сердце безрассудное ее!
Протоя: В нем — рок ее.
Так как страсть изолирует обоих протагонистов драмы, так как оба они целиком погрузились в свою мономанию, действие — вполне в стиле Клейста! — может состоять только из целой цепи блужданий. Побежденная Пентезилея считает себя победительницей в единоборстве с Ахиллом; Ахилл готов разыграть с ней любовную сцену на основе этого обмана. Когда обман разоблачается, и гневная Пентезилея жаждет мести, слепо влюбленный в нее Ахилл думает, что поединок с Пентезилеей только внешняя форма, необходимая (во исполнение закона амазонок) для того, чтобы он, побежденный в этом поединке, мог стать счастливым супругом Пентезилеи. Но Ахилл погибает в этом поединке, а Пентезилея, очнувшаяся от кровавого дурмана, убивает себя.
Оживление патриотических чувств в период борьбы Клейста против наполеоновской Франции придает его последним драмам новый, более объективный характер: они отличаются определенным национальным содержанием. В этот период можно констатировать значительный подъем творческого развития Клейста.
Правда, "Германова битва" в основном остается драмой прежнего, но страсть главных действующих лиц уже направлена в сторону определенной национальной цели- освобождения Германии от ига римлян. Сеть ошибок и обманов, образующая канву драматического действия, приобретает благодаря этому новый характер: мы имеем здесь дело с сознательным и хитрым обманом римлян со стороны Германа, с удачно осуществленным заговором. Поэтому обычное в драмах Клейста трагическое разочарование не имеет здесь определяющего значения, оно является центральным моментом только в эпизоде между Туснельдой и Ветидием. Чрезвычайно характерно, что этот эпизод является как бы предчувствием трагедии Геббеля-Ибсена, трагедии отношений между мужчиной и женщиной, которая возмущена тем, что любимый мужчина смотрит на нее, как на "вещь". Характерна и форма, в которую выливается трагическое разочарование Туснельды. Именно потому, что этот любовный эпизод переплетается с национальной борьбой, в нем концентрируются все противоречия, отразившиеся в клейстовской поэзии: архисовременная рафинированность, диалектика чувства и доведенное до крайних пределов ужасающее утонченное варварство.
"Принц Гомбургский" — первая и единственная драма Клейста, в которой изображен конфликт между личностью и обществом. Участие в деле национального освобождения благотворно отразилось на развитии Клейста как драматурга, несмотря на то, что в этой борьбе он примыкает к партии реакционеров. Драматическая проблематика "Принца Гомбургского" находится в теснейшей связи с устремлениями прусских реформаторов, с попыткой внутреннего обновления Пруссии на основа проснувшегося национального чувства.
Однако в этой драме яснее всего проявились те последствия, которые имели для Клейста-художника его старо-прусские юнкерские взгляды. Протест против старого не имеет у Клейста действительного исторического содержания, он остается жить индивидуальным, из этого протеста вырастает лишь субъективный энтузиазм. Для партии Шарнгорста- Гнейзенау весьма характерна та смесь "возрождения и реакции", которую Маркс считает отличительной чертой всех движений, направленных против наполеоновской Франции. Их планы обновления Пруссии были противоречивы и утопичны. Но когда Гнейзенау пишет прусскому королю: "поэзия — залог устойчивости тронов", он вкладывает в эти слова вполне конкретное социально-политическое содержание. Он хочет сказать, что вызванный реформами энтузиазм сменил прежнее равнодушное отношение населения к абсолютной власти короля.
Клейст, как мы уже знаем, был противником всех этих реформ. (Личные его симпатии к Гнейзенау ее меняют дела.) Поэтому общественной средой своей драмы он! мог избрать только старую Пруссию. Но это не просто изображение старого прусского уклада исторической силы минувшего века: в конце своей драмы Клейст прославляет "Пруссию великого курфюрста" в ее неизменном виде, он приемлет ее такой, как она есть.
Этому миpy противопоставляется чисто индивидуальная, солипсически замкнутая страсть принца Гомбургского. Очень характерно для Клейста, что, давая развернутую психологическую мотивировку поступку своего героя (нарушению военной дисциплины, которое является здесь трагической виной), он не вкладывает в этот поступок никакого объективного содержания. Клейст показывает нам принца в состоянии сомнамбулического сна. Он получает приказ о начале военных действий, которого просто не слышит и, таким образом, не имеет в дальнейшем никакого представления о плане боя. (Интересно отметить, что прообразы этой сцены имеются в "Пентезилее".) Конфликт разыгрывается только в душе самого принца. Согласно концепции Клейста исход этого конфликта может быть только следующий: принц понимает абсолютную необходимость дисциплины, признает, что нарушение военного порядка с его стороны является государственным преступлением — преступлением, за которое он, по своему собственному приговору, заслужил смерть.
Итак, старая Пруссия одержала победу над индивидуалистическим бунтом чувства. Правда, Клейст находится под сильным влиянием духа времени и старается выйти из трагической ситуации при помощи компромисса. Но так как чувства героя лишены социального содержания, этот компромисс может быть только эклектическим. Неместа принца в беседе с курфюрстом ясно выражает этот характер компромисса, найденного Клейстом. Она молит о спасении принца Гамбургского:
Господствовать закон военный должен,
Но милостливых чувств нельзя забыть.
Такая концепция придает последней и самой зрелой драме Клейста характер "поучительного романа". Тема ее — воспитание в принце Гомбургском прусского духа взамен мечтательной анархии чувств. Внутренний драматизм переходного периода, определивший самую возможность возникновения этой драмы, не мог найти в ней подлинно драматического выражения, ибо Клейст не понял столкновения противоречивых социальных сил своей эпохи и свое одностороннее ощущение этого противоречия выразил только в форме этнической, приближающейся к роману.
Как ни парадоксально может показаться это утверждение в применении и прирожденному драматургу Клейсту, мы все же, хотим отметить, что развитие нашего поэта начинается с новеллы, лежащей в основе его равней драматургии, и приводит его к повествовательному стилю романа. Читатель легко уяснит себе, почему это утверждение находится в таком противоречии с господствующей в настоящее время точкой зрения на Клейста, если вспомнит, что современная буржуазная теория искусства (к сожалению, не только фашистская) совершенно не обращает внимания на важнейшие факторы драмы — столкновение противоречивых социальных сил — и сводит содержание драматического конфликта к внутренней диалектике повышенных, доведенных до крайнего предела индивидуальных страстей. В этом принято видеть более глубокий трагизм, чем в обработке чисто социальных тем.
Коренные проблемы драматургии выступают с полной ясностью лишь у таких необычайно значительных поэтов, как Клейст. Произведения его последователей не достигают такого уровня, который позволил бы провести какое бы то ни было сравнение с классической драмой прошлого. Клейст — один из величайших мастеров сцены и сценического диалога, захватывающего и ум и чувство. Только у величайших драматургов можно встретить диалоги, которые так кратко, четко и сжато освещают, словно вспышкой молнии, запутанные положения и взаимоотношения между людьми и в то же время служат развитию действия: именно таковы, например, реплики при выступлении Гвискара или при распределении боевых заданий в "Принце Гомбургском". Кроме того, Клейст обладает исключительным талантом обрисовки характеров: он с одинаковой силой изображает как величественное, так и обаятельное, как внушающее ужас, так и комическое, пользуясь при этом одинаково простыми, но отнюдь не тривиальными средствами. Для того чтобы стать новым Шекспиром, — как надеялся Виланд, — ему нехватает "только" ясности в представлениях о шире, "только" здоровой, разумной склонности к нормальному восприятию страстей, которая у великих прошлого поэтов была естественным следствием ясного и объективного мышления. В этом "только" заключен целый мир. Так, клейестовская Кетхен — один из самых прелестных и чистых образов, созданных немецкой драмой, почти такой же прекрасный, как гетевские Гретхен и Клэрхен. И только потому, что Клейст обосновывает ее поступки не нормальными, человеческими, а романтически взвинченными патологическими чувствами, образ ее в конечном итоге искажается.
Анализ этих ошибок одного из наиболее талантливых драматургов ведет к уяснению основных проблем всякой трагедии. Клейетовская трактовка страсти приближает драму к новелле: до крайности заостренный, изолированный единичный случай изображается именно как случайность. В новелле такой подход вполне закономерен, ибо задача новеллы — образно представить громадную роль случайности в человеческой жизни. Но если изображаемые события остаются и на уровне этой случайности (а Клейст намеренно усиливает случайный характер изображаемого), если эти события не проявляют свой объективно-необходимый характер и в то же время поднимаются художником до уровня высокой трагедии, то все произведение неизбежно становится неясным и противоречивым.
Произведения Клейста не могли указать верно направление последующему развитию драмы. Широкий, прямой путь драматургии идет от Шекспира через Гете и Шиллера к пушкинскому "Борису Годунову". После Пушкина, в результате духовного упадка буржуазного общества, этот вид художественного творчества не нашел достойных продолжателей (исключая Островского). Драмы Клейста представляют собой иррационалистическое отклонение от верного пути. Именно поэтому они приобрели запоздалую популярность в период упадка и стали образцом для драматургии декадентской буржуазной интеллигенции.
Замкнувшаяся в себе индивидуальная страсть разрывает органическую связь между судьбой отдельной личности и социально-исторической необходимостью. Разрыв этой связи разрушает поэтическую основу подлинно драматического конфликта. Основа драмы становится узкой и тесной: это — чисто индивидуальная, частная жизнь. В процессе своего развития Клейст научился с исключительной пластичностью придавать объективную форму внешним проявлениям своих внутренних трагедий, создавая при этом сильные драматические сцены превосходные диалоги. Но отсутствие крупного драматического конфликта не позволяет этим моментам подняться до изображения подлинной, живой исторической жизни. Только в "Принце Гомбургском" наблюдаются зачатки — и только зачатки — широкого, обобщающего изображения определенного этапа в развитии человечества.
Правда, Клейст верно показывает типичные страсти людей буржуазного общества, превратившихся, повидимому, в лишенные оков монады.
Но Клейст, так же как вся буржуазная драма последних десятилетий, проникает только в чисто психологические глубины; в социально-историческом отношении он ограничивается изображением непосредственно данной формы проявления психологических конфликтов; он не понимает и не показывает те социальные силы, которые в действительности часто без ведома индивидуальности порождают всю ее психологию.
Итак, Клейст — первый крупный драматург XIX в., который начинает придавать, драме, этому общественному роду литературы, характер par excellence частный, индивидуалистический. Его произведения являются гигантским прообразом распада жизненного содержания и художественной формы, распада, который в новейший период буржуазной литературы низводит драму на уровень жалкого декаденства.
3
Только дважды натолкнулся Клейст на такие драматические конфликты, которые заставили его включить изображаемые страсти людей в мощный поток человеческих взаимоотношений, сплетающих вокруг индивидуальной жизни огромную историческую драму. Характерно — и очень важно для уяснения облика Клейста как драматурга, — что оба эти шедевра — "Михаэль Кольхаас и "Разбитый кувшин" — не трагедии. Первое произведение — новелла, второе — комедия.
В "Михаэле Кольхаасе" Клейст, как всегда, изображает исключительную, поглощающую всего человека и ведущую его к гибели страсть. Но, во-первых, эта страсть не показана здесь как заранее данное психологическое предрасположение: ока возникает и развивается у нас на глазах, постепенно усиливаясь и доходя до безумного пафоса. Во-вторых, эта страсть с самого начала имеет социальный облик.
Действие происходит в XVI в. Некий помещик противозаконно утоняет у торговца лошадьми Кольхааса eго коней. Кольхаас добивается только того, что ему принадлежит по праву. Лишь после того как исчерпаны все способы добиться восстановления этого права мирным путем, он вступает в ожесточенную борьбу против своих врагов, олицетворяющих общественный строй, основанный на произволе и насилии. Страсть Кольхааса является вполне разумной (в духе подлинно высокой трагедии) именно потому, что она вырастает на социальной основе, а не на чисто индивидуальной почве.
Судьба Кольхааса, как и всякого подлинно трагического героя, необычайна и выходит за пределы обыденности. Психология Кольхааса в моменты наибольшего трагического напряжения развивается незаурядно. Но она никогда не становится патологической, как страсть Пентезилеи или Кетхен. Кольхаас — вполне нормальный человек, предъявляющий обществу очень скромные, очень умеренные требования. Каждый читатель без долгих объяснений понимает, как невыполнение этих требований, особенно насилия, чинимые юнкерским обществом, доводят стремление Кольхааса к самообороне до настоящей безумия.
Рассказ о трагической судьбе Кольхааса принадлежит к числу наиболее значительных произведений нового времени, темой которых является неразрешимая в буржуазном обществе диалектика справедливости. Типическое для этого общества положение таково: всякий человек должен либо беспрекословно подчиняться несправедливости и беззаконию господствующих, либо он вынужден будет стать преступником не только в глазах общества, но и в своих собственных.
Иное дело революционная борьба, но она выводит за пределы буржуазного общества.
Эту трагедию Клейст рисует на фоне Германии XVI в., изображение которой полно глубокой исторической правдивости. Как политический деятель Клейст был союзником романтиков-реакционеров; он участвовал в реакционно-романтической фальсификации истории, превращавшей феодальные взаимоотношения в гармоническую идиллию помещиков и крепостных. Однако, распад средневекового общества, показанный в "Михаэле Кольхаасе", не имеет ничего общего с социальной идиллией Фукэ или Арнима. Клейст показывает преступную грубость, варварскую хитрость и лживость помещиков. Он показывает, что все суды, все учреждения государства связаны с юнкерами и самым гнусным образом не только покрывают их преступления, но помогают их совершать. Клейст-художник догадывается даже о пределах, ограничивающих влияние духовного вождя этой эпохи Лютера. Беседа с Лютером оказывает на Кольхааса решающее влияние. Но юнкера-лютеране, невзирая ни на какие увещания самого Лютера, делают все, что им заблагорассудится. Лютеранство их внутренне не связывает, не является для них моральной уздой. Это историческая правда. Следует подчеркнуть, что в своем стремлении к исторической объективности Клейст идет совершенно самостоятельным путем: образцом для него — так же, как и для выступившего несколько позднее Вальтер Скотта-могли послужить только юношеские драмы Гете.
"Михаэль Кольхаас" — выдающаяся историческая повесть. Нельзя не пожалеть, что это мастерское произведение отчасти испорчено несколькими узко-романтическими выходками Клейста.
Буржуазные историки литературы хлопочут о том, чтобы приблизить Кольхааса к "одержимым" — героям любовных драм Клейста. Как мы уже видели, это совершенно неправильно. Вернее было бы сказать, что высокое мастерство этой новеллы в очень значительной мере определяется тем, что ее герой далеко не так дорог сердцу Клейста, как Пентезилея или Кетхен, Поэтому страсть Кольхааса не расплывается в сценической лирике, а развивается в объективных рамках событий, о которых новелла рассказывает с поразительной краткостью и мастерством. Достигнуть этого Клейсту удается именно потому, что тема Кольхааса была для него скорее интересным объективным событием, чем страстным личным переживанием. Поэтому новелла была отражением действительности в большей мере, чем выражением внутренней сущности самого Клейста. Это парадоксальное противоречие показывает нам трагедию Клейста как художника. Клейст во многом противоположен величайшим представителям мировой литературы, которым он иногда не уступает в смысле изобразительной силы. Для того чтобы ближе подойти к глубоким вопросам действительности, он должен относиться к ним с большим бесстрастием и незаинтересованностью. Самые искренние и серьезные личные переживания толкали Гете и Пушкина к проникновению в глубь действительности; наиболее интимные и личные чувства Клейста уводят его от понимания существенных сторон жизни.
Еще яснее эта картина в "Разбитом кувшине". Комедия Клейста возникла на почве совершенно иного творческого настроения, чем лирические трагедии, с их бурными и мучительными взрывами темных страстей.
Такой чуждый нам исследователь как Гундольф так же заметил, что "Разбитый кувшин" выпадает из общей цепи произведений Клейста и занимает особое место в творчестве поэта. По так как, по мнению Гундольфа, Клейсте наиболее ценно истерическое варварство, предвещающее немецкую драму декадентской эпохи, он, естественно, преуменьшает ценность этой блестящей комедии. Гундольф видит в "Разбитом кувшине; произведение, стоящее особняком, интересное только для знатоков, искусственно созданное художником для испытания "своей технической сноровки. По Гундольфу, "стилистическое упражнение на постороннюю тему…Какой общественный интерес мог представлять этот курьезный анекдот об увертках жулика-судьи, защищающегося всеми способами от позорного разоблачения!" Гундольф извращает действительное содержание комедии. Но нельзя забывать, что он по-своему очень последовательно проводит определенную точку зрения, ко-торая еще не вполне изжита даже в нашей теории литературы. Если (следуя Гундольфу) видеть в литературе только выражение индивидуальности автора или (следуя вульгарной социологии) считать литературу только выражением классовой психологии, а не отражением объективной действительности, — то нужно признать, что Гундольф прав.
С точки зрения личности Генриха фон Клейста "Разбитый кувшин" действительно является только эпизодом, только пробой творческих сил после крушения попытки создать трагедию возвышенного стиля ("Гвискар") и перед созданием драм эротической страсти ("Пентезилея" и "Кетхен"). Ни одному самому ловкому социологу не удастся объяснить "Разбитый кувшин", как выражение классовой психологии старопрусского юнкера; подобно Гундольфу, вульгарная социология также должна будет прибегнуть к чисто формалистической оценке этой комедии.
Для марксистской литературы основным предметом является само художественное произведение, рассматриваемое в его соотношении к объективной действительности. "Разбитый кувшин" — прекрасная картина Пруссии, современной Клейсту; дело нисколько не меняется от того, что автор-из политических или эстетических соображений- представил свою родину в виде патриархальной Голландии; голландский колорит играет в комедии второстепенную, чисто декоративную роль. В "Разбитом кувшине", как и в "Михаэле Кольхаасе", самое существенное- это разрушение романтической легенды об идиллическом "добром старом времени". Произвол патриархального судопроизводства в деревне, притеснение крестьян властями, глубокое недоверие крестьянина ко всему, что исходит "сверху", его уверенность в том, что насилию нечего противопоставить кроме покорности, обмана и взяток; взяток деньгами, подарками или своим телом, — все эти черты рисуют глубоко реалистическую картину тогдашней прусской деревни. Очень интересно проследить, как излюбленные Клейстом психологические мотивы приобретают в этой комедии реальное общественное содержание. В психологии героини клейстовское недоверие играет большую роль. Но это недоверие направлено не по отношению к близким, а по отношению к властям, в том числе и к "доброму ревизору", который разоблачает деревенского судью и наводит в конце концов порядок. Было бы несправедливо упрекать Клейста за эту оптимистическую развязку. Сама комедия могла возникнуть только на основе иллюзии, наличие которой обнаруживает этот оптимизм. Эти иллюзии Клейст; разделяет" с Мольером и Гоголем. "Разбитый кувшин" — , самое совершенное в художественном отношении произведение Клейста. Постепенное распутывание клубка недоразумений не вносит диссонанса, не мешает цельности впечатления, как в трагедиях Клейста, — напротив оно придает этой комедии удивительную стройность, цельность и вызывает беспрерывное нарастание интереса.
На основе этого наиболее совершенного произведения можно сделать поучительные выводы о структуре клейстовской драмы. Мы уже подчеркивали ее новеллистичность. Но если внимательно присмотреться к тому, как развивается в ней действие, то мы заметим также, что во всех драмах Клейста есть нечто комедийное. Вспомним хотя бы, что и общая структура, и развитие интриги в патетико-мистической драме "Амфитрион" заимствованы, почти без изменений, из комедии Мольера. Клейст трагически углубил психологию героев и усилил их эротические переживания, дал им мистическую окраску. Факт, на котором построено действие "Кетхен из Хейльбронна" — то, что она на деле дочь не простого ремесленника, а императора, — носит также несколько комедийный характер.
Геббель, страстный поклонник Клейста, борец за его поэтическую славу и во многих отношениях продолжатель клейстовских традиций, резко критиковал этот мотив и осудил из-за него все произведение. Он считал — и с полным основанием — что подлинная драма заключается в борьбе любовного чувства героини с феодальными предрассудками, в триумфе этой любви; то обстоятельство, что в конце пьесы Кетхен оказывается императорской дочерью, зачеркивает всю драму, лишает ее подлинного трагизма. Это осуждение совершенно правильно. Улаживание запутанных отношений благодаря выяснению обстоятельства, ранее неизвестного действующим лицам, — это мотив, который может послужить прекрасным сюжетом для комедии.
Анализ всех драм Клейста дает аналогичные результаты. Напомним хотя бы о наших замечаниях по поводу структуры "Пентезилеи". Очень характерно, что Клейст разработал сходную ситуацию в очень интересной новелле "Обручение на Сан Доминго". Действие этой новеллы начинается с восстания негров и избиения белых. Один белый прячется в доме случайно отсутствующего фанатика-негра. В него влюбляется живущая в этом доме метиска.
Клейст рисует потрясающую психологическую картину этой любви, связанной — как всегда у Клейста — тонкой разработкой множества недоразумений и недоверия и разыгрывающейся на краю пропасти. Негр возвращается домой. Метиска хочет спасти своего возлюбленного, но пользуется при этом средствами, способными только усилить его недоверие к ней. Поэтому, когда возлюбленному метиски все-таки с ее помощью удается освободиться, он убивает ее, и только над ее трупом испытывает чисто клейстовское трагическое раскаяние.
Очень заурядный современник Клейста, Теодор Кернер, смастерил из этой новеллы комедию со счастливой развязкой. Комедия очень посредственна, и Геббель с полным основавшем отзывается о ней презрительно. Но для интересующей нас сейчас проблемы весьма характерно, что Кернер смог заимствовать сюжет из новеллы Клейста почти не изменяя его; для того чтобы сделать из нее комедию, ему пришлось только исключить психологический мотив недоверия да сделать все произведение более плоским.
Само собою разумеется, что столь (последовательно повторяющаяся неправильность драматической структуры у такого крупного поэта, как Клейст, не может быть случайной. Не случайно и то, что композиционная тенденция Клейста и лирико-экстатические способы, с помощью которых он старается скрыть непрочность композиции, оказали большое влияние на немецкую драму, начиная с середины XIX в. Нам кажется, что этот вид драматической композиции тесно связан с идейным кризисом, который впервые (если говорить о значительных явлениях) сказался именно у Клейста.
Дело заключается в том, что для буржуазных писателей новейшего периода трагическое и комическое перестают быть объективными категориями действительности; эти категории превращаются для них в субъективный прием разработки любых жизненных явлений. В сознательной форме это появляется сравнительно поздно. Можно сказать, что субъективное понимание трагического и комического впервые сознательно появляются у Ибсена, от него идет к Стриндбергу и, особенно, к Бернарду Шоу. Сам Клейст считает свое субъективное трагическое чувство чем-то абсолютным. Но это фанатическое убеждение ничего не меняет в том факте, что трагический конфликт не вытекает у Клейста из событий, им изображаемых, из обнажения социально-исторических противоречий. Разлад, неувязка, возникающие вследствие чисто индивидуалистической, несоциальной постановки драматических проблем, отражаются на всем поэтическом стиле Клейста.
Здесь мы снова сталкиваемся с одной из основных тенденций драмы второй половины XIX в., предшественником которой является Клейст. Падение объективного трагизма, наряду с усилением субъективного пафоса переживаний отдельной личности, порождает своеобразный драматический стиль. На этой почве возникает лирико-сценический суррогат объективной, действенно трагической драмы.
У Ибсена и Стриндберга эта лирика заключается в том, что реальные бытовые детали получают свой смысл только в связи с "настроением" действующих лиц; при этом сами реальные события или черты характера стилизуются В драмах Клейста трагическое настроение возникает не-посредственно из этой сценической лирики и, если можно так выразиться, из музыкального впечатления, которое производят определенные сценические эффекты.
В значительной мере правильно мнение о "Пентезилее", как о предшественнице музыкальных драм Вагнера. Огромное международное влияние Вагнера объясняется именно тем, что ему удалось найти музыкально-сценический суррогат взамен утерянного объективного трагизма классической драмы. Нет никакого сомнения в том, что психологическая обрисовка вагнеровских героев теснейшим образом связана с драматургией Клейста и Геббеля (так же как с аналогичными тенденциями французского романа и лирики времен Флобера и Бодлера).
Вагнер нашел художественную форму, наиболее пригодную для замены драматического развития действия "настроением", сценической лирикой. Использование "техники лейтмотивов" у Ибсена и других писателей показывает, что мы имеем здесь дело с общей тенденцией развития драмы.
Само собою разумеется, что у самого Клейста все эти проблемы только намечаются. И вce же достаточно ясно, что объективность драматической формы у него чрезвычайно ослаблена.
Только потрясающий лирический пафос "Пентезилеи" отнимает возможность переработать ее в комедию или трагикомедию. Там же, где Клейст, связанный новеллистической формой, не может пустить в ход весь свой лирический арсенал, относительность трагизма, его слабая связь с самой сущностью темы сказывается много яснее.
Особенно ярко проявляется этот релятивизм формы в "Амфитрионе". Клейст как бы сам до некоторой степени чувствует его, заимствуя для своей трагедии интригу из комедии Мольера. Мистическая любовная лирика возвышает героев над сферой комического или трагикомического. Но побочный сюжет, также заимствованный и получивший у немецкого поэта еще более простонародный, грубоватый характер, чем у Мольера, все-таки обнаруживает относительность трагизма в этой драме. Местами эта относительность слышна и в репликах Созия, слуги Амфитриона, проглядывает в связанных с ним эпизодах. Меркурий переодевается и принимает вид Созия, так же как Юпитер принимает вид Амфитриона. У слуг этот маскарад вызывает чисто комические, грубоватые эффекты, в то время как у героев результатом его является трагическая любовная мистика.
После того как Созия перенес побои Меркурия, принявшего вид Созия, т. е., по представлению настоящего Созия, удары, нанесенные им себе самому, — он говорит:
Ну вот! Коль я об этом говорю -
Все это ерунда, не стоит слушать.
Но если б кто из высших сам себя прибил,
Кричали бы, что чудо приключилось!
Здесь Клейст невольно дает народно-реалистическую критику своей собственной драмы. В том-то и дело, что о "высших" действующих лицах этой драмы сам Клейст "кричит, что чудо приключилось".
Это — осуждение собственных недостатков драматургии Клейста: преувеличенного внимания к извращенным переживаниям "высших", е их мистической сверхнапряженностью, доходящей до мономании и отрыва от здоровой народной жизни.
Во всех произведениях Клейста часто прорывается эта реалистическая струя. Укажем на несколько примеров.
Мы уже видели, что в "Германовой битве" освобождение Германии от ига римлян изображено Клейстом совсем не идиллически. Клейст "делает гусыню" из германской национальной героини Туснельды. Сильнее всего прорывается реалистическая струя в последней драме Клейста, в знаменитой и неоднократно подвергавшейся критике, сцене, изображающей страх смерти, охватывающий принца Гомбургского. Клейст хочет здесь возвеличить дух старой Пруссии, а с другой стороны, показать патологическое состояние своего героя; в действительности же он нарисовал потрясающе правдивую картину страха смерти и внутреннего психологического преодоления этой мимолетной трусости. Гейне с полным основанием видел в этих сценах правдивый, глубоко человечный протест против условного понимания героизма в старопрусском духе.
Способность Клейста к объективному и реалистическому творчеству, способность его богато и образно, с беспощадной правдивостью отражать действительность, сказывающаяся только в отдельных моментах остальных произведений, достигает полного расцвета в двух шедеврах- "Михаэле Кольхаасе" и "Разбитом кувшине". Эти мастерские произведения в творчестве старопрусского юнкера Клейста — истинная "победа реализма", подобная той победе, которую Энгельс отметил у роялиста Бальзака[1].
Но "победа реализма" никогда не бывает чудом, она всегда имеет определенные субъективные и объективные предпосылки. Сюда относятся, в первую очередь, дарование и честность писателя, т. е. способность его охватить действительность во всей ее сложности, и наличие у него мужества, необходимого для того, чтобы изобразить этот мир именно таким, каким он его увидел. Не будем повторяться и говорить о даровании Клейста. Скажем еще раз только о его неподкупной субъективной честности. Хотя Клейст и боролся в лагере самых крайних реакционеров, но по своему характеру он очень резко и очень выгодно отличался от того авантюристического сброда, с которым заключил военное соглашение.
Особенно бросается в глаза контраст между Клейстом и самым интимным другом последних лет его жизни, Адамом Мюллером. Адам Мюллер принимал участие в реакционной политике "Абендблеттер", но позаботился на всякий случай обеспечить себе, с помощью Гентца, отступление на тыловые позиции при венском дворе; кроме того, до нас дошла докладная записка Мюллера премьер-министру Гарденбергу, в которой этот романтик предлагает создать "верный правительству оппозиционный орган, не забывая попросить при этом вознаграждение за свою лойяльную службу. Он действительно получал от Гарденберга постоянное "пособие". Клейст, напротив, решительно отклонял все попытки правительства подкупить его. Реакционные предрассудки Клейста привели его к моральной и физической гибели, но он погиб субъективно честным человеком.
Эта честность Клейста — одна из важнейших субъективных предпосылок для "победы реализма" в его лучших вещах и в отдельных частях его остальных произведений.
"Победа реализма" не стала основной чертой всего поэтического творчества Клейста, это далеко не такая решительная победа, как та, которую художественный реализм одержал над реакционными взглядами Бальзака или Льва Толстого. Однако различие в судьбах писателей находит себе объяснение в конкретной исторической действительности. Бальзак пережил во Франции до 1848 г. невероятно пеструю смену событий, смену революционных восстаний и победы реакции. Творчество Толстого питалось противоречивым развитием русской крестьянской революции 1861–1905 гг. Эти огромные сдвиги оказали решающее влияние на творчество Бальзака и Толстого, они определяли их высокий реализм. Совсем другое положение было в Германии эпохи Клейста. Клейст также жил в период общественных сдвигов, но они совершались в самой хаотической и тяжелой обстановке. Франц Меринг остроумно заметил, что позорное поражение при Иене сыграло для Пруссии такую же освободительную роль, как для французов взятие Бастилии. Таковы были пути национального возрождения. Прогрессивные силы тогдашней Германии оставались недостаточно значительными, недостаточно ясными для того, чтобы реакционная ограниченность и упадочный индивидуализм Клейста могли отступить перед его способностью объективно и полно изображать действительность. Поэтому существует такое расстояние между немногими шедеврами Клейста и его творчеством в целом.
Только знакомство с этими лучшими произведениями позволяет судить о подлинной трагедии Генриха фон Клейста.
По всей своей классовой психологии он был ограниченным прусским юнкером; по своим поэтическим тенденциям — предшественником большинства упадочных течений позднейшей буржуазной литературы. В тех немногих случаях, когда действительность, помимо его воли, создавала в его творчестве "победу реализма", Клейст становился одним из крупнейших представителей немецкой литературы. Гете, который испытывал здоровую неприязнь ко всякому декаденству и не любил Клейста, называет его "телом, прекрасным от природы, но пораженным неизлечимой болезнью". В сущности говоря, больна была вся Германия; Клейст не мог преодолеть эту болезнь своими индивидуальными усилиями. Для этого нужно было обладать гением Гете. Жалкое положение Германии и собственный реакционный инстинкт привели Клейста к гибели.
Георг Бюхнер
1
Непредубежденному читателю может показаться совершенно невероятной всякая попытка найти в творчестве Георга Бюхнера что-нибудь родственное идеологии фашизма. Реакционеры старого покроя — Трейчке, например, — отлично понимали революционность Бюхнера и отвергали его именно как революционера. Но нет ничего, что было бы невероятным для фашистов.
Из Гельдерлина, этого запоздалого немецкого якобинца, национал-социалистские "историки литературы" пытались сделать пророка Третьей империи; что же удивительного в том, что они осмелились протянуть свою руку и к Георгу Бюхнеру?
Для того чтобы присвоить себе его творчество, они пускаются на любые фальсификации.
Метод фашистского искажения Бюхнера в основном не отличается от того, что было сделано по отношению к Гельдерлину и другим революционным поэтам и мыслителям первой половины XIX в. По существу этот метод довольно прост: все революционное в жизни и творчестве Бюхнера начисто вычеркивается.
Так же, как и в других случаях, фашисты опираются при этом не только на фальсификаторские "теории" собственного производства, но и на некоторые труды дофашистских буржуазных ученых империалистического периода. Здесь так же, как и в других случаях, в роли одного из важнейших предшественников фашизма выступает Фридрих Гундольф.
В изображении Гундольфа Бюхнер был "только запоздалым романтиком", поэтом "настроения", а к "настроению" (Stimmung) Гундольф сводит всю общественную критику Бюхнера:
"Социальный слой в пьесе "Войцек" — это настроение… Здесь действует только ландшафт силы рока своею душевной жизнью".
По Гундольфу, вся социальная критика в "Войцеке" устремляется к царству "предвечных сил". "Ни один немец, желавший изобразить Бедность, Зло, Мрак, не подошел так близко к самому их истоку, как Бюхнер".
Так писал Гундольф.
Литературные прохвосты из Третьей империи идут по тому же пути, но заходят гораздо дальше. Революционного поэта Бюхнера они хотят сделать предшественником национал-социалистической "революции". Такая попытка предпринята была за последние годы в двух больших работах[1]. Обе они, так сказать, "научны", т. е. написаны туманным наукообразным языком и идут к своей цели запутанными, обходными путями: ведь даже с помощью самых испытанных фашистских методов фальсификации нелегко превратить Бюхнера в пророка, вещающего о пришествии "фюрера"!
Исходным моментом для Виэтора и Пфейфера является отчаяние, якобы определяющее весь характер Бюхнера как человека и писателя. На этом основании оба автора включают Бюхнера в общую линию: Шопенгауэр- Киркегард — Достоевский — Ницше — Стриндберг — Хейдеггер. Действительно, слова Виэтора, который видит величие Бюхнера в том, что он "решительно идет в Ничто" (стр. 185), звучат вполне в духе мистика Хейдеггера. Пфейфер, в свою очередь, так изображает бюхнеровскую концепцию всемирной истории: "Существо, преданное во власть непостижимых высших сил, которые с величайшей безответственностью и жестокостью делают его жертвой пагубной страсти или случая, — вот что такое человек на протяжении всей истории" (стр. 34).
Участие Бюхнера в подготовке восстания в Гиссене (после Июльской революции) является, по мнению Пфейфера, выражением его временного "отчуждения от действительности". На этом моменте стоит остановиться, так как здесь очень ясно обнаруживается, к какой грубой лжи вынуждены прибегать даже самые изощренные фальсификаторы.
Несомненность "отчуждения" Пфейфер подтверждает тем, что Бюхнер-студент держится вдали от корпорантов Гиссенского университета (стр. 46–47). Мы избавлены от необходимости опровергать этот довод, так как сам Бюхнер в письмах к семье объяснил причины своего пресловутого отчуждения. Он пишет о своей глубокой ненависти к корпорантам, к их самомнению и чванству, к тому (презрению, с которым они глядят на массы. Бюхнер горько высмеивает их хвастовство своей мнимой культурностью: "Аристократизм-это позорнейшее презрение к духу святому в человеке; против него обращаю я его собственное оружие: высокомерие против высокомерия, насмешку против насмешки"[2]. Все сказано вполне ясно. Неудивительно, что фашистские "историки" не помнят об этих письмах.
После гиссенских событий Бюхнер пишет драму "Смерть Дантона". В интерпретации обоих фашистов эта драма также является ярким выражением разочарования. Оба они видят величие Бюхнера в том, что он в образе Дантона изобразил разочарование в революции. Виэтор так и назвал свое сочинение "Трагедия героического пессимизма".
В чем же заключается это разочарование?
Дантон, видите ли, понял всю "глупость и опасность" стремления Робеспьера улучшить жизненные условия народа. И весь смысл трагедии Дантона заключается в том, что он погибает в тот момент, когда, "очнувшись от дурмана радикальной деятельности", он, наконец, обретает государственную мудрость.
С точки зрения Виэтора, разочарование в революции и вызванное им отчаяние являются большим достоинством общественного деятеля и необходимой предпосылкой для обретения истинной "государственной мудрости".
Пфейфер еще "радикальнее" в своих высказываниях. Его книга базируется на "новой историко-философской теории драмы". А теория эта исходит из следующей предпосылки: драма по своей сущности — явление героически-демонически-германское, а эпос, в противоположность драме, — явление христиански-еврейское. Обсуждать или опровергать эту теорию всерьез, конечно, нельзя. Расскажем только, в качестве иллюстрации, как Пфейфер пытается найти для своей бредовой "теории" опору в Шеллинге.
Вслед за Шеллингом, он называет эпос "изображением конечного в бесконечном", и затем цитирует высказывание Шеллинга о христианстве: "Христианству присуще направление от конечного к бесконечному" (стр. 62).
Однако, понимание бесконечного у Шеллинга не имеет ничего общего с разглагольствованиями фашистского "философа"; это понимает всякий, читавший Шеллинга. Но даже из простого сравнения грамматической структуры обоих цитированных определений легко увидеть, что Шеллинг говорит здесь прямо противоположное тому, что пытается вложить в, его уста Пфейфер. Мало того, выводы Пфейфер а и Шеллинга совсем не похожи один на другой: ведь именно исходя из своих предпосылок Шеллинг считает Гомера типичным представителем эпической поэзии, а разложение древнего эпоса относит к христианской эпохе!
Противоположность сказывается даже в деталях. Пфейфер, неизвестно почему, называет типичной для эпоса стихотворной формой рифмованные двустишия (стр. 57); Шеллинг справедливо считает размером, типичным для эпоса, — гекзаметр.
Попытка г-на Пфейфера подкрепить свою "теорию" авторитетом Шеллинга может быть объяснена только расчетом на неосведомленность читателей, — если только его книга не будет признана чистейшим бредом. Это было бы, однако, неверно: в безумии фашистского "теоретика" есть система.
Пфейфер признает истинно драматическими (в указанном выше "германском" смысле) только древнегерманские сказания и песни. В течение всего нового времени происходит, по его мнению, "эпизация" драмы, заметная уже у Шекспира и преобладающая в произведениях немецких классиков. Только с Клейста начинается подлинная, т. е. "германски-демоническая" драма. Таким образом, Пфейфер весьма последовательно проводит линию официального "философа" Третьей империи, Альфреда Беймлера, который в своей программной речи в берлинском университете заявил, что основной задачей "политической педагогики" является борьба против гуманизма германских классиков. Гуманизму противопоставляется истинно германский "демонический драматизм". В число его представителей Пфейфер хочет включить и Георга Бюхнера.
Дантон — жертва "демонического безвременья". Он герой в негероическую эпоху. Препятствием для проявления его героизма является демократия. "Дантон понял, что героический размах ему недоступен вследствие засилья в современности негероического духа" (стр. 22–23). Поэтому Дантон обречен на поражение, поэтому и Бюхнер был только человеком, доведенным до отчаяния, а Гитлер-де поднялся на уровень "лучезарного германского героя", победившего демонов.
Пфейфер считает, что стремление к равенству вообще несовместимо с "Высоким" и "Наивысшим".
По мнению этого фашистского идиота, трагедия Дантона заключается в том, что он должен действовать вместе с массой, в то время как масса не подросла до его "героических" целей; трагедия Дантона в том, что в его эпоху еще невозможно было применять гитлеровские методы социальной демагогии. Вот причина трагического разочарования и отчаяния Дантона; вот причина демонического отчаяния изобразившего его поэта…
Виэтор, в сущности, говорит то же самое. Но он более неуклюж, чем Пфейфер, и гораздо легче выбалтывает фашистские "семейные секреты". У Бюхнера Робеспьер требует завершения революции. Виэтор поясняет, что революцию можно считать завершенной, когда она осуществляет требования фашистского фюрера.
Вот способы, при помощи которых "ученые" прислужники Гитлера пытаются доказать, что Георг Бюхнер был предшественником "национал-социалистической революции".
2
В чем же на самом деле заключается трагедия Дантона в драме Бюхнера?
Арнольд Цвейг очень тонко заметил, что Бюхнер совершил драматургическую ошибку: "Абсолютная необходимость и абсолютная ценность революции, которые он сам глубоко чувствует, даны у него только как сама собой разумеющаяся предпосылка". Оставляя в стороне вопрос о том, выполнимо ли требование Цвейга в рамках драматической концепции Бюхнера, следует признать, что характеристика самого поэта, данная Цвейгом, совершенно верна. Арнольд Цвейг подметил самую существенную черту Бюхнера: в течение всей своей короткой жизни Бюхнер был стойким революционером, отличался изумительно ранней зрелостью и ясностью политической мысли, изумительным единством своей общественно-революционной, поэтической и личной жизни.
Мы не можем излагать биографию Бюхнера даже в общих чертах и должны ограничиться приведением отдельных его высказываний, относящихся к различным периодам. Этого будет достаточно, чтобы опровергнуть легенду о его "разочаровании в революции".
Основная черта Бюхнера — это пламенная революционная ненависть ко всем видам эксплоатации и угнетения. Уже в одной из речей, произнесенных им в гимназии, он превозносит Катона, ставя его выше Цезаря. Вот что пишет позднее страсбургский студент Бюхнер своей семье:
"Упрекают молодежь в склонности прибегать к насилию. Но разве мы не живем в постоянной атмосфере насилия? Так как мы родились и выросли в тюрьме, то уж более не замечаем, что сидим в яме, со скованными руками и ногами и с кляпом во рту. Что же называете вы законным порядком? Закон, превращающий огромную массу граждан государства в барщинный скот для того, чтобы удовлетворять неестественным потребностям ничтожного и испорченного меньшинства?"
Это отношение к действительности побуждает его примкнуть в Гиссене к подпольной революционной организации, несмотря на то, что раньше, в Страсбурге, он говорил о возможности революционного восстания в Германии весьма скептически.
Бюхнер сомневался в реальности революционных надежд и все-таки стал одним из главарей революционной подпольной организации. Его фашистские фальсификаторы хотят увидеть в этом "внутреннее противоречие". Это противоречие, однако, очень легко объясняется тем особым положением, которое занимал Бюхнер в современном ему германском революционном движении.
Он был, пожалуй, единственным из всех тогдашних немецких революционеров, кто считал основой революционной деятельности борьбу за экономическое освобождение масс. Это вызывало сильнейшие конфликты между ним и его единомышленниками. Вайдиг, руководитель
гиссенской революционной организации, повсюду заменил в составленном Бюхнером проекте "Гиссенского сельского вестника" слово "богатый" словом "знатный". Он исправил проект в духе либерализма, направив его исключительно против феодально-абсолютистских пережитков. Напротив, по мнению Бюхнера, успех революции определяется только тем, поднимутся или не поднимутся широкие массы бедняков на борьбу против богачей.
Показание, данное на суде другом Бюхнера Беккером, лучше всяких комментариев объясняет участие нашего поэта в попытках организовать революционное восстание в Гиссене:
"С помощью написанной им листовки он хотел сначала только выяснить настроение народа и немецких революционеров. Впоследствии, когда он услышал, что крестьяне сдали большинство найденных ими листовок в полицию, когда он узнал, что и патриоты высказались против его листовки, он отказался от всех своих политических чаяний и надежд на изменение существующего положения".
Где же здесь разочарование в революции?
Бюхнер понимал, что революция может быть только массовым движением. Еще до начала своей революционной деятельности он пишет семье:
"Хотя я всегда буду поступать согласно с моими принципами, но за последнее время я убедился, что только необходимые потребности широких масс могут привести к изменениям, что всякие действия и крики отдельных лиц являются совершенно напрасной и безумной тратой сил".
А после своего побега (т. е. в период своего мнимого "разочарования") он пишет Гуцкову:
"Вся революция разделилась на либералов и абсолютистов, но ее должны взять в свои руки массы необразованных и бедняков; отношение между богатыми и бедными есть единственный революционный элемент в мире. Один только голод может породить богиню свободы…"
Во всей предшествующей истории мало найдется революционеров, которые в возрасте от двадцати до двадцати четырех лет так продуманно и так последовательно выдерживали бы однажды взятую политическую линию.
Итак, Бюхнер-плебейский революционер, который начинает понимать, что политическая свобода недостижима без экономического раскрепощения трудящихся масс. Он — крупная фигура в том почетном ряду, который ведет от Гракха Бабефа к Бланки, герою июньского восстания 1848 г.
Учитывая это конкретное историческое положение Георга Бюхнера, нельзя оценивать степень разработанности и ясности его воззрений с точки зрения требований, которые предъявляются в позднейший период, период классовых битв пролетариата. Хотя Бюхнер является современником английского чартизма и лионских восстаний во Франции, практика немецкого революционного движения еще не могла привести его к признанию роли пролетариата, как самостоятельного, особого класса.
Подлинно плебейский революционер, Бюхнер последовательно стремится к экономическому и политическому освобождению "бедных"; в соответствии с особыми немецкими условиями, он, естественно, думает при этом в первую очередь о крестьянстве. Последовательное проведение этой линии вызвало непримиримый конфликт между Бюхнером и либералами, которых он неоднократно критиковал резко и с превосходной иронией, в духе позднейших представителей революционной демократии.
В споре против либералов Бюхнер действовал вполне основательно; однако, революционные (перспективы во многом были для него неясны. В конце уже цитированного нами письма к Гуцкову он пишет: "Откормите крестьян, и революция умрет от апоплекси. Курица в горшке каждого крестьянина свернет шею Галльскому петуху".
Еще ярче выразилась неясность взглядов Бюхнера в другом, более позднем письме к Гуцкову. После жестокой критики "высокомерного отношения" образованных либералов к народу Бюхнер пишет: "А сама широкая масса? Чтобы привести ее в движение, имеются два рычага: материальная нищета и религиозный фанатизм. Каждая партия, которая сумеет нажать эти рычаги, победит. Наше время нуждается в железе и хлебе, и, кроме того, ему нужен крест или что-то в этом роде".
То, что такой последовательный и воинствующий материалист, как Бюхнер, мог, хотя бы на время, склониться к подобной оценке общественной роли религии (или суррогата религии) — этот факт свидетельствует о том, насколько глубоки и еще неразрешимы были общественные противоречия его времени. Переходный период между буржуазной и пролетарской революцией накладывал свою печатъ на мировоззрение даже наиболее передовых людей.
Противоречия взглядов Бюхнера не были чисто субъективными и существовали не только в сознании Бюхнера: они были всеобщи в широком историческом смысле этого слова. Развитие производительных сил после, французской революции 1789 г. и завершения английской промышленной революции обнаружили социальные противоречия совсем иначе, чем это было в XVIII веке. Противоречия капиталистического общества уже толкали отдельных мыслителей к социализму. Правда, социализм этот был еще утопический, еще лишенный хотя бы даже предчувствия роли пролетариата в революционном осуществлении социалистических требований. Последователи Рикардо, величайшего теоретика капиталистической экономии, вскоре после смерти учителя стали делать из его теории прибавочной стоимости социалистические выводы, но они приходили к ним не путем диалектического познания законов общественного развития и понимания исторической роли пролетариата; прибавочная стоимость, отчуждение труда рабочего, та котором покоится все буржуазное общество, были для них неприемлемы с чисто этической точки зрения.
Пролетариат формировался как класс, и уже его первые классовые битвы носили особый характер. Мыслители и политики, связавшие себя с пролетарским движением, стараясь уяснить себе историческую особенность этого движения, решительно противопоставляли его цели устремлениям всех прежних движений. Однако, в течение всего этого начального периода (от разрушителей машин до зарождения синдикализма) никто из них дальше общего противопоставления не пошел. В отличие от этих предвестников социализма плебейские революционеры, оставшиеся на прежних позициях, старались покончить не только с феодальными пережитками, но и с новейшими экономическими противоречиями капиталистического общества при помощи последовательно проведенной демократической революции. Ясное понимание всех этих проблем было недоступно им — так же, как и социалистам-утопистам- до тех пор, пока из "бедняков" не выделился настоящий революционный пролетариат.
Чем шире и радикальнее подходил к вопросам современности революционный демократ этого периода, тем глубже становились противоречия, которые перед ним вырастали. Стоит послушать, как излагает Бюхнер свои планы в письме к Гуцкову: "Я полагаю, что в социальных вопросах надо исходить из некоторого абсолютного правового принципа, искать пробуждения новой духовной жизни в народе, и пусть отправляются к чорту современные отжившие общества. Зачем подобным людям болтаться между небом и землей? Ведь вся их жизнь состоит в попытках отогнать от себя ужаснейшую скуку. Пусть они вымирают — это единственно новое, что они еще могут пережить".
Демократический революционер Бланки в течение своей долгой жизни успел пройти весь путь от защиты интересов "бедняков" до понимания роли пролетариата, от Бабефа до марксизма. Двадцатичетырехлетний Бюхнер умер в начале своего развития. Но он был единственный из всех своих современников (не считая, может быть, Гейне), кто шел по этому пути в Германии. Бюхнер и Гейне-единственные немецкие писатели, которых можно сравнивать с позднейшими, более зрелыми революционными демократами — с Чернышевским и Добролюбовым.
3
Само собой понятно, что кризис, неизбежный для переходной стадии революционного движения в Европе, выдвинул, как один из важнейших вопросов, критический анализ французской революции: (ведь эта революция не только всколыхнула до самых глубин жизнь французского народа, но изменила также лицо всей Европы, запечатлев на нем черты глубоких антагонизмов. Естественно, что этот анализ приводил к двум прямо противоположным точкам зрения. С одной стороны, тот факт, что в результате общественных потрясений материальное положение пролетариата только ухудшилось, вызвал возражения против демократических революций вообще. Ярче всего этот взгляд выразил Прудон; но многие французские политики предвосхищали его точку зрения гораздо раньше. С другой стороны, у революционных демократов укреплялась иллюзия, будто последовательное проведение якобинского террора само по себе может покончить с нищетой народных масс. История французского рабочего движения показывает, как глубоко было это противоречие и как долго оно не могло исчезнуть: еще в империалистический период Сорель и Жорес представляли собой во Франции два противоположных полюса этой антитезы.
На той же противоположности построена трагедия Георга Бюхнера "Смерть Дантона". Не субъективное переживание молодого человека ("разочарование", "отчаяние" и т. п.) отражено в этом произведении; следуя верному инстинкту подлинного драматурга, Бюхнер старается отразить в зеркале французской революции основное идейное противоречие своей эпохи. Бюхнер не переносил проблемы новейшего времени в прошлое, но он верно заметил, что именно французская революция породила все основные проблемы последующего периода.
Тема трагедии сразу же выдвигается с шекспировской ясностью и остротой. Дантон и его друзья говорят о том, что пора закончить резолюцию: "Революция должна кончиться, республика должна начаться", — говорит Геро. Непосредственно вслед за этой беседой Бюхнер показывает в живой и реалистической массовой сцене, что думала о завоеваниях революции беднота: "Вся кровь в их жилах высосана из нас. Они сказали нам: убивайте аристократов — это волки! Мы повесили аристократов на фонарях. Они сказали: Veto пожирает ваш хлеб; мы убили Veto. Они сказали: жирондисты морят вас голодом; мы гильотинировали жирондистов. Но они обобрали убитых, а мы попрежнему бегаем босиком и мерзнем". Речь идет о дантонистах.
В народных сценах Бюхнер рисует глубокое озлобление обнищавших масс. В то же самое время он как реалист показывает, что эти массы еще не могут иметь ясного представления о том, в какие целесообразные действия могло бы вылиться их озлобление. Объективные противоречия еще неразрешимы в действительности, и, соответственно этому, они также неразрешимы в сознании Бюхнера; народный гнев в его драме еще неустойчив, и масса легко переходит от одной крайности к другой. Но само озлобление остается постоянным, оно проходит через всю драму и получает объяснение в прямых высказываниях о непосредственных причинах разочарования маос. Бюхнер, вполне последовательный как художник, рисует зти народные сцены с горьким юмором, в духе реалистического протеска, усвоенного им из шекспировской драмы.
На этой основе развивается и доходит до высокого драматического напряжения главная политическая антитеза драмы: противоречие между дантонистами, с одной стороны, Робеспьером и Сен-Жюстом — с другой. Дантон, как мы уже знаем, хочет закончить революцию; Робеспьер стремится по-своему ее продолжать. Требование Дантона- прекратить революционный террор-является последовательным выводом из его предпосылок. Поэтому в самом начале своего решающего разговора, с Робеспьером он говорит: "Где оканчивается необходимая самооборона, там начинается убийство; я не вижу основания, заставляющего нас продолжать убивать". Ответ Робеспьер а гласит: "Социальная революция еще не закончена, кто производит революцию наполовину, тот сам себе роет могилу. Высшее общество еще не добито, здоровые силы народа должны занять место этого во всех отношениях выродившегося класса".
Общепринятое понимание этой сцены таково: Дантон обнаруживает свое духовное превосходство над морализованием узкого, ограниченного Робеспьера. Действительно, Дантон относится к Робеспьеру с презрением. Верно и то, что Бюхнер разделяет философские взгляды Дантона, его эпикурейский материализм, и поэтому- относится к своему персонажу (как мы увидим в дальнейшем) с определенной симпатией. Но объективное идейное и драматическое значение сцены совсем иное, и в этом с особенной силой сказалось большое дарование Бюхнера.
Дантон ни одним словом не опровергает политические взгляды Робеспьера. Напротив, он уклоняется от политического споpa. Он не выдвигает ни одного аргумента против обвинений, которые бросает ему Робеспьер, ни одного аргумента против политической концепции Робеспьера, которая в основном совпадает с воззрениями самого Бюхнера. Дантон сводит разговор к дискуссии о принципах морали. В этой области он как материалист одерживает легкую победу над руссоитскими моральными принципами Робеспьера. Но эта победа не дает ответа на центральный вопрос — вопрос об антагонизме между бедными и богатыми. Великое общественное противоречие, живущее в сознании и чувствах Бюхнера, как неразрешимый конфликт, воплощено здесь в двух исторических образах; каждый из них по-своему велик и каждый по-своему ограничен. Бюхнер изобразил это столкновение в духе подлинного драматизма.
Уклончивость Дантона не случайна. В ней — вся его трагедия. Дантон у Бюхнера — великий буржуазный революционер, не способный, однако, ни в малейшей мере видеть дальше чисто буржуазных задач революции. Он материалист-эпикуреец в духе XVIII в., в духе Гольбаха и Гельвеция. Этот материализм-высшая и наиболее последовательная форма дореволюционной французской идеологии, мировоззрение, послужившее идеологической подготовкой революции. Вот как характеризует эту философию Маркс:
"…Теория Гольбаха есть исторически правомерная философская иллюзия насчет поднимавшейся тогда во Франции буржуазии, чью жажду эксплоатации еще можно было изображать, как жажду полного развития личностей в общении, освобожденном от старых феодальных уз. Впрочем, освобождение, как его понимает буржуазия, т. е. конкуренция, была для XVIII в. единственным возможным способом открыть перед индивидами новое поприще более свободного развития" [3].
Но после победы этой революции над королем и феодалами, после победы, в достижении которой Дантон принимал руководящее участие, в обществе возникли те новые задачи, которые были чужды и враждебны Дантону. На эти задачи в его мировоззрении нет ответа. Робеспьер и Сен-Жюст хотят продолжения революции, для Дантона же продолжение революции чуждое дело. Он боролся за освобождение от феодального ига; освобождение бедноты от господства богатых не имеет ничего общего с его целью.
В разговоре, непосредственно предшествующем спору с Робеспьером, Дантон говорит о народе: "Он ненавидит наслаждающихся, как евнух мужчин". Дантон испытывает отчуждение от народа и от политической деятельности. В беседах с друзьями все чаще говорится, что он — "опочивший святой" революции. Не случайно и то, что воспоминания о сентябрьских казнях, угрызения совести по поводу этих событий появляются у Дантона незадолго до его ареста. Пока революция была его делом, Дантон действовал мужественно и решительно; сентябрьские казни он рассматривал как мероприятие, необходимое для опасения страны. Но революция выходит за намеченные им пределы, она вступает на плебейский путь Робеспьера и Сен-Жюста. У Дантона, отдалившегося от революции, неизбежно возникает душевный конфликт.
Отчуждение от народа — не плод воображения Дантона, как пытаются уверить самого Дантона его сторонники. После разговора с Робеспьером он идет в секции, чтобы призвать их членов к борьбе со своим противником. "Они отнеслись ко мне с благоговейной почтительностью, как к покойнику", — рассказывает сам Дантон об оказанном ему приеме.
Увлекательное красноречие Дантона, защищающегося на скамье подсудимых, производит на слушателей громадное впечатление. Но это впечатление скоропреходяще, оно не способно изменить основное настроение народных масс. Сразу после сцены, в которой Дантон произносит свою последнюю большую речь, следует народная сцена перед Дворцом юстиции. Один из граждан говорит: "У Дантона хорошие платья, у Дантона красивый дом, у Дантона красивая жена, он купается в бургундском, он ест дичь с серебряных тарелок и спит с вашими женами и дочерьми, когда напьется пьян. Дантон был так же беден, как и вы. Откуда же у него все это?"
Циническая апатия, усталость и скука Дантона, его нежелание действовать представляются в свете этих замечаний не противоречивыми чертами, присущими психологии этого ранее энергичного революционера, а отражением его действительного положения.
Не следует при этом забывать, что Бюхнер считает эту скуку господствующей чертой сытой буржуазии напомним хотя бы цитированное выше письмо к Гуцкову; укажем также на образ Леонса в позднейшей комедии). Но Дантон у Бюхнера- не реакционный буржуа. Он цинично издевается над моральной теорией Робеспьера, но не испытывает также никакой симпатии к собственным своим сторонникам (за исключением Камилла Демулена). За что ему бороться? Один из его сторонников, Лякруа, признается сам в своей подлости, а генерал Диллон, который хочет освободить Дантона, намерен сделать это с помощью реакционных элементов: "Я найду достаточно людей — старых солдат жирондистов, бывших дворян". Дантон не хочет итти на такой союз.
Своеобразное раздвоение, симпатий Бюхнера отражается во всем построении драмы. Драматически действенные, устремленные в будущее персонажи, — это Робеспьер и особенно Сен-Жюст; Дантон, несмотря на то, что он является центром действия, представляет собой скорее объект, чем движущую силу драматического движения. Первый акт драмы заканчивается беседой Робеспьера с, Сен-Жюстом, возникшей в результате диалога Дантона с Робеспьером, а второй акт — сценой в Конвенте и речами Робеспьера и Сен-Жюста. Это — не случайность: напротив, здесь сказывается большое композиционное мастерство Бюхнера-драматурга. В третьем акте блестящие речи, произносимые Дантоном в свою защиту, делают его сценическим центром действия; но даже этот акт заканчивается не риторическими словоизвержениями Дантона, а сценой, из которой мы узнаем, как судит о нем народ. Вся драма завершается маленькой сценой, в которой обезумевшая Люсиль Демулен кричит возле гильотины: "Да здравствует король!.." Здесь сразу становится ясным, к чему объективно вели попытки дантонистов остановить развитие революции…
Итак, центр действия — судьба Дантона. Но драму движет не активность героя: Дантон только повинуется своей судьбе.
4
И все-таки в центре драмы стоит трагедия Дантона, а не Робеспьера и не Сен-Жюста. Трагедию якобинцев разъяснил спустя десятилетие Карл Маркс в своем "Святом семействе". У Бюхнера в образе Робеспьера намечены только некоторые черты личной трагедии [4]. Образ Сен-Жюста вообще очень мало индивидуализирован; это — воплощение деятельного, цельного плебейского революционера, не столько психологически разработанный образ, сколько воплощение идеала. Сен-Жюст по отношению к Дантону выполняет в драме Бюхнера-mutatis mutandis- примерно такую же функцию контрастирующего персонажа, как Фортинбрас по отношению к Гамлету у Шекспира.
Центральное положение, которое занимает Дантон у Бюхнера, объясняется тем, что автор с исключительной поэтической прозорливостью изображает в своей драме не только социально-политический кризис революционных устремлений XVIII века на переломе французской революции, но одновременно и общий кризис мировоззрения в этот переходный период — кризис старого механистического материализма, как мировоззрения буржуазной революции. Образ Дантона и судьба Дантона — это трагическое воплощение противоречий, порожденных и историческим развитием в период между 1789 и 1848 годами; старый материализм был бессилен их разрешить.
Эпикурейский материализм терял свое общественное содержание. Материалистам XVIII в. объективное положение позволяло думать, будто их социальные и исторические теории — идеалистические по своей философской сущности — основаны на материалистической теории познании; они еще могли верить, будто действительно руководствуются в своих поступках эпикурейским материализмом. Гельвеции говорил: "Человек справедлив, если все его поступки направлены к общественному благу". И он полагал, что обоснование этого общественного принципа и необходимую связь индивидуальной этики с этикой общественной следует искать в эпикурейском эгоизме.
Победа, одержанная буржуазией, разрушила эти иллюзии. В эпоху Дантона внутренние противоречия "общественного блага" выявлялись со всей резкостью. Наивный эгоизм XVIII в превращался в капиталистическое мошенничество, в цинический моральный нигилизм. С глубокой иронией и большой поэтической силой, всегда изображая и никогда не комментируя, показывает Бюхнер этот процесс. Низкий карьерист Баррер говорит: "Для того чтобы так называемые негодяи были перевешаны так называемыми порядочными людьми, мир должен перевернуться вверх ногами". А шпион Лафлот, готовясь предать генерала Диллона, оправдывает свой поступок дантоновскими эпикурейски-эгоистическими аргументами: "Боль — это единственный грех, страдание — это единственный порок; я хочу остаться добродетельным".
Благодаря тому, что они стремятся осуществить плебейскую революцию, Робеспьер и Сен-Жюст являются фигурами глубоко действенными. Правда, в основе их деятельности лежит идеализм в духе Руссо. Отделяя этот идеализм от политической деятельности якобинцев, с которой он тесно связан, материалист Дантон побеждает своих противников без всякого труда, ниспровергает их мировоззрение с чувством глубокой иронии и сознания своего превосходства, особенно когда речь идет о принципах морали. Но так как жизненной задачей было именно политическое действие, то даже философское превосходство оказывается для Дантона бесполезным. Как политик, мыслитель и человек Дантон сбился с луга, потерял верное направление.
В этой трагедии ярко показана неспособность старого материализма понять историю. Сам Бюхнер испытал мучительность общественных положений, не поддающихся историческому объяснению. Вот что он пишет невесте из Гиссена о результатах своего изучения французской революции: "Я чувствовал себя раздавленным отвратительным фатализмом история. В природе людей я нахожу ужасающую одинаковость. В человеческих отношениях — непреодолимую силу, дарованную всем и никому. Отдельный человек лишь пена на волне, величие-простая случайность, господство гения — кукольная комедия, смешная борьба с железным законом; познать eгo — высшее, что нам дано, подчинить его себе невозможно. Я более уже не могу преклоняться перед парадными фигурами и столпами истории. "Ты должен" — одно из тех проклятий, которыми крещен человек. Изречение: злоба должна притти в мир, но горе тому, через кого она приходит, — ужасно. Что же это такое, что в нас лжет, убивает, крадет?"
Чрезвычайно интересно проследить, как и с какими вариациями эта вспышка повторяется в речах Дантона (в сцене перед арестом). Отдельные выражения Бюхнер почти дословно заимствует из этого письма и влагает их в уста сомневающегося, отчаивающегося Дантона. Бросается в глаза, что образ Дантона является в основном подлинным поэтическим воплощением противоречия, мучительно пережитого самим автором. Необходимо, однако, обратить внимание на различие формулировок и акцентов.
Дантон доходит до мистического агностицизма, до отчаянного признания непознаваемости истории. Для Бюхнера познание исторической необходимости, даже если ее нельзя преодолеть, остается высшей целью. Поэтому "ты должен" звучит у Бюхнера не так безнадежно, не так пессимистично, как у его героя. Сен-Жюст в драме Бюхнера дает ответ на сомнения Дантона; в своей большой речи в Конвенте он с пафосом приемлет и восхваляет извечную историческую необходимость, несмотря на то, что она растаптывает целые поколения, стоящие на ее пути, несмотря на то, что она похожа на непреодолимое извержение вулкана или землетрясение.
И здесь мы убеждаемся в том, как много воплощено в обоих действующих лицах ив того, что пережито было самим Бюхнером. Но только оба эти лица вместе, в своем трагическом взаимодействии, воплощают мысль Бюхнера: ни Дантон, ни Сен-Жюст в отдельности не являются рупорами поэта. Правда, точка зрения Сен-Жюста ближе подходит к бюхнеровскому пониманию того, как должна быть разрешена "проблема брюха". Правда, у Робеспьера и Сен-Жюста есть мысли, зачатки которых мы находим еще в гимназической речи Бюхнера о Катоне. Но Робеспьер и Сен-Жюст не идентичны с Бюхнером, так же, как не идентичен с ним Дантон. Именно потому, что Бюхнер, несмотря на тяжелый духовный кризис, непоколебимо стоит на позициях материалистической философии и никогда не теряет веры в возможность разрешить великие жизненные проблемы, образ Дантона все-таки ближе его чувству, чем образ Сен-Жюста, более родственного ему по политическим взглядам.
Противоречие, изображенное в этой драме как роковое для эпикурейски-материалистического утверждения жизни, для философии наслаждения XVIII в., также является большой идейной проблемой переходного времени. Камилл Демулен говорит в первой сцене драмы: "Божественный Эпикур и Венера с ее великолепным задом должны стать привратниками республики вместо святых Марата и Шалье". Это звучит здесь термидориански. Но жажда жизни и радость жизни торжествующей буржуазии часто смешиваются в этот период со страстным стремлением создать новый, лучший мир, в котором человеческая добродетель не будет знать никаких аскетических преград. Гейне провозглашает эту новую радость жизни в стихах и прозе, почти всегда три этом в его голосе звучат оба эти оттенка. "Цветущая плоть на картинах Тициана- все это протестантизм. Ляжки его Венеры — это тезисы, куда более основательные, чем те, которые немецкий монах наклеил на церковных дверях в Виттенберге". Правда, у Гейне отсюда ведет прямой путь к иной, "лучшей песне", говорящей о жизнерадостности освобожденного человечества.
Это противоречие, в другом варианте, существует и в зарождающемся революционном движении пролетариата. Бабувизм унаследовал как элементы старого материализма, так и аскетическое служение революции в духе. Робеспьера". Такие поэты, как Гейне и Бюхнер, и такие мыслители, как Фурье, одинаково убеждены в неудовлетворительности обеих крайностей, но ни один из них не может найти решения этого противоречия. Еще Марксу к Энгельсу пришлось — уже на базе диалектического материализма — бороться против аскетического понимания
революции…
Гейне шире, богаче, живее Бюхнера; он перерабатывал диалектику Гегеля по-своему, но все же не игнорировал се, как Бюхнер. Но и Гейне, поэт и мыслитель, был способен только выразить обе тенденции во всей их противоречивости. Открыть единый принцип, лежащий в основе этих тенденций, Гейне еще не в силах. Бюхнер также не мог найти никакого выхода. То, что дало бы решение его политическим исканиям — превращение "бедноты" в революционный пролетариат — еще не существовало в современной ему немецкой действительности. Поэтому, несмотря на свой последовательный материализм, Бюхнер не мог дойти до диалектического понимания истории.
Индивидуальная особенность Бюхнера заключается в том, что он безбоязненно идет до конца по однажды избранному, полному противоречий пути, не уклоняясь от этих противоречий, как Гейне, не балансируя гибко и эластично между противоположными крайностями.
5
Высокий реализм, продолжающий традиции Шекспира и Гете, тесно связан со всем направлением духовной деятельности Бюхнера. Цель его страстной политической жизни — пробудить самосознание "бедняков", вызвать в них политическую активность. Но Бюхнер не дает мечте заслонить действительность: как великий реалист, он изображает беззащитного эксплуатируемого, гонимого с места на место и всеми угнетаемого Войцека, создает прекрасный образ тогдашнего немецкого "бедняка".
Господа Гундольф и Пфейфер пытаются выдать эту замечательную картину общественной жизни за "искусство настроения", причем Пфейфер "углубляет" эстетскую фальсификацию Гундольфа, утверждая, что "искусство настроения" представляет собой у Бюхнера выражение его демонической сущности: "Настроение у него — это постоянное присутствие демонического. Настроение у него есть длительное дыхание, вдыхание демонического" (стр. 97). Цель, этого "анализа"-превратить Бюхнера как писателя в предшественника Стриндберга и экспрессионистов. Что за дело "ученому" фашисту до того, что историческая истина выворачивается при этом наизнанку!..
Бюхнер рисует физическую и душевную беззащитность Войцека перед его угнетателями и эксплоататорами. Это — реальная, социальная беспомощность, изображенная в самом своем существе. Войцек, хотя и не видит ясно ее причин, но догадывается о них. Когда капитан упрекает его в безнравственности, Войцек ему отвечает: "Мы бедные люди… Видите ли, господин капитан, на все нужны деньги, деньги! А у кого нет денег… Приходится уже рождать на свет себе подобных без морали. Ведь и в нас тоже есть плоть и кровь. Нашему брату нет счастья ни на этом, ни на том свете. Я думаю, когда мы попадем на небо, нас заставят помогать грому греметь". "Ведь это, должно быть, хорошая вещь — добродетель, господин капитан. Но я только бедняк".
В противоположность Бюхнеру, Стриндберг изображает глубокое сознание своей беспомощности перед лицом разнузданных сил капитализма; он не понимает их и потому дает им мистифицированный облик. Стриндберг показывает не конкретную, самой реальностью определяемую беспомощность, а только идеологическое отражение своего собственного чувства, возбуждаемого ею. Таким образом, Стриндберг как писатель является вовсе не продолжателем Бюхнера, а его полярной противоположностью.
Бюхнер открыто провозглашал реалистические художественные тенденции и умел их теоретически обосновывать. Его теория реализма — это теория поэтического отражения жизни во всей ее живости, подвижности, в ее неисчерпаемом богатстве. От исторической драмы он требует исторической правды. Уже в "Смерти Дантона" Демулен громит идеализм в искусстве, а в новелле "Ленц", оставшейся незаконченной, Бюхнер вкладывает в уста своего героя, известного друга юности Гете, следующие слова: "Этот идеализм есть позорнейшее пренебрежение человеческой природой. Пусть попробуют погрузиться в жизнь самых ничтожных людей и передать ее содрогания, ее намеки, ее едва уловимую мимическую игру". (Он сам сделал такую попытку в "Гувернере" и в "Солдатах".) Это самые прозаические люди на земле; но чувства у всех людей одинаковы, и лишь та оболочка, через которую им приходится пробиваться, может быть более или менее плотной. Нужно лишь иметь надлежащие глаза и уши. Связь между общественными воззрениями Бюхнера, его стремлением к осуществлению последовательной народной демократии и его художественным реализмом выражена здесь совершенно ясно.
Taков был Георг Бюхнер. У этого человека — революционера и художника-реалиста — были вспышки озлобления и ненависти к презренной действительности Германии тридцатых годов. Но эти вспышки не вызывали у него даже таких шатаний, как у Гейне; нечего и говорить как далек он был от "разочарования" или "отчаяния".
Во все недолгие годы своей жизни Бюхнер непоколебимо шел по своему пути, оставаясь плебейским революционером в политической деятельности, сторонником материализма- в философии, последователем высокого реализма Шекспира и Гете-в литературе.
6
Для чего же нужно фашизму фальсифицировать Бюхнера, превращать его в "отчаявшегося"? Ни Виэтор, ни Пфейфер, несмотря на всю свою фальсификаторскую сноровку, не могли сделать из него провозвестника Третьей империи. Какая же прибыль в том, чтобы сделать его, по крайней мере, представителем "героического пессимизма" и "демонического экспрессионизма"?
Такого рода подтасовки очень грубы и шиты белыми нитками, но они не бесцельны, Нельзя недооценивать политическое значение фашистской демагогии в ее историко-литературном обличьи. Сам Гитлер, а вслед за ним и вся "унифицированная" пресса непрестанно заявляют о своей непоколебимой вере в будущность фашистской Германии. Но они могут говорить только о вере, о слепой вере, а не о знании, не о реальных перспективах. За "фюрером" могут итти не мыслящие, а загипнотизированные, безвольные люди; для того чтобы гипноз был возможен, необходимо создать атмосферу слепой веры, необходимо уничтожить всякий разумный подход к природе и истории. Все философские системы, которые присваивает фашизм (Шопенгауэр, реакционный романтизм, Ницше), отрицают возможность объективного познания мира. "Чудо", "вождь" должны спасти людей из хаоса, из "Ничего", из мрака отчаяния. На одном из съездов фашистской партии Гитлер сам заявил: "То, что вы нашли меня среди миллионов- это чудо нашего времени…"
Своей социальной и национальной демагогией фашисты систематически раздували отчаяние германских масс, и, пользуясь им, душили всякую светлую мысль, всякое искание истины; это было подготовкой "гитлеровского чуда". Зато позднее, после захвата власти, фашисты стали жестоко карать всех, кто попрежнему предается отчаянию, а так как продолжающееся ухудшение материального положения неминуемо поддерживает и даже усиливает чувство беспросветности в массах, то практически фашистский террор обрушился на всех, кто не окончательно одурманен ядами национал-социалистской пропаганды. Для того чтобы не допустить отчаявшиеся массы двинуться по революционному пути, фашизм пускает в ход концентрационные лагери, застенки, массовые убийства- всю свою систему подавления и гнета.
Кризис всякого социального строя всегда сопровождается тяжелым кризисом мировоззрения-вспомним хотя бы закат Рима или распад феодального общества. Имение в своем распаде экономические категории доказывают, в какой мере они действительно являются "формами бытия, условиями существования": когда поколеблена почва, на которой строится материальная общественная жизнь широких масс, неизбежно возникает мировоззрение, проникнутое настроением беспочвенности и отчаяния, пессимизма и мистицизма.
Кризис буржуазного мировоззрения, в связи с распадом капиталистической системы, начался уже давно. Уродство, лживость, неустойчивость и несправедливость, бессмысленность жизни в капиталистическом обществе уже очень рано стали предметом изображения для поэтов и мыслителей, которые даже не предчувствовали возможности обновления жизни и изображали общественный хаос в капиталистическом обществе, как бессмысленность жизни вообще. Такое отчаяние часто имеет общественно-критическое и даже бунтарское начало, но буржуазные сикофанты стараются изо всех сил толкнуть тех людей, которых не удается сделать сторонниками капитализма, на то, чтобы они замкнулись в своем отчаянии, добиваются того, чтобы положение представилось безвыходным, бунт бесцельным — и тогда эти люди становятся безвредными для капитализма. Опыт показывает, что значительная часть таких во всем изверившихся людей рано или поздно капитулирует перед реакцией. Именно этих людей имел в виду Достоевский, говоря, что крайний атеист стоит на предпоследней из ступеней, ведущих к богу.
Чем глубже становится кризис капитализма, тем беспомощнее оказывается простая апологетика — прямая защита этого строя. Уже нельзя не признать, что отношение к жизни, как к чему-то зверски жестокому, что чувство беззащитности человека перед жизненным хаосом и пессимизм, порожденный этим чувством, представляют собой отражение реальной жизни. Теперь защита капитализма состоит не в его восхвалений, а в воспитании в массах, доведенных до отчаяния, недоверия к объективному исследованию конкретных причин общественного бедствия. "Не на что рассчитывать, кроме чуда"-вот мысль, которую стараются привить массам защитники их порабощения.
Этот новый период капиталистической апологетики начинается с Ницше. Так называемая "философия" Клагеса, Беймлера и других неизменно апеллирует к отчаянию, призывая его на службу капиталистической реакции.
Стихийный порыв отчаявшихся масс фашистская демагогия пытается отвести в реакционное русло. Фашизм цепляется при этом (как это прекрасно разъяснил товарищ Димитров) не только за отсталость в мышлении и чувствовании масс, но и за неясные, инстинктивные поиски выхода за те стремления, которые, если бы их верно направить, вели бы к подлинному освобождению. Фашизм кровно заинтересован в том, чтобы отчаяние масс не вышло за пределы темного, тупого чувства безысходности.
Заботливо питая и пестуя это отчаяние, объявляя плоской, мелочной, "негерманской" всякую попытку исследовать, какие же экономические причины довели человечество до такого убогого уровня, "философия" эта оказывает фашизму ту же услугу, что и грубый, кровавый антисемитизм какого-нибудь Штрейхера. Поэтому нельзя проходить мимо этой идеологии отчаяния, нельзя от нее отделаться презрительным взглядом, как бы низкопробна ни была выражающая ее "теория".
Само собой разумеется, что проповедуемая Пфейфером теория демонического" — чистейшая нелепость. Но эта нелепость очень ловко сконструирована и хитро рассчитана на идеологическую растерянность, которую пережимают широкие слои интеллигенции на Западе. Такие "теории" демагогически отвлекают людей от понимания действительного общественного положения, ведут их в мнимые глубины, окутанные беспросветным мраком, в мир хронического отчаяния, к хейдеггеровскому "nichtende Nicht". Таким образом культивируется своеобразная психология, которая приучает считать отчаяние признаком высшей натуры, изолирует людей, замыкает их в самых себя и одновременно воспитывает в интеллигенции еще и высокомерие, противопоставление людей избранных, якобы постигших сущность мира, — темным массам.
Грубые и неуклюжие фальсификации, о которых мы говорили выше, имеют весьма конкретную политическую цель. Неустанное разоблачение этих фальсификаций — одна из задач борьбы за обманутую интеллигенцию.
Достоевский заблуждается, вида в атеизме преддверие совершенной веры в бога. Правда, такова сущность атеистов, изображенных им самим; но ведь атеизм Нильса Лине у Якобсена или хотя бы атеизм тургеневского Базарова никогда не приведет к религии.
Если бы кому-нибудь удалось изобразить историю атеизма, так чтобы высшим проявлением атеистической мысли оказался Иван Карамазов, то этим была бы проделана серьезная фальсификаторская работа. Подобный труд предпринимают Пфейферы, когда стараются изобразить запоздалого якобинца Гельдерлина или революционного демократа Бюхнера как людей разочарованных, как полумистических бунтарей в духе Бодлера, отчашшихся а 1а Клагес или Хейдеггер. Между тем, к людям типа Хейдеггера нельзя приравнивать даже Бодлера; это было бы тоже подлогом: отчаяние Бодлера всегда вызывалось реальными общественными явлениями, его пессимизм скепсис порождены были слабостью прогрессивных сил враждебных капитализму. Все это не имело ничего общего с империалистической демагогией. Если это верно по отношению к Бодлеру, то тем в большей мере это так у Бюхнера, который, как мы показали выше, мыслил всегда конкретно, исторически и социально. Мышление Бюхнера, в отличие от его фашистских истолкователей, было поэтому глубоко человечным. Когда Бюхнер "впадает в отчаяние" оттого, что в современной ему Германии оказываются невозможным организовать плебейски-демократическую революцию, его ярость и озлобление возвышенны и таят в себе семена будущего; в ненависти Бюхнера к настоящему есть вполне сознательное обращение к лучшим идеалам человечества, к подлинному раскрепощению людей.
Такая же тенденция всегда имеется в отчаянии, охватывающем массы, когда общественный кризис подрывает самые основы их физического и духовного существования. Во всяком случае, в народных массах легко может зародиться протест, содержащий в себе апелляцию к будущему. Художники-мыслители, подобные Бюхнеру, способны пробудить это стремление и помочь массам в уяснении его истинного смысла. Поэтому правильное понимание великих поэтов и мыслителей прошлого представляет для фашизма серьезную опасность. Поэтому фашистам приходится фальсифицировать наследие прошлого, поэтому они и добиваются, чтобы современные представители интеллигенции видели в Бюхнере не опору для своего движения вперед к свету и ясности, но оправдание мрака, царящего в их душе.
Историческая реальность, конкретность мышления — вот лучшее оружие в борьбе против этих фальсификаций. Фашисты преграждают путь к правильному пониманию лучших художников и мыслителей прошлого, воздвигая фантом "вечночеловеческого", "сверхисторического", "сверхсоциального" отчаяния, якобы присущего всем этим великим людям. Наша задача состоит в том, чтобы историческая действительность видна была ясно и отчетливо.
Подлинно великие представители науки и искусства всегда возвышали свой голос в защиту человеческой свободы. Поэтому простая, неприкрашенная историческая правда всегда будет бить фашистских фальсификаторов в лицо. Это видно на любом примере. Мифотворцы современной германской литературной "науки" превратили в пессимиста старшего современника Бюхнера — Ленау. У Ленау, действительно, меньше твердости, чем у Бюхнера. Однако сам Ленау очень определенно объяснил подлинные причины своего "пессимизма". Вот что говорит он о своем положении в конце "Альбигойцев":
Деля судьбу с ушедшими бойцами,
Мы свой удел потомкам открываем:
Пророчески мы радуемся в горе,
Боль не страшна, и смерть в бою неравном.
Пусть в век иной, в дни, радостнее этих,
Потомки спросят и о наших муках.
Откуда ты, угрюмость наших дней,
Поспешность, гнев, разлад души моей?
Перед зарей нас похищает смерть,
И обреченным нетерпенье в тягость.
Так горько долгожданную не видеть
Зарю, и в гроб сойти перед рассветом.
Если в предыдущей части стихотворения еще недостаточно ясно, как понимал Ленау "свободу", то заключительные строфы этого стихотворения не оставляют в этом уже ни малейшего сомнения. Ленау дает длинный, перечень борцов за освобождение, от альбигойцев до народных масс, штурмующих Бастилию; в конце всего этого перечисления он ставит слова: "и так далее". Его отчаяние имеет конкретные, исторические причины, долгое ожидание демократической революции вызывает у него нетерпение, его "пессимизм" вызван жалкой политической жизнью современной Германии, а его надежды на светлое будущее связаны с грядущим осуществлением революции.
При виде наглой и вредоносной фальсификации, которой фашистские писаки подвергают историческую действительность, мы, критики-марксисты, работающие над историей немецкой литературы, не можем не чувствовать своей собственной вины. Мы недостаточно боремся против фальсификаторов — а мы должны и можем это делать. Тем более, несем мы вину за то, что не разоблачили менее грубую, но не менее вредную фальсификацию истории, которая производилась уже давно — в то время когда мы еще имели легальную возможность бороться против нее в самой Германии. Без сомнения, в этом отчасти повинны нелепые методы вульгарной социологии, не учитывающие духовного богатства и сложности великих людей прошлого, как повинны эти методы в том, что правильное марксистское понимание истории не проникло в достаточной степени в массы, что оно не получило до-статочно широкого распространения среди немецкой интеллигенции. Необходимо понять эту вину — не для самобичевания, а для того чтобы наша сегодняшняя работа не была бесплодной.
Нашим друзьям, антифашистским писателям и критикам, также стоит призадуматься над этим фактом. Они должны отдать себе отчет в том — не сделали ли они слишком больших уступок "подготовительной", предфашистской философии эпохи империализма, не были ли они увлечены на ложный путь желанием не отставать от "современных исканий", некритическим восприятием "новейших" философских течений? Быть может, многие из них в своих историко-литературных работах тоже оперировали понятием "отчаяние", лишая его исторического и социального содержания, и тем самым придавали ему абстрактный и вневременный смысл. Многое из их собственной литературной практики предстанет перед ними в несколько ином свете, если они вспомнят, что, например, такая явная пошлость, как установление мнимого сродства между Бюхнером, с одной стороны, и Киркегардом, Достоевским и Хейдеггером, с другой, — не чисто фашистская выдумка. Внимательное чтение работ Гундольфа и ученых трактатов всевозможных "философов истории" последних десятилетий покажет им, что фашисты, делая свое подлое дело, опираются на писания, задуманные, может быть, с совершенно иными намерениями, но, в силу реакционности своего метода, вполне пригодные для использования их на потребу гитлеровской банды.
Разоблачение фашистской демагогии должно быть связано с проверкой своего собственного духовного арсенала как у нас, писателей-коммунистов, так и у всех честных представителей антифашистского фронта.
Генрих Гейне
Марксистская литература слишком мало занимается биографиями великих писателей и художников прошлого. Разумеется, биография отнюдь не является (как это думает большинство буржуазных историков литературы) настоящим ключам к пониманию творчества отдельных писателей. Наоборот, личная жизнь писателя может быть правильно понята, лишь исходя из общественной жизни в целом, из понимания основных общественных тенденций данного периода. И все же марксистское изучение биографии того или другого писателя прежних времен очень ценно для понимания всей буржуазной культуры. Тщательное исследование подобных биографий показало бы, что жизнь всех или почти всех выдающихся писателей капиталистической эпохи была настоящим мученичеством. Мы не говорим уже о тех выдающихся людях, которые физически погибли вследствие бедственного положения писателей в условиях капитализма. Даже те, которым счастливая случайность рождения обеспечила беззаботную в материальном отношении жизнь, большей частью должны были расплачиваться за эту обеспеченность своим собственным творчеством. Те писатели, жизнь которых протекала между двумя крайностями — абсолютной нищетой, с одной стороны, и материальной обеспеченностью — с другой, испытали множество унизительных и ложных положений. Все это явилось серьезной помехой для полного развития их дарований.
1
Гейне происходил из бедной семьи, которая находилась в тесном родстве с богачами, даже мультимиллионерами. Он родился в такую эпоху, когда плодовитые и популярные писатели имели, казалось бы, материальную возможность жить на доходы от своей литературной деятельности, отказавшись от меценатства мелких князей, от чиновничьей карьеры и т. п. Гейне, несомненно, был наиболее популярным и читаемым немецким писателем своего времени. Его стихи и проза выходили в неслыханных ранее тиражах. Издатель Кампе разбогател на его сочинениях. Между тем, сам Гейне никогда не мог жить на свои литературные доходы. Его писания всегда были для него лишь очень неверным побочным заработком, и каждая новая книга, каждое новое издание означало неприятную и часто унизительную борьбу с издателем. Борьбу не только за часть причитавшегося ему гонорара, но вместе с тем и борьбу за верность текста, с которым издательство (под предлогом цензуры) обращалось самым постыдным образом. Для спасения своей литературной чести Гейне неоднократно вынужден был апеллировать к общественности и публично дезавуировать своего издателя. Мы не можем описывать эту мелочную борьбу, заполняющую всю жизнь Гейне. Ограничимся лишь указанием на то, что возражений Гуцкова и его группировки было достаточно для того, чтобы издание второго собрания стихов Гейне в 40-х годах было отложено на многие годы. Клика Гуцкова самочинно изменила название книги Гейне о Берне, чтобы затем публично напасть на того же Гейне за "претенциозное" заглавие.
Невозможность поставить себя в материально независимое положение оказалась роковой для всей частной жизни Гейне и отразилась на его политической деятельности. Она привела Гейне к унизительной зависимости от богатой родни, от семьи гамбургского миллионера Соломона Гейне. Правда, эта зависимость началась уже в ранней молодости — Гейне учился на средства своего богатого дяди, — но вышеуказанные обстоятельства заставили Гейне навсегда остаться в унизительной зависимости от богатых родственников. Мелкобуржуазные моралисты из числа биографов Гейне упрекают его в легкомыслии и расточительности. Они возлагают вину на самого поэта. Действительно, Гейне никогда не был аскетом. Он родился и вырос в наиболее развитой части тогдашней Германии, в Рейнской области, и по рождению принадлежал к общественному классу, который энергично взялся за дело завоевания экономического и политического могущества. В течение всей своей жизни Гейне был человеком широкого размаха и брызжущей жизнерадостности. Отрицание мелкобуржуазного аскетизма является одним из существенных элементов его мировоззрения и поэтической деятельности. И по характеру своего дарования Гейне должен был вести жизнь, требующую относительно широкой материальной основы. Сама по себе его литературная деятельность могла бы представить ему эту возможность, но этого не позволяли более широкие условия капиталистического общества. Помощь родных — очень значительная с точки зрения мелкобуржуазных моралистов была по сравнению с состоянием гамбургских миллионеров сущим пустяком, какими-то "чаевыми". Максимум того, что Гейне получал от своих родных, была ежегодная рента в 4.800 франков. Не будем подробно описывать унизительную трагикомедию взаимоотношений Гейне с его богатыми родственниками. Он сам поэтически описал замок и сады своего дяди — место, где протекла юношеская любовь поэта к дочерям Соломона Гейне.
Проклятый сад! В нем нет угла, Где б сердца злость не отравляла И где бы слез моих не пало, Которым не было числа. Не счесть и тяжких оскорблений! Во всех углах я был язвим То речью, полной ухищрений, То словом грубо площадным.Когда Соломон Гейне, обещавший поэту закрепить за ним ренту, умер, не сделав этого в своем завещании, его наследник в течение нескольких лет отказывал Гейне в каком бы то ни было денежном пособии. Только в результате глубокого унижения Гейне добился "милости" получать опять ежегодную ренту и закрепить половину ее после своей смерти за своей женой. По поводу "примирения" со своим богатым двоюродным братом Карлом бедный Гейне писал в своем завещании следующее: "Да, oн обнаружил здесь снова все благородство своего характера, всю свою любовь, и когда он в залог своего торжественного обещания протянул мне руку, то я прижал ее к своим губам, настолько глубоко я был потрясен; и до чего же он похож был в этот момент на своего покойного отца, моего бедного дядю, которому я так часто в детстве целовал руку, когда он делал мне что-нибудь приятное!" К этому унизительному акту торжественного примирения существует поэтический комментарий самого Гейне, в котором, разумеется, не называется имя Карла:
Сетуй, жалуйся ты, сердце, Если в этом есть отрада, Но о нем — о нем ни слова… Вспоминать его не надо! Вспоминать о нем не надо — В песнях, в книгах… В царстве мрака, В смрадной яме, мною проклят, Пусть гниет он, как собака.Ценой "семейного великодушия" явилось уничтожение мемуаров Гейне. Это произведение, которому он в течение всей своей жизни придавал величайшее значение, исчезло, так как родные Гейне боялись разоблачения истинных условий жизни поэта.
Мой язык, когда умру я, Тотчас вырвут, может быть, Из боязни, что, воскреснув, Стану вновь я говорить.Эти условия жизни Гейне нужно иметь в виду, для того чтобы правильно понять его публицистическую и политическую деятельность. У Гейне было немало попыток компромисса с глубоко ненавистными ему силами феодально-абсолютистской Германии. Еще в молодости Гейне добивается в качестве популярного писателя профессуры в Мюнхене и поручает своему издателю, Котта, сообщить правительству, что он на деле далеко не так радикален, как это кажется по внешности. Перед Июльской революцией и после нее Гейне поручает своему другу, Варнгагену фон Энзе, узнать у прусского правительства, нельзя ли найти какой-нибудь modus vivendi между поэтом и властью. Принятие субсидий от правительства Гизо является величайшим политическим скандалом в жизни Гейне, но оно далеко не так позорно, как эти неудавшиеся попытки компромисса. Когда дело о субсидии было публично разоблачено в 1848 году, Гейне сослался на Маркса. Маркс никогда публично не дезавуировал Гейне. Но он писал по этому поводу Энгельсу: "У меня имеются теперь три тома Гейне. Между прочим, он рассказывает подробно выдумку о том, как я и другие приходили утешать его, когда "Аугсбургская всеобщая газета" "напала" на него за получение денег от Луи-Филиппа. Добрый Гейне нарочно забывает, что мое вмешательство в его пользу относится к концу 1843 года и, следовательно, не могло иметь ничего общего с фактами, ставшими известными после февральской революции 1848 года. But let it pas (Но пусть его.) Мучимый нечистой совестью, — ведь старой собаки чудовищная память на всякие такие гадости, — он старается льстить"[1].
Эти темные тени на портрете Гейне неустранимы. Чтобы правильно понять их, нужно, во-первых, знать материальную подоплеку его жизни и, во-вторых, надо связать эти жизненные факты с общей картиной его литературной деятельности. Было бы, разумеется, неверно механически сводить колебания и компромиссы Гейне к шаткости его материального положения, целиком объяснять этим положением эпикурейское непостоянство Гейне, "макиавеллизм" его образа жизни. Рахиль Варнгаген резко критиковала беспринципность молодого поэта: "Вы не должны стать Брентано, я этого не допущу!.. Гейне должен стать "положительным", хотя бы это стоило ему порки". А Энгельс в одном из позднейших писем к Марксу сравнивает Гейне с Горацием": "Старик Гораций напоминает мне местами Гейне, который многому у него научился, а В политическом отношении был, по существу, таким же прохвостом. Представьте себе этого честного человека, бросающего вызов в vultus instantis tyranni (лицо присутствующего тирана) и ползающего на брюхе перед Августом. Помимо этого, старый похабник все же бывает очень милым"[2].
Само собою разумеется, что, несмотря на публичные попытки отрицания, сам Гейне довольно хорошо сознавал свои политические слабости. Так, защищая характер Вольтера против нападок Альфиери, он как бы защищает самого себя: "К Вольтеру, однако, несправедливы, когда утверждают, что в нем не было такого воодушевления, как у Руссо; он был только немного умнее и ловчее. Беспомощность всегда ищет убежища в стоицизме и лаконически негодует при виде чужой ловкости. Альфиери делает Вольтеру упрек, что он как философ писал против знати, а как камергер нес перед ней светильник. Мрачный пьемонтец не замечал, что Вольтер, так услужливо несший светильник пред великими мира, а то же время освещал их наготу".
Эта форма иронической "тактики", конечно, не является извинением за частые политические колебания Гейне. Но, с другой стороны, необходимо постоянно иметь в виду, что основная линия литературной деятельности Гейне, несмотря на все его попытки компромисса, представляла собою умную и беспощадную борьбу против немецкого абсолютизма, и даже "хвалы", которые он часто расточал июльской монархии, почти всегда были проникнуты довольно прозрачной иронией. Умный и беспринципный секретарь князя Меттерниха, Фридрих Генц, понимал это и оказывал неофициальное давление на Котту, настаивая на том, чтобы он не печатал парижских корреспонденции Гейне в "Аугсбургской всеобщей газете". Публицистическая деятельность Гейне была непрестанной партизанской борьбой с цензурой за влияние на широкие круги общества. Он всегда презирал небольшие эмигрантские газетки, не имевшие распространения ни в Германии, ни во Франции, он боролся за широкие круги читателей, вырабатывая себе совершенно особый иронический стиль, чтобы вопреки цензуре излагать политические вопросы. Его возраставшие симпатии к социализму, его усилившееся под влиянием сен-симонизма равнодушие к политическим формам правления буржуазии помогли ему выработать подобного рода литературную тактику. Своему другу Лаубе Гейне дает в письме следующий совет: "В политических вопросах вы можете делать сколько вам угодно уступок, ибо политические государственные формы правления являются только средством; монархия или республика, демократические или аристократические учреждения стоят друг друга, до тех пор пока не решена борьба за самые основные жизненные принципы, за самую идею жизни… Разграничивая так вопрос, можно успокоить бдительность цензуры, ибо нельзя запретить обсуждения вопросов религии и нравственности, не уничтожая тем самым всей протестантской свободы мышления и суждения; в этом пункте мы приобретаем поддержку у филистеров… Вы меня понимаете". То, что здесь не имеется в виду политический компромисс или какое-нибудь двурушничество, видно из позднейшего письма Гейне к тому же Лаубе: "Нам необходимо итти рука об руку с "Галльскими ежегодниками" и "Рейнской газетой", мы нигде не должны скрывать наших политических симпатий и социальных антипатий…"
Поэтому, констатируя все колебания Гейне, мы, при оценке основной линии его публицистической деятельности, не можем делать каких бы то ни было уступок современным ему мелкобуржуазным критикам. Последние упрекали Гейне в "индиферентизме", даже в отходе от освободительного движения, в монархизме и т. д. Разумеется, в писаниях Гейне имеется множество мест, которые, будучи вырваны из контекста, могли бы подтвердить подобные обвинения. Но, если читать их добросовестно, то в большинстве случаев видишь, что они отчасти иронического xapaктеpa, отчасти же являются выражением политической тактики Гейне (а также, конечно, его иногда весьма рискованной "личной тактики").
В Париже Гейне часто высказывался за монархию, за июльскую монархию. Но умные реакционеры лучше понимали цену этим "признаниям", чем ограниченные мелкобуржуазные республиканцы. Так, Фридрих Генц в упоминавшемся уже письме к Котте по поводу гейнезеких корреспонденции из Парижа говорит: "Бог с ними, с дворянством и духовенством, с ними покончено: requies-cat in расе! Но когда люди вроде Перье и его сторонников, т. е. служащие, банкиры, помещики и лавочники, подвергаются еще большим нападкам, чем прежние князья, графы и бароны, то кому же в таком случае остается управлять государством?" На этом основании Генц требует от Котты не печатать корреспонденции "возмутительного авантюриста" Гейне. Таким образом, при всей своей иронической тактике, Гейне имел полное право, считать себя честным солдатом великой освободительной борьбы.
И если под шерстью овечьей, в тепле, Любил я порою укрыться — Поверьте, я все ж не дошел до того, Чтоб счастьем овечьим плениться. Нет, и не сродни ни трескам, ни овцам, Не буду ни псом, ни гофратом; Я волком остался, волкам по зубам, Волкам и по сердцу собратам.Ироническое отношение Гейне ко многим политически актуальным вопросам имеет, однако, еще одно важное объективное основание, теснейшим образом связанное с лучшими качествами Гейне. Для более или менее внимательного наблюдателя в жизни Гейне есть удивительный парадокс: это был бесспорно наиболее популярный немецкий писатель своего времени, и все же, когда читаешь его интимные признания, то видишь, что он провел почти всю свою жизнь в ужасающем одиночестве. Дружеские отношения с большинством близких ему лиц (Варнгагеном фон Энзе, Иммерманом, Лаубе, Мейснером и др.) Гейне удалось сохранить лишь благодаря очень осторожной дипломатии с его стороны. Источником этого одиночества и необходимой в этой связи дипломатии были не какие-нибудь личные психологические особенности Гейне и отнюдь не его еврейство, которому антисемитские критики и сионистские защитники Гейне всегда придавали такое большое значение. В противоположность тем и другим, мы полагаем, что Гейне как поэт и мыслитель теснейшим образом связан с историческим развитием Германии, что его одиночество не имеет никакого отношения к еврейскому происхождению, точно так же, как оно не играло значительной роли в жизни Людвига Берне или в жизни Маркса. Берне был теснейшим образом связан с движением немецкой радикальной мелкой буржуазии, а Маркс — с движением немецкого пролетариата, так что оба они, каждый по-своему, шли нога в ногу с развитием определенного класса своей родной страны. Гейне не был прямо и непосредственно связан с каким-нибудь классом, с какой-нибудь политической партией в Германии. В своей эволюции он далеко опередил исторические горизонты радикальной мелкой буржуазии. Духовное развитие нашего поэта привело его к сравнительно глубокому пониманию исторической роли пролетариата, но он еще не сумел примкнуть к революционному пролетариату. Поэтому в течение всей своей жизни Гейне колебался между буржуазной и пролетарской демократией. Он очень рано понял, что партийная борьба и лежащая в основе ее классовая борьба далеко превосходит по своему значению национальные противоречия, но он никогда не мог полностью, безоговорочно примкнуть к какому-нибудь классу, к какой-нибудь партии. В качестве немецкого интеллигента Гейне иногда высоко ценил эту "независимость", эту надпартийность. Вот в каком тоне он описывает, например, разговор со своей матерью:
А матушка снова меня начала Расспрашивать весело, живо О тысяче разных вещей и при том — О том, что весьма щекотливо. — Дитя мое милое! Как ты теперь? К политике все еще падок? Скажи, по твоим убежденьям, какой Нужней в государстве порядок? — Мамаша, вкусны апельсины твои, И сладостный сок их глотаю Всегда с наслаждением истинным я, А корки на землю бросаю.Но в бурной политической и литературной борьбе, заполнявшей жизнь Гейне, он не мог сохранить эту позицию "splendid isolation"; ему нужны были спутники и союзники. И повсюду, где только можно было найти некоторое единодушие в политических, философских и литературных вопросах, Гейне судорожно хватался за него и старался, насколько возможно, игнорировать существовавшие и ясные для него расхождения. Временами, однако, обнаруживалось, что все это единодушие объективно покоилось на очень шаткой основе. Так, Винбарг однажды спросил у Гейне: действительно ли он считает Иммермана таким великим поэтом? Гейне вначале хвалил Иммермана. "После краткого молчания он тихонько прибавил: "Но чего вы хотите, так ужасно быть совсем одиноким". Так же обстояло дело и с другими дружескими отношениями вашего поэта.
Гейне духовно перерос буржуазную демократию, он понял, как никто кроме него в Германии до Маркса и Энгельса, историческую роль и значение пролетариата, но он все же никогда не сделался пролетарским революционером… В этом настоящий ключ к одиночеству Гейне, этим объясняется также, почему этот великолепный революционный поэт, предоставленный самому себе, не имеющий возможности опереться в своей борьбе против государства и буржуазного общества на какой-нибудь класс или партию, должен был пройти через столько колебаний, итти на такие унизительные компромиссы. При всем этом Гейне остался верен основному направлению своей жизни. Он мог с полным правом сказать о себе в позднейшем стихотворении:
Забытый часовой в войне свободы, Я тридцать лет свой пост не покидал; Победы я не ждал, сражаясь годы; Что не вернусь, не уцелею — знал.2
Физиономия Гейне определяется его позицией немецкого революционера в период, предшествовавший 1848 году. Июльская революция и переселение в Париж сделали из чего революционного публициста европейского значения. Немецко-французские ежегодники" и левое крыло революционеров 40-х годов имели в Гейне своего Иоанна-Предтечу. Но общеевропейский, немецко-французский характер публицистики Гейне не уменьшает центрального значения германской революции для всей его деятельности. Наоборот: более глубокое понимание классовой структуры общества и роли пролетариата в революции делают из Гейне более сознательного и решительного немецкого революционера. Правда, как мы сейчас увидим, это привело к углублению противоречий во всем мировоззрении Гейне.
В "Немецко-французских ежегодниках", созданных в период близкой личной дружбы между Марксом и Гейне, Маркс дает глубокий анализ обстановки в Германии, анализ, который очень подходит для объяснения гейневской публицистики и ее противоречий. Маркс исходит из отсталости Германии, но рассматривает эту отсталость в широкой международной связи с перспективами грядущей революции. Германия стоит перед буржуазной революцией, но в такой период, когда в более развитых странах, во Франции и Англии, классовая борьба между буржуазией и пролетариатом стала уже центральным вопросом общественного развития. Германские, условия являются, таким образом, по словам Маркса, анахронизмом. "Даже отрицание нашей политической современности является уже покрытым пылью фактом в исторической кладовой новых народов… Отрицательно относясь к немецким порядкам 1843 года, я по французскому летоисчислению едва нахожусь в 1789 году, тем менее в самом фокусе современности".[3] Это глубокое понимание национального и международного положения Германии приводит в дальнейшем развитии Маркса к тактике "Коммунистического манифеста", к пониманию ведущей роли пролетариата в буржуазной революции, к перспективе перерастания буржуазной революции в пролетарскую. С этой точки зрения Маркс устанавливает задачи немецкого революционного публициста. Во главу угла Маркс ставит критику идеологии, в особенности критику немецкой философии, как бы оправдывая этим деятельность Гейне в 30-х годах. "Подобно тому как древние народы переживали свою доисторическую эпоху в воображении, в мифологии, так мы, немцы, переживаем нашу будущую историю в мыслях, в философии. Мы — философские современники действительности, не будучи ее историческими современниками. Немецкая философия — идеальное продолжение немецкой истории. Когда, следовательно, вместо oeuvres incompletes нашей реальной истории мы критикуем oeuvres pasthumes нашей идеальной истории, философию, то наша критика находится среди вопросов, о которых современность говорит: "that is the question"[4]
Противоречия социально-политической обстановки в Германии были для Гейне, еще до знакомства с Марксом, определяющим моментом его публицистики. Политическая публицистика Гейне имеет два направления. С одной стороны, она является критикой социального, политического и культурного развития Франции в период июльской монархии, причем в центре внимания все более оказывается классовая борьба пролетариата против буржуазии. С другой стороны — это популярное, сделанное широкими мазками изложение и критика немецкой идеалистической философии, а также немецкой классической и романтической поэзии. Публицистика Гейне весьма содействовала установлению всемирно-исторического значения философии Гегеля; она означала "выбалтывание школьного секрета" гегелевской философии, по собственному выражению Гейне. Гейне доказывал, что с Гегелем философский круг завершен, идейные предпосылки революции в Германии подготовлены и в порядке дня стоит переход от философии к действию, к практической революции, к уничтожению прогнившего абсолютизма.
Публицистика Гейне отражает те же самые противоречия общественной жизни Германии, которые в завершенной теоретической форме были сформулированы Марксом. Разница только в том, что Маркс понял диалектическую внутреннюю связь этих противоречий и установил, что они являются объективным двигателем революционного развития, между тем как Гейне констатировал эти противоречия, но сам не сдвинулся с места и при всем сиянии своегo мощного духа беспомощно метался от одной крайности к другой. Гейне нанимает необходимость грядущего возвышения пролетариата, В распространении капитализма, росте и усилении рабочего класса он видит необходимое и международное явление. Он видит также, как велика разница в развитии между Францией и Англией, с одной стороны, и Германией-с другой, но из этого понимания он не может сделать конкретных и вполне реальных выводов, не может вывести революционной перспективы для немецких стран. Такую же неуверенность Гейне проявляет и в оценке перспектив развития Франции. В настоящее время нетрудно судить свысока о "политической неопытности" поэта Гейне. Но если внимательно рассмотреть немецкую политическую публицистику 40-х годов, даже после выступления Маркса и Энгельса (не говоря уже о 30-х годах), то мы увидим, что нет ни одного публициста, который мог бы подняться на ту высоту, которой достигла политическая проза Гейне при всех его противоречиях. Германские радикалы были либо вульгарными, ограниченными "революционерами", для которых ликвидация раздробленного на мелкие государства абсолютизма совершенно заслоняла все социальные вопросы (типичный представитель немецкого радикализма — Гейнцен); либо это были расплывчатые и часто реакционные утописты, которые в мечтах о "чисто социалистической" революции забывали конкретные задачи революционного уничтожения пережитков феодализма ("истинные социалисты"). В противоположность обоим этим направлениям гейневская публицистика стоит на исключительной высоте; Гейне ближе к революционной точке зрения Маркса и Энгельса, чем какой бы то ни было другой из его современников, за исключением очень немногих сознательных членов "Союза коммунистов".
Преклонение перед французской революцией было решающим переживанием молодого Гейне. В сохранившемся фрагменте мемуаров поэта есть любопытное место, в котором говорится о двух страстях, наполнявших всю его жизнь: о "любви к красивым женщинам и любви к французской революции, современному furor francese, которым и я был охвачен в борьбе с ландскнехтами средневековья". Детство Гейне прошло в оккупированном наполеоновскими войсками Дюссельдорфе, и его преклонение перед французской революцией, особенно вначале, было слито воедино с культом Наполеона. Рахиль Варигаген видит бонапартистские иллюзии даже в некоторых частях "Путевых картин". Но уже под влиянием публицистической борьбы в Германии накануне Июльской революции мировоззрение Гейне становится все более и более радикальным. Еще до своего переселения в Париж Гейне пишет, что он преклоняется перед Наполеоном только до 18 брюмера, т. е. признает его только душеприказчиком французской революции. Революционность Гейне в дальнейшем приобретает плебейский акцент. Уже в своей юношеской драме "Ратклиф" он ставит — хотя и в очень туманном и эпизодическом виде — "вопрос желудка", социальный вопрос. Восторженно приветствуя Июльскую революцию, Гейне вкладывает в уста одного рыбака слова: "Бедняки победили".
Разумеется, Гейне уже и тогда не вполне разделял иллюзии гельголландского рыбака. Он считал еще тактически правильным, особенно для Германии, направить революционную борьбу исключительно на ликвидацию пережитков феодализма. Но Гейне знал уже что революция должна перерасти эти рамки, и со своей стороны приветствовал это перерастание.
Перед отъездом в Париж он написал Варнгагену по поводу последнего, вышедшего в Германии тома "Путевых картин": "Книга умышленно так одностороння. Я очень хорошо знаю, что революция охватывает все социальные интересы и что дворянство и духовенство не являются ее единственными врагами. Но для ясности я изобразил их единственными находящимися в союзе врагами, с тем чтобы усилить атаку. Сам я еще гораздо более ненавижу буржуазную аристократию".
Антикапиталистические тенденции мировоззрения Гейне которые ярко выразились уже во время его пребывания в Англии (перед Июльской революцией), развились и укрепились благодаря его наблюдениям над монархией Луи-Филиппа в Париже. Гейне яснее видит, что в прежних революциях пролетариат, плебейская масса, народ были только пушечным мясом и таскали каштаны из огня для буржуазии. Спустя девять лет после Июльской революции Гейне следующим образом комментирует место о победе бедняков: "Это уже довольно старая история. Не за себя с незапамятных времен народ истекал кровью и страдал не за себя, а за других. В июле 1830 года он добился победы для буржуазии, стоящей того же, что и дворянство, место которого она заняла, и пропитанной тем же самым эгоизмом… Народ ничего не добился для себя своей победой, кроме сожалений и еще большей нужды. Но будьте уверены: когда опять прозвучит набатный колокол и народ снова возьмется за оружие, то на этот раз он будет бороться за себя самого и потребует заслуженного вознаграждения".
Франция тех социальных групп, которые шли под лозунгом "обогащайтесь", дает бесконечное множество поводов для насыщенной ненавистью иронии Гейне. Он не только издевается над всеобщей продажностью июльской монархии, железнодорржными спекуляциями и т. п., но одновременно разоблачает мелочный торгашеский дух французского капитализма, подчиняющего все великие интересы нации биржевым интересам буржуазной аристократии. "Казимир Перье унизил Францию, чтоб повысить биржевые курсы". Гейне наблюдает также (подобно Бальзаку) за растущей зависимостью литературы и прессы от власти капитала, за ее растущей подкупностью. Он беспрестанно издевается над вырождением любви в различные формы легальной и нелегальной проституции. Он наблюдает, как прежние борцы за народное дело постепенно увлекаются грязным потоком капитализма, как, например, некогда пострадавшие за свои идеи сен-симонисты стали буржуазными спекулянтами широкого масштаба. Он иронически отписывает парижскую биржу, "выстроенную в благороднейшем греческом стиле и посвященную гнусному делу — спекуляции государственными бумагами".
Наполеон велел ее построить одновременно с храмом славы и в том же стиле. "Ах, постройка храма славы не была закончена… зато биржа высится во всем своем блеске, и ее влиянию надо приписывать то, что ее более благородный соперник, храм славы, все еще остается недостроенным…"
Поэт Гейне, — как_ и большинство его современников, выдающихся художников, живших после французской революции- ненавидит капитализм прежде всего за то, что он с искореняет или покрывает грязью всякий героизм, подлинное человеческое величие. Упадок трагедии Гейне объясняет господством буржуазии. "Этим умалением всякого величия и радикальным истреблением героизма мы особенно обязаны буржуазии, этому сословию, которое, вследствие падения родовой аристократии, добилось во Франции господства и доставило победу во всех сферах жизни своим узким торгашеским наклонностям. Пройдет еще немного времени, и все героические мысли и чувства должны будут если не совсем погаснуть здесь, то по крайней мере сделаться посмешищем… Люди мысли, так неутомимо подготовлявшие революцию в XVIII столетии, покраснели бы, если бы увидели, для каких людей они работали".
Преклонение Гейне перед Наполеоном отступило на задний план, но сохранилось в несколько видоизменен- ном виде — как оппозиция против мелочности Луи-Филиппа и его монархии, как прославление героического периода, который начался с эпохи Возрождения и закончился в битвах французской революции. В этот более зрелый период своей деятельности Гейне дает новую оценку значения Наполеона для развития Германии и Европы. Он указывает, что без французской революции и Наполеона классическая немецкая философия была бы задушена в зародыше реакционными мелкими деспотами. Он подчеркивает, что при Ватерлоо Наполеон и французы сражались не только за свое собственное дело. Наполеон и Веллингтон противостояли друг другу как знаменоcцы демократии и аристократической реакции. Так пишет Гейне.
Ненависть его против капитализма, против разрушения культуры и человеческого достоинства не имеет романтического характера. Убожеству капиталистического мира Гейне противопоставляет революционный подъем героического периода буржуазного общества и перспективу грядущих революций, а не покрытую плесенью идиллию примитивных докапиталистических отношений. В "Путевых картинах" он пишет о спокойном счастьи средневековья и расцвете искусства в эту эпоху. Но дух, говорит Гейне, перешагнул через нее и — безвозвратно. Можно поставить вопрос: счастливее ли в настоящее время человечество? На этот вопрос нелегко будет ответить в положительном смысле; "но мы знаем также, что счастье, которым мы обязаны лжи, — не истинное счастье, и что за несколько отдельных, отрывочных минут более богоподобного состояния, более высокого духовного подъема нами может быть испытано больше счастья, чем за целые годы прозябания в условиях тупой, догматической веры". Позднее Гейне ставит этот вопрос материалистически. Он понимает, что развитие промышленности подрывает основу феодализма и его идеологии, и при всей остроте своей критики капитализма признает его неизбежный и прогрессивный характер. Он называет однажды Ротшильдов "самыми могучими пособниками революции". "Я вижу в Ротшильде одного из величайших революционеров, создавших современную демократию. Ришелье, Робеспьер и Ротшильд-это для меня три террористических имени, символизирующих постепенное истребление старой аристократии. Ришелье, Робеспьер и Ротшильд- три самых грозных уравнителя Европы".
Критика капиталистического общества перерастает у Гейне в уверенность, что дни этого общества сочтены. "Новое буржуазное общество, в упоении земными наслаждениями, хочет как можно быстрее осушить последний кубок, подобно старому дворянскому обществу перед 1789 годом… И оно слышит уже в коридоре, мраморные шаги новых богов, которые войдут в банкетную залу, не постучавшись предварительно, и опрокинут стол".
Ненависть и презрение Гейне так велики, что он недооценивает силу сопротивления буржуазии в случае пролетарского 1789 года. "Буржуазия будет сопротивляться еще гораздо меньше, чем сопротивлялась прежняя аристократия, потому что старое дворянство, несмотря даже на свою жалкую слабость, на свою вялость вследствие безнравственности, на свою испорченность вследствие куртизанства, все-таки было воодушевлено известным point d'honneur, которого нет у нашей буржуазии, процветающей благодаря духу промышленности, но и осужденной вследствие этого на гибель".
Буржуазии, по мнению Гейне, недостает веры в свое право, ей нехватает самоуважения; буржуазное общество легко развалится.
Эта недооценка трудности свержения буржуазии вытекает у Гейне не только из его вполне обоснованного презрения к представителям буржуазии, которых он мог наблюдать очень близко, но вместе с тем и из его преклонения перед подлинными героями этого времени — демократическими и пролетарскими революционерами. Баррикадная борьба у монастыря Сен-Мэри является в глазах Гейне единственным героическим подвигом его эпохи; позднее он преклоняется перед восстанием силезских ткачей, а в пору своего величайшего разочарования в февральской революции Гейне снова и снова подчеркивает героизм рабочих. Он видит в этих людях достойных наследников героических революционеров прошлого.
Однако здоровый исторический инстинкт и поэтическое чутье Гейне заставляют его настороженно относиться к попыткам возрождения эпохи Конвента. Он скорее чувствует, чем понимает, что якобинцы июльской монархии являются "плагиаторами прошлого". В начале 30-х годов он присутствует на докладе известного революционера Бланки и полностью с ним соглашается. Но свое впечатление от этого доклада он резюмирует следующим образом: "От собрания пахло совсем как от зачитанного, липкого экземпляра "Moniteur" 1793 года".
Гейне питает недоверие и к немецким подражателям якобинизма. Он обладает более глубоким пониманием революции, чем Берне, сохранивший иллюзии якобинизма. IB то же время Гейне знает что "Moniteur" 1793 года, над которым он издевался в Париже, является знаменем революции для Германии. "В нем есть слова заклинания. Слова, которыми мертвых вызывают из их могил, а живых посылают на смерть, слова, которые обращают карликов в великанов, а великанов повергают в прах, слова, которые рассекают все ваше могущество, как топор гильотины рассекает королевские шеи".
Инстинктивно лавируя между противоположностями и не умея связать их в диалектическое единство, Гейне угадывает все же национальный характер грядущей германской революции. Он неустанно издевается над романтикой а 1а Фридрих Барбаросса, над грезами о возрождении старой Германии и ее черно-красно-желтого национального флага. Но в предисловии к "Зимней сказке", где ирония особенно глубока и насыщена горечью, Гейне пишет: "Я буду чтить и уважать ваши цвета, когда они, будут того заслуживать, когда они перестанут быть забавой людей праздных или холопов. Водрузите черно-красно-золотое знамя на вершине немецкой мысли, сделайте его штандартом свободного человечества, и я oт-дам за него лучшую кровь моего сердца".
Он объясняет немцам, что они сумеют вернуть себе Эльзас-Лотарингию только в том случае, если Германия предложит эльзасцам большую свободу, чем Франция. Это более широкое понимание содержания немецкой революции обнаруживается повсюду, где Гейне расходится с Берне и другими вульгарными демократами. Гейне понимает, что центральным вопросом немецкой революции является восстановление национального единства. Он так же, как Берне, издевается над сервилизмом так наз. "Освободительных войн". Но для Гейне ясно, что в период Реставрации националисты волей-неволей должны были примкнуть к либеральному движению и могли оторваться от либералов лишь по прошествии долгого времени, в результате диференциации, вызванной поражениями. "Да, армия немецких революционеров кишела прежними тевтономанами, которые кисло лепетали современные лозунги и даже пели Марсельезу… Но все же дело шло об общей борьбе за общие интересы, за единство Германии… Наше поражение — пожалуй счастье…" Берне осуждает Менцеля как ренегата только с моральной точки зрения, тогда как Гейне видит также общественное движение, результатом которого является ренегатство Менцеля.
Отношение Гейне к республике насыщено рядом противоречий. Но эти противоречия коренятся отчасти в самой проблеме. Резюмируя опыт революции 48-го года, Маркс говорит, что "республика является вообще только политической формой, революционизирующей буржуазное общество, а не охранительной формой жизни этого общества" [5]. Гейне чувствует, что отношение буржуазии к республике неразрывно связано с общим характером республиканской формы правления. "Да, республики прежнего сорта, даже маленькой доли робеспьеризма, французская буржуазия не испугалась бы, она легко примирилась бы с этою формою правления, и спокойно стояла бы на часах у Тюильри, и охраняла бы его, не обращая внимания на то, чья тут резиденция: Людовика-Филиппа, или какого-нибудь Comite du salut publique, ибо буржуазия прежде всего желает порядка и защиты существующего права собственности — желание, которому республика может удовлетворять точно так же, как монархия. Но эти лавочники, как выше сказано, инстинктивно чувствуют, что в настоящее время республика не могла бы уже быть представительницей принципов 90-х годов, что она сделалась бы только формой, в которой получило бы силу новое, неслыханное господство пролетариата со всеми догматами общности имуществ. Эти лавочники — консерваторы вследствие внешней необходимости, а не внутреннего побуждения, и страх служит здесь опорою всех вещей".
В связи с этим Гейне рассматривает Луи Филиппа как "великого пожарного, который тушит пламя и предотвращает всеобщий мировой пожар". Таким образом, вопрос о республике теснейшим образом связан с тем "вторым актом" революции, который должен привести пролетариат к власти.
В этом вопросе наиболее ясно обнаруживается глубочайшая раздвоенность мировоззрения Гейне, его колебания между обоими большими классами буржуазного общества. Жалкий исход февральской революции был одним из глубочайших разочарований в жизни Гейне. Он осыпает вождей ее — Луи-Блана, Ламартина и прочих- горькими насмешками. Но Гейне скорбит не только потому, что в июньской бойне рушились его ожидания "второго акта" революции. Он в то же время испытывает страх перед их осуществлением. Окончательную победу пролетариата Гейне считает неизбежной и в то же время дрожит перед этой победой, которая кажется ему гибельной для высоко развитой культуры.
Противоречие между пониманием необходимости краха буржуазной культуры и восприятием этого краха как мировой катастрофы нередко встречается у великих писателей этого периода. Бальзак также понимал внутренние противоречия буржуазного общества, ведущие его к гибели, и вместе с тем он видел в этой гибели падение цивилизаций. С Гейне дело обстоит гораздо сложнее. В противоположность Бальзаку он считает требования пролетариата естественными и необходимыми. Гейне отлично понимал, что никакая декларация прав человека в духе революции 1789–1793 гг. не может обеспечить наиболее существенного, наиболее священного права-права на хлеб. Неопровержимость коммунизма заключается, по мнению Гейне, именно в том, что это право на хлеб существует, а современное общественное развитие делает его удовлетворение материально осуществимым. В позднейшем стихотворении "Странствующие крысы" Гейне издевается над мещанским страхом перед пролетарской революцией:
Тщетны все усилья, бедненькие дети! Ах, ни эти пушки, ни молитвы эти, Ни указы мудрых городских властей Не спасут вас нынче от таких гостей, Не спасут и фразы, доводы рассудка На манер известный новая погудка… Крысу не поймаешь в тонкий силогизм, Крыса перепрыгнет чрез любой софизм. Ах, в желудке тощем пониманье тупо: Признает он только аргументы супа, Подчиниться может логике одной — Мяса с геттингенской сочной ветчиной.Но Гейне не останавливается на признании этой материальной необходимости осуществления требований пролетариата. Он с величайшим вниманием наблюдает за отражением развития пролетариата в эпоху июльской монархии в духовной жизни Франции. Он является, пожалуй, единственным писателем этого времени, который понимает наличие связи между пролетарским движением и, казалось бы, очень далекими от него утопическими теориями. Гейне рано предсказывал, что пролетарское движение и социалистическая теория объединятся друг с другом и что в этом соединении должны раствориться iBce утопические секты. Поэтому главным героем его парижских корреспонденции, особенно в начале 40-х годов, является пролетариат. Луи-Филипп только статист, говорит Гейне в письме по поводу своей книги "Лютеция". "Герой моей книги, подлинный герой ее, — это только социальное движение…" В другом месте Гейне иронически описывает положение корреспондента. Оно похоже на положение римлянина, который писал бы не о великих интригах вокруг императорского дворца, а о невежественной и преследуемой кучке первых христиан. Гейне выдвигает при этом коммунистов как "единственную партию во Франции, заслуживающую серьезного внимания". При этом сравнительно очень глубоком понимании революционного движения пролетариата еще более резко выступает боязнь разрушения культуры.
Союз социалистической теории с революционным рабочим движением остается у Гейне теоретическим постулатом, в лучшем случае афористическим признанием необходимости. Но это соединение никогда не становится практическим, конкретным познанием. Перспектива социализма остается висеть в воздухе. Гейне тонко наблюдает факты и тенденции развития буржуазного общества, выводя из этого необходимость социалистического переворота. Но этот переворот предстает в его воображении как фантастические сумерки буржуазного общества, внезапное наступление новой мировой эпохи. В мировоззрении Гейне недостает всех конкретных посредствующих звеньев. Он не имеет никакого представления о социалистической революции как конкретном историческом процессе. В этом отношении Гейне остался на утопической точке зрения: социализм является для него статическим мировым состоянием будущего. Он все еще остается гегельянцем и сен-симонистом.
Будучи разносторонне образованным человеком, Гейне никогда не занимался вопросами политической экономии. В этом также заметна его отчужденность от рабочего движения. При всем сочувствии к социалистической революции, при всем преклонении перед героизмом борющихся рабочих Гейне не мог перекинуть мост через, пропасть, которая отделяла его от пролетарской массы. Было бы грубым упрощением видеть в этом только интеллектуальный "аристократизм" поэта Гейне. Конфликт обусловлен был объективными противоречиями тогдашней стадии революционного рабочего движения. Рабочее движение еще не преодолело в эту эпоху примитивного аскетизма в уравнительном духе. Это преодоление было сложнейшим, запутанным и полным противоречий процессом. Вспомним хотя бы о борьбе Энгельса в Париже против примитивной "грубоватости" ремесленного коммунизма. Благодаря своей гегельянской форме сенсимонизма Гейне идейно, но только идейно, перерос этот примитивный аскетизм. "Мы (немецкие пантеистические философы. — Г. Л.) содействуем благосостоянию материи, материальному счастью народов не потому, что, подобно материалистам, презираем дух, но потому, что нам известно, что божественность человека обнаруживается и в его телесном существовании, а бедствие и страдание разрушают или уничтожают тело, созданное по образу божию, через что погибает и дух… Мы не хотим быть ни санкюлотами, ни скромно живущими гражданами, ни дешевыми президентами; мы основываем демократию одинаково радостных, одинаково счастливых, одинаково святых богов. Вы требуете простых одежд, нравственного воздержания и не приправленных никакими пряностями наслаждений; мы, напротив того, требуем нектара и амброзии, пурпурных мантий, драгоценных благоуханий, неги и роскоши, веселой пляски нимф музыки и сценических представлений… Поэтому не гневайтесь вы, добродетельные республиканцы! На ваши цензорские упреки мы ответим вам возражением, которое сделал уже шут у Шекспира: "По твоему мнению, из-за того что ты добродетелен, на земле не должно быть ни вкусных пирожных, ни сладкого вина?"
Эта концепция Гейне очень двойственна. В ней переплетаются все противоречия его позиции. Его проповедь наслаждения жизнью не исключает героизма и борьбы. Наоборот, тяготение Гейне к социализму вырастает отчасти из преклонения перед ушедшим в прошлое героическим периодом 1789–1793 гг. Непосредственно перед цитированным отрывком Гейне замечает: "Теперь настоящие великие деяния подлинного героизма прославят эту землю". Преодоление примитивного аскетизма начального периода рабочего движения бесспорно является также шагом вперед, и при всей пантеистической расплывчатости формулировок Гейне здесь зарождается познание того, что подлинное и всестороннее развитие человеческой личности возможно только при социализме. Это инстинктивное идейное преодоление казарменных концепций утопического социализма.
Но здесь скрывается в то же время элемент буржуазно-термидорианский. В гетеанстве, гегельянстве и сенсимонизме, во всех этих направлениях, которые оказали решающее влияние на духовное развитие Гейне, по-своему отразилась буржуазная форма преодоления героического аскетизма эпохи Конвента. Не случайно, что Гейне однажды назвал Наполеона сен-симонистским императором. Колебания Гейне являются неизбежным возвратом всякого социалиста-утописта на буржуазные позиции, вследствие пренебрежения реальными, конкретными, диалектическими звеньями, ведущими к победе социализма. В этом идейном смятении отражается капитуляция перед трудностями, перед ужасами промежуточных этапов.
Полная противоречий позиция Гейне не устраняет того обстоятельства, что в своей полемике против примитивного аскетизма, против вульгарной уравнительной узости он безусловно прав. Прав он по отношению к Берне, прав в своей страстной защите великого наследия буржуазной эпохи (Гете, Гегель) от ограниченных нападок Берне. Не случайно, что молодой Маркс хотел публично выступить на защиту Гейне в его полемике с Берне. В критике первоначального периода рабочего движения Гейне не прав постольку, поскольку он не в состоянии понять тех внутренних тенденций в самом рабочем движении, которые должны были привести его к преодолению этой стадии развития, к преодолению реальному, а не утопическому.
Из этой двойственности Гейне проистекают его колебания между социализмом и боязнью пролетарской революции. Нарастание революционного движения в 40-х годах подводит Гейне вплотную к социализму. Собрание корреспонденции — "Лютеция", книга против Берне, "Атта Троль" и "Зимняя сказка" — является публицистическим и поэтическим выражением этой близости. В личном аспекте эволюция Гейне достигает кульминационного пункта в тесной и глубокой дружбе с Марксом в период пребывания последнего в Париже (1843) и затем вплоть до революции 1848 г. Период дружбы с Марксом ознаменован даже поэтическим сближением Гейне с революционным движением ("Песнь ткачей"). Признание социализма приобретает теперь у Гейне характер безусловного, материалистического энтузиазма:
Другую, другую и лучшую песнь Для вас я, друзья, начинаю: Небесное царство уж здесь на земле Я с вам и найти уповаю. Мы счастливы будем здесь, на земле… Пройдут голодания муки, Ленивому брюху не лопать того, — Что нам заработают руки. Достаточно хлеба растет на земле, Не бойтесь-для всех наберется; Есть мирты и розы, краса и любовь И сладкий горошек найдется. Да, сладкий горошек для всех мы найдем, Пусть только стручки облупим; А страны небесные мы воробьям И духам воздушным уступим.Только после февральской революции высказывания Гейне принимают совершенно иной, мрачный и пессимистический характер. Но не следует упускать из виду, что изменяются только краски картины, только общий тон мелодии, а не ее социальное содержание. Оно остается тем же и в иронически-мрачных строфах из "Странствующих крыс" и в только что приведенных жизнерадостных гимнах. Смертельно больной, прикованный к постели, отрезанный от внешнего мира, Гейне переживает разочарование в февральской революции. Поражение пролетариата в июньской бойне, крушение революций в Германии, Австрии и Венгрии, период реакции после 18-го. — все это заставило его искать в себе силы, для того чтобы бороться с общим настроением отчаяния. Это настроение захватило и Гейне. Незнакомый с реальными живыми силами рабочего движения, с конкретной революционной теорией, Гейне не может побороть в себе этих настроений. Его одиночество давит на него теперь с удвоенной силой. Но достаточно сравнить этот мрачный период в развитии Гейне с массовым "раскаянием" социалистов и полусоциалистов после поражения революции 1848 г., чтобы увидеть, что Гейне остался верным великому идеалу своей жизни. Конечно, мы говорим об относителыюй верности.
В одиночестве своей "матрацной, могилы", в удушающей атмосфере бонапартистской реакции Гейне теряет надежду на "царство небесное здесь, на земле", теряет веру в физическое и духовное развитие личности при социализме. В предисловии к французскому изданию "Лютеции", за несколько месяцев до смерти, Гейне с ужасом излагает свои кошмарные предвидения: "Они (коммунисты — Г. Л.) вырубят мои лавровые рощи и станут сажать в них картофель… Роз, этих праздных невест соловьев, постигнет такая же участь; соловьи, эти бесполезные певцы, будут прогнаны, и-увы! — из моей "Книги песен" бакалейный торговец будет делать пакеты всыпать в них кофе или нюхательный табак для старушек будущего".
Но при всех этих мрачных галлюцинациях (коммунизм все еще имеет над Гейне такую власть, перед которой он не может устоять. Гейне ссылается на два голоса, убеждающих его в истине коммунизма, и с полным успехом. "Первый из этих голосов — голос логики. "Дьявол-логик", говорит Дант. Страшный силлогизм держит меня, в своих волшебных цепях, и, не будучи в состоянии опровергнуть положения, что "все люди имеют право есть", я принужден покориться и всем выводам из него… Обвинительный приговор давно уже произнесен над этим старым обществом… Да свершится правосудие! Да разобьется этот старый мир, в котором невинность гибла, эгоизм благоденствовал, человека эксплоатировал человек!.. И да благословен будет торговец, который станет некогда изготовлять из моих стихов пакеты и всыпать в них кофе и табак для бедных честных старух, которые в нашем теперешнем неправедном мире, может быть, должны были отказывать себе в таких удовольствиях".
Второй аргумент, пожалуй, еще конкретнее раскрывает перед нами душевный облик Гейне. Он высказывает сочувствие коммунистам, ибо они являются врагами его врагов — немецких националистов. "Я всю жизнь ненавидел и сражался с ними; и теперь, когда меч выпадает из рук умирающего, я утешен убеждением, что коммунизм, которому они первые попадутся на дороге, нанесет им последний удар; и, конечно, не палицей пришибет их гигант, а раздавит ногой, как давят гадину".
Он высказывает свои симпатии к коммунистам как представитель идеи интернационализма, противоположной ограниченному буржуазно-реакционному национализму.
Гейне является последним великим поэтом "буржуазной эпохи. Все прогрессивные тенденции общественного развития объединяются в его попытке создания универсальной картины мира. В мировоззрении Гейне жива еще пaмять о долге интеллигенции перед народом. Все эти тенденции необходимо приводят Гейне к признанию грядущей победы коммунизма. Но они недостаточно сильны для того, чтобы окончательно оторвать поэта от буржуазии и заставить его крепко связаться с новым революционным классом — пролетариатом. Отсюда его колебания и переходы от оптимизма к безнадежному отчаянию в зависимости от колебаний революционного движения.
3
Для немецких историков литературы мировоззрение Гейне является книгой за семью печатями. Они не понимают значения распада гегельянства и революционного превращения идеалистической диалектики Гегеля в диалектику материалистическую. Весь этот важнейший идеологический переход остается в буржуазной литературе невыясненным. Место Гейне в этом процессе прекрасно указано Энгельсом. Он рассказывает, как, вопреки исторической истине, немецкая реакция долгое время считала диалектическую гегелевскую философию своим собственным мировоззрением, а партия либералов видела в Гегеле простого реакционера. "Однако, — говорит Энгельс, — то, чего не замечали ни правительство, ни либералы, видел уже в 1833 году, по крайней мере, один человек; правда, он назывался Генрих Гейне"[6].
Значение Гегеля для развития Гейне очень велико. Здесь нельзя ограничиваться беглыми указаниями, в которых Гейне определенно ссылается на Гегеля. Вся историческая концепция Гейне (его взгляд на греческое общество и христианство, на историческое значение эпохи Возрождения, Реформации, французской революции, Наполеона и т. д.), вся гейневская теория искусства (противоположность между античностью и современностью, понимание романтизма и т. д.) обнаруживает глубокую зависимость от Гегеля. Игнорирование всего этого немецкой историей литературы объясняется в значительной мере полнейшим невежеством господ историков литературы в области философии. Конечно, Гейне является предшественником радикального младогегельянства. Еще в период своего первого пребывания в Париже он обнаружил такое свободное и глубокое понимание гегелевской философии и так радикально применял ее политически, как это впоследствии удалось только крайне левому крылу младогегельянцев. Правда, Гейне никогда не дошел до материалистической переработки диалектики Гегеля. Несмотря на свою дружбу с Марксом, он никогда не понял философского значения "Немецко-французских ежегодников", в которых сам участвовал. Если в политическом отношении Гейне остановился на пороге раскола буржуазной и пролетарской демократии, то в области философии он только превращает консервативные элементы гегельянства в некий социальный радикализм и не может довести этот преобразовательный процесс до конца.
Гейне открыто нападает на консервативную сторону гегелевской философии. Но он видит в ней только "маскировку", продиктованную обстоятельствами, и объявляет революционный характер гегелевской философии эзотерическим учением самого Гегеля. ("Трубный глас страшного суда" Бруно Бауэра, в подготовке которого принимал участие молодой Маркс, развивает такую же интерпретацию Гегеля.) Гейне следующим образом описывает свой разговор с Гегелем: "Когда я однажды выразил свое неудовольствие по поводу формулы "все существующее разумно", он как-то особенно усмехнулся и заметил: "Можно было бы также оказать: "все, что разумно, должно существовать…" Только позднее я понял смысл подобных выражений. Точно так же я только позднее понял, почему он утверждает в истории философии, что христианство уже но одному тому прогрессивно, что оно проповедует учение о боге, который умер, между тем как языческие боги ничего не знали о смерти. Но в таком случае, какой бы это был прогресс, если бы бога вообще не существовало!"
Таким образом, Гейне интерпретирует гегелевскую философию в смысле пантеистически завуалированного атеизма, в смысле законченной посюсторонности. При этом остаются все же какие-то религиозные корешки. Гейне делает вывод, что человек и является собственно богом. "Я никогда не был отвлеченным мыслителем, — говорит он иронически в своих "Признаниях", — принимал синтез гегелевской доктрины, не проверяя его, потому что ее выводы льстили моему тщеславию. Я был молод и горд, и мое самомнение было приятно затронуто, когда я узнал от Гегеля, что не бог царствует на небесах, как уверяла моя бабушка, но что я сам являюсь здесь на земле богом".
"Выбалтывая" подобным образом школьный секрет гегелевской философии, Гейне смело идет вперед. В дополнении к вышеприведенному разговору с Гегелем он пишет: "Уничтожение веры в небо имеет не только моральное, но и политическое значение: массы не хотят больше переносить с христианским терпением свою нищету в этом мире, а жаждут счастья на земле. Коммунизм является естественным результатом этого изменившегося мировоззрения, и он распространяется по всей Германии. Столь же естественно и то, что пролетарии в своей борьбе против существующего строя имеют своими вождями самые передовые умы, философов великой школы; они переходят от теории к действию, последней цели всякого мышления, и формулируют программу движения".
Синтез радикально истолкованной гегелевской философии с сен-симонизмом был лишь дальнейшим шагом на пути к радикализации взглядов Гейне. Этот синтез дал ему возможность увидеть осуществление гегелевского "разума" в перспективе пролетарской революции. Он дал ему также оружие для борьбы с идеалистическим аскетизмом прогнивших эпигонов якобинства.
Основная тенденция этого синтеза из Гегеля и Сен-Симона бесспорно антирелигиозная. Гейне рассматривает всю всемирную историю как борьбу между эллинами и назарейцами (под этим именем он объединяет евреев и христиан); он видит во всей духовной и политической истории нового времени борьбу спиритуализма с сенсуализмом. Так же, как Людвиг Фейербах, Гейне рассматривает исторические перевороты как следствие переворотов в мировоззрении, в философии и религии. При этом он правильно замечает материалистические элементы предшествующих революционных движений (например, крестьянской войны); он видит духовное превосходство Возрождения над Реформацией. Оба эти явления представляют собой, по мнению Гейне, начало разложения средневековья. "Лев X, этот роскошный Медичи, был такой же ревностный протестант, как и Лютер; и как в Виттенберге протестовали латинской прозой, так в Риме протестовали мрамором, красками, рифмованными октавами… Полемика итальянских живописцев с римским духовенством была, может быть, влиятельнее полемики саксонских богословов. Цветущее здоровьем тело на картинах Тициана — все это протестантизм. Бедра его Венер — тезисы более ослепительные, чем те, которые прибил немецкий монах к дверям виттенбергской церкви".
Вся эта борьба против христианства является, по мнению Гейне, предпосылкой социальной революции. Революция осуществляет в этом мире то, что религия обещает на том свете. "Но, может быть, человечество осуждено на вечное страдание, народы, быть может, навеки осуждены на то, чтобы их топтали ногами жестокие деспоты, эксплоатировали сильные пособники этих тиранов, осмеивали и поносили их лакеи. Ах, в этом случае следовало бы стараться сохранять христианство, даже будучи убежденным в его неосновательности… Таким образом, судьба христианства зависит от того, нуждаемся ли мы еще в нем".
Ответ Гейне не нуждается ни в каких комментариях. Он видит в христианстве идеологию порабощённого человечества, а в пантеистическом атеизме раскрепощающее мировоззрение. Совершенно понятны его горькие насмешки над Берне, примкнувшим в Париже к "христианскому социализму" Ламенэ.
Но в то же самое время сен-симонизм Гейне содействовал сохранению религиозных пережитков его пантеизма. Правда, Гейне отлично знает, что пантеизм является лишь завуалированным отрицанием религии, и тем не менее в нем остается неустрашимый религиозный осадок. Даже материалист Людвиг Фейербах вынужден был иногда облекать свое мировоззрение в туманные формы какой-то "новой религии". Развитие сен-симонизма в религиозном направлении ясно показывает, что эта тенденция носила более или менее общий характер. Гейне — вслед за Гегелем — считает философский материализм мировоззрением французской революции. Желая представить выход социального движения за пределы буржуазной революции, он старается выйти за пределы старого материалистического мировоззрения. Но так как он не в состоянии преодолеть механический материализм диалектическим путем, то ему остается только один выход: придать пролетарской революции идеалистически-религиозное освещение. "Великое слово революции, произнесенное Сен-Жюстом: "1e pain еst le droit du peuple", у нас видоизменено в "le pain est le droit divin de lhomme". Мы сражаемся не за человеческие права народа, а за божеские права человека. Этим и еще многим другим мы отличаемся от людей революции".
Нетрудно заметить слабые стороны философской позиции Гейне". Противоположность между материализмом и идеализмом, правомерность которой формально признается для теории познания, он заменяет противоположностью между сенсуализмом и спиритуализмом. При помощи сенсуалистически развитого мировоззрения Гейне пытается преодолеть механический характер старого материализма, а также искоренить из своего мышления идеалистически-реакционные тенденции гегелевской философии. Эта попытка сближения Гегеля с материализмом не есть личная философская тенденция Гейне. Она является составной частью общего духовного брожения этой эпохи, из которого в конце концов вырос диалектический материализм Маркса. Описывая значение естествознания и промышленности для прогресса философии, Энгельс замечает: "Но и системы идеалистов неудержимо переполнялись материалистическим содержанием, стремясь посредством пантеизма сгладить противоположность между материей и духом. В гегелевской системе дело дошло, наконец, до того, что она, и по методу, и по содержанию, оказалась лишь перевернутым вверх дном материализмом". Это противоречие еще более обострилось в период разложения гегельянства. Энгельс говорит по этому поводу: "Практические потребности борьбы против положительной религии привели многих из самых решительных молодых гегельянцев к английско-французскому материализму. А это поставило их в противоречие с их школьной системой" [7]. У Гейне этот конфликт никогда не обнаруживается явно, по крайней мере в период до 1848 г. Пантеизм является для него поэтическим флером, прикрывающим для самого поэта противоречия его философской позиции. Пока Гейне жил радостными надеждами на революционные перспективы, пока жизнерадостность и революционные идеалы были двумя гармоническими стимулами его жизни, до тех пор он считал сенсуалистический пантеизм "атеистической религией" будущей мировой эпохи, мировоззрением, объединяющим положительные стороны старого материализма и революционизированного гегельянства, мировоззрением, преодолевающим недостатки обеих сторон.
После 48-го года Гейне возвещает о своем "обращении", о радикальном разрыве со своим атеистическим прошлым. Но в послесловии к "Романцеро" он протестует против представления о том, будто бы он обратился к богу вследствие своей болезни. Гейне протестует также против того, будто он вернулся к какой-то церкви, христианской или еврейской. Для характеристики Гейне чрезвычайно важно установить, в чем именно состояло его "обращение". Было бы неверно, вопреки уверениям самого поэта, совершенно исключить значение болезни и других неблагоприятных обстоятельств личной жизни Гейне. Сделав приведенное выше замечание по поводу гегелевского обожествления человека, Гейне в своих "Признаниях" высказывается следующим образом: "Но расходы на представительство божества, которое не хочет скупиться и не жалеет ни себя, ни своего кошелька, огромны; чтобы прилично играть такую роль, необходимы, главным образом, две вещи: много денег и много здоровья. К сожалению, случилось, что в один прекрасный день — в феврале 1848 г. — обе эти принадлежности истощились у меня, и моя божественность через это забастовала".
Таким образом, необходимость личного бога вытекает для Гейне из этого материального краха его собственной "божественности". "Я просто бедный человек, который, сверх того, еще не совсем здоров и даже очень болен. В этом состоящий для меня является истинным благодеянием то, что в небе есть некто, перед кем я могу постоянно изливаться в бесконечных жалобах на свои страдания, в особенности после полуночи, когда Матильда предается отдыху, в чем она часто сильно нуждается. Слава богу, в эти часы я не один, и могу, не стесняясь, молиться и хныкать, сколько угодно, и могy изливать душу перед всевышним, и поверять ему многое такое, что мы обыкновенно не говорим даже собственной жене".
Еще откровеннее и циничнее высказывался Гейне в некоторых разговорах. Так, в одном paзговоpe с Адольфом Штаром и Фанни Левашъд он сказал: "Но я тоже имею свою веру. Не думайте только, что я человек без религии. Опиум — это тоже религия. Когда мои ужасно болящие раны слегка посыпают этим серым порошком и тотчас же вслед за этим боль стихает, то как же в таком случае не говорить, что здесь действует та же целительная сила, которая имеется и в религии? Между опиумом и религией больше сходства, чем это представляет себе большинство людей… Когда я не могу больше выносить своих страданий, я принимаю морфий; когда я не могу поразить насмерть своих врагов, я отдаю их на волю божию; когда я не могу больше улаживать своих дел, я передаю их господу богу-и только, — прибавил он, улыбаясь, после небольшой паузы, — ; только свои денежные дела я все еще предпочитаю устраивать сам".
В разговоре с Альфредом Мейшером Гейне заметил, что если бы он мог подняться на костылях, то пошел бы в церковь. В ответ на изумление Мейонера, он воскликнул: "Нет! нет, конечно! В церковь! И куда же иначе итти на костылях? Конечно, если б я мог выйти без костылей, то я предпочел бы гулять по смеющимся бульварам и веселился бы на балу Мабиль".
Мы видим, что гейневское "обращение" не слишком серьезно. Молитвы, с которыми он обращается к своему вновь обретенному богу, носят далеко не религиозный характер:
Нет, лучше на земле, о боже, Позволь мне продолжать мой путь; Лишь возврати здоровье телу, Да и о деньгах не забудь. Здоровье, боже, дай и денег, — Мое желанье таково, — И дай побольше дней счастливых Вдвоем с женою в status quo. Или в другом стихотворении, более серьезном, более обвиняющем, более ироническом: О судьба! Позволь мне сделать Замечание одно: Так, как ты, распоряжаться Нелогично и смешно. Ну, возможно ли в поэта Дух веселости вселить И потом его внезапно Всей веселости лишить? Я смеяться разучился, Я печален, как мертвец, И в католика, пожалуй, Обращусь я, наконец. И тогда завою громко, Как чистейший пиэтист: Miserere, погибает Самый лучший юморист.Гейне отдает себе ясный отчет в том, что религия не есть для него нечто серьезное из области мировоззрения, а является только анестезирующим средством против страданий, опиумом против нарастающего мрачного отчаяния. Но из того, что этот опиум нельзя принимать за мировоззрение, из того, что Гейне никогда не принимал его действительно всерьез, отнюдь ее следует, что само это отчаяние не было серьезным, глубоким и искренним. Оно относилось не только к личной судьбе, но и к судьбе общечеловеческого развития. Глубокая ирония, ирония отчаяния скрыта в следующих славах поэта, обращенных к Мейснеру: "Я опять верю в личного бога! К этому мы приходим, когда мы больны, смертельно больны и разбиты! Не вменяйте мне это в преступление! Приемлет же немецкий народ в своей нужде прусского короля, почему же мние не принимать личного бога?" В другом разговоре с Мейснером Гейне прочел следующие стихи, называя их религиозными:
Брось свои иносказанья И гипотезы пустые! На проклятые вопросы Дай ответы нам прямые! Отчего под ношей крестной, Весь в крови, влачится правый? Отчего везде бесчестный Встречен почестью и славой? Кто виной? Иль силе правды На земле не все доступно? Иль она играет нами? Это подло и преступно! Так мы спрашиваем жадно Целый век, пока безмолвно Не забьют нам рта землею… Да ответ ли это, полно?На изумленный вопрос Мейснара: "Вы это называете религиозным? Я это называю атеистическим", Гейне ответил, смеясь: "Нет, нет, религиозным, богохульственно-религиозным". Нет никаких сомнений, что Гейне в этом отношении лучше понимал себя, чем его жалкие поклонники.
Разумеется, эти стихи Гейне не лишены религиозного содержания, несмотря "на то, что никакая религия не могла бы поздравить себя с подобного рода "обращенным". Гейне ошибается только, переоценивая религиозный характер "обращения" и слишком резко противопоставляя его своему более раннему, якобы не религиозному, эллинскому, пантеистическому периоду развития. Анализируя этот период, мы указали уже на религиозные пережитки в пантеистической посюсторонности Гейне. Эти религиозные пережитки побеждают в период после 1848 г., в период упадка революционного движения. Больной и одинокий, Гейне не в состоянии был заметить какие-нибудь зародыши нового подъема. Отчаяние Гейне, принимающее в его последнем собрании стихов-"Романцеро" — такой трогательный характер, не является личным отчаянием по поводу собственной судьбы или, по крайней мере, не является только личным отчаянием. Это-скорбь по поводу общего хода вещей в этом мире, скорбь о судьбе человечества, разума и справедливости, о судьбе революции. Лейтмотивом "Романцеро" является скорбь о том, что в этом мире зло всегда торжествует над добром, отчаянное искание какой-нибудь надежды, отчаянные попытки ухватиться за всякую иллюзию и в конце концов мужественное, разумное и ироническое разложение этих иллюзий, которые создал себе поэт и в которые он сам никогда полностью не верил. Бессмысленность мирового процесса заставляет его сочинить себе бога для личного употребления, причем умный Гейне всегда понимает, что это только игрушка. И все же этот умный Гейне в минуты отчаяния забавляется этой игрушкой, ищет в этой игре утешения. После поражения революции ход вещей потерял для Гейне всякий смысл. Он оплакивает поражение венгерской революции в 1849 г., последнее вооруженное столкновение этой эпохи:
Только вспомню про венгров — становится мне Слишком узко немецкое платье, И под ним словно море бушует в груди, Точно трубы заслышал опять я. И в душе у меня снова грустно звучит Героический эпос поэта, Где воспета старинная дикая брань, Нибелунгов погибель воспета. Ту же участь героев мы видим теперь Та же песнь о старинной године; Изменились одни имена у людей, Но их дух тот же самый и ныне.Зло побеждает добро, реакция побеждает революцию. Армия народа разбита, лучшие революционеры погибли или бежали, многие старые борцы стали изменниками революции. В позднейших стихотворениях Гейне с горечью разбирает поведение Дингельштедта, Гервега и др. Он нигде не видит людей, к которым сам хотел бы принадлежать, нигде не водит страны, в которой мог бы жить. В стихотворении "Теперь куда?" Гейне мысленно обозревает все страны мира и нигде не находит для себя настоящей родины:
Высоко мигают звезды И с тоской на них гляжу я; Но моей звезды нигде В небесах не нахожу я. В лабиринте золотом Сбилась, может быть, с дороги, Как и сам я затерялся В суете земной тревоги.Красота природы не может утешить Гейне, не может ободрить его или, по крайней мере, заставить забыть свои печали, как это было когда-то. Наоборот: чем ярче сияет солнце, тем более вопиющим является контраст между бесчувственной красотой природы и мрачным положением человека.
Весна во всем цвету. Из зелени лесов Несется весело звук птичьих голосов; Смеются девственно девицы и цветы… О мир прекраснейший, противно гадок ты!Несмотря на внутреннюю связь между более ранним и позднейшим периодом развития Гейне, его "обращение" все же есть катастрофа, трагедия — типичная трагедия буржуазного атеиста. Судьба Гейне показывает, что последовательный атеизм неизбежно связан с революциониым движением человечества. Не случайно, что деятельность самых ярких представителей буржуазного атеизма-от Ванини до Дидро — развивалась в период эпохи Возрождения и французской революции. Если надежды этих людей на возрождение человечества были пропитаны иллюзиями, то все же иллюзии эти — иллюзии буржуазной демократии- были еще необходимыми и полезными стимулами прогрессивного развития человечества. Только в XIX в. последовательные и честные мыслители перестают довольствоваться этими буржуазно-демократическими иллюзиями. С выступлением на первый план революционного пролетариата появляются реальные перспективы подлинного освобождения человечества. Мы видели, что атеизм Гейне был связан с рисовавшейся ему перспективой пролетарской революции. Благодаря неясности этой перспективы, в ней сохранился некий религиозный туман. Потеря перспективы привела атеизм Гейне к кризису. И, несмотря на то, что его "обращение" никуда не годилось в религиозном отношении, несмотря на то, что оно не было настоящим возвратом к религии даже субъективно, это "обращение" было все же настоящей катастрофой.
Благодаря своему религиозному кризису поздний Гейне является идеологическим предшественником "трагических" атеистов второй половины XIX в. Эти люди живут в мире, утратившем свой прежний смысл, и они достаточно честны, чтобы отказаться от старого хлама прежних религий. Но атеизм не может сказать им никакой поддержки, не может явиться опорой для их мировоззрения. Капитулирует ли Нильс Люне Якобсена у смертного одра своего ребенка и, подобно Гейне, молит о помощи бога, в которого сам не верит, или он мужественно отказывается от религиозного утешения перед собственной смертью — в обоих случаях выход из безнадежности и сомнения отсутствует. У всех этих сомневающихся атеистов, сознательно или бессознательно, сохраняется религиозный элемент. "Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и с природой" (Маркс).
В своих "Признаниях" Гейне называет себя последним романтическим поэтом Германии: "Мною оканчивается старая лирическая школ немцев и в то же время мною же открывается новая школа, новая немецкая лирика". Эта характеристика своей собственной литературно-исторической позиции как переходной между двумя периодами- правильна. Нужно сделать только одну оговорку: позднейшая немецкая поэзия пошла по совершенно иному пути в соответствии с тем социально-политическим развитием, которое оказало свое печальное действие и на мировоззрение самого Гейне.
Историко-литературная концепция Гейне исходит из окончания "периода искусства". "Мое давнишнее пророчество о том, что "период искусства", который начался с колыбели Гете, окончится у его могилы, повидимому, скоро сбудется. Нынешнее искусство должно погибнуть,
потому что его принцип коренится еще в отжившем старом порядке, в прошедшем Священной Римской Империи. Поэтому, как и все увядшие остатки этого прошедшего, оно находится в самом плачевном противоречии с настоящим. Это противоречие, а не само современное
движение, так вредно для искусства; напротив, это движение должно было бы быть для него благоприятно, подобно тому как это было в Афинах и во Флоренции". Далее Гейне пишет о том, что связанность с великими битвами партий, с политической жизнью была основой подъема искусства в прошлом. Намечая перспективу нового периода развития искусства в Германии, Гейне продолжает: "Однако новое время породит и новое искусство, которое будет с ним во вдохновенной гармонии, которое не найдет нужным заимствовать от поблекшего прошлого свою символику и принесет с собою даже новую технику, отличную от нынешней. А покамест пускай себе высказывается и в красках, и в звуках упоенная собою субъективность, разнузданная индивидуальность, божественно-свободная личность со всею ее жаждою жизни; это все-таки плодотворнее, чем мертвая кажущаяся жизнь прежнего искусства".
Таким образом, Гейне считает свой собственный литературный период переходным. В прошлом он больше всего преклоняется перед творцами эпоса и драмы, перед Сервантесом и Шекспиром; величие Гете он видит в его объективности ("зеркало природы", "Спиноза поэзии"); собственный субъективизм считает необходимым переходом к какому-то новому искусству. Перспективы этого нового искусства теснейшим образом связаны у Гейне с его социально-политической перспективой возрождения человечества.
Итак, литературная деятельность Гейне направлена против традиций прошлого, против немецкого классицизма и романтики. Эта борьба сама по себе отнюдь не ставит Гейне на особое место в развитии немецкой литературы. Вся передовая литературная критика в Германии, начиная с 20-х годов, занята преодолением "периода искусства" и, в особенности, борьбой против романтизма, приобретающего все более реакционный характер (Берне, Мендель, Руге и др.). Особая позиция Гейне объясняется тем, что он обладает более широким пониманием классического периода и романтизма, a с другой стороны- более критически подходит к современным возможностям поэзии. Либералы также критически оценивали новую литературу, но их основное возражение против нее сводится к тому, что она слишком "разлагающая", недостаточно "положительная" (ср. взгляды Фридриха-Теодора Фишера и большинства младогерманских Критиков середины 40-х годов). Гейне, напротив, критикует либеральную немецкую литературу за то, что она слишком абстрактна, слишком предается иллюзиям и проявляет мало революционно-критического духа.
Критика романтизма- центральный пункт литературно-публицистической деятельности Гейне. Она не отделима от его политической критики развития Германии. Главную, проблему подготовлявшейся буржуазной революции в Германии Гейне справедливо видит в национальном воссоединении. Он видит также, что этот вопрос в широком масштабе возник уже в период так наз. "освободительных войн". Романтическое литературное движение- особенно позднейшее — уходит своими корнями в этот период. Поэтому Гейне направляет свою иронию на разоблачение националистической идеологии "освободительных войн". Он нападает на немецкий сервилизм и косность. "Когда Наполеон потерпел поражение в России, — пишет Гейне, — мы, немцы, получили высочайшее повеление стряхнуть с себя иноземное ярмо, — тут мы распалились самым мужественным гневом нашего слишком долгого рабства, вдохновились хорошей музыкой и скверными стихами песен Кернера, и завоевали свою свободу, потому что мы делаем все, что приказывают нам наши власти-гели". Этот сервилизм порождает националистическую узость и общественную реакционность романтизма — господствующей идеологии периода "освободительных войн". Романтизм хотел бы увековечить жалкое порабощенное положение Германии, раздробленной на отдельные маленькие государства. Его преклонение перед германской историей — это преклонение перед историческим убожеством исторического развития Германии. Романтизм прославляет средневековье, католицизм — неподвижный Восток, — все это во имя сохранения существующего жалкого положения Германии.
В этой критике реакционного характера немецкого романтизма Гейне сходится с большинством прогрессивных людей его времени. Но он превосходит их в двух отношениях. Во-первых, Гейне был первым и долгое время единственным писателем в Германии, уразумевшим буржуазный характер романтического движения и указавшим на реакционные черты поздних романтиков, которые политически примыкали к либеральному крылу, буржуазии. Эта критика, направленная главным образом против Уланда и "Швабской поэтической школы", поднималась временами до настоящего предвидения будущей измены либералов демократической революции. Гейне не ограничивается критикой поэзии либеральной буржуазии. Он направляет свою сатиру против романтического прусского короля, Фридриха Вильгельма IV, показывает, что его кокетничание со средневековьем есть ее что иное, как жалкая новейшая пародия на средневековье. В "Зимней сказке" Гейне иронически увещевает покойного императора Фридриха Барбароссу — этого легендарного национального святого немецкого единства — восстановить подлинное средневековье.
Всю истинных средних веков старину, В обрядах и пытках тяжелых, — Снесу, все снесу я: избавь только нас От этих существ двоеполых — От рыцарей этих штиблетных избавь. Противная смесь! Тут слилася С готическим бредом новейшая ложь; Те люди — ни рыба, ни мясо. Толпу комедьянтов от нас прогони, Разбей ты и сцену, с которой В пародиях глупых дают старину!.. О кесарь! Придешь ли ты скоро?..Гейне гораздо яснее своих современников в Германии видел внутреннюю связь романтизма с новейшим литературным движением (в этом отношении Гейне также находится под влиянием гегелевской исторической концепции). Гейне — один из немногих людей, которые сумели понять действительное значение немецкой натурфилософии. Он пошл также, что обращение романтизма к народности, несмотря на все содержавшиеся в этом реакционные тенденции, было неизбежным этапом в развитии немецкой культуры.
Подконец Гейне возвращается к центральному литературно-философскому понятию раннего немецкого романтизма- к романтической иронии. Он освобождает понятие иронии от характера чистой артистической игры, который эта ирония приобрела у самих романтиков, в особенности у Тика. Гейне делает иронию центральным пунктом критического и художественного освоения современной действительности. Ирония становится у Гейне принципом разрушения фальшивой гармонии, разрушения буржуазных иллюзий о якобы гармонической действительности. В написанном еще в Париже предисловии ко второму изданию "Путевых картин" Гейне с особой силой подчеркивает этот контраст между своей поэзией и поздним романтизмом Уланда. "Конечно, эти благочестивые и рыцарские звуки, эти отзвуки средневековья, которые еще недавно, в период патриотического угара, раздавались со всех сторон, заглушаются в настоящий момент шумом теперешней борьбы за свободу, гулом общеевропейского движения за братство народов и скорбным ликованием тех современных песен, которые не хотят лживо выдумывать какую-то католическую гармонию чувств, а, наоборот, по-якобински беспощадно раздирают чувства ради истины".
Таким образом, ироническое разрушение всякой фальшивой гармонии, ироническое указание на разорванность действительности является для Гейне частью его якобинской борьбы за ликвидацию пережитков средневековья. Вместе с тем, ирония является разложением лживой идеологии буржуазии, которая также проповедует фальшивую гармонию. Молодой Энгельс следующим образом характеризует иронический стиль Гейне: "У Гейне мечты буржуа намеренно были бы взвинчены, чтобы затем упасть до уровня действительности".[8] Поэтому, говорит Энгельс, при чтении Гейне буржуа возмущается (между тем как игривая ирония других поэтов успокаивает его и усиливает его иллюзии), Гейне также отдает себе отчет в апологетическом характере чисто формальной, игривой иронии и всегда обрушивается на нее самым едким образом.
Гейневская ирония выходит далеко за пределы обычной практики романтизма. Но, несмотря на это, она имеет романтические источники. Фридрих Шлегель в молодости, а за ним особенно Зольгер дал глубокое философское истолкование иронии как саморазложения идеалов. Противоречие, обнаруживающееся в иронии, говорит Зольгер, состоит не только в гибели чего-то индивидуального, не только в преходящем характере земного, а в "ничтожности самой идеи, которая вместе с ее воплощением претерпела ту же участь всего земного". Этот взгляд на иронию имел большое историческое значение для всей литературной эпохи между Первой французской революцией и 1848 г. Героические иллюзии буржуазной демократии разоблачаются действительностью как иллюзии. И в то же время они снова порождаются ею, поскольку задачи буржуазной революции еще не были решены, по крайней мере, в Германии.
Гегель стремился преодолеть зольгеровское понимание иронии, правомерность которой как одного из моментов развития он целикам признавал. Но гегелевское решение вопроса не могло уже удовлетворить передовую интеллигенцию в 30-40-х годах. Действительно, "положительный" элемент философии, преодолевающий у Гегеля "отрицательный" элемент зольгеровской иронии, покоится на том, что революционная эпоха уже закончена. Передовая интеллигенция, готовившаяся к революционной борьбе, не могла довольствоваться этой концепцией. Поэтому возвращение Гейне к глубочайшим источникам романтической иронии продиктовано не каким-нибудь антикварным интересом, оно отражает оживление весьма актуальной тенденции, вызванной к жизни глубочайшими противоречиями классовой борьбы в Германии. Гейне уже сравнительно рано высказывается за углубленное понимание иронии. Разбирая романтическую комедию Людвига Роберта, Гейне ясно формулирует свою точку зрения. Он осуждает комедию за то, что ей недостает "величественного мировоззрения, которое всегда трагично", — за то, что это не трагедия. "Неслыханное требование, чтобы комедия была трагедией", Гейне, собственно говоря, выдвигает не для обычной комедии французского типа, а для комедии романтической. При этом он одобрительно отзывается о другой — неизвестной нам — романтической комедии того же автора — "Павиан" и пишет по этому поводу: "Как ни смеешься, увидев впервые Павиана, горько жалующегося на угнетение и оскорбления со стороны привилегированных особ, все же, когда получше ознакомишься с комедией, то тебя невольно осеняет ужасная истина, что эти жалобы, собственно говоря, справедливы. Это именно и есть ирония, являющаяся всегда главным элементом трагедии. Если не хотят, чтобы чудовищное, отвратительное, ужасное стало не-поэтическим, то его можно давать, лишь наряжая в пестрые одеяния смешного".
Само собою разумеется, что это трагикомическое саморазрушение преодолевается теорией марксизма и преодолевается совсем иначе, чем в философии Гегеля. На место героических иллюзий прежних революций социалистическое движение ставит героизм подлинный и вместе с тем трезво-реалистический. Гейне не мог дойти до преодоления романтической иронии в марксистском духе. Но возвращение Гейне к романтизму, углубление иронии нe было у него шагом назад по сравнению с Гегелем, а наоборот — было революционным шагом вперед. Это величайшее достижение немецкой поэзии XIX века. Это последняя форма еще буржуазного, но все же обще-социального синтеза противоположностей, поскольку такая позиция была исторически возможна в Германии. То, что этот синтез имел парадоксальную, иронически-субъективную форму, было результатом неравномерного развития, особого места Германии того времени в развитии капитализма. Именно благодаря своему ироническому субъективизму, который реакционные критики объявляют "не немецким", Гейне является самым национальным, самым немецким поэтом XIX века. Стиль его поэзии — это наиболее адэкватное и самое полноценное в художественном отношении" отражение поворотного пункта в истории Германии около 1848 г. Характеристика творчества Гейне как "не немецкого" — это реакционная болтовня фашистских "литераторов", которые вычеркивают, все революционное из германской истории, чтобы преклоняться перед самыми жалкими ее чертами.
Снятие противоречий не есть чисто логическая проблема, как полагает Гегель. Это реальная форма движения, в которой разрешаются противоречия. Она обусловливает также особые формы поэтического отражения этих противоречий. Наряду с Бальзаком Гейне становится последним великим художником эпохи подъема буржуазного общества, поскольку он, подобно Бальзаку, нашел особую форму для непринужденного движения противоположностей.
Старая апологетическая форма буржуазного сознания возвеличивала фальшивую общественную гармонию. Новая, сложившаяся после 1848 г., уже не может этим довольствоваться и превозносит застывшие мнимо трагические противоположности.
Гейне свободен от обеих крайностей. Он борется с фальшивой гармонизацией мира. Он поэтически разрушает всякое лживое единство. Он ищет красоты в движении противоречий, красоты страдания, скорби, надежды, красоты неизбежно возникающих и гибнущих иллюзий. Выдающийся немецкий драматург Фридрих Геббель правильно характеризует искусство Гейне: "Гейне нашел в лирике форму, в которой гармонически сливаются самые несогласные между собой звуки — выражения бьющегося в судорогах мира — и звучат чарующей музыкой; собрание его стихотворений напоминает легендарного медного быка Фалариса, который, согласно сказанию, был так устроен, что мучительные вопли раба, принявшего смерть в его раскаленном чреве, звучали для услады короля пленительной гармонией; эта услада тем уместнее здесь, что мученик и мучитель слиты в одном и том же лице".
Живая подвижность противоречий отличает лирику Гейне от позднейшей буржуазной поэзии, на пороге которой он остановился в последний период своей жизни. Эта подвижность коренится в смелой перспективе революции как освобождения человечества от мук современности. И если эта конкретная перспектива весьма ослабела у Гейне в последний период, то все же она сохранилась как элемент отрицания, как беспокойство, конкретное социальное возмущение; все это не дает противоречиям лирики Гейне застыть в реакционном пессимизме, в пустой декламации против "вечной и неизменной человеческой судьбы". Поздний Гейне все же стоит у порога этого дурного пессимизма (хотя никогда его не переступает) Благодаря этому, большим почитателем Гейне мог стать такой человек, как Ницше, который именует его последним немецким поэтом европейского значения Весьма характерно (хотя и далеко не правильно), что Ницше сопоставляет Гейне с Бодлером.
Наше сближение Гейне с Бальзаком относится только к общей позиции этих писателей в развитии западноевропейской литературы XIX в. Оба они являются величайшими писателями буржуазной эпохи, способными дать широкое изображение общественных противоречий; оба они избрали самую глубокою форму преодоления этих противоречий и, преодолевая их, внесли в свое творчество самое лучшее из романтического наследия; оба они не вполне преодолели романтизм.
Бальзак и Гейне, которые лично и в художественном отношении любили и уважали друг друга, представляют собою по стилю две величайших противоположности. Бальзак рисует самодвижение противоречий в самой действительности. Он дает картину реальной борьбы реальных общественных сил. Гейневская форма искусства носит более субъективный характер и выдвигает на первый план индивидуальность поэта.
Не случайно, что Гейне не мог написать ничего эпического или драматического, за исключением двух неудавшихся юношеских драм. Это отнюдь не объясняется недостатком изобразительного таланта. Отрывок "Бахарахский раввин", отдельные эпизоды из "Путевых картин" (в особенности "Луккские воды") показывают, что Гейне способен рисовать живые фигуры. То, что он все сознательнее прибегал к лирико-иронической форме как в поэзии, так и в прозе, решительно отказываясь от эпического и драматического реализма в духе Гете, имеет более глубокие общественно-исторические причины. Гейне ищет такой формы поэзии, в которой глубочайшие противоречия эпохи были бы изображены на самом высоком духовном уровне, доступном эпохе. Реалистическое изображение подлинных событий общественной жизни позволило Бальзаку во Франции, и в меньшей степени Диккенсу в Англии, дать подобное непосредственно-реалистическое изображение реальных противоречий. "Анархронизм", отсталость германских условий делают в этот период немецкий реализм невозможным. Немецкие писатели-реалисты неизбежно остаются на почве мелочности и убожества современного им развития (таков, например, Иммерман). Для образной критики немецких условий Гейне не мог найти на немецкой почве необходимый материал реалистически наглядного изображения. Поэтому для таких произведений, как "Атта Тролль", "Германия", "Путевые картины", он избрал соответственно измененную лирико-ироническую, фантастически-ироническую форму. Это не было показателем поэтической слабости, не было и личной причудой Гейне. Он избрал единственную возможную в то время для немецкого поэта форму наиболее высокого поэтического выражения общественных противоречий.
Гейне понимал историческую необходимость подобного развития Германии. "Полнейший расцвет немецкого духа представляют философия и песня. Пора этого расцвета миновала, для него было необходимо идиллическое спокойствие; в настоящее время Германия охвачена движением". Классическая лирика и философия — таковы типичные формы идеологического развития Германии до Гейне. Период между революциями 1830 и 1848 гг. приводит к разложению этих форм Гейне принимает активное участие в разложении идеалистической философии классического периода, а как поэт он является душеприказчиком классической немецкой лирики и романтизма.
Но для характеристики этого разложения высокой поэтической формы в Германии очень подходят слова молодого Маркса о классической философии. В "Немецко-французских ежегодниках" Маркс подчеркивает, что нельзя уничтожить философию, не осуществив ее в жизни, а с другой стороны, нельзя осуществить ее, не упразднив философию как мышление, отвлеченное от мира. Ироническое разложение немецкой песни у Гейне также не есть простое разложение. Иначе это было бы только заменой устаревшей поэтической идиллии сухой прозой капитализма, а Гейне был бы не кем иным, как рифмо-плетствующим Густавом Фрейтагом. Величие Гейне заключается именно в том, что он не впал ни в одну из ложных крайностей позднего буржуазного развития; он не был ни ограниченным романтическим певцом разрушенной идиллии докапиталистической Германии, ни пошлым апологетом внедряющегося капиталистического "великолепия". Он не был ни Мерике, ни Фрейтагом, но выросшим на специфически немецкой почве великим европейским художником, стоявшим на уровне Бальзака. Ликвидация классического и в особенности романтического наследия является у Гейне критическим усвоением этого наследия. Его лирика органически вырастает из романтизма; Брентано, Вильгельм Мюллер являются образцами его юношеской поэзии. Гейне вступает во владение наследством романтизма, поскольку он примыкает к романтической критике буржуазной прозы: Его глубокая антипатия к капиталистической Англии носит временами почти карлейлевский характер, хотя Гейне, как мы уже видели, никогда не был реакционером.
Важнейшим элементом романтического наследия, которым завладел Гейне, был народный элемент романтизма. При всем преобладании реакционных моментов в национальном движении против Наполеона оно все же было движением массовым, которое впервые за тысячелетия глубочайшим образом всколыхнуло широкие слои народа. Убожество исторического развития Германии было причиной того, что исторически необходимые иллюзии, возникшие во время этой борьбы, были иллюзиями возвращения к средневековью. Но этот реакционный характер основной тенденции и реакционное использование этой тенденции (историческая школа права и т. п.) не изменяют того, что в эту эпоху произошло поэтическое раскрепощение подлинно народных, плебейских элементов в искусстве. Поэты искали народных традиций (песни, сказки легенды и т. п.) и действительно нашли к ним дорогу. К народным элементам классического периода и романтизма примыкает и Гейне. Он яростно защищает наиболее плебейских немецких поэтов — Фосса против Менцеля, Бюргера против А. В. Шлегеля. При всей своей уничтожающе резкой полемике против романтической школы Гейне всегда отстаивает наследие народной поэзии (ср. его оценку сборника "Des Knaben Wun-derhorn")[9].
Поэтическая практика Гейне исходит из этой романтической традиции немецкой народной песни. В молодости Гейне воспринимает даже темы романтической лирики, вплоть до преклонения перед католицизмом (напр. "Странствование в Кевлаар"). Но все это у молодого Гейне поверхностно и эпизодично, в действительности это только "predilection artistique" (артистическая склонность), как выразился в свое время А. В. Шлегель. Очень скоро лирика Гейне выходит за пределы этой тематики и пользуется ею лишь для иронического разложения ее же. В письме к Вильгельму Мюллеру Гейне приносит ему благодарность за некий поэтический толчок и подчеркивает в то же время свое глубокое отличие от него: "Как чисты и прозрачны ваши песни, и все они народные песни. В моих же стихах, наоборот, только форма до некоторой степени народная, содержание же заимствовано из условной жизни нашего общества". Не следует при этом забывать, что у романтиков также ставилась проблема поэзии большого города. Как лирик Гейне в этом отношении открыл совершенно новые пути. Но в фантастической новелле ему предшествовал Э.Т.А. Гофман.
Это отношение к романтическому наследию бросает правильный свет на литературно-критические выступления Гейне, принципиальное значение которых понято лишь очень немногими из его биографов. Правда, сам Гейне также виноват в этих недоразумениях, поскольку большинство полемических его выступлений выдержано в страстном тоне, не щадящем даже личности противника, так что это часто заслоняет принципиальное содержание, литературно-теоретическую глубину его полемики. В течение всей своей жизни Гейне вел в литературе двойную борьбу. С одной стороны, против ограниченного мелкобуржуазного прозябания в узко романтическом духе, против идеологической реакции, содержавшейся в идиллическом прославлении немецкого убожества. В то же время он принципиально прав, выступая против либерально-провинциальных поздних романтиков еще более резко, чем против откровенно ограниченных реакционеров (борьба против швабской школы). С другой стороны, Гейне борется с ложным и мертвым классицизмом в немецкой лирике.
Это борьба начинается с уничтожающе резкой полемики против Платена и заканчивается едкой критикой Гервега, Фрейлиграта и тенденциозной лирики 40-х годов. Очень характерно, что все "классицисты", на которых обрушивался Гейне, были политически прогрессивными лириками. Но этот факт нисколько не меняет литературно-политической правильности гейневской полемики. Она является дополнением той борьбы, которую Гейне вел против Берне. Не случайно, что Платен, Гервег и многие другие искали себе теоретической поддержки именно у Берне. Гейне критикует духовную узость этих лириков и в то же время ненародный характер их поэтической формы. Он постоянно издевается над "метрическим мастерством" Платена. Гейне-принципиальный враг искусственной виртуозности, с помощью которой Платен пытался навязать немецкому языку античные размеры. Гейне считает эту тенденцию принципиально неправильной тенденцией, в корне противоречащей сущности немецкого языка, немецкого стиха, народности немецкого стиха. Чем больше виртуозность, тем больше ущерб, наносимый этой тенденцией языку. При всем ироническом разложении романтических идей, при всем урбаническом содержании своей лирики Гейне хочет сохранить легкую и естественную форму народной песни. Метрические ухищрения он считает опасным препятствием для народности стиха. Развитие немецкой литературы после 1848 г. безусловно оправдало опасения Гейне: у реакционной буржуазии восторжествовало платеновское направление, начиная с мюнхенских эпигонов — вроде Гейбеля — вплоть до империалистически-реакционной лирики Стефана Георге. Не случайно, что среди представителей демократического движения в Германии люди, вроде Руге или Лассаля, были величайшими почитателями платено-гервеговского направления в немецкой лирике, и только Маркс и Энгельс считали Гейне (и его плебейского последователя Георга Веерта) стоящим на более правильном пути.
Это обстоятельство теснейшим образом связано с более широким и диалектическим, менее сектантским пониманием революционных задач у Гейне по сравнению с его противниками. Тотчас же после первых выступлений Гервега Гейне почувствовал узость, незнание реальных условий жизни, отражающиеся в лирике этого поэта, его сектантскую наивность и ограниченность:
Ты, Гервег, жаворонок словно, Вспорхнув, льешь трели в облаках И землю из вида теряешь… Ах, лишь в одних твоих стихах Есть та весна, что нам ты воспеваешь. —Еще более насмешливо высказывается Гейне о подобной политической поэзии в стихотворении "Тенденция":
Труби, греми, не унимайся, Пока есть хоть один тиран. Пой песни только в духе этом, Но (мой coвет вам всем, поэтам) — От общих мест не удаляйся.Разумеется, отношение Гейне к тенденциозной поэзии отнюдь не исчерпывается этой полемикой. Поверить ироническим заверениям Гейне, что "Атта Тролль" направлен против тенденциозной поэзии и написан в защиту самодавления и самостоятельности поэзии, значило бы совершенно не понять этого стихотворения. Гейне издевается здесь над ограниченной тенденциозной поэзией и в то же время над теми социальными принципами, с которыми эта поэзия борется. Да, Гейне издевается над тенденциозной поэзией главным образом за то, что она обладает только характером, т. е. благомыслящей, сектантской узостью, но не талантом, не способностью видеть вещи во всей их сложности, во всем их разнообразии, в их движении. Никому еще не приходило в голову усомниться в тенденциозном характере "Германии". Однако Гейне говорит об этом стихотворении: "Оно — политически-романтическое и, надо надеяться, нанесет смертельный удар прозаически напыщенной тенденциозной поэзии". В общем — это разведка в направлении настоящей, подлинной и глубокой политической поэзии, в которой тенденция сама органически вырастает из содержания, а не абстрактно-прозаически приклеивается к нему.
Защита самостоятельности поэзии отнюдь не противоречит ее боевому характеру. Высказывания Гейне в пользу самостоятельности поэзии не имеют ничего общего с банальным лозунгом "искусство для искусства". Оки являются выражением своеобразной позиции Гейне в партийной борьбе в Германии 30-х и 40-х гг. Гейне хочет бороться, но он не может и не хочет примкнуть к ограниченным политическим и поэтическим представителям демократического движения, так же, как он не хочет делать идеологических уступок реакционерам. В своей книге против Людвига Берне Гейне издевается над тем, что оба лагеря условно признают его только как поэта. "Да, я, так сказать, получил свою политическую отставку и был тотчас же отправлен в запас на Парнас. Тому, кому знакомы обе упомянутые партии, нетрудно оценить великодушие, с которым они предоставили мне титул поэта. Одни видят в поэте просто мечтательного царедворца пустых идеалов. Другие вообще ничего не видят в поэте; в их трезвой опустошенности поэзия не находит даже ничтожнейшего отклика". Таким образом, гейневская защита самостоятельности поэзии есть защита прав большой поэзии против суживаний еe со стороны реакционеров и ограниченных либералов.
Гейне хочет добиться высокой цели — создания народной поэзии, содержанием которой являются глубочайшие проблемы эпохи. Он отлично знает цену и значение объективной поэзии прошлых времен. Критикуя филистерские черты Гете, Гейне race же отдает ему такое же центральное место, как Гегелю в философии. В то же время он видит, что гетевский период уже миновал, что высокая и соответствующая духу времени поэзия может осуществиться только в ином художественном образе. Гейне высказывается за радикальный субъективизм, отдавая себе отчет в том, что этот стиль может быть только переходным стилем переходной эпохи. С другой стороны, Гейне чувствует опасность литературной манерности, существующей для всякого последовательно проведенного субъективистского стиля. Однажды Гейне жаловался Винбаргу: "Вы еще необъезженная лошадь, я же сам наложил на себя узду определенной школы. Я скован такой литературной манерой, от которой я сам с трудом могу освободиться. Как легко делаешься рабом публики. Публика ждет и требует, чтобы я продолжал писать в той же манере, в которой я начал; если бы я стал писать иначе, то сказали бы: "Это совершенно не по гейневски, Гейне перестал быть Гейне".
Но опасность литературной манерности имеет у Гейне более глубокие причины, коренящиеся в диссонансах его мировоззрения. Гейне с полным основанием борется против берневского противопоставления "таланта" и "характера". Он с полным правом подчеркивает свободу поэта, он видит эту свободу в добровольной связи с великими политическими, течениями его века. Но, полемизируя против ограниченной концепции "твердости характера", Гейне часто впадает в нигилистический скептицизм. Этот скептицизм отражается и на стиле его как элемент манерничанья.
Опасность литературной манерности возникает у Гейне не только в виде игры в остроумие, но и со стороны чрезмерного лиризма.
Гейне нередко стоит под угрозой превращения своего подлинного, глубокого лирического чувства в сентиментальность. Он чувствует эту опасность и чаще всего устраняет сентиментальность удачными ироническими вставками. Но ироническое разложение чувства есть глубокая и потому оправданная ирония только в том случае, если само это чувство было чувством подлинным. Ироническое разложение сентиментальности остается пустым остроумием. (Совсем другое дело, разумеется, когда Гейне издевается над сентиментальным мещанством. У сентиментальности Гейне также имеются свои причины; они коренятся в его неумении диалектически понять процесс общественного развития. Касаясь материальных основ общественного развития, Гейне чаще всего стоит на точке зрения механического материализма и, чувствуя, что благодаря этому получается недостаточно гибкое объяснение движения общества, он "дополняет" механическое объяснение сентиментально-эмоциональной приправой. Гейне отлично понимает эту ограниченность механического материализма: "Сентиментальность есть отчаяние материи, которая не удовлетворяется сама собою и мечтательно, неопределенным чувством стремится к чему-то лучшему".
Эти слабости Гейне объясняют его популярность среди мелкотравчатых либеральных публицистов, считающих его "отцом фельетона".
Для памяти Гейне гораздо менее опасны реакционные литературные критики (начиная с Пфицера, теоретика швабской школы, и кончая фашистом Бартельсом), чем эта популярность у людей, к которым он во всех отношениях питал глубочайшее и законнейшее презрение.
Основная линия поэзии Гейне направлена в сторону творчества популярного и в то же время глубокого, охватывающего все вопросы данной эпохи в их существе.
Буди барабаном уснувших, Тревогу безустали бей; Вперед и вперед подвигайся — В том тайна премудрости всей. И Гегель и тайны науки — Все в этой доктрине одной…Глубина поэзии Гейне вытекает из исторически правильного постижения современной ему действительности. Он близок нам именно потому, что в его творчестве нет ни апологии средневековья, ни преклонения перед прозой капиталистического мира.
По отношению, к романтической лирике Гейне занимает счастливую переходную позицию; он беспощадно разрушает иллюзии прошлого и в то же время поэтически правомерно использует эти иллюзии и эту тоску об их разрушении в качестве элемента глубокой поэзии. В своих "Признаниях" Гейне рассказывает об одном интересном своем разговоре с Гегелем."…Я стал в мечтательном тоне говорить о звездах и назвал их местопребыванием блаженных душ. Но учитель пробормотал себе под нос: "Звезды, гм! гм! Звезды не более как светящаяся сыпь на небе". — "Но, бога, ради! — вскричал я: — Стало быть, там наверху нет счастливой местности, где добродетель получила бы награду после смерти?" Но он, пристально глядя на меня своими бледными глазами, резко сказал: "А вы хотите еще получить на водку за то, что ухаживали за вашей больной матерью и нe отравили своего брата?" В дальнейшем Гейне развивает этот контраст, лежащий в основе его искусства, контраст романтических настроений и разложения их посредством иронии. Он открывает все новые, более грандиозные элементы эмоционального очарования природы. Так например, он первый в Германии открыл монументальную поэзию моря — и в то же время он наносит мощные удары фальшивой романтической гармонии, разрушает наивно-ограниченное единство человека с природой.
Волны журчат своим вечным журчанием; Веет ветер, бегут облака; Блещут звезды, безучастно холодные, И дурак ожидает ответа.Гейне написал много стихотворений, в которых он просто осмеивал пошло-сентименталыные мещанские иллюзии. Но самые глубокие его стихотворения возникли на почве диалектики исторически неизбежного появления и разрушения иллюзий. Лирическая правомерность, несравненное очарование гейневской поэзии объясняются имению тем, что он сам испытывает чувства, которые так беспощадно разрушает. Вместе с углублением его понимания общественных отношений эти иллюзии тускнеют, поэт утрачивает свою прежнюю веру, и все же эти наивные чувства нельзя вырвать из сердца Гейне.
В последний период творчества Гейне это приводит его поэзию к глубокой двойственности. Иллюзии потускнели, и тем не менее они привлекательны для сердца поэта. Ироническое разрушение иллюзии приобретает особую углубленность. Это не обязательно игра в остроумие, как у молодого Гейне. Разложение романтических чувств содержится уже в самом их изображении, в скорбном, лишенном внутренней уверенности ритме. Это придает поздним стихам Гейне особый неподражаемый oттенок, который, пожалуй, наиболее четко выражен в стихотворении "Бимини":
Бимини! При этом звуке Сердце вдруг затрепетало У меня в груди — и грезы, Грезы юности воскресли. И в венках своих засохших На меня печально смотрят… Пенье мертвых соловьев Раздается надо мною… Соловьи поют и стонут, Точно кровью истекают… И, охваченный испугом, Я вскочил-вскочил так быстро, Так порывисто я двинул Всеми членами больными, Что мгновенно распоролись Швы в моей дурацкой куртке…Но поэтическое использование эмоционального наследия романтики имеет у Гейне и другое направление. Возрождая народные элементы поэзии прошлого, Гейне непосредственно ставит его на службу популярной революционной поэзии. В несравненной "Песне ткачей" и, во многих частях "Германии" ему удается превратить демократический тон романтической народной поэзии в революционный обвинительный акт или в победную песнь. Да и в позднейшей гейневской поэзии имеется масса примеров использования народной поэзии непосредственно или в иронически видоизмененной форме для революционных целей, для разоблачения поэтически замаскированного убожества социальной действительности.
Гейне удается применить популярно-демократический элемент поэзии прошлого таким образом, что элегия непосредственно превращается в торжественный гимн грядущей народной революции. Победителем средневековья выступает не капиталистическая проза, а поэзия революции. Лучше всего это выражено в позднейшем стихотворении Гейне "Карл I":
В темной чаще леса спряталась избенка; В той избенке ветхий угольщик живет, И сидит король там…. нянчит он ребенка И так тихо, грустно песенку поет: Баю-баю… В хлеве заблеяли овцы… Что это в соломе шевелится так? Спи! Но как сквозь сон ты страшно улыбнулся!.. Да… Ведь мне понятен на челе твой знак. Баю-баю-баю! Умерла кощурка — На тебе я вижу этот страшный знак — Будешь человеком… топорам замашешь… Что в лесу деревья задрожали так? В угольщике старом веры уж немного; Дети их не будут… — баюшки-баю! Да, они не будут больше верить в бога, И еще-то меньше — верить в короля. Умерла кошурка… радость резвым мышкам… Баю-баю-баю!.. весь я изнемог… Нас поднимут насмех; мы смешны им будем; Я — король здесь долу, а на небе — бог. Изнемог я… Сердце у меня изныло; С каждым днем мне хуже… Спи, дитя, не плачь! Баю-баю-баю! Я ведь это знаю, Знаю: ты, малютка, будешь-мой палач! Колыбельной песнью я тебя баюкал — Этой, самой песнью я себя отпел Прежде ты мне срежешь волосы седые… Вот топор у шеи слышу зазвенел… Что это в соломе так зашевелилось? Покорил ты царство — мышка весела. Ты ведь мне от шеи голову отрубишь… Да, играет мышка: кошка умерла. Что это в соломе так зашевелилось? Заблеяли овцы, слышен стон и вой. Умерла кошурка: мышка зарезвилась… Баю-баю-баю… Спи, палачик мой!Гейне действительно является последним романтическим и в то же время первым современным поэтом. В этом отношении он не имел никаких последователей, да и не мог их иметь в Германии. Только Георг Веерт, менее отягощенный наследием немецкого романтизма, в более чувственной, более плебейской форме продолжает линию Гейне. Поэтическое наследие Гейне начинают по-настоящему открывать и оценивать только теперь, после устранения из нашей литературы формалистических предрассудков позднейшего буржуазного искусства.
Германская реакция всегда инстинктивно чувствовала революционное величие Гейне и всегда прилагала величайшие усилия для того, чтобы вычеркнуть это имя из истории немецкой литературы. Не случайно, что один только Гейне, несмотря на всю свою популярность, никогда не мог заслужить себе официального памятника в Германии, известной своей манией ставить памятники. Реакционная история литературы всегда старалась изобразить величайшего со времен Гете немецкого поэта лишь эпизодической фигурой и поставить на его место таких миловидных карликов, как Мерике.
Понимая, что ирония Гейне еще более убийственна для Третьей империи, чем для Пруссии накануне 1848 г., фашизм стремится вытравить его поэзию из сознания немцев.
Лучшим памятником Гейне будет освобождение немецкого народа от фашистских орангутангов.
Крестьяне Бальзака
В этом наиболее значительном романе поздней эпохи своего творчества Бальзак описал трагедию умирающего аристократического землевладения. Роман является заключительным в целой цепи произведений, рисующих уничтожение аристократической культуры нарастающим капитализмом. "Крестьяне", действительно, завершают этот ряд, ибо здесь изображаются непосредственные экономические основы дворянского упадка. Раньше Бальзак давал картину умирающей аристократии в Париже или в отдаленных провинциальных городах. Здесь он ведет нас на самое поле экономической войны — на поле битвы между крупным помещичьим землевладением и крестьянством.
Бальзак, рассматривал эту книгу как одно из своих решающих произведений. Он говорит: "В течение восьми лет я сотни раз откладывал в сторону и сотни раз принимался снова за эту книгу, важнейшую из всех, которые я решил написать…" Однако, несмотря на эту необыкновенно тщательную подготовку, несмотря на основательнейшее изложение основной концепции, Бальзак в этом романе изобразил фактически нечто диаметрально противоположное тому, что намеревался сделать: он написал трагедию мелкого крестьянского земельного участка. Однако без этого противоречия между концепцией и изображением, между Бальзаком-мыслителем и Бальзаком — поэтом "Человеческой комедии" не было бы и величия Бальзака, того величия, которое Энгельс прекрасно истолковал в своем письме к Маргарите Гаркнес.
Идейная подготовка этого романа выходит у Бальзака далеко за пределы указанных им самим непосредственных предварительных этюдов. Уже в ранней юности он выступил в одной брошюре против дробления крупной земельной собственности и за сохранение майората. Задолго до окончания работы над "Крестьянами" (1844) он в двух утопических романах ("Деревенский врач", 1833, "Сельский священник", 1839) попытался выразить свои взгляды на общественную функцию крупного землевладения и общественные обязанности помещика. Вслед за этими утопиями Бальзак пишет роман "Крестьяне", в котором мы видим крушение утопических представлений пред лицом экономической реальности.
Величие Бальзака состоит в этой беспощадной самокритике своих воззрений, любимых иллюзий и глубочайших убеждений, самокритике, выражающейся в неумолимо правдивом описании действительности. Если бы Бальзаку удалось обмануть себя своими шаткими утопическими мечтаниями, если бы он изобразил в качестве действительности то, что было для него только желанным, то в наши дни он не интересовал бы ни одного человека и был бы с полным правом забыт, так же, как бесчисленные панегиристы легитимизма, которых было достаточно в этот период. Конечно, Бальзак как мыслитель и политик никогда не был ординарным легитимистом. Его утопия отнюдь не является требованием возврата к феодальному средневековью в какой бы то ни было форме, наоборот, — она стремится перевести капиталистическое развитие во Франции, особенно в сельском хозяйстве, на английские пути. Его общественный идеал — это тот классовый компромисс между крупным землевладением и капитализмом, который в Англии в 1668 г. нашел свое осуществление в "славной революции" и который впоследствии сделался основою и особенностью английского развития. Если, например, Бальзак в своей статье о задачах роялистской партии после Июльской революции (статья была написана в 1840 г., следовательно, во время подготовки нашего романа) резко критикует французскую аристократию, то делает он это с точки зрения идеализации английской консервативной аристократии — ториев. Бальзак упрекает французских аристократов за то, что в 1789 г., вместо того чтобы спасти монархию и непрерывность ее развития мудрыми реформами, они ковали "маленькие интриги против великой революции"; он упрекает их и за современное поведение, за то, что они даже после уроков революции не стали ториями, не ввели самоуправления по английскому образцу, не повели за собою крестьянства. Потому-то между аристократией и крестьянской массой нет никакой связи, никакой общности интересов.
Потому и революция могла победить в Париже, "так как, — говорит Бальзак, — чтобы схватиться за ружье, как это сделали парижские рабочие, нужно почувствовать угрозу собственным интересам".
Это утопическое перенесение законов буржуазного развития Англии на Францию никоим образом не является изолированным частным мнением Бальзака. Непосредственно после революции 1848 г. знаменитый Гизо выпустил в свет брошюру такого же направления, утопический характер которой уничтожающе разобран Марксом. Маркс насмехается над "великой загадкой" господина Гизо, которую "он в состоянии объяснить только особенной рассудительностью англичан". В дальнейшем Маркс сам расшифровывает загадку различия в развитии буржуазной революции в Англии и Франции: "Этот связанный с буржуазией класс крупных землевладельцев… находился, в отличие от французского феодального землевладения 1789 г., не в противоречии, а, наоборот, в полном согласии с условиями существования буржуазии. Дело в тому что земельные владения этого класса представляли не феодальную, а буржуазную собственность. Эти землевладельцы, с одной стороны, поставляли промышленной буржуазии необходимые для ее мануфактур рабочие руки, а с другой — были в состоянии дать сельскому хозяйству направление, соответствующее состоянию промышленности и торговли. Этим объясняется общность их интересов с интересами буржуазии, этим объясняется я союз обоих классов"[1].
"Английская" утопия Бальзака основывается на иллюзии о возможности "укрощения" капитализма и вызванных им классовых противоречий с помощью традиционного и, в то же время, прогрессивного руководства. Это руководство, по мнению Бальзака, могут осуществлять только королевская власть и церковь. Аристократическое крупное землевладение на английский лад является, однако, важнейшим посредствующим звеном в такой системе, Бальзак с суровой ясностью видит классовые противоречия капиталистического общества во Франции. Он видит, что период революции никоим образом не закончился июлем 1830 г. Его утопия, его идеализация английских отношений, его романтические измышления о какой-то гармонии между крупным землевладением и крестьянами в Англии являются следствием этих пессимистических взглядов на будущее, ожидающее буржуазное общество, реальное движение которого во всех его частностях он наблюдает с неподкупным реализмом. Именно потому, что развитие капитализма и, параллельно ему, последовательное развитие демократии должно, по мнению Бальзака, неотвратимо вести к революции и конечному падению буржуазного общества, — именно поэтому он цепко держится за уважение к тем историческим лицам, которые сделали попытку задержать этот революционный процесс, ввести его "в упорядоченные рамки". Культ Наполеона находится, правда, в противоречии с английской утопией, но, несмотря на это, он оказывается необходимым дополнением к историческому мировоззрению Бальзака.
Задача обоих утопических романов — прежде всего доказать экономическое превосходство крупного землевладения над мелким. Бальзак правильно усматривает определенные моменты экономического превосходства рационально поставленного крупного землевладения (возможность систематического вложения капиталов, скотоводство в крупном масштабе, рациональное лесоводство, систематическое обводнение и т. д.), но он не видит, — он не хочет видеть в этих романах, что рациональное ведение крупного сельскохозяйственного производства в рамках капитализма также имеет свои границы. Чтобы доказать на реальном эксперименте возможность своей утопии, Бальзак создает в "Сельском священнике" совершенно искусственные, нетипические условия. Такое искажение экономической действительности встречается у Бальзака чрезвычайно редко. Однако существование крупного землевладения является для него вопросом бытия или небытия. С одной стороны, Бальзак испытывает ужас перед разрушительным действием массовых революционных движений (в этом вопросе он соприкасается с некоторыми мрачными галлюцинациями Генриха Гейне). Но вместе с тем существенным моментом в описании современной ему Франции является у Бальзака разоблачение глубокой некультурности капитализма. В путах этих противоречий Бальзак вынужден идеализировать пошлую аристократическую культуру. "Его великое произведение, — говорит Энгельс, — непрестанная элегия по поводу непоправимого развала высшего общества"[2]. Но там, где Бальзак как мыслитель и политик ищет все же выхода, он ищет его именно в спасении крупного землевладения как основы тех широких материальных возможностей, тех спокойных досугов, которые аристократическая культура Франции донесла от средних веков вплоть до великой революции. Стоит прочесть большое вводное письмо роялистского писателя Эмиля Блонде в "Крестьянах", чтобы с полной ясностью понять эту точку зрения Бальзака.
Мы уже видели, что теоретическая основа бальзаковской утопии достаточно насыщена противоречиями. Несмотря на искажение действительности в тенденциозных целях, Бальзак как великий реалист и неподкупный наблюдатель всюду выступает на первый план. Он всегда, а в этих произведениях с особенной остротой, подчеркивает, что религия, католицизм есть единственная идеологическая основа для спасения общества. Но в то же время Бальзак ясно видит, что единственной основой, на которой можно что-нибудь построить, является капитализм со всеми своими последствиями. Промышленность может основываться только на конкуренции, — доказывает утопический герой Бальзака, доктор Бенасси ("Деревенский врач"), и делает из этого признания все идеологические выводы: "Мы не обладаем ныне другим средством поддержать общество, кроме эгоизма. Индивидуум верит только самому себе… Великий человек, который спасет нас от великого кораблекрушения, навстречу которому мы стремимся, наверное, использует индивидуализм, чтобы заново перестроить нацию". Нo тотчас же Бенасси резко противопоставляет веру и интересы. "Однако нынче у нас нет никакой веры — мы знаем только интересы. Если кто-нибудь думает только о себе и верит только в себя, то откуда, по-вашему, буржуа возьмут мужество, тем более, что эта добродетель может быть достигнута только отказом от собственной личности?"
Это непримиримое противоречие, резко проступающее в утопических воззрениях Бальзака, проявляется в композиции обоих этих романов. Кто осуществляет у Бальзака эти утопии? Особенно рассудительные отдельные личности. Бальзак писал еще в эпоху утопического социализма, и можно было бы простить ему фантастическое представление о каком-нибудь рассудительном миллионере, в духе его старшего современника Фурье. Конечно, решающее различие состоит в том, что социалистическая утопия Фурье возникла в эпоху едва начинавшегося рабочего движения, в то время как Бальзак сочинял свои утопические рецепты для спасения капитализма в период бурного революционного развития. К тому же, Бальзак вынужден создавать своих миллионеров при помощи поэтической фантазии, и это в высшей степени характерно для противоречивости его утопии. Герои обоих романов — доктор Бенасси и Вероника Граслен ("Сельский священник") — кающиеся грешники. Оба они совершили в жизни великий грех, оба тем самым уничтожили свою индивидуальную жизнь, свое личное счастье; оба считают личную жизнь законченной и смотрят на свою деятельность как на религиозное покаяние; только на такой основе великий реалист Бальзак может представить себе людей, способных и склонных претворить в жизнь его утопию. Уже эти особенности главных героев yтопических романов Бальзака являются бессознательной жестокой самокритикой реальности его концепции. Только отрекающийся, только отказывающийся от личного счастья может в капиталистическом обществе самоотверженно и искренне служить общему благу: таково невысказанное содержание утопических романов Бальзака. И это настроение отречения характерно не только для Бальзака, но и для ряда других великих фигур буржуазной литературы первой половины XIX в. Старый Гете также рассматривает самоотречение как великий основной закон деятельности высокоодаренных, благородных, служащих обществу людей. Его последний большой роман — "Страннические годы Вильгельма Мейстера" — носит под-заголовок: "Отрекающиеся". В этой невольной самокритике своих утопий Бальзак заходит еще дальше. В "Сельском священнике" одни молодой инженер, помощник Вероники Граслен, рассказывает свои переживания эпохи Июльской революции. Он говорит: "Только под грязной рубашкой встречается еще патриотизм; в этом — гибель Франции. Июльская революция — это добровольное поражение тех, кто по своим именам, состоянию и таланту принадлежит к верхним десяти тысячам. Приносящие себя в жертву массы поэтому победили те богатые интеллектуальные слои, которым самопожертвование несимпатично".
Этим построением фабулы Бальзак выдает свое пессимистическое убеждение в том, что его утопии направлены против экономически необходимых инстинктов господствующих классов, что они не могут сделаться типичными нормами для действия этих классов. Неверие в общественную действительность своих грез отражается во всей композиции этих романов. Лишенные типичности герои, их странный образ жизни резко выдвигаются на первый план и во многом прикрывают настоящую цель произведения: описание благ рационально поставленного крупного землевладения. Самые описания эти выдают совершенно необычную для Бальзака быстроту в развитии интриги, нарочито быстрое пробегание по деталям, вырывание отдельных, лишенных типичности эпизодов для освещения целого. Одним словом, Бальзак описывает здесь не общественный процесс, не общественное взаимодействие между крупными землевладельцами, крестьянами и сельскохозяйственными рабочими, но дает почти технологическое описание великих преимуществ своей хозяйственной концепции. Однако эти преимущества проявляются здесь (вопреки обычным поэтическим привычкам Бальзака) в безвоздушном пространстве. Сельское население вообще не описывается. Мы слышим о всеобщей нужде перед началом экспериментов и слышим затем о всеобщем благосостоянии и всеобщем довольстве после их проведения. Точно так же коммерческий успех предприятий предполагается чем-то вполне естественным и описывается как результат.
Это уклонение Бальзака от его обычного творческого метода показывает, как мало у него самого было внутреннего доверия к этим утопиям, хотя вне своих произведений он последовательно отстаивал их в течение жизни. Только в "Крестьянах" Бальзак переходит к описанию живого взаимоотношения классов в деревне. В этом романе изображается уже само сельское население в богатом разнообразии, изображается не как абстрактный пассивный объект утопических экспериментов, но как деятельный и страдающий элемент романа. Бальзак подходит к этой проблеме на высшей ступени своей творческой зрелости и в качестве художника дает уничтожающую критику именно тех концепций, которые в качестве мыслителя и политика он отстаивал всю свою жизнь.
Дело в том, что и в этом романе Бальзак упорно отстаивает крупное землевладение. Эг, аристократическое поместье графа Монкорне, в главах Бальзака является концентрацией вековой культуры, по воззрениям его, — единственно возможной. Борьба за то, быть или не быть этому "базису культуры", образует центральный пункт действия романа. Действие это заканчивается полным поражением крупного имения, а раздроблением его на мелкие крестьянские участки заканчивается как этап той революции, которая началась в 1789 г. и — в перспективе Бальзака — окончится гибелью культуры. Эта перспектива создает пессимистический основной тон всего романа. Бальзак хотел написать трагедию крупного аристократического землевладения и, вместе с ней, трагедию культуры. С глубокой меланхолией описывает он в конце романа, как разрушен был старый замок, как исчез превосходный парк и остался от прежнего величия только один маленький павильон. Это здание "господствовало над ландшафтом или, лучше сказать, над мелким хозяйством, которое пришло на смену ландшафту. Оно казалось замком: до того жалки были окружавшие его, повсюду разбросанные домишки, выстроенные так, как строят именно крестьяне". Но поэтическая честность реалиста Бальзака находит себе выражение и в этой заключительной элегии. Правда, он говорит с аристократической ненависть: "Страна походила на выкройку портного". Однако сейчас же прибавляет: "Крестьянин завладел землею как победитель и завоеватель. Она была уже разделена больше чем на тысячу мелких участков, и население между Коншем и Бланжи утроилось".
Бальзак приступает к изображению этой трагедии крупного аристократического имения со всем богатством своего творческого метода. Хотя страдающих от недостатка земли крестьян он изображает враждебно, как "Робеспьера с одной головой и двадцатью миллионами рук", но как писатель-реалист он приходит к величественному и основанному на правильных пропорциях изображению сил, борющихся за и против крупного землевладения. В самом романе он ясно излагает программу этой справедливости истинного художника: "…Рассказчик никогда не должен забывать, что его обязанностью является воздать каждому по заслугам, бедный и богатый равны перед писателем; в его глазах крестьянин велик своими бедствиями, как и богач смешон своей мелочностью; наконец, в распоряжении богача — страсти, у крестьянина же одни лишь нужды; следовательно, крестьянин вдвойне беден; а если, ввиду политических соображений, его вожделения должны быть беспощадно подавлены, то, рассуждая по человечеству и религии, он — свят".
Богатство и правильность изображения проявляются также в том, что он с самого начала рисует борьбу за землю как борьбу между тремя лагерями: наряду с помещиком и крестьянином выступает лагерь деревенских и мелкобуржуазных представителей ростовщического капитала. Bсe три лагеря представлены во всем богатстве различных принадлежащих к ним типов, которые поддерживают свою борьбу экономическими, идеологическими, государственными и т. п. средствами. Сфера действия помещика-аристократа Монкорне распространяется на парижские министерства, местные префектуры, на высшие судебные сферы; он, разумеется, обладает поддержкой вооруженной силы, идеологической поддержкой церкви (аббат Бросет) и роялистской публицистики (Блонде).
Еще богаче и разнообразнее изображает Бальзак лагерь ростовщического капитала. С одной стороны, он показывает деревенского кулака-ростовщика, грабящего крестьян с помощью мелких ссуд и ставящего их на всю жизнь в зависимость от себя (Ригу), с другой стороны — состоящего с ним в союзе мелкобуржуазного торговца дровами, бывшего управляющего имением Эг (Гобертен). Около обеих этих фигур Бальзак с великолепной изобретательностью группирует целую систему провинциальной семейной коррупции. Гобертен и Ригу держат в своих руках всю низовую администрацию, всю провинциальную финансовую жизнь. Удачными браками между своими сыновьями, дочерьми и родственниками, удачным размещением на разных должностях своих приверженцев они ткут сеть отношений, с помощью которых могут добиться всего у администрации, а также завладевают всем рынком провинции. Монкорне, например, в окружении этой клики не в состоянии продавать дрова из своих лесов. Могущество этой родственной банды таково, что когда Монкорне прогоняет Гобертена с места управляющего за его плутни, то ему подсовывают другого управляющего из той же клики, агента Гобертена и Ригу. Материальный базис этой банды образует грабеж крестьян с помощью закладных, с помощью господства над рынком, с помощью мелких ростовщических ссуд, с помощью маленьких услуг в административном отношении (освобождение от военной службы) и т. д. И это могущество настолько велико, что Гобертен — Ригу со спокойной душой плюют на высокие, отдаленные правительственные связи Монкорне. "Ну, что касается министра юстиции, — говорит Ригу, — то они часто меняются, а мы-то здесь всегда останемся". Из двух борющихся друг с другом эксплоататорских клик ростовщическая провинциальная банда оказывается на поле битвы более сильной. Бальзак до глубины души возмущается этим фактом, но, как и всегда, с величайшим реализмом описывает действительное соотношение сил.
Третий лагерь — крестьянский — ведет борьбу против обеих групп эксплоататоров. Мечтою политика Бальзака было бы как paз устроить союз между помещиками и крестьянами против ростовщического капитала. Однако здесь он вынужден показывать, как крестьянам приходится итти против крупного землевладения по одному пути с их эксплоататорами-ростовщиками, несмотря на глубокую ненависть к последним. Борьба крестьян против феодальной эксплоатации, их борьба за кусок собственной земли, за собственный мелкий участок делает их придатками, подручными ростовщического капитала. Трагедия умирающего крупного аристократического землевладения превращается в трагедию мелкого землевладения.
Этот треугольник, в котором каждая сторона борется с обеими другими, составляет основу композиции Бальзака. И необходимость этой двойной борьбы всех трех групп, при экономически неизбежном преобладании какой-нибудь из них, и создает такое богатство и разнообразие этой композиции. Действие разыгрывается то в дворянском замке, то в крестьянском кабачке, то в кулацком доме, то в кофейне мелкого городка. Но эта беспокойная смена места действия и действующие лиц дает основу для богатого и точного изображения основных факторов классовой борьбы во французской деревне. Лично Бальзак стоит безусловно на стороне дворянства. Но художник Бальзак предоставляет возможность всем группам беспрепятственно и в полной мере раскрывать их силы. Он изображает, во всех ее разветвлениях, роковую зависимость крестьян от Ригу — Гобертена и К°, описывает ростовщический капитал как смертельного врага культуры и человечества, и хотя его ненависть вытекает из ложного источника и политически ложно обоснована, хотя она насыщена предрассудками дворянской партии, все же в художественном отношении Бальзак выражает трагедию мелкого крестьянского землевладения 40-х годов.
По мнению Бальзака все эти невзгоды причинила революция 1789 г.: как раздробление крупных имений на мелкие участки, так и рост могущества капитала, который Бальзак рассматривает как ростовщический капитал, что еще правильно для этого периода во Франции. Возникновение буржуазных состояний в бурях французской революции путем присвоения национальных имуществ, из спекуляций обесцененными деньгами, из ростовщического использования недостатка товаров, голода, мошеннических военных поставок и т. д. — является у Бальзака центральной проблемой истории новейшего французского
общества. Вспомним, например, возникновение богатства Горио, Руже ("Дом холостяка"), Нюсинжена. И в "Крестьянах" также центральные фигуры — ростовщик-кулак Ригу и купец Гобертен- приобрели свое большое состояние, использовав возможности, предоставлявшиеся им в период революции и Наполеона. Особенно в истории возникновения богатства Гобертена Бальзак тонко рисует, как старомодный обман помещика-аристократа его капиталистическим управляющим перерастает в новые формы жульнической и ростовщической спекуляции, как из сколачивающего себе состояние недобросовестного и пресмыкающегося слуги возникает самостоятельный и побеждающий дворянство спекулянт. С горькой иронией и огромной жизненной правдивостью описывает Бальзак продажность и некультурность нового слоя имущих. Но в то же время он описывает те реальные экономические моменты, которые делают неизбежной победу этой группы: над группой Монкорне. Как и всегда, у Бальзака изображается не только поражение дворянства, но и неизбежность этого поражения. Сумеет ли Монкорне сохранить свое имение или оно сделается предметом широко задуманной спекуляции, предполагающей раздробление его на мелкие участки — вот основная линия борьбы. Неизбежность победы Гобертена — Ригу основывается на том, что аристократия стремится только к сохранению ренты, повышению ее, спокойному пользованию ею, в то время как в лагере буржуазии происходит бурное накопление капиталов. Конечно, экономическую основу этого накопления образует ростовщическое ограбление крестьян: растущая задолженность уже существующих мелких участков (Ригу вложил 150 тысяч франков в закладные), спекуляция на предстоящей эксплоатации мелких участков имения Монкорне, ростовщическое повышение цен на участки, благодаря чему мелкие крестьяне с самого начала с головой выдаются ростовщику из породы Ригу — Гобертенов.
Таким образом крестьяне находятся между двух огней. Бальзаку-политику хотелось бы представить эту борьбу так, что крестьяне соблазнились демагогией и интригами группы Гобертена-Ригу, в то время как их подстрекали к этой борьбе "дурные элементы" из собственной среды (Тонсар, Фуршон). На самом же деле Бальзак показывает всю диалектику необходимой зависимости крестьян от кулацко-буржуазного капитала, показывает, как крестьяне, несмотря на то, что они ощущают свою противоположность ростовщикам и ненавидят их, вынуждены обслуживать последних. Бальзак описывает, например, крестьянина, который "с помощью" Ригу приобрел мелкий земельный участок. "Действительно, покупая участок Башельри, Курткюис желал превратиться в буржуа, он хвастался этим. А теперь его жена собирает навоз. Она и сам Курткюис вставали на рассвете, прилежно перекапывали свой хорошо унавоженный огород, снимали по нескольку урожаев в год, но всею их дохода хватало только на уплату процентов Ригу… Старик удобрил три арпана земли, проданные ему Ригу; сад, прилегающий к дому, начал уже приносить плоды; а теперь он приходил в ужас гари мысли, что его могут выселить… Эта грызущая забота придавала этому маленькому толстяку, лицо которого прежде сияло таким весельем, тупой и мрачный вид, делавший его похожим на больного, разъедаемого отравой или хронической болезнью". Зависимость от ростовщика, экономическую основу которой образует именно "самостоятельность" мелкого земельного участка, желание безземельного крестьянина сделаться собственником, сделаться "буржуа" проявляется также в целом ряде даровых работ, которые крестьяне вынуждены выполнять для своих эксплоататоров. Бальзак, как говорит Маркс, "метко изображает, как мелкий крестьянин даром совершает всевозможные работы на своего ростовщика, чтобы сохранить его благоволение, и при этом полагает, что ничего не дарит ростовщику, так как для него самого его собственный труд не стоит никаких затрат. Ростовщик, в свою очередь, убивает таким образом двух зайцев зараз. Он избавляется от затрат на заработную плату и все больше и больше опутывает петлями ростовщической сети крестьянина, которого все быстрее разоряет отвлечением от работ на собственном поле" [4].
Само собой разумеется, на этой почве возникает глубокая ненависть крестьян к их разорителям. Но эта ненависть бессильна не только вследствие экономической зависимости, но также вследствие земельного голода крестьян, вследствие непосредственно давящей на них эксплоатации их крупным землевладением. Поэтому, несмотря на ненависть к кулацким ростовщикам, они становятся все же их пособниками и союзниками против помещика. Бальзак приводит очень интересный разговор на эту тему: "Что же вы полагаете, что Эг продадут по частям именно только ради вашего чортова носа? — спросил Фуршон. — Как? Вот уже тридцать лет, что дядя Ригу высасывает у нас мозг из костей, а вы еще не расчухали, что выскочки буржуа хуже господ?.. Крестьянин всегда останется крестьянином! Не замечаете ли вы (впрочем, вы ничего не смыслите в политике!), что правительство потому и наложило такой акциз на вино, чтобы лишить нас последних грошей и удержать в нищете? Буржуа и правительство заодно. Ну что бы с нами стало, если бы мы разбогатели? Разве они обрабатывали бы поля? Стали бы они жатъ? Им нужны бедняки…" — "Все-таки следует держаться вместе с ними, потому что их цель — поделить крупные имения, а после мы возьмемся и за Ригу", — отвечает Тонсар. И при классовых отношениях Тонсар прав, его воззрения должны побеждать в действительной жизни.
Конечно, у некоторых крестьян мелькают революционные мысли: повторение и радикальное проведение земельного раздела французской резолюции 1793 г. Сын Тонсара тоже высказывает подобные же революционные воззрения: "Я говорю, что вы играете в руку буржуа. Попугать владельцев Эга, чтобы утвердиться в своих травах, — это я понимаю; но изгнать их из страны и довести до продажи Эг, как хотят буржуа из долины, — это положительно противно нашим интересам. Если вы будете способствовать разделу крупных владений, откуда же возьмутся земли для продажи во время будущей революции? Вы получите тогда земли за бесценок, как получил их Ригу, тогда как при переходе их в руки буржуа они выплюнут их вам, без сомнения, истощенными и вздорожавшими, и вы будете работать на них, точно так же, как и все те, которые работают теперь на Ригу". Трагичность положения этих крестьян заключается в том, что из революционной буржуазии 1789 г. уже возникло поколение Гобертена — Ригу, но французский пролетариат развился далеко еще не настолько, чтобы вести за собой крестьянство. Эта общественная изолированность бунтующего крестьянина отражается в сектантской спутанности его взглядов, в его мнимо радикальной тактике выжидания. Реальное движение экономических сил принудило крестьян, стиснув зубы и с душой, полной ненависти, помогать Ригу обделывать свои делишки. Самые разнообразные политические последствия этого экономического положения делают из Ригу, "которого крестьяне проклинали за его ростовщические проделки…. представителя их политических и финансовых интересов… Для него, как для некоторых парижских банкиров, политика пурпуром популярности покрывает позорные мошенничества". Он экономический и политический представитель земельного голода крестьян, "хотя он не осмеливается ходить по полям после захода солнца из страха попасть в ловушку или пасть жертвою несчастного случая".
Но трагедия всегда является скрещиванием двух необходимостей, и получение из рук Ригу земельного участка, со всеми его страшными тяготами, все же должно казаться крестьянам лучшим, чем полное отсутствие всякого участка и батрачество в имении Монкорне. Если, с одной стороны, Бальзак попытался внушить себе, что крестьян только "подстрекают" против крупного землевладения, то с другой стороны, он пытается вбить себе в голову возможность патриархально-"благодетельных" отношений между помещиком и крестьянином. Как выгладит действительность в первом случае, мы показали на примере его же собственных художественных образов. Вторую иллюзию он разрушает с той же решительностью. Правда, он упоминает однажды, что графиня Монкорне сделалась "благодетельницей" округи, но у Бальзака это всегда признак нечистой совести и неверия в собственную теорию — он вовсе не указывает конкретно, в чем состоят эти благодеяния. А в одном разговоре с аббатом Бросетом, в котором последний обращает ее внимание на обязанности богачей по отношению к беднякам, "графиня все же ответила роковым: "Увидим!" богатых, содержащим достаточно обещаний для того, чтобы избавлять людей от необходимости открывать свой кошелек и позволять им впоследствии сидеть сложа руки при виде несчастия, под предлогом, что оно уже совершилось". Этот аббат Бросет, как все священники в утопических романах Бальзака, придерживается близкого Ламене "социального христианства" — с той разницей, что там, где Бальзак не только проповедует, но и творит реальные образы, безнадежность этой идеологии доходит даже до поповского сознания. "Неужели пир Вальтасара навеки останется символом последних дней правящей касты, олигархии, деспотии? — сказал он себе, отойдя шагов на десять. — Господи! Если воля твоя в том, чтобы выпустить бедноту, как разрушительный поток, дабы преобразить человеческое общество, то я понимаю, почему ты предаешь богатых их собственной слепоте!".
Как выглядят "благодеяния" помещиков Бальзак показывает несколькими примерами. Прежняя владелица имения, знаменитая актриса золотого времени, восхваляемого Бальзаком "старого режима", удовлетворила однажды просьбу крестьянина. "Добрая барышня, привыкшая осчастливливать других, подарила ему арпан виноградника перед воротами Бланжи, за что он должен был отработать ей сто рабочих дней". Бальзак-политик прибавляет: "Мало оцененная деликатность". Но он тут же и описывает, как "облагодетельствованный крестьянин думает об этой деликатности: "Провались я на этом месте, если я его не купил, и притом за дорогую цену. Дают ли нам буржуа что-либо даром? А что, поденщина, по-вашему, пустяки? Это обошлось мне в триста франков, а что тут? Одни камни". И Бальзак резюмирует разговор: "Эта точка зрения отвечала общему убеждению".
Но Монкорне — не обычный аристократ старого стиля. Он был наполеоновским генералом и принимал участие во всеобщем дроблении Европы армиями императора, Стало быть, он знает толк в деле вымогательства. Бальзак особенно выдвигает это обстоятельство при рассказе о конфликте между Монкорне и Гобертеном, конфликте, окончившемся изгнанием мошенника управляющего… "Император, в силу особых расчетов, позволил Монкорне быть в Померании тем же, чем был Гобертен в Эг: генерал приобрел, таким образом, надлежащую опытность в интендантских поставках". И Бальзак не только вскрывает эту общность между Гобертеном и Монкорне, показывает, что Гобертен и Монкорне представляют лишь две фракции Одного и того же капитала, что их борьба — только борьба за раздел выжатой из крестьянина прибавочной стоимости, но показывает также и капиталистический характер управления имением у Монкорне. (Особенно глубокая ирония заключается в том, что эти капиталистические мероприятия встречают полное одобрение у аббата Бросета.) Дело идет о борьбе Монкорне против старых "обычных пряв бедняков" (как их называет Маркс), против права собирания валежника в лесу, против права подбирания колосьев после жатвы. Ликвидация этих старых обычных прав сопровождает капитализирование крупного землевладения. За несколько лет до выхода: в свет "Крестьян" молодой Маркс в "Рейнской газете" вел ожесточенную борьбу против введения ландтагом Рейнской провинции сурового закона о краже дров, закона, точно так же предназначенного ликвидировать эти старые обычные права. Бальзак решительно стоит в этом вопросе на стороне Монкорне. Постановление о том, что только те крестьяне имеют право собирать колосья после жатвы, которые могут доказать свою нужду удостоверениями властей, и что принимаются все меры, чтобы насколько возможно сократить этот сбор, — показывает, что напрактиковавшийся в Померании Монкорне питает твердое намерение покончить с этим феодальным пережитком. Крестьяне имения Монкорне находятся, следовательно, в том положении, которое… "соединяет в себе всю грубость первобытных общественных форм со всеми страданиями и всей нищетой цивилизованных стран"…[4]; они доведены до отчаяния, и это отчаяние прорывается в террористических актах, которые приводят к победе спекуляции, к победе Ригу.
Тем самым Бальзак мастерски обрисовывает трагедию мелкого участка. Он изображает то, что Маркс теоретически устанавливает в "18 брюмере", как сущность развития мелкого землевладения после французской революции: "…В течение XIX столетия, место феодала занял городской ростовщик, место тяготевших на земле феодальных повинностей заняли ипотеки, место аристократической поземельной собственности занял буржуазный капитал"[5]. Энгельс позднее добавляет: "Городская буржуазия дала ему первый толчок, а среднее крестьянство сельских округов, йоменри (yeomanry), привело его к победе. Оригинальное явление: во всех трех великих буржуазных революциях боевой армией являются крестьяне; и именно
крестьяне оказываются тем классом, который после завоевания победы неизбежно разоряется вследствие экономических последствий этой победы. Сто лет спустя после Кромвеля английское йоменри почти совершенно исчезло[6].
Разумеется, у Бальзака не может быть правильного представления об этом процессе. Однако некоторые из его героев обладают смутным и неясным чувством, в котором отражается та же фактическая действительность, та же судьба крестьянства. Старик Фуршон говорит: "Я видел старые времена и вижу новые, милейший мой ученый барин… Вывеска другая, это правда, но вино — все то же! Сегодняшний день — только младший брат вчерашнего. Да! Напишите-ка об этом в ваших газетах. Разве мы раскрепощены? Мы попрежнему приписаны к тем же селениям, и барин для нас попрежнему существует: называется он — труд. Кирка остается попрежнему единственной нашей кормилицей. На барина ли работать или на налоги, которые все лучшее у нас отбирают, — все одно, жизнь проходит в поте лица…".
Мы уже познакомились с аристократической утопией Бальзака, с его идеалом английских консервативных порядков, который якобы может устранить пагубные последствия французской революции. В качестве художника, изобразившего историю развития французского общества в 1789–1848 гг., он заглядывает значительно глубже. Бальзак показывает неизбежность революции, неизбежность победы буржуазного строя во Франции. Так, например, аббат Бросет говорит в этом романе: "Если взглянуть с исторической точки зрения на этот вопрос, то увидим, что крестьяне переживают еще и теперь похмелье после Жакерии. Ее неудача глубоко запала им в душу. Они позабыли самый факт; он перешел в разряд "инстинктивных идей". Идея эта живет теперь в крови французского крестьянина, как некогда идея превосходства жила в крови у дворянства. Революция 1789 г. явилась как бы отместкой побежденных. Крестьянство стало на землю твердой ногой собственника, что воспрещалось ему феодальным правом двенадцать веков подряд. Отсюда — любовь крестьян к земле. Этим же объясняется дробление крестьянских участков и переделы, при которых чуть что не режут одну борозду на две части…" Бальзак довольно ясно видит, что еще не поколебленная в его время и даже продолжавшая расти популярность Наполеона покоится на том, что Наполеон был как бы поручителем за раздел земли, произведенный французской революцией. Аббат Бросет так и продолжает свои рассуждения: "В глазах народа Наполеон, сросшийся с народом крепкими узами миллиона солдат, все еще является королем, вышедшим из революции, человеком, который гарантировал народу владение национальными имуществами. Его коронация была одушевлена этой идеей". А в утопическом романе "Деревенский врач", может быть, единственной жизненной сценой является та, в которой Бальзак показывает глубокое уважение крестьян, бывших некогда солдатами Наполеона, к памяти императора. Политические идеи Наполеона, которые жалко пародировала позднее Вторая империя — "это идеи неразвитой дышащей молодостью парцеллы"[7].
Несмотря на роялистическое отвращение к французской революции, Бальзак высоко ставит моральный подъем, который эта революция вызвала во французском обществе. Уже в eгo юношеском романе "Шуаны" бросается в глаза, каким прекрасным человеческим величием наделяет Бальзак своих республиканских офицеров; впоследствии нет почти ни одного романа Бальзака, в котором именно представитель республиканских воззрений не был бы совокупностью морального достоинства, человеческой чистоты и твердости (вспомним Пиллеро в "Цезаре Биротто"). Это изображение честного и героического республиканца достигает вершины в фигуре Мишеля Кретьена, одного из героев, павших у монастыря Сен-Мэри. Очень характерно, что именно этот образ Бальзак ощущал как недостаточный, несоответствующий величию оригинала. В своей критике "Пармского монастыря" Стендаля он восторженно отзывается о фигуре республиканца Палла Ферранте и подчеркивает, что Стендаль хотел изобразить тип, подобный Мишелю Кретьену, но сделал это с большим успехом. В нашем романе этот образ всплывает в лице старого Низероиа, честного борца, который не обогатился во время революции и даже отказался от всех преимуществ, которыми мог законно воспользоваться, оставшись на всю жизнъ бедным человеком. В то же время Бальзак показывает место якобинских традиций в капиталистически развившейся Франции. Низерон ненавидит богачей, и крестьяне поэтому чувствуют в нем своего, но в то же время он ненавидит и разрастающееся капиталистическое общество с его безудержной жаждой наживы, и при этом не может указать какой-нибудь выход из этого положения, которое кажется ему безнадежным
Интересно наблюдать на всем протяжении романа, как глубоко и правильно видит Бальзак общественно-бытовые последствия капиталистического развития Франции, вплоть до самых тонких нюансов, и это несмотря на свою политически совершенно реакционную позицию. Бальзак верно изображает якобинского республиканца во всех его позднейших превращениях, совершенно не замечая, что это якобинство со всеми его античными идеалами связано со свободным мелким земельным участком. В своем анализе мелкого землевладения Маркс устанавливает, что оно образует "экономическую основу общества в лучшие времена классической древности", а это и было идеалом якобинцев. Конечно, Маркс отлично понимает разницу между демократией античного полиса и якобинскими иллюзиями в классическом вкусе. В своих исторических работах о французской революции 1848 г. и позднее в "Капитале" Маркс подвергает анализу те причины, которые обрекают мелкое землевладение на совершенно рабское прозябание, благодаря ростовщическим процентам и налогам, вынуждающим крестьянина стать купцом и промышленником, "не обладая условиями, при которых он может производить свой продукт как товар". — "Недостатки капиталистического способа производства, с его зависимостью производителя от денежной цены его продукта, совпадают здесь с недостатками, вытекающими из недостаточного развития капиталистического способа производства"[8]. Исходя из этого, Маркс показывает двойственность положения крестьян в революционном развитии первой половины XIX в.; он показывает, как из отчаяния мелкого производителя, из неизбежных иллюзий, порождаемых этим отчаянием, мог возникнуть социальный базис для господства Наполеона III.
Бальзак не видит этой диалектики объективного развития экономики. В качестве панегириста крупного аристократического землевладения он и не может видеть эту сторону дела. Но как неумолимый наблюдатель истории французского общества Бальзак замечает многое из тех общественных тенденций, которые влечет за собой экономическая диалектика мелкого землевладения. Его величие именно в том, что, невзирая на свои политические предрассудки, он неподкупным взором наблюдает все выступающие наружу противоречия и изображает их. Конечно, в этих противоречиях он видит гибель мира, закат, цивилизации. Но все же Бальзак изображает эти противоречия и доходит при этом до глубокого проникновения в будущее. Вопреки своей воле он изобразил экономическую трагедию мелкого земельного участка. Он живо показывает также общественные основы, которые привели к вырождению якобинизма в 1848 г. и к карикатуре на наполеоновскую эпоху в образе Второй империи.
Иллюзия гибели мира всегда является идеалистически преувеличенной формой, в которой тот или иной общественный класс выражает предчувствие своей гибели. Бальзак постоянно впадает в элегию по поводу гибели французской аристократии. Эта элегическая форма определяет и композицию романа "Крестьяне". Роман начинается увлекательным описанием художественной законченности замка Эг. Он оканчивается меланхолическим описанием исчезновения всей этой красоты благодаря дроблению имения на мелкие части. Меланхолия заключительной части романа еще глубже. Роялистский публицист Блонде, гостящий в замке в качестве любовника графини Монкорне (происходящей, в противоположность ее мужу, из древней аристократической семьи), терпит полное крушение всех своих стремлений, гибнет материально и морально. Он стоит перед самоубийством, как вдруг его спасает смерть генерала Монкорне и женитьба на графине. Это крушение всех прежних жизненных планов Блонде особенно замечательно, ибо в "Человеческой комедии" он, в качестве представителя воззрений самого Бальзака, играет исключительно большую роль; в смысле положительной окраски образа его превосходит только поэтический авто-портрет самого Бальзака (Даниэль Дарте). То обстоятельство, что Блонде оказался на краю гибели, представляет собой глубочайший симптом того, с какой безнадежностью смотрел Бальзак на свой собственный политический легитимизм. И точно так же весьма характерно для Бальзака, что он показывает не только падение Блонде, но и жалкую форму этого падения. Если республиканец Мишель Кретьен героически гибнет на баррикаде, то Блонде находит спасение в паразитическом существовании рантье и в должности местного префекта, полученной по протекции. Этот жалкий характер конечного результата его карьеры полуиронически выражается в заключительных словах романа. При взгляде на мелкие, земельные участки, занявшие место исчезнувшего замка, Блонде высказывает некоторые пессимистические предположения о судьбах французского королевства, направленные против Руссо. "Ты меня любишь, ты подле меня, и настоящее кажется мне таким прекрасным, что я совсем не забочусь о таком отдаленном будущем", — ответила ему жена, "Подле тебя-да здравствует настоящее! — воскликнул Блонде, — и к чорту будущее!"
Величие творчества Бальзака основывается, как говорит Маркс, на "глубоком понимании реальных отношений"[9], т. е. отношений капиталистического развития во Франции. Мы показали, как глубоко изображает Бальзак специфические черты всех трех борющихся лагерей, как глубоко проникает он в особенности развития отдельных классов во Франции со времени революции 1789 г. Но это изображение, окажется неполным, если оставить без рассмотрения другую сторону диалектики классового развития, а именно — единство этого процесса со времени французской революции, или даже начиная с возникновения буржуазного класса во Франции. В основе величия "Человеческой комедии" лежит глубокое понимание единства этого развития. В революции, империи Наполеона, Реставрации, июльской монархии Бальзак видит только этапы единого, полного противоречий процесса превращения Франции в капиталистическую страну, процесса, который представляет собой неразложимую смесь исторической необходимости и морального падения. Его отправная точка — гибель дворянства — образует только один момент в этом общем процессе, и при всей своей симпатии к дворянству Бальзак ясно видит неизбежность упадка аристократии и ее внутреннюю деградацию в этом процессе. В отдельных исторических этюдах Бальзак намечает предварительную истерию этой гибели. Он справедливо усматривает социальную причину ее в превращении феодального дворянства в придворное — в паразитический слой, выполняющий все менее и менее необходимые общественные задачи. Французская революция и капитализм, освобожденный ею от стеснительных пут феодального общества, — только заключительный результат этого развития. Мыслящие представители дворянства видят, что эта гибель неотвратима. Так, в конце романа "Кабинет древностей" испорченная, но умная герцогиня Мофриньез говорит представителям стародворянских воззрений: "Что вы здесь все с ума сошли, что ли? Вам все еще хочется вести жизнь XV столетия, в то время как мы живем в XIX? Нет, детки, нет больше дворянства и нет аристократии".
Бальзак охватывает процесс развития капитализма в целом, изображая все классы французского общества. Он описывает характерные отличия купца и мануфактуриста дореволюционного времени от буржуа эпохи Реставрации и июльской монархии (типы Рагото, Биротто, Попино, Кревеля и др.), и точно так же поступает Бальзак по отношению к остальным классам французского общества. Он везде показывает механику капиталистического строя- капиталистическое "человек человеку — волк". Бальзак циничен, но так же, как у Рикардо, этот цинизм "заключается в вещах, а не в словах, выражающих эти вещи"[10].
Благодаря целостному пониманию процесса капиталистического развития Бальзак вскрывает его великие общественные силы и экономическую основу. Но он никогда не делает этого прямо. Общественные силы никогда не проявляются у Бальзака в виде фантастических чудовищ сверхчеловеческих символов, как у Золя. Наоборот, всякую общественную силу Бальзак разлагает на составные элементы, он видит в ней сплетение борьбы эгоистических личных интересов, вещественных противоречий между личностями и т. д. Так, например, он никогда не изображает суд как учреждение, стоящее над обществом независимое от него; только отдельные мелкобуржуазные фигуры в романах Бальзака имеют такое представление об этом учреждении. В изображении Бальзака суд состоит всегда из отдельных людей, социальное происхождение которых и расчеты на определенную карьеру описываются самым точным образом. Всякий отдельный участник судопроизводства впутывается в реальную борьбу интересов, около которой вращается любой процесс, и всякая позиция, которую занимают участники суда, зависит от того, какое место они сами занимают в этом сплетении интересов. (Вспомним о судебных интригах в романах "Блеск и нищета куртизанок", "Кабинет древностей".) Только на этой основе Бальзак обнаруживает действенность всяких общественных сил. Каждый отдельный участник этой борьбы со своими, казалось бы, чисто личными интересами является представителем определенного класса. В его чисто личных интересах — и нераздельно с ними — проявляется определенная классовая основа. Именно благодаря тому, что Бальзак разоблачает мнимую объективность общественных учреждений буржуазного мира и сводит их к личным отношениям, он умеет показать то, что в этих общественных учреждениях есть действительно объективного, действительно общественно необходимого: их классовую функцию. Основа бальзаковского реализма — постоянное раскрытие общественного бытия как основы всякого общественного сознания, даже весьма отдаленного на первый взгляд от этой основы и противоречащего ей. Поэтому Бальзак с полным правом говорит в "Крестьянах": "Скажи мне, чем ты владеешь и я скажу тебе, что ты думаешь".
Глубоким реализмом Бальзака определяются, вплоть до самых мелких деталей, его творческие приемы. Укажем здесь на немногие основные пункты. Прежде всего: Бальзак всегда выходит за пределы мелочного фотографического натурализма. В существенных вопросах он всегда глубоко правдив. Он никогда не позволяет своим героям сказать, подумать или ощутить что-нибудь такое, что не вытекало бы с необходимостью из их общественного бытия. При этом он никогда не ограничивает себя пределами средней способности к выражению, отличающей людей определенного класса. Для верно замеченного глубоко понятого содержания Бальзак постоянно ищет максимально ясное и заостренное выражение. По ходу нашего анализа мы видели некоторые примеры этой манеры Бальзака. Приведем еще один отрывок из разговора крестьянина Фуршона с аббатом Бросет. Аббат спрашивает Фуршона, воспитывает ли он своего внука в страхе божием. Тот отвечает: "О нет, нет, господин аббат! Я внушаю ему; бояться не бога, а людей… Я говорю ему: "Муш! Бойся острога, из него ведет дорога к эшафоту! Не кради, а пусть тебе сами дают! Воровство приводит к убийству, а за убийством следит людское правосудие. Бритва правосудия — вот чего следует бояться. Учись читать! С образованием ты найдешь способы добывать деньги под охраной, так же, как честный господин Гобертен". — "…Все дело в том, чтобы подмазаться к богатым: под столами у них много крошек… Вот в чем, по-моему, состоит отменное воспитание. Этот щенок всегда находится по сю сторону закона… Он будет добрым малым и станет обо мне заботиться…" Само собой разумеется, старый французский крестьянин в 1844 г… никогда бы не высказался в такой форме. С натуралистической точки зрения это неправдоподобно, но, тем не менее, эта фигура отличается величайшей жизненной правдивостью, может быть, именно благодаря этому выходу за пределы натуралистического правдоподобия. Бальзак только поднимает на огромную высоту то, что крестьянин типа дяди Фуршона смутно ощущает, но не умеет ясно выразить. Бальзак выполняет свою поэтическую миссию в смысле Гете:
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt
Gab mir ein Cott zu sagen, was ich leide.
Но он выражает в словах только то, что действительно стремится быть выраженным в форме, необходимой как в общественном, так и в индивидуальном смысле. Это выражение, постоянно выходящее за границы повседневности и неизменно правдивое, является специфическим свойством старого реализма, реализма Дидро или Бальзака, в противоположность эпигонам.
Бальзак детально разрабатывает специфически индивидуальные и типические в классовом отношении черты каждой отдельной фигуры. Но, сверх того, он неизмененно подчеркивает общее у различных представителей буржуазного общества. По ходу нашего анализа мы уже видели, что Бальзак выделяет общее у Монкорне и Робертена при всем различии между ними. Оба они — продукты капиталистического развития Франции после термидора. Через количественное различие между ними выделяется то, что их отличает качественно при всей этой общности: один из них — знаменитый генерал императорской эпохи, граф и крупный помещик, а другой — только маленький, хотя и лезущий в гору провинциальный делец.
Бальзак был крупным мастером художественной абстракции. Современные буржуазные писатели, лишенные этого дара вследствие духовного упадка буржуазии, тщетно пытаются достигнуть конкретности целого с помощью нагромождения деталей.
Глубокая социальная обоснованность реализма Бальзака делает его непревзойденным мастером в изображении в-ликих духовных течений, образующих умственный склад человека. Бальзак умеет привести эти духовные силы к социальным корням, он показывает их совпадение с реальными жизненными тенденциями. При этой манере изображения идеология теряет свою мнимую независимость от материальной истории общества и становится частью, элементом этого жизненного процесса. Так, в одном деловом разговоре старого провинциального ростовщика и спекулянта Гранде упоминается имя Бентама и его теория эксплоатации. Жадность, с которой старый ростовщик проглатывает то, что подходит ему из этого идеологического выражения его собственного бытия, сразу оживляет теорию Бентама. И перед ним уже не отвлеченная теория, а составная часть капиталистического развития начала XIX в.
Конечно, такого рода идеологическое воздействие не всегда адэкватно общественному положению данного лица. Но в иронически показанном несоответствии судьба какой-нибудь идеологии в процессе классового развития отражается еще яснее. Так, в нашем романе Бальзак называет деревенского кулака-ростовщика Ригу "телемитом", т. е. приверженцем (бессознательным, разумеется) утопии великого писателя эпохи Возрождения Рабле, создавшего идеальное общежитие — "Телемскую обитель", высшая заповедь которой гласила: "Делай, что хочешь". Глубокое падение буржуазной идеологии превосходно поясняется тем, что этот лозунг освободительной борьбы человечества против ига феодализма мог стать девизом сельского ростовщика. С другой стороны, здесь подчеркнуты общие моменты в процессе развития буржуазии: Ригу, действительно, — отдаленный результат той борьбы за освобождение, которую вели писатели и философы Возрождения. Ирония кроется в двусторонности выраженного здесь отношения: само собой разумеется, что идеал Рабле далеко не совпадает с образом жизни Ригу, но столь же очевидно и то, что Ригу представляет собой необходимый элемент реального грязно-эгоистического буржуазного осуществления идеи "делай, что хочешь".
Все это служит Бальзаку для того, чтобы индивидуализировать, углубить градации внутри определенного общественного типа. В лице Ригу, например, Бальзак создает новый чрезвычайно интересный экземпляр для большой галлереи его скряг и ростовщиков, галлереи Гобсеков, Гранде, Руже ("Дом холостяка") и т, д. Ригу — тип скряги и ростовщика-эпикурейца, который, так же, как и другие, думает только о сбережении, надувательствах и накоплении богатства, но в то же время создает для себя необыкновенно приятную жизнь. Он использует, например, возраст своей жены, на которой женился из-за ее денег и ее эксплоататорского влияния на деревенское население, чтобы неизменно содержать без вознаграждения красивую и молодую метрессу. Он постоянно подыскивает себе в служанки самую красивую деревенскую девушку, живет с ней, обещая жениться после предстоящей смерти жены, и т. д.
Эта разработка специфических проявлений общих классовых признаков у различных индивидуумов представляет собой основной закон формы в реализме Бальзака. Поэтому в каком-нибудь частном эпизоде общественного процесса он может конкретно показать великие силы, управляющие общественным развитием. В романе "Крестьяне" Бальзак изображает борьбу за раздробление большого поместья на мелкие участки. При этом не выходит за пределы имения и соседних с ним провинциальных городов. Но поскольку Бальзак показывает в этой борьбе существенные моменты капиталистического развития деревни, его изображение охватывает весь процесс возникновения французского капитализма в послереволюционный период, включает в себя упадок дворянства и, прежде всего, трагедию крестьянина, освобожденного революцией и снова закрепощенного буржуазным строем, трагедию мелкого земельного участка. Бальзак не видит действительной перспективы этого развития. Изображение революционного пролетариата лежит вне его кругозора. Бальзак в состоянии изобразить только отчаяние крестьян, а не единственно возможный революционный выход из этого отчаяния. Он не мог угадать будущего разочарования крестьянина в его парцелле, разочарования, с которым рухнет и все построенное на крестьянском землевладении государственное здание, и пролетарская революция получит хор, без которого ее соло во всех крестьянских странах превращается в лебединую песнь"[11]. Гений Бальзака проявляется в том, что он со всей реалистической необходимостью изобразил отчаяние крестьянина, которое должно было привести к перспективе, указанной Марксом.
Утраченные иллюзии
Этим произведением, законченным в пору наибольшей художественной зрелости (1837), Бальзак создал новый тип романа, — роман разочарования, неизбежного разрушения жизненных идеалов, при столкновении их с грубой действительностью капиталистического общества.
Как известно, тема крушения иллюзий появилась в романе задолго до Бальзака. Первый роман новой истории — "Дон-Кихот" — это тоже повесть об "утраченных иллюзиях". Но в произведении Сервантеса, проникнутом духом нарождающегося буржуазного общества, разрушались, главным образом, пережитки феодальных иллюзий. У Бальзака же выработанные самим буржуазным обществом представления о человеке, обществе, искусстве и т. д. сами, при столкновении с действительностью, буржуазного общества", оказываются только иллюзиями.
В "Утраченных иллюзиях" Бальзака впервые изображено в законченной форме разрушение буржуазных идеалов под действием собственной их экономической основы — капитализма. Несколько раньше "Утраченных иллюзий" были написаны "Красное и черное" Стендаля, "Исповедь сына века" Мюссе. Тема носилась в воздухе, она была порождена не литературной модой, а общественным развитием Франции, — страны, где с большой наглядностью видно было, куда идет политическая эволюция буржуазии. Героическое время французской резолюции и Наполеона разбудило, умножило и мобилизовало дремавшую до этого энергию "третьего сословия". Героический период дал возможность его лучшим людям претворят в жизнь свои идеалы, героически жить и умирать в в согласии с этими идеалами. После падения Наполеона, после Реставрации и Июльской революции всей этой эпохе настал конец. Идеалы превратились лишь в украшение, в простые декорации; путь, проложенный развитию капитализма Наполеоном и революцией, стал уже достаточно широким, удобным и доступным для всех.
"Трезво-практическое буржуазное общество нашло себе истинных истолкователей и представителей в Сэях, Кузенах, Ройэ-Колларах, Бенжамен Констанах и Гизо; его настоящие полководцы заседали в коммерческих конторах, его политическим главой был жирноголовый Людовик XVIII"[12].
Высокий гражданский подъем, необходимый продукт предшествующей эпохи, стал общественно ненужным.
Падение той энергии, которая пробудилась во времена Революции и монархии Наполеона, — вот темы, объединяющие все "романы разочарования". Бальзак, несмотря на то, что он был легитимистом, с мужественной ясностью видел истинный характер своего времени. Он говорит:
"Не было другого явления, которое бы ярче свидетельствовало о том, в каких илотов Реставрация превратила молодежь. Молодые люди, не знавшие, к чему приложить свои силы, расходовали их не только на журналистику, на заговоры, на литературу и на искусство, но и на самые необычайные излишества; так много было соков и плодоносной мощи в молодой Франции. Будучи трудолюбивой, эта прекрасная молодежь жаждала власти и наслаждений; проникнутая художественным духом, зарилась на сокровища; в праздности старалась оживить свои страсти; всякими способами стремилась она найти себе место, а политика не давала ей найти места нигде".
Познание и изображение этого положения, этой трагедии, разразившейся над целым поколением, и есть то общее, что мы находим у Бальзака и современных ему писателей.
Однако при всем этом сходстве "Утраченные иллюзии" возвышаются подобно утесу, над всей французской литературой того времени. Бальзак не ограничивается наблюдением и изображением трагической или трагикомической общественной ситуаций. Он видит глубже и дальше. Он видит, что окончание героического периода буржуазного развития во Франции обозначает в то же время начало широкого подъема французского капитализма. Почти во всех своих романах Бальзак изображает это наступление капитализма, превращение примитивного ремесла в новое, капиталистическое производство, закабаление города и деревни растущим финансовым гнетом, отступление всех традиционных общественных форм и идеологий перед победоносным шествием капитала. "Утраченные иллюзии" показывают одну из сторон этого процесса. Тема романа — превращение в товар литературы, а вместе с ней и других областей идеологии. Всесторонний анализ этого явления превращает изображение трагедии, обычной для молодых людей бальзаковского поколения, в подлинно великое произведение, где общество в целом находит себе более глубокое отражение, чем даже у Стендаля — величайшего современника Бальзака.
Бальзак представляет нам этот процесс превращения литературы в товар во всей его развернутой и законченной полноте: все, — начиная с производства бумаги и кончая убеждениями, мыслями и чувствами писателя, — становится частью товарного мира. И Бальзак не останавливается на констатировании, в общей форме, идеологических последствий господства капитализма, но раскрывает этот конкретный процесс на всех его этапах, во всех его областях (газета, театр, издательство и. т. д.). "Что та-кое слава?" — спрашивает издатель Дориа: "12000 франков за статьи и тысяча экю за обеды"… — и развивает свои взгляды дальше: "Я не успокаиваюсь на том, чтобы затратить на книгу 2 000 франков и заработать на ней столько же… Мне не интересно издать какую-нибудь книжку, рискнуть двумя тысячами, чтобы две тысячи заработать; я занимаюсь крупными спекуляциями в литературе: я выпускаю сорок томов по десять тысяч экземпляров, по примеру Паннекука и Бодуэна. Мое влияние и статьи, которых я добиваюсь, создают успех предприятию в сто тысяч экю, вместо того чтобы создать его томику на две тысячи франков,
…Я здесь не для того, чтобы служить трамплином для будущих знаменитостей, но чтобы зарабатывать деньги и давать их знаменитостям существующим. Рукопись, стоящая сотни тысяч франков, обходится мне дешевле рукописи, безвестный автор которой просит у меня шестьсот франков".
Писатели не отстают от издателей:
"— Так вы, значит, дорожите тем что пишете? — насмешливо сказал ему Верну. — Но ведь мы торгуем фразами и живем этим промыслом. Когда вы захотите написать большое и прекрасное произведение, словом, — книгу, то вы сможете вложить в нее свои мысли, свою душу, привязаться к ней, отстаивать ее; но статьи, сегодня прочитанные, завтра забытые, стоят на мой взгляд ровно столько, сколько за них платят".
Журналистов и писателей экплоатируют: их способности, превращенные в товар, являются объектом опекуляции для торгующих литературой капиталистов. Но эти эксплоатируемые, люди развращены капитализмом: они стремятся к тому, чтобы самим сделаться эксплоататорами или, по крайней мере, приказчиками эксплоататоров. Когда Люсьен де Рюбампре начинает свою карьеру журналиста, его коллега и ментор Лусто дает ему такие наставления:
"Словом, милый мой, ключ к литературному успеху не том, чтобы работать, а в том, чтобы пользоваться чужою работой. Хозяева газет — подрядчики, а мы — каменщики. Поэтому, чем посредственнее человек, тем скорее он пробивается; он способен глотать обеды, со всем мириться, льстить низким страстишкам султанов литературы…
…Строгость вашей совести, доныне чистой, склонится перед теми, в чьих руках вы увидите ваш успех, которые, одним словом могут даровать вам жизнь и не захотят это слово произнести; ибо, поверьте мне, модный писатель ведет себе наглее, беспощаднее с новичками чем самый грубый издатель. Один вас проведет, другой вас уничтожит".
Дружба Давида Сешара с Люсьеном де Рюбамнре, разбитые иллюзии их мечтательной юности, взаимодействие противоречивых характеров их обоих составляют главные контуры действия. Гениальность Бальзака видна уже в этой основной композиционной схеме. Он создает образы, в которых сущность темы проявляется в столкновении человеческих страстей, индивидуальных стремлений: изобретатель Давид Сешар находит новый дешевый способ выработки бумаги, но его обманывают капиталисты; поэт Люсьен вынужден продавать свою утонченнейшую лирику на рынке Парижа. С другой стороны, противоположность характеров с удивительной пластичностью представляет разнообразные духовные реакции на растущую власть капитализма над всем жизненным строем и на сопряженные с этим мерзости: Давид Сешар-стоический пуританин, в то время как Люсьен представляет собой законченнейшее воплощение преувеличенной жажды чувственных наслаждений, безудержного и утонченного эпикуреизма целого поколения.
Композиция никогда не бывает у Бальзака педантичной, никогда не имеет характера сухой "научности"; как у eго позднейших последователей. Развертывание общественной проблемы идет всегда в неразрывной и органической связи с индивидуальными судьбами и страстями героев. И, несмотря на это, композиция, имеющая, на первый взгляд, в своей основе только изображение индивидуальностей, заключает в себе всегда более глубокое понимание общественных отношений, более правильную оценку тенденций общественного развития, чем педантски-"научные" построения большинства писателей-реалистов второй половины XIX в. "Утраченные иллюзии" Бальзак строит таким образом, что в центр действия выдвигается судьба Люсьена и вместе с ней — превращение литературы в товар; капиталистическая перестройка материльного фундамента литературы, нажива на техническом прогрессе издательского дела является как бы только заключительным эпизодом романа. Может показаться, что такая композиция переворачивает вверх дном логическое и действительное соотношение между материальной базой и надстройкой; на самом же деле она исполнена высокой художественной и общественной мудрости. Художественной-потому что превратности судьбы, которые претерпевает Люсьен в своей борьбе за славу, дают гораздо большие возможности для разворачивания разнообразного и подвижного содержания вещи в целом, чем мелкомошеннические ухищрения провинциальных капиталистов, сумевших ограбить Сешара. Эта композиция хороша и с точки зрения критики общества, потому что судьба Люсьена поднимает весь вопрос в целом о разрушении культуры капитализмом, тогда как описание жалкой судьбы изобретателя, какие бы мошенничества при этом ни были показаны, выдвинуло бы на первый план все-таки прогрессивную роль капитализма в развитии техники. Рассудительный Сешар совершенно прав, когда приходит к заключению, что, в сущности, его изобретение использовано в производстве, а то что самого изобретателя обманули, — это имеет значение только личной неудачи. На-оборот, — личная катастрофа Люсьена дает в то же время образ литературы, униженной и проституированной капитализмом.
В контрасте между двумя центральными фигурами отлично выражаются два главных вида духовной реакции людей на превращение продуктов культуры и человеческого гения в товар. Линия Сешара — это резиньяция, примирение со своей участью. Резиньяция играет очень большую роль в буржуазной литературе XIX в. Гете — уже в преклонных летах-был одним из первых, кто отметил ее как признак нового этапа в развитии буржуазной общественной мысли, Бальзак в своих дидактически-утопических романах большей частью следует за Гете, единственными деятелями в буржуазном обществе, ставящими перед собой не эгоистические, а общественные цели, являются у него те люди, которые отказались или вынуждены были отказаться от личного счастья. Правда, отречение Сешара имеет несколько иной оттенок: он прекращает борьбу, отказывается от достижения определенных целей, с тем чтобы искать личного счастья в покое уединения. Кто хочет сохранить свою чистоту, тот не должен прикасаться к капиталистической машине, — вот совершенно чуждый вольтерьянской иронии смысл решения Сешара заняться "возделыванием своего сада".
Напротив, Люсьен бросается в парижскую жизнь и хочет там добиться могущества и признания. Это ставит его в ряд многочисленных образов молодежи времени Реставрации- юношей, которые гибли или делали карьеру, приспособляясь к грязной, чуждой героизма эпохе (Жюльен Сорель, Растиньяк, де Марсе, Блонде и др.). Люсьен занимает в этом ряду своеобразное место. Бальзак, с удивительной чуткостью и смелым предвидением, изобразил в нем новый, специфически буржуазный тип художника: характер слабый и лишенный всякой определенности, клубок нервов. Но характер Люсьена важен не только тем, что он полон типической правдивости; этот характер представляет собою прекрасную литературную основу для всестороннего исследования процесса буржуазного развращения литературы. Внутреннее противоречие между поэтической одаренностью и жизненной бесхарактерностью делает Люсьена игрушкой для любых творческих и политических направлений в литературе, которые капитализм использует себе на потребу. Именно это соединение бесхарактерности, честолюбия, стремления к честной и чистой жизни, безмерной, но неопределенной жажды славы, изысканных наслаждений — делает возможным ослепительный успех, быстрое саморазвращение и позорный провал Люсьена.
Бальзак никогда не морализирует по поводу своих героев. Он объективно изображает диалектику их подъема и заката, мотивирует тот и другой взаимодействием между характерами и совокупностью объективных условий, а не изолированной оценкой "хороших" или "дурных" сторон героев. Растиньяк в начале своей карьеры в моральном отношении стоит нисколько не ниже Люсьена; однако, другой состав дарования, смеси из способностей и бессовестности, присущих обоим, позволяет ему стать одним из умных господ той жизни, которая разбивает Люсьена. В этой трагикомической эпопее находит себе полное подтверждение злой афоризм, высказанный Бальзаком в новелле о Мельмоте: все люди разделяются на кассиров и грабителей, т. е. на честных дураков и мошенников.
Таким образом, основным, что связывает этот роман в одно целое, является сам общественный процесс. Наступление и победа капитализма образуют истинное действие романа. Глубочайший смысл личной гибели Люсьена заключается в том, что эта гибель является типичной судьбой поэта в эпоху развитого буржуазного строя.
Необходимо указать, что композиция Бальзака и в этом смысле не абстрактна, не узка: "Утраченные иллюзии" — это не роман, посвященный, как у позднейших романистов, определенному "сюжету" или "куску", извлеченному из общественной жизни, хотя Бальзак доводит до тончайших подробностей все моменты развращения литературы и выводит на сцену только эту сторону капитализма. Общесоциальная основа никогда не выступает у Бальзака на первый план. Его люди никогда не бывают просто "фигурами", выражающими определенные стороны описываемой общественной деятельности. Совокупность общественных определений выражается у Бальзака неравномерно, сложно, запутанно и противоречиво в хаосе личных страстей и случайных происшествий. Смысл отдельных человеческих образов и отдельных, положений никогда не предстает в прямой и простой форме, а вытекает всегда из совокупности определяющих общественных сил. Вот почему этот глубоко социальный роман является в то же время повествованием об отдельном и своеобразном человеке. Мы видим на сцене Люсьена де Рюбампре, который-как это кажется-совершенно независимо от больших общественных сил борется против внутренних и внешних препятствий, мешающих его успеху. Эти препятствия, являющиеся всякий раз в новом образе, вновь и вновь порождаются той же почвой, из которой вырастают и стремления самого Люсьена.
Бальзак изображает жизнь во всем ее богатстве и многообразии; однако, в этом многообразии читатель всегда чувствует органическое единство. Эта характерная черта творчества Бальзака является литературным выражением глубины и верности его художественного чутья. В противоположность большинству великих романистов Бальзак не пользуется "машинерией", т. е. теми пружинами, приводящими в движение вое произведение, какими были боги, в эпосе XVII и XVIII вв., франкмасоны или иезуиты во многих романах XVIII века (напомню о таинственной башне в "Годах учения Вильгельма Мейстера"). Каждая "шестерня" в "механизме" развития его романа- совершенно самостоятельный живой человек, со своими особыми интересами, страстями, трагедиями и комедиями. С главной темой романа Люсьена связывает одна из сторон его жизни; но так как источником связи являются именно индивидуальные жизненные устремления героя, органически вырастающие из его интересов, страстей и т. д., - то связь эта с основной линией романа становится тем самым живой и необходимой. При этом глубокая внутренняя закономерность образа делает его полнокровным, не позволяет ему превратиться в механическую приставку к действию в целом.
Такая концепция действующих лиц предопределяет необходимость их выхода за пределы повествования. Как ни широко бывает действие каждого из произведений Бальзака, как ни глубока его перспектива, в нем могут более или менее полно поместиться только немногие из участвующих в нем человеческих образов.
Этот мнимый недостаток композиции бальзаковских романов, в действительности показывающий их полноценность, предопределяет форму циклов. Значительные и типические фигуры, которые в качестве эпизодических лиц могли проявить в одном романе только немногие свои стороны, выходят из рамок романа, требуют себе воплощения в произведении, тема и действие которого рассчитаны на то, чтобы эти действующие лица оказались в центре повествования и чтобы все присущие им свойства и возможности были развиты с возможной полнотой (напомним в этой связи о Блонде, Растиньяке, Натане и др.).
Циклическая форма романов Бальзака находится в прямой зависимости от развития характеров; поэтому она никогда не бывает педантски сухой, подобно большей части циклов, написанных даже выдающимися романистами. Разделение цикла на части не определяется никакими признаками, лежащими вне человека, — ни отрезками времени, ни сюжетом, ограниченным одной проблемой.
Основа конкретности, реальности, жизненности произведений Бальзака — это, прежде всего, глубокое понимание типических черт каждого из человеческих образов. Благодаря этому, с одной стороны, типичность не только не снижает, но, напротив, подчеркивает индивидуальность, неповторимость этих образов; с другой стороны, с большой ясностью, наглядностью и полнотой выступают отношения между общественной средой и отдельными личностями, которые этой средой сформированы, в ней живут и борются. Типичность характера героев и типичность их общественного положения никогда не переходит здесь в схематизм. Цельные, законченные характеры действуют в сложной и конкретно изображенной общественной среде; каждый характер в целом. Гениальная изобретательность Бальзака помогла ему находить такие фигуры, которые, будучи поставлены в центр действия, не теряют ни одного из своих индивидуальных свойств и освещают определенную сторону общественной жизни. Поэтому отдельные части цикла романов представляют собой вполне самостоятельное изображение индивидуальных человеческих судеб, но в то же время проливают свет на явления, характеризующие все общество. Личное и общественное можно здесь разделить только путем анализа, в самом же произведении они не отделимы, как огонь и излучаемое им тепло. Такая композиция требует чрезвычайно широкой обоснованности в обрисовке характеров и в развертывании действия. Эта широта нужна также для того, чтобы случайность судьбы отдельных персонажей и случайность обстоятельств (Бальзак, как все великие эпические писатели, распоряжается ими весьма свободно) возвысились до необходимости. Только широта и многообразие связей может создать плацдарм для плодотворного творческого использования случайности и для включения последней в поток закономерности: "Рассчитывать на случай могут в Париже только люди с большими связями; чем больше их имеешь, тем больше надежды на успех. Случай побеждает лишь тогда, когда его поддерживают сильные батальоны".
Форма творческого преодоления случайности у Бальзака- "старомодна"; она в корне отличает его от новейших писателей. Вот пример. В предисловии к "Манхеттену" Дос-Пасоса Синклер Льюис критикует "старый" способ строить действие; он говорит главным образом о Диккенсе, но его критика может быть применена и к Бальзаку. Синклер Льюис пишет:
"Классический метод действительно требовал тщательной оснастки: несчастный случай должен был заставить мистера Джонса встретиться с мистером Смитом в почтовой карете, для того чтобы могли произойти увлекательные и волнующие события. В "Манхеттене" пути отдельных людей либо не пересекают друг друга вовсе, либо это случается вполне естественно".
Под этой новейшей концепцией кроется (для большинства писателей — неосознанно) поверхностное, недиалектическое понимание вопроса о причинной связи и случайности. Случайность здесь слишком жестко противопоставляется необходимости. Складывается такое представление, будто случай перестает быть случаем, если будут вскрыты причины, непосредственно вызвавшие его. Однако это дает еще очень мало-пожалуй, даже ничего не дает для художественной мотивировки. Любой трагический эпизод, если в его основу положить так истолкованную случайность, будет восприниматься как гротеск, и никакая цепь причин не возвысит его до необходимости. Так, например, если бы мы прочли обстоятельное описание бугристой почвы, выясняющее причины того, что Ахилл сломал ногу, преследуя Гектора, или блестящее патолого-медицинское исследование причин, вызвавших болезнь Антония накануне его речи на форуме, такие мотивировки произвели бы на нас только впечатление курьезных и случайных совпадений. Напротив того, грубо очерченные и почти не мотивированные случаи, приводящие к гибели Ромео и Джульетту, вовсе не кажутся простой случайностью. Почему? Да, конечно, потому, что здесь необходимость, лишающая случайность ее единичного и потому малозначительного характера, состоит из целой системы причинных рядов, переплетенных между собой. Для того чтобы достигнуть настоящей художественной закономерности, нужно прежде всего определить направление, в котором неизбежно будут развиваться события.
Любовь Ромео и Джульетты должна иметь трагический конец, и эта неизбежность подчиняет себе все случайности, являющиеся непосредственной причиной различных событий на отдельных этапах действия. Вот почему степень правдоподобности, с которой объяснено каждое из этих событий, не имеет первостепенного значения.
Всякое совпадение одинаково случайно, и писатель имеет право выбирать то из них, которое, по его мнению, будет более действенным. Бальзак пользуется этой свободой выбора с величайшей уверенностью, — не меньшей, чем Шекспир. Тонкость и глубина изображения характеров и общественной жизни, разветвленность, многообразие связей между действующими лицами и общественными причинами, определяющими их поступки, — все это придает романам Бальзака ту широту, которая способна вместить тысячи перекрещивающихся случайностей, образующих в своей совокупности глубокую необходимость.
Действительная необходимость в рассматриваемом нами случае заключается в том, что Люсьен должен погибнуть в капиталистическом Париже. Каждый шаг, каждый момент подъема или падения кривой его жизни вскрывает все глубже общественные и психологические причины, предопределяющие его гибель. В системе бальзаковского романа каждый случай ведет к цели, — и все же каждое единичное явление, помогающее вскрыть необходимость,
само по себе случайно.
Выявления глубочайших общественных закономерностей Бальзак достигает всегда посредством действия, посредством энергичного, чаще всего катастрофического столкновения событий. Обстоятельные описания, превращающиеся иногда в целые трактаты о том или ином городе, интерьере, ресторане и т. д., никогда не бывают у Бальзака просто описаниями. Они, опять-таки, служат для подготовки среды, где должна будет позднее разразиться ката строфа. Последняя почти всегда приходит "внезапно", не ожидание, но эта внезапность- только кажущаяся: во время катастрофы выступают вполне отчетливо те черты, которые, в менее интенсивном виде, мы наблюдали задолго до нее.
В "Утраченных иллюзиях" два решительных поворота происходят в течение нескольких дней, даже нескольких часов. Это очень характерно для Бальзака. Двух дней coвместного пребывания в Париже оказывается достаточно, чтобы Люсьен и Луиза де Баржетон узнали друг в друге настоящих провинциалов и чтобы это отвратило их друг от друга. Еще катастрофичней история журналистской карьеры Люсьена. Однажды, когда Люсьен уже отчаивался в успехе, он прочитал свои стихи журналисту Лусто. Тот взял его с собой к издателю, потом в театр. Люсьен пишет первую свою критическую статью о театре, а утром просыпается известным журналистом. В таких "внезапностях" содержится глубокая общественная правда — правда тех общественных сил, которые, в конечном счете, делают их закономерными. В то же время катастрофическая форма, представляя определившие события причины в концентрированном виде, недопускает излишних и несущественных деталей.
Другой стороной случайности как художественной проблемы является вопрос о существенном и несущественном.
С литературной точки зрения всякое свойство человека будет случайным и всякая вещь простым реквизитом, если только они не связаны с развитием основной линии произведения. Широта, с которой охватывается материал в романах Бальзака, нисколько не противоречит их взрывчатому, от катастрофы к катастрофе движущемуся действию. Напротив, развитие сюжета в романах Бальзка требует большой широты: при всей его напряженности и сложности, выдвигающей все новые и новые черты образов, ни один резкий перелом никогда не открывает нечто совершенно новое, а только делает явным существовавшее прежде в скрытом виде.
С литературной точки зрения образы Бальзака не имеют никогда случайных черт, так как не бывает у них ни, одного, хотя бы маловажного, свойства, которое в известный момент не имело бы решающего значения. Вот почему описания у Бальзака никогда не представляют собой той "среды", которую мы видим у позднейших социологов-позитивистов, вот почему подробнейшие описания интерьеров и прочего никогда не превращаются у Бальзака в реквизит. Вспомните хотя бы о роли четырех костюмов Люсьена в его первой парижской катастрофе. Два костюма он привез еще из Ангулема, и во время первой же прогулки выясняется, что даже лучший из них носить невозможно. Первое платье, приобретенное в Париже, оказывается слишком ненадежным и ветхим панцырем, чтобы облаченный в него Люсьен мог выдержать свою первую борьбу с парижским обществом в ложе маркизы д'Эспар. Второе парижское платье запоздало, — настал уже новый этап жизни Люсьена, и оно сохранилось в шкапу в течение всего поэтически-аскетического периода, с тем чтобы очень ненадолго появиться на свет, когда Люсьен превратился в журналиста. И такую же действенно-драматическую роль играют все вещи, "описываемые" Бальзаком.
Бальзак закладывает более широкий фундамент для действия, чем какой бы то ни было другой романист, писавший до или после него. Но все, о чем он пишет, участвует в действии. Бальзаковская широта и упорное стремление к отражению объективной действительности дали ему возможность приблизиться к последней в большей степени, чем писателям, творчество которых было основано на других принципах.
Но Бальзак в той же мере уводит нас от обыденного, привычного, заурядного способа непосредственного отражения объективной действительности, в какой он приближает к самой объективной действительности. Именно" потому, что Бальзак преодолевает ограниченные, примелькавшиеся, рутинные рамки этой "непосредственности" и тем самым разрушает удобство привычной манеры подходить к действительности, он и вызвал такое множество упреков в "гиперболизме", "перегруженности" и т. д. Великий Бальзак бьет сильнее всего по строю мыслей и чувств новейшей буржуазии, отказывающейся от познания объективной действительности и взамен его выдвигающей "непосредственные переживания".
В способах художественного изображения Бальзак не ограничивает себя рамками повседневной действительности. Д'Артез — Бальзак говорит в "Утраченных иллюзиях": "Что такое искусство? Не что иное, как сгущенная натура". Но это сгущение натуры никогда не бывает у него формальным "приемом"; оно представляет собой возведение общественного, человеческого содержания той или иной ситуации на высшую ступень. Бальзак — один из вдохновеннейших писателей, живших когда-либо на земле. Его гений не мог довольствоваться изобретением остроумных и метких формул; он толкал его к извлечению существенного содержания явлений, обнаруживающего себя тогда, когда противоречия достигают сильнейшей напряженности. Люсьен в начале, своей карьеры должен написать статью о восхитившем его романе Натана. Через несколько дней он должен во второй статье выступить против него. Эта задача сначала приводит Люсьена, новоиспеченного журналиста, в замешательство. Но сперва Лусто, потом Блонде объясняют ему, в чем состоит его задача. И Лусто и Блонде приводят рассуждения, с такой ловкостью подкрепленные ссылками на историю литературы и эстетику что они должны показаться убедительными не только для читателей статьи, но и для самого Люсьена. Он потрясен лекцией, которую ему прочитал Лусто. " — Но ведь то, что ты мне сказал, — восклицает он — совершенно правильно и разумно. — Если б это было не так разве ты смог бы в клочья разорвать книгу Натана? — ответил Лусто". После Бальзака многие писатели изображали бессовестность журналистов и рассказывали о том как пишутся статьи, противоречащие убеждениям их авторов. Но только Бальзак вскрывает всю глубину журналистской софистики. Изображая одаренность развращенных капитализмом писателей, он показывает также, как они доводят до виртуозности ремесло софистики, уменье отрицать и утверждать любое положение с такой убедительностью, чтобы заставить поверить, будто они высказали свои истинные взгляды.
Высота художественного выражения превращает изображенную Бальзаком биржу, на которой спекулируют духовной жизнью, в глубокую трагикомедию буржуазного класса.
Позднейшие писатели-реалисты описывали время, когда процесс подчинения всей духовной жизни капиталистическому строю уже завершился; Бальзак изображает раннюю стадию этого процесса во всем ее мрачном "великолепии" и во всей ее гнусности. То, что продукты духовной деятельности стали товаром, это не было еще тогда явлением само собой разумеющимся, привычным, и искусство в то время не приобрело еще того скучного, прозаического характера, как позднее.
В романе Бальзака превращение духа в товар происходит на наших глазах как новое, драматически напряженное явление. Лусто и Блонде вчера были тем же, чем показан в романе Люсьен, т. е. писателями, которые неизбежно должны будут превратить в товар и свое искусство и свои убеждения.
От литературы, фотографически воспроизводящей обыденную действительность, произведения Бальзака разнятся глубиной своего реализма. Поэтому отыскивание реальных людей якобы послуживших "моделью" для фигур Бальзака — занятие тщетное и бесплодное. Правдивость этих образов заключается в том, что они — типы, а не единичные портреты и, уж конечно, не фотографии. Реалистические образы Бальзака лишены какой бы то ни было примеси романтизма; но сгущенность содержания придает нарисованной им картине в целом характер угрюмой и мрачной фантастики Именно в этом смысле лучшие произведения Бальзака проникнуты романтической взволнованностью, что не делает их все же романтическими. Фантастика Бальзака — это решительное доведение до логического конца наблюденных автором общественных тенденций, выход за узкие пределы повседневности и поверхностного правдоподобия. Как пример напомню новеллу о Мельмоте, где спасение души отождествлено с товаром, биржевой курс которого, вследствие возросшего предложения, стремительно понижается.
Образ Вотрена тоже дает хороший пример того же рода. Конечно, не случайно этот "Кромвель каторги" выступает в романах, изображающих отказ от идеалов и примирение с действительностью типичнейших представителей послереволюционной молодежи. Вотрен появляется в маленьком пансионе, где Растиньяк переживает идейный кризис; он показывается вновь и в конце "Утраченных иллюзий", когда Люсьен, обманувшийся во всех своих надеждах и потерпевший полное материальное и моральное крушение, решается на самоубийство. Вотрен появляется всякий раз с такой же "оправданно-неоправданной" неожиданностью, с какой выскакивает на сцену Мефистофель в гетевском "Фаусте" или Люцифер в байроновском "Каине". Его роль в "Человеческой комедии" такая же, как роль Мефистофеля и Люцифера в мистериях Гете и Байрона. Но изменившиеся времена не только низвели на землю "дьявола", который некогда облекал отрицательное начало в сверхчеловеческое величие и красоту, но изменили также сущность "соблазна" и самый метод введения людей в соблазн.
Гете, отражавший с большой глубиной проблемы послереволюционной эпохи, все же воспринимал общественную эволюцию, происшедшую со времени Ренессанса, как положительную. Поэтому Мефистофель у него — "часть той силы, которая всегда стремится ко злу, но творит добро". По Бальзаку добро может жить только в мечтах. Мефистофельская критика у Вотрена — это грубое и циничное выражение того, что все люди делают и делать должны, если не хотят осудить себя на гибель.
"У вас ничего нет, вы находитесь а положении Медичи, Ришелье, Наполеона на рассвете их честолюбия. Эти люди, милый мой, купили свое будущее ценою неблагодарности, предательства и самых резких противоречий. Нужно на все дерзать, чтобы все иметь. Давайте рассуждать. Когда вы садитесь играть в булиот, спорите ли вы об условиях? Правила существуют, вы их принимаете".
Глубокий цинизм такого понимания правил общественного поведения — не только в его содержании. Герои Бальзака часто высказывают подобные мысли. Опасность Вотрена состоит в том, что он излагает эту общественную мудрость совершенно обнаженно, без иллюзий, без прикрас.
Соблазн состоит здесь в том, что мудрость Вотрена, в сущности, мало разнится от общественной философии святейших персонажей бальзаковского мира. Я приведу только один пример. В знаменитом письме к Феликсу Ванденессу "святая" мадам де Морюзо пишет:
"Единственно, что для меня не подлежит сомнению, когда я думаю про общество, — это то, что оно существует. Если вы не хотите жить вне его, вы должны придерживаться существующих в нем законов" ("Лилия долин").
Это высказано в поэтически туманных выражениях; но голый смысл этих слов тот же, что и в словах Вотрена, оказанных им Люсьену. Вспомните, что и Растиньяк заметил с удивлением, как совпадает циническая мудрость Вотрена с вдохновенными афоризмами виконтессы Босеан. Это единодушие в оценке капиталистической действительности между блестящим представителем аристократической интеллигенции и беглым каторжником Вотреном заменяет, для выражения мефистофельской сущности последнего, любые театрально-мистические атрибуты. Недаром преступники и сыщики дали Вотрену прозвище "Обмани смерть". Он действительно стоит у эшафота, на котором гибнут все иллюзии, созданные великим столетием; и на его устах — горькие и едкие слова бальзаковской мудрости: люди бывают только дураками или мошенниками.
Эта мрачная картина не может быть, однако, названа пессимистической в том смысле, какой этот термин получил в конце XIX в. Великие писатели и мыслители на том этапе развития буржуазии противопоставляли плоской апологетике капиталистического прогресса и мифам об эволюции, лишенной противоречий, свою смелую и глубокую критику общества. Равным образом, они были далеки и от романтической тоски по тем формам жизни, которые человечество уже прошло в своем развитии. Однако именно эта глубина и непредвзятость мышления осуждали их на двойственность и внутреннюю противоречивость: их критическое и гордое приятие действительности, их творческое и философское понимание противоречий капиталистического развития неизбежно соединялись с самыми беспочвенными мечтами. В "Утраченных иллюзиях" поэтический образ этих иллюзий дан в кружке д'Артеза, точно так же, как в "Племяннике Рамо" иллюзии воплощены в образе "собеседника", за которым скрывается сам Дидро.
В обоих случаях порочной действительности противопоставляется поэтически утверждаемое существование иной, лучшей действительности.
Слабость такой аргументации была совершенно ясна уже для Гегеля. Если, писал он в "Феноменологии духа", весь реальный мир изображается как порочный, и художник может противопоставить ему только единичные, и потому почти анекдотические, добрые дела, то, тем самым, художник высказывает о реальном мире горчайшую истину. И, комментируя произведение Дидро, Гегель доказывает, что важнейшая линия общественного развития нашла себе выражение (в "Племяннике Рамо") именно в отрицательном, злом, порочном начале, что именно здесь мы видим те исторические тенденции, которые ведут к разрушению феодально-абсолютистского строя, к Просвещению и французской революции. Противоречия гибнущего старого общества, соединяющиеся и пересекающиеся с противоречиями молодого буржуазного общества, находят себе более адэкватное отражение в циничном обнажении пороков общественного бытия, чем в отвлеченной и монотонной проповеди "моральных истин", которым ничто не отвечает в реальной действительности.
Вот почему "принцип добра" опирается у Дидро только на изолированные и единичные жизненные явления, в то время как в фигуре идеологического представителя общественных пороков общества реальные противоречия отражены в целом (хотя и в софистически-циничном, искаженном изображении). Бесстыдный цинизм, с которым эти противоречия выявляются, циничное объявление всеобщего обмана и самообмана необходимостью, софистически превратные толкования всех нравственных понятий оказываются, следовательно, величайшей, истиной, какая только возможна в обществе, находящемся в подобном положении. Так определяет Гегель существенное содержание диалога Дидро.
Но, конечно, ни д'Артеза — Бальзака, ни Дидро — "собеседника" из диалога, несмотря на все их иллюзии, нельзя резкo противополагать этому отрицательному миру. Основное противоречие заключается именно в том, что Бальзак наряду с иллюзиями д'Артеза изобразил "Утраченные иллюзии", и в этом факте заключается другая и большая положительная истина, чем во всех иллюзиях, высказанных д'Артезом — Бальзаком. И Бальзак и Дидро сознавали как положительную, так и отрицательную сторону изображаемого ими мира; оба эти писателя были доступны иллюзиям и в то же время видели, как эти иллюзии опровергаются капиталистической действительностью. Поэтому в своем творчестве, разоблачающем самую сущность капитализма, эти писатели подымаются выше тех иллюзий, рупором которых они хотели сделать свои произведения, выше софизма и цинизма созданных ими героев по праву представляющих в этих произведениях капиталистический строй. Эти обвинительные акты против действительности — высочайшая ступень познания, которой может достигнуть в буржуазном обществе художник или мыслитель, пока историческое развитие не заставит его найти реальную опору в пролетариате.
Правда, и в обвинениях, бросаемых этими писателями обществу, также есть иллюзии, не отделимые от их идеологии.
Гегель говорит в анализе диалога Дидро, что ясно познать противоречия — это значит стать выше их. Мысль о том, что преодоление противоречий в мышлении способно преодолеть реальные противоречия, — это всем известная, типичная для идеалистов иллюзия. Мало того, преодоление в мышлении тех противоречий, которые еще не могут быть преодолены в действительности, тоже всегда оказывается иллюзорным. Но эта иллюзия (которая связывается почти всегда с более или менее реакционными идеями) не только общественно необходима как оправдание прогрессивного приятия общественного развития в целом при беспощадном разоблачении низостей и грязи современного этапа развития. В этой иллюзии таится вера то, что развитие человечества не может быть бессмысленным, что невозможно, чтобы героические усилия людей за все века борьбы от Ренессанса до Просвещения и французской революции выдвинули Нюсинжена и К° как навсегда восторжествовавших победителей.
Суровая правдивость Бальзака — это трагическая, но важная ступень в развитии гуманизма. В двойное свете того переходного времени, когда солнце буржуазно-революционного гуманизма закатилось, а пролетарский гуманизм еще только формировался, такая форма критики капитализма была вернейшим путем к сохранению великого гуманистического наследства, лучшим способом включить все лучшее, что в нем было, в дальнейшее развитие человечества.
"Утраченные иллюзии" были первым "романом разочарования" в XIX веке; но они, кроме того, остаются и самым высоким произведением этого жанра. В этом романе, как мы уже подчеркивали, Бальзак изображает эпоху, так сказать, первоначального капиталистического накопления в области духовной жизни; последователи же Бальзака, даже величайшие среди них (например, Флобер), имели дело с уже совершившимся фактом подчинения себе капитализмом всех без изъятия человеческих ценностей. У Бальзака мы находим, поэтому, напряженную трагедию, показывающую становление новых отношений, а у его преемников — мертвый факт и лирическую или ироническую печаль по поводу того, что уже свершилось.
Бальзак-Критик Стендаля
Двадцать пятого сентября 1840 г. находившийся в зените славы Бальзак опубликовал свою восторженную и необычайно глубокую статью о "Пармском монастыре"- романе тогда еще безвестного Стендаля. В конце октября Стендаль ответил на эту статью письмом к Бальзаку, в котором он подробно указывает, какие из критических замечаний для него приемлемы и какие он отвергает, противопоставляя им свой собственный творческий метод, отличный от метода Бальзака.
Эта критическая беседа двух величайших писателей первой половины XIX в. чрезвычайно значительна, несмотря на то, что письмо Стендаля (как мы увидим ниже) в известной мере сдержанно-дипломатическое и в нем не так открыто показаны пункты расхождения, как в статье Бальзака. Все же, взятые вместе, они дают отчетливое представление о том, что взгляды обоих писателей на существеннейшие вопросы высокого реализма, в общем, совпадали, а так же о том, как различались те особые пути, на которых каждый из них этот реализм искал.
Статья Бальзака — это образец конкретного анализа великого произведения искусства. Во всей критической литературе трудно найти другой случай, когда самая сущность художественности произведения вскрывалась бы с такой любовной проникновенностью, с таким чутким и конгениальным пониманием. Это-образец критики настоящего художника, мыслящего и сознательно относящегося к своему искусству. Мы нисколько не уменьшим достоинства статьи Бальзака, когда докажем в процессе нашего исследования, что Бальзак, при всем своем удивительном понимании замысла Стендаля, не мог проникнуть именно в его глубочайшие намерения и попытался навязать Стендалю свой собственный творческий метод.
Неспособность перейти эту границу не является личным недостатком Бальзака. Поучительность критики собственных и чужих произведений со стороны большого художника покоится именно на такой неизбежной и плодотворной односторонности. Но мы лишь в том случае сможем с действительной пользой изучать этого рода критику, если не будем относиться к ней как к абстрактному канону, постараемся найти ту своеобразную точку зрения, на которой она построена. Ибо, как мы уже сказали, односторонность такого великого художника, как Бальзака, не противоречит его способности изображать жизнь с огромной полнотой.
Необходимость отделить себя от единственного схожего с ним писателя-современника заставляет Бальзака в самом начале статьи сразу же и гораздо точнее, чем обычно, высказать свои взгляды на историю литературы и развитие романа. В введении к "Человеческой комедии" Бальзак определяет, в основном, свое отношение только к Вальтер Скотту, говорит, в чем он продолжает дело жизни этого писателя и какие стороны его творчества считает устарелыми. Здесь же, в статье о Стендале, он дает чрезвычайно глубокий анализ различных направлений в современном ему романе. От внимательного читателя глубину этого анализа не скроет неточная, иногда вводящая даже в заблуждение терминология, которой пользуется Бальзак.
Важнейшая особенность этого анализа состоит в том, что Бальзак различает три главных направления в современном ему романе. Первое — это "литература идей", под именем которой Бальзак разумеет прежде всего литературу французского Просвещения. Вольтер и Лесаж в прошлом, Стендаль и Мериме в современности являются, по его мнению, крупнейшими представителями этого направления. Второе направление — это "литература образов". Под этим именем Бальзак разумеет, главным образом, произведения писателей-романтиков- Шатобриана, Ламартина, Виктора Гюго и других. Третьему направлению, к которому Бальзак причисляет себя самого и которое пытается создать синтез двух первых направлений, дано в высшей степени неудачное название: "Литературный эклектизм". (Происхождение этого неудачного термина надо, должно быть, искать в чрезвычайно преувеличенной оценке, которую Бальзак давал идеалистическим системам философии типа Ройе Коллара.) К этому направлению Бальзак относит Вальтер Скотта, мадам де Сталь, Купера… Жорж Санд.
Этот перечень показывает, какое одиночество испытывал Бальзак среди своих современников. Его конкретные высказывания о перечисленных здесь писателях-например, чрезвычайно интересная критическая статья о Купере в "Revue Parisienne" от 15 июля 1840 г. — показывает, что его согласие с ними простиралось не так уж далеко. И все же здесь, где ему пришлось защищать свои творческие принципы перед единственным писателем одного с ним уровня, он вынужден апеллировать к этим авторам, как к своим предшественникам и единомышленникам.
Резче всего Бальзак противопоставляет себя направлению "литературы идей". Это понятно — ведь именно здесь; яснее всего вырисовываются его противоречия со Стендалем. Он пишет: "Я не считаю возможным живописать современное общество строгими методами семнадцатого и восемнадцатого веков. Введение драматического элемента, образа, картины, описания диалога мне кажется необходимым в современной литературе. Признаемся откровенно, Жиль-Блаз утомителен по форме: в нагромождении событий и идей есть что-то бесплодное". И называя тут же роман Стендаля шедевром "литературы идей", он подчеркивает, что этот писатель делал уступки и двум другим направлениям. Но в дальнейшем мы увидим, как Бальзак, с одной стороны, с удивительной тонкостью отмечает, что Стендаль и художественных деталях нигде не делает уступок ни романтикам, ни направлению, защищаемому самим Бальзаком, и как, с другой стороны, когда дело доходит до серьезнейших вопросов композиции, — непосредственно связанных с вопросами мировоззрения, — он критикует именно неуступчивость Стендаля.
Речь идет о важнейшей для всего XIX в. проблеме мировоззрения и стиля — о размежевании с романтизмом. От решения этой проблемы не мог уклониться ни один крупный писатель, работавший после французской революции. Размежевание начинается уже в веймарский период Гете и Шиллера и достигает своего крайнего литературного выражения в гейневской критике романтизма. Основа этого вопроса состоит в том, что романтизм как течение вовсе не был литературным направлением-и только. В романтическом мировоззрении выразилось непосредственное и глубокое возмущение против быстро развивающегося капитализма. Разумеется, форма этого возмущения была чрезвычайно противоречива. Так, например, крайние романтики превратились в защитников феодальной реакции к христианского обскурантизма. Но в глубине движения в целом лежал именно бунт против отрицательных сторон капитализма.
Отсюда для величайшее писателей этой эпохи, не имевших сил вырваться из буржуазного кругозора и в то же время стремившихся составить себе всеобъемлющую и правильную картину мира, возникала своеобразная дилемма. Они не могли стать романтиками, в смысле принадлежности к школе, так как в этом случае они не могли бы понять прогрессивные явления их времени. Но они не могли также пренебречь романтической критикой капитализма, капиталистической культуры, не становясь при этом лицом к лицу с опасностью превратиться в людей, слепо прославляющих буржуазное общество, превратиться в апологетов капитализма. Все они стремились поэтому включить в свое мировоззрение романтику в измененном виде. И надо сказать, что добиться такого рода синтеза, без противоречий и изломов, не удалось ни одному большому писателю. Они черпали свои величайшие художественные ценности из объективно неразрешимых для них, но мужественно понятых до конца противоречий своей общественной и духовной жизни.
Бальзак принадлежит к тем писателям, у которых такое приятие романтики и в то же время попытка ее преодоления происходили в самой широкой и осознанной форме. Стендаль, напротив, великий и сознательный последователь просветительной философии. Эта противоположность, конечно, выражается с большой остротой в творческих методах обоих писателей. Например, Стендаль советует начинающему писателю, если он хочет научиться писать на хорошем французском языке, читать не современных писателей, а тех, кто жил до 1700 г., и, если он хочет научиться правильному мышлению, изучить книгу Гельвеция "О духе" и Бентама. Известно, что Бальзак, при всех своих критических замечаниях, все же признавал литературные достоинства романтиков от Шенье до Шатобриана. Это противоречие и лежит, как мы увидим, в основе всех существеннейших споров между Бальзаком и Стендалем.
Мы должны были с самого начала сказать об этом, так как в свете указанного противоречия становится ясным совершенно необычайный характер похвалы Стендалю со стороны Бальзака. Не только с точки зрения человеческих качеств Бальзака заслуживают восхищения пафос и ум, с каким он, без тени зависти, добивается славы для единственного своего настоящего соперника в литературе, (История буржуазной литературы дает весьма немного примеров такой самоотверженности.) Больше всего достойно удивления то, что Бальзак с таким воодушевлением требует, чтобы было призвано классическим произведение, глубочайшим образом противоречащее его собственным убеждениям.
В своей статье Бальзак с возрастающим восторгом хвалит стройное и прямолинейное, сосредоточенное исключительно на основных моментах, построение романа Стендаля. Он называет, с известным правом, такое построение драматическим и воспринимает этот драматический элемент как то, что сближает стиль Стендаля с его собственным стилем. В этой связи он хвалит Стендаля как раз за то, что у него нет никаких "hors d'oeuvre", т. е. никаких вставок.
"Персонажи действуют, размышляют, чувствуют, и драма все время развивается. Никогда поэт, драматический со своим идеям, отдаваясь стремительному ритму дифирамба, не нагнется го пути, чтобы сорвать цветок". И еще несколько раз Бальзак особенно подчеркивает как достоинство эту изящную прямолинейность композиции Стендаля.
Здесь проявилась общность тенденций двух великих романистов, хотя на первый (и на поверхностный) взгляд именно в этом вопросе видно огромное стилистическое различие между просветительским изяществом Стендаля и романтической усложненностью, почти необозримым изобилием, характерным для композиции Бальзака. Тем не менее, при всем различия, здесь кроется их глубокое родство; Бальзак (в лучших своих произведениях) также никогда не отклоняется от пути, чтобы "сорвать цветок"; и он также изображает существенное и только существенное. Различие и даже противоположность между Бальзаком и Стендалем заключается в понимании того, что именно существенно. И представление об этом у Бальзака много сложней, много запутанней и гораздо меньше поддается тому, чтобы быть сведенным к нескольким главным моментам, чем представление Стендаля.
Это страстное стремление к существенному, презрение к мелочному реализму создает художественную связь между Бальзаком и Стендалем, несмотря на всю противоположность их мировоззрения и творческого метода. Поэтому, анализируя роман Стендаля. Бальзак не мог не затронуть глубочайших вопросов формы, чрезвычайно актуальных и для нашего времени.
Как подлинный художник Бальзак ясно видит неразрывную связь между удачным выборам темы и стройной композицией. Он уделяет поэтому много внимания исчерпывающему доказательству того положения, что Стендаль проявил большое искусство, избрав местом действия своего романа Италию, придворный круг небольшого итальянского монарха. Бальзак совершенно справедливо утверждает при этом, что произведение Стендаля вышло далеко за рамки мелких придворных интриг в маленьком княжестве. В своем романе Стендаль вскрыл черты, глубоко типичные для абсолютизма того времени, с изумительной верностью изобразил характеры, которые порождены были этим общественным строем. Он, говорит Бальзак, написал современную книгу "О князе", "роман, который написал бы Макиавелли, если б он, изгнанный из Италии, жил в XIX веке". Это произведение типично в высшем смысле слова. "Эта книга прекрасно объясняет, конец, все, что терпел Ришелье от камарильи Людовика XIII".
Этой высокой типичности Стендаль достигает, по мнению Бальзака, именно тем, что переносит действие в Парму-место столкновения мелких интересов и мелких интриг. Если бы, продолжает Бальзак свою мысль, интересы были такими мощными, как при дворе Людовика XIV или Наполеона, то изображение потребовало бы такого расширения характеристик и введения столь многочисленных объяснений различных явлений, что действие романа было бы до крайности отяжелено. Напротив того, Парму нетрудно охватить взором, и в то же время стендалева Парма объясняет внутреннюю типичную структуру дворов всех абсолютных монархий.
Бальзак говорит здесь о существенной композиционной основе большого реалистического романа. Романист, "этот историк частной жизни" (Фильдинг), должен изображать внутренний механизм общества, внутренние законы его движения, тенденции его развития, его незаметный рост и революционные потрясения. Лишь в редчайших случаях большие исторические факты, великие исторические лица пригодны для того, чтобы в них выражено было с достаточной полнотой именно то, что типично в развитии общественной жизни. Ни в коем случае нельзя признать случайным, например, то обстоятельство, что в произведениях Бальзака Наполеон появляется крайне редко и всегда только как фигура эпизодическая, несмотря на то что наполеонизм, принцип наполеоновской монархии, является главным общественным героем многих романов Бальзака. И Бальзак считает признаком дилетантства, когда романист, вместо интенсивных моментов, типичных для всего многообразия общественного развития, выбирает как тему экстенсивное величие всемирно-исторических фактов, искупая свои недостатки внешним, бросающимся в глаза блеском. В своей статье о Евгении Сю (напечатанной в "Revue Parisienne") он противопоставляет этому писателю Вальтер Скотта. Бальзак пишет: "В романе великий человек допустим только как побочная фигура. Кромвеля, Карла II, Марию Стюарт, Людовика XI, Елизавету, Ричарда Львиное Сердце — всех этих великих людей основатель жанра выводит на сцену только на мгновенье, когда драматическое положенние приводит рассказчика к тому, что люди и предметы столкнулись именно в этом пункте. Второстепенные образы Вальтер Скотта вызывают в вас глубокие переживания. Вы принимаете к сердцу интересы каждого его человека так, как будто вы повстречали великую историческую персону. Скотт никогда не делая предметом своего сочинения гигантский факт, но он доподлинно раскрывает его сущность, изображая дух и обычаи эпохи, социальную среду, вместо того чтобы забираться в высокие области больших политических событий".
В этом смысле Бальзак признает Стендаля своим союзником, своим соратником. Он видит в нем писателя, который равнo презирает мелочный реализм, расписыванье мелочных настроений и надутую, экстенсивную историческую монументальность; писателя, который, подобно ему самому, стремится, путем раскрытия действительных причин, движущих общественными событиями, проникнуть в типическую сущность каждого общественного явления. На этой почве встречаются и приветствуют друг друга два величайших реалиста прошлого столетия; их объединяет борьба против всех попыток низвести реализм с той высоты, на которую поднимает его изображение существенного.
В романе Стендаля Бальзака восхищает больше всего значительность характеров. И в этом отношении стремления обоих писателей тесно соприкасались. Оба считали своей задачей-дать изображение типичных для общества людей, причем концепция типичности и у Бальзака и у Стендаля не имеет ничего общего с реализмом литера-туры после 1848 г., когда типическими стали называть посредственные, обыденные характеры. Типический человек для Бальзака и Стендаля-это необычайный, выдающийся характер, воплощающий в себе существенные черты определенной полосы общественного развития, той или иной общественной тенденции, общественного слоя. В глазах Бальзака Вотрен-это типичный преступник, а не обычный мелкий буржуа, который по какой-то случайности начал пьянствовать и, случайно напившись пьяным, убивает одного или нескольких людей — как в подобном случае разрешали бы проблему типичности в позднейшем натурализме. Вот почему Бальзак оценивает высоко ту энергию, с которой Стендаль изображает как типичные фигуры обоих герцогов Пармы, министра Моску, герцогиню Сансеверина и революционера Палла Ферранте. Как глу-боко заинтересован Бальзак в основных вопросах реализма и как мало, когда речь идет о них, он заботится о том чтобы выставить напоказ свои литературные заслуги, видно из его, лишенного какой бы то ни было зависти, признания относительно последнего из перечисленных персонажей. Он напоминает, что сам пытался уже создать фигуру, подобную Ферранте (Мишель Кретьен), и говорит, что Стендаль далеко превзошел его в этом.
Однако, по мере того как Бальзак углубляется в композиционные проблемы романа Стендаля, различие в их взглядах на композицию должно было сказаться с увеличивающейся остротой. Мы видели выше, с каким, воодушевлением следит Бальзак за развитием действия при пармском дворе, как внимательно анализирует он шаг шагом движение содержания и формы. Но признание высоких качеств этой части приводит его к обвинению, выдвигаемому против композиции романа в целом. Он утверждает, что только эта часть и является, в сущности, романом. Введение, юность Фабрицио дель Донго, по его мнению, следовало изложить лишь очень кратко, а изображение семьи дель Донго, дружной семьи из высшей австрийской аристократии (для контраста с приверженностью к Наполеону Фабрицио и его тетки), изображение миланского двора Евгения и т. п. — все это не имеет от ношения к роману. Точно так же он считает совершенно излишиней в романе всю его заключительную часть, где описаны события после возвращения герцогини Сансеверина и Моски в Парму, рассказ о любви Фабрицио и Клелии, решение Фабрицио пойти в монастырь.
Здесь Бальзак пытается предписать Стендалю свой собственный подход к композиции. В большей части романов Бальзака фабула закончена гораздо больше, чем в романах Стендаля и романах XVIII в., много сильнее у Бальзака и единство настроения. Исключений из этого в творчестве Бальзака мы найдем немного. Он изображает какую-либо катастрофу или ряд катастроф, сильно сконцентрированных во времени и в пространстве. Вся картина в целом окрашена у него единым и чрезвычайно интенсивным настроением. Таким образом, используя для формы романа некоторые композиционные элементы шекспировских драм и классической новеллы, он ищет в них художественного оружия против бесформенности и текучести современной буржуазной жизни. Эта форма композиции не позволяет дать в каждом романе завершение, целого ряда появляющихся в нем фигур. Принцип цикличности романов Бальзака (не имеющий ничего общего с позднейшими циклами романов, например, Золя) вытекает именно из этой художественной особенности. Незаконченный, не доведенный до конца образ человека появляется опять в другом произведении, но уже как центральная фигура. И произведение это, вся жизненная его атмосфера, все его настроение имеют тот характер, какой необходим для того, чтобы сделать центром действия именно эту фигуру. Припомним хотя бы Вотрена, Нюсинжена, Максима де Трайль и других, которые в "Отце Горио" выступают как фигуры эпизодические, а свое действительное содержание, свои настоящие свойства обнаруживают уже в других романах. Поистине, мир Бальзака похож на мир Гегеля; это-круг, состоящий из одних только кругов.
Прямо противоположны композиционные принципы Стендаля. Так же, как и Бальзак, он всегда стремится изобразить общество в целом, но он хочет существенные моменты в жизни той или иной эпохи (Реставрация в "Красном и черном", абсолютизм в "Пармском монастыре", июльская монархия в "Люсьене Левене") вложить в жизнеописание определенного типического человека. Эту биографическую форму Стендаль воспринял из предшествующей литературы, но в его творчестве она приобретает своеобразное и совершенно особое значение. Все созданные им человеческие типы, при всем различии в их классовой приндалежности и жизненных условиях, обладают родственными чертами в самом своем существе и в отношении ко всей эпохе (Жюльен Сорель, Фабрицио дель Донго, Люсьен Левен). Судьба этих людей должна показать подлость, отвратительную мелкость всей эпохи, — эпохи, в которой нет уже места для великих и благородных наследников героического периода в развитии буржуазии, периода революции и Наполеона. Все эти герои Стендаля уходом из жизни спасают свою душевную цельность от воздействия грязной действительности. Казнь Жюльена Сореля Стендаль открыто изображает как самоубийство. Фабрицио и Люсьен, правда менее драматично и патетически, тоже уходят от жизни.
Бальзак не заметил этого решающего пункта мировоззрения Стендаля, когда советовал ему сосредоточить роман на борьбе в пармском дворце и свести его только к ней. То, что казалось Бальзаку излишним с точки зрения его композиционных принципов, было очень важно для Стендаля. Таково, например, начало романа: эпоха Наполеона, олицетворенная в блестяще написанном дворе вице-короля Евгения Богарне как момент, определяющий всю душевную структуру Фабрицио и все направление, в котором он развивается. Контраст между ним и выпукло-сатирическим изображением подлого австрийского абсолютизма и семьи дель Донго — богатых итальянских аристократов — необходим для того, чтобы показать, как эти последние унизились до роли шпионов ненавистной, враждебной Австрии. Не меньшие основания, как мы уже сказали, требовали, чтобы и судьба Фабрицио была рассказана до конца.
Бальзак остается верен своему композиционному принципу, указывая, что Фабрицио можно было бы сделать ге-роем специально посвященного ему романа под название "Фабрицио или итальянец XIX столетия". Однако, говорит Бальзак, "сделав из этого юноши центральную фигуру драмы, автор обязан был бы наделить его большим умом, одарить его чувством, которое поставило бы его выше окружающих его талантливых людей, — а он лишен этого чувства".
Бальзак не видит, что, согласно композиционному принципу Стендаля, Фабрицио обладает теми свойствами, которые нужны для героя этого романа, а типы итальянцев XIX столетия, о которых говорит Бальзак, это у Стендаля прежде всего Моска и Палла Ферранте. Фабрицио занимает в "Пармском монастыре" центральное место, потому что несмотря на приспособление в своем внешнем поведении к жизненным обстоятельствам, он все же остается по отношению к подлости эпохи типичным выразителем той непримиримости, которая составляет важнейшую сторону творческих намерений Стендаля. (Укажу вскользь на почти смешную ошибку Бальзака, требующего, чтобы уход Фабрицио в монастырь получил религиозно-католическую мотивировку. Такая мотивировка вполне вероятна у Бальзака — напомню обращение мадемуазель де ля Туш в "Беатрисе" — лежит совершенно за пределами мира, изображаемого Стендалем.)
После сказанного выше становится понятным, почему статья Бальзака вызвала со стороны Стендаля весьма двойственное отношение. Разумеется, страстное и восторженное признание его произведения величайшим из живших в его время писателей глубоко взволновало Стендаля, никому неизвестного автора, надеющегося быть понятым только в далеком будущем. Он радовался тому, что Бальзак — единственный из всех критиков и писателей — во многом разгадал глубокие тенденции его произведения и оценил их в своем прекрасном анализе. (Особенно верно понял его намерения Бальзак там, где он говорит о выборе Стендалем темы, о перенесении фабулы в обстановку второстепенного итальянского княжества,) Однако, несмотря на искреннюю и глубокую радость Стендаля, мы отчетливо видим в его письме дипломатически выраженный, но все же чрезвычайно серьезный и острый протест против критики Бальзака, в особенности против его упреков, относящихся к стилю.
Бальзак, в конце своей статьи, довольно резко критикует стиль Стендаля. Конечно, он хорошо понимает, как велик литературный дар писателя и, прежде всего, его способность обрисовать характер человека, выделив немногими чертами самое существенное в нем. "Г-ну Бейлю, который рисует своих персонажей и в действии и в диалоге, достаточно нескольких слов; он не утомляет вас описаниями, он стремится к драме и достигает ее одним словом, одной мыслью". В этом отношении он также считает Стендаля близким себе, в то время как именно манера характеристики людей у писателей, которых он причисляет к одному с собой направлению, вызывает его резкую критику. Бальзак неоднократно критиковал диалог Вальтер Скотта. Он нападал (статья в "Revue Panisienne") на манеру Купера характеризовать своих персонажей повторяющимися оборотами речи, словечками и указывал, что отдельные примеры такого рода можно найти и у Вальтер Скотта: "Но великий шотландец никогда не злоупотреблял этим мелочным средством, свидетельствующим о духовном бесплодии и сухости. Талант состоит в том, чтобы освещать каждое положение словами, открывающими нам характер персонажей, а не в том, чтобы обезличить персонаж фразой, которую можно сказать во всяком положении"[13].
Однако, несмотря на признание за Стендалем способности кратко и глубоко характеризовать человека его речью в диалоге, Бальзак недоволен стилем романа. Он упрекает Стендаля во многих стилистических и даже грамматических небрежностях. Но его критика идет дальше этого. Он желает, чтобы Стендаль радикально перестроил свой роман стилистически, ссылается на то, что Шатобриан и де Местр часто перерабатывали свои произведения, и в заключение выражает пожелание, чтобы Стендаль запечатлел в романе то "выражение совершенства, тот блеск безупречной красоты, которые гг. Шатобриан и де Местр сумели придать своим любимым книгам".
Все писательские убеждения, Стендаля восстают против такого образца. Он без спора признает небрежность своего стиля. Многие страницы романа изданы, по его словам, в том виде, как они были сразу продиктованы. Но, пишет Стендаль, "я повторяю как ребенок: больше не буду". Что касается вопросов стиля, то согласие писателей, в сущности, этим и ограничивается. Стендаль презирает от всей души те образцы стиля, на которые указывает ему Бальзак: "Когда мне было 17 лет, я едва не подрался на дуэли за неясную вершину лесов г. Шатобриана, имевшего много поклонников в шестом драгунское полку. Я никогда не читал Индийскую хижину; я не выношу г. де Местра; мое презрение к г. Лагарпу граничит с ненавистью. А вот почему, несомненно, я пишу так плохо: из преувеличенной любви к логике". В защиту своего стиля он приводит следующие соображения: "Если бы Монастырь был переведен на французский язык г-жей Санд, успех его был бы обеспечен; но чтобы изложить то, что написано в двух моих томах, ей понадобились бы тома три или четыре. Взвесьте это оправдание".
Стендаль следующим образом характеризует стиль Шатобриана и его единомышленников: "1. Множество мелочей, которые приятно, но бесполезно рассказывать (подобно стилю Авзония, Клавдия и т. д.). 2. Множество мелкой лжи, которую приятно выслушивать".
Эта критика романтического стиля чрезвычайно резка. Но все-таки Стендаль не высказал здесь всего, что он думал о Бальзаке как критике стиля и как стилисте. Он не упускает случая и после этих полемических замечаний засвидетельствовать свое высокое мнение об отдельных произведениях Бальзака ("Лилия долин", "Отец Горио"). Конечно, это не только дипломатия. Но Стендаль, по вполне понятным тактическим соображениям, умалчивает здесь о том, что ему так же противны романтические элементы в стиле Бальзака, как и в стиле романтиков (в узком, школьном. смысле этого слова). Однажды он сказал о Бальзаке: "Я думаю, что он дважды пишет свои романы. Сперва — разумно, а потом облекает их в прекрасный неологический стиль со всякими там "patiments de l'ame", "il neige dans son coeur" и другими красотами". Стендаль умолчал также о том, как глубоко презирает самого себя за каждую уступку этому "неологическому стилю". В одном месте он написал, что Фабрицио гуляет, "прислушиваясь к тишине". На полях своего экземпляра уже изданной книги он пишет извинение перед читателем 1880 года: "Я должен был сказать "прислушиваясь к тишине"-без этого меня не стали бы читать в 1838 году". Стендаль не скрывает своих антипатий, но и не высказывает их в письме к Бальзаку с той решительностью и последовательностью, с какой испытывал их сам.
Свою отрицательную критику он заканчивает признанием в своих симпатиях:
"Часто я раздумывал по полчаса, поставить ли прилагательное до или после существительного. Я стараюсь правдиво и ясно рассказать о том, что происходит в моем сердце. Я знаю одно только правило — быть ясным. Если я не ясен, весь мой мир не существует".
С этой точки зрения он критикует известнейших французских писателей Вольтера. Расина и других за то, что они допускал в своих драмах строки, нужные только для рифмы. Эти стихи, делает вывод Стендаль, занимают место, которое по праву должно бы принадлежать мелким фактам действительности. И его идеал стиля действительно находится в соответствии с положительными для него образцами: "Мой Гомер — это мемуары маршала Гувион Сен-Сира. Произведения Монтескье и Диалоги умерших Фенелона, по-моему, написаны хорошо".
Как видите, Бальзак и Стендаль в вопросе стилистическом представляют два диаметрально противоположных направления. Противоположность их резко обнаруживается во всех частных проблемах. Критикуя Стендаля как стилиста, Бальзак пишет: "Его длинная фраза плохо построена, фраза короткая лишена закругленности. Он пишет, примерно, в жанре Дидро, который не был писателем"[14]. Стендаль возражает: "Что касается до красоты периода, его закругленности, его ритма, то в них я чаще всего вижу порок".
Здесь отразилась борьба двух больших направлений во французском реализме. В дальнейшем его развитии принцип Стендаля оттесняется все больше на задний план. Флобер — величайший представитель французского peaлизма после 1848 г. — еще более горячий почитатель стилистических красот Шатобриана, чем Бальзак. И Флобер уже совершенно не признает Стендаля великим писателем. Гонкуры рассказывают в своем дневнике, что Флобера охватывали припадки ярости всякий раз, когда при нем заходила речь о "господине Бейле" как писателе. И даже без специального анализа других представителей позднейшего французского реализма ясно, что стиль Золя, Доде, Гонкуров и других обусловлен приятием романтического стиля и, во всяком случае, он чужд стен-далевскому отрицанию романтических "неологизмов" Правда, к возвеличению Флобером Шатобриана Золя относился как к причуде. Но это ничего не меняет в том, что его собственный стиль в большой мере определен романтическим наследием (Виктор Гюго).
Стилистическая противоположность Бальзака и Стендаля основана на различии их мировоззрении. Повторяем: вопрос о принятии романтики и попытка превратить романтику в "снятый" момент высокого реализма — это для лучших писателей того времени было не только вопросом стиля, так как романтизм, в широком смысле слова, далеко не сводится только к одному из течений в литературе и искусстве. Дело здесь не столько в художественном стиле, сколько в позиции по отношению к послереволюционному развитию буржуазного общества. Капитализм, освобожденный революцией и наполеоновской империей, развивался все сильнее, а вместе с тем рос и приближался к классовому самосознанию пролетариат. Период, когда писали Бальзак и Стендаль, охватывает время первых боевых выступлений рабочего класса (Лионское восстание). Это было время возникновения социалистического мировоззрения, начала критики капиталистического общества с социалистических позиций. Это было время, когда зародилось учение великих утопистов Сен-Симона и Фурье, когда, параллельно с утопической критикой, достигла своей теоретической вершины романтическая критика капитализма (Сисмонди), когда возродился феодально-религиозный социализм (Ламене). Это было время, когда прошлое буржуазного общества предстало как история классовых битв (Тьерри, Гизо и др.).
Глубокое различие между Бальзаком и Стендалем состоит в том, что если мировоззрение первого почти в равной степени питалось всеми этими течениями, то мировоззрение Стендаля в основе своей представляло собой последовательное и интересное развитие дореволюционной идеологии просветителей. В этом смысле мировоззрение Стендаля много яснее, прозрачнее и прогрессивнее, чем мировоззрение Бальзака, которое испытывало сильные влияния романтически-мистического католицизма, феодального социализма и тщетно пыталось примирить и объединить их со стихийной диалектикой Жофруа де Сент-Илера.
В соответствии с различием мировоззрений находится и эволюция творчества этих писателей. Последние романы Бальзака проникнуты глубоким пессимизмом, предчувствиями гибели мировой культуры. Стендаль же, чрезвычайно пессимистически воспринимавший свое время и критиковавший его с глубоким презрением, глядел в будущее оптимистически и возлагал большие надежды на развитие буржуазного общества, приурочивая желанный для него общественный сдвиг к восьмидесятым годам XIX в.
Эти надежды — не просто мечта непризнанного современниками писателя. В них заключена целая концепция, определенная политическая иллюзия относительно развития буржуазного общества, а, вместе с ним, и буржуазной культуры. Дореволюционное время, как его толковал Стендаль, имело культуру и общественный слой, способный развивать культуру и судить о ней. Послереволюционное дворянство дрожит при мысли, что может повториться 1793 год, и от страха потеряло всякую способность суждения. Разбогатевшие буржуа — это банда жадных выскочек и невежд. Но к 1880 году буржуазное общество достигнет такого состояния, когда снова возродится культура и, конечно, культура в просветительском смысле, продолжающая эпоху Просвещения. На это Стендаль возлагал свои лучшие надежды.
И вот, своеобразная диалектика истории, неравномерность развития всех идеологий привела к неожиданному результату. Бальзак, мировоззрение которого было ложным, во многом и многом реакционным, отобразил эпоху от 1789 по 1848 гг. полнее и глубже, чем его более ясно и прогрессивно мыслящий соперник. Бальзак критикует капитализм справа, с точки зрения феодального социализма. Но из ненависти его, позволяющей провидеть всю подлость недавно только народившегося капитализма, возникли такие вечные образы этого общества как Нюснижен и Кревель. Достаточно сравнить с ним единственную фигуру капиталиста, созданную Стендалем, — старого Левена, — чтобы увидеть, насколько Бальзак здесь глубже и шире схватывает действительность. Как индивидуальность, соединяющая в себе выдающиеся таланты и культурность со способностью вести финансовые дела (чертой для этой фигуры второстепенной), как своеобразное перенесение характерных черт эпохи Проевещения в эпоху июльской монархии, — старый Левей обрисован тонко и жизненно правдиво; как типичный oбраз капиталиста он много слабее Нюсинжена, так как в среде настоящих капиталистов он был бы только исключением.
То же самое видим мы и при рассмотрении основных типов времен Реставрации. Стендаль считал Реставрацию эпохой мелкой подлости, которая захлестнула и свела на нет все завоевания героических времен революции и Наполеона. Бальзак — сторонник Реставрации и критикует ошибки французского дворянства с той точки зрения, что, если бы оно вело правильную политику, Июльскую революцию можно было бы предотвратить. Однако эта противоположность выглядит совсем по-другому в художественном творчестве обоих писателей. Как художник Бальзак понимает, что Реставрация — это только ширма, временно прикрывающая наступление капитализма во Франции. Он видит, что дворянство с неудержимой силой вовлекается в круг капиталистических отношений. И он создает гротескные, трагические, смешные и трагикомические типы, порожденные ростом капитализма, он показывает, что все общество, все люди, до самой глубины духовной жизни, развращаются этим новым строем. Монархист Бальзак находит благодарных и убежденных сторонников старого режима только среди ограниченных и отставших от времени провинциальных Дон-Кихотов (старик Д'Эгриньон в "Музее древностей", старик Дю Геник в "Беатрисе"). Современные люди среди аристократов, те, кто принадлежат к господствующим кругам, посмеиваются над ограниченной и старомодной честностью таких людей и стараются использовать свои дворянские привилегии, чтобы из развития капитализма извлечь для себя как можно больше личной выгоды. Монархист Бальзак изображает любимое им дворянство, как банду талантливых или бездарных стяжателей, пустопорожних остолопов, аристократических проституток и т. д.
"Красное и черное" — роман Стендаля о Реставрации- дышит горячей ненавистью к этой эпохе. И, несмотря на это, Матильда де ла Моль — это такой положительный образ монархически настроенной молодой женщины, какого вы не найдете у Бальзака. Матильда де ла Моль — искренняя и убежденная представительница монархических взглядов, она страстно предана романтически-монархическим идеалам и презирает общественный слой, к которому принадлежит сама, за то, что его убеждения недостаточно честны и горячи. Своим собратьям она предпочитает страстного якобинца и поклонника Наполеона, плебея Жюльена Сореля. Она оправдывает свои романтически-монархические мечты следующим, чрезвычайно характерным для Стендаля образом: "Войны Лиги были героическими временами для Франции, — сказала она ему (Жюльену. — Г. Л.) однажды с одухотворенными и светящимися энтузиазмом глазами. — Все сражались тогда за какое-либо дело, которое себе выбирали. Сражались для того, чтобы содействовать победе своей партии, а не для того, чтобы добыть себе орден, как во времена нашего императора. Согласитесь, что тогда меньше было себялюбия и мелочности. Я люблю чинквеченто". Матильда де ла Моль противопоставляет мечтам Жюльена, свято хранящего традиции героического наполеоновского периода, другой, еще более героический период. Вся история любви Жюльена и Матильды рассказана с такой правдивостью, какую только можно себе представить. Но все-таки Матильда, как центральный в творчестве Стендаля образ аристократки эпохи Реставрации, не поднимается до такой высоко правдивой типичности, как Диана де Мофриньез у Бальзака.
Здесь мы возвращаемся к главному пункту статьи Бальзака о "Пармском монастыре" — к образам героев и, в связи с ними, к основным принципам композиции этого романа.
Бальзак и Стендаль ставят в центре своего творчества то поколение даровитой молодежи, чувства и мысли которого были взволнованы бурями героического периода: эти юноши еще не успели примириться с грязью и низостью эпохи Реставрации. Строго говоря, это относится в первую очередь к произведениям Бальзака. В них изображаются материальные катастрофы, идейные и моральные кризисы, вынуждающие, в конце концов, этих юношей к примирению, к тому; чтобы завоевать себе или, по крайней мере, попытаться завоевать хорошее место в обществе быстро капитализирующейся Франции (Растиньяк, Люсьен де Рюбампре и пр.). Бальзак прекрасно знает каким моральным кризисом сопровождается такое примирение с обществом. Не случайно Вотрен- фигура, преувеличенная до нечеловеческих размеров — Дважды появляется как своего рода Мефистофель, чтобы "спасти" поскользнувшихся на жизненном пути героев и направить их на путь "реальности", т. е. капиталистической подлости и ничем неприкрытой жажды наживы. Бальзак ставит себе целью изобразить, как выросший в безраздельно господствующую экономическую форму капитализм развращает человека, какую моральную реградацию он вызывает.
Концепция Стендаля существенно отличается от концепции Бальзака. Великий реалист, он видит, конечно все те важнейшие жизненные явления в современном ему обществе, которые усматривает и Бальзак. Разумеется, не случайностью и не литературным влиянием Бальзака можно объяснить, что в советах, которые граф Моска преподает Фабрицио, мы встречаем то же определение морали и ее роли в обществе, какое Вотрен внушал Люсьену де Рюбампре: и здесь жизнь в обществе сравнивается с игрой в карты, участникам которой не дозволено рассуждать, нравственны или безнравственны правила игры. Всe это Стендаль видит ясно, иногда он здесь более "циничен" (в рикардовском смысле) и еще больше полон презрения, чем Бальзак. Как великий реалист он заставляет своих героев пройти через всю грязь продажного капиталистического общества, принимать участие в игре низких страстей и — иногда не без пользы для себя — точно соблюдать правила игры, о которой говорит Моска. Интересно, однако, то, что ни один из его основных героев не развращен в своем существе тем, что принимает участие в этой игре. Высокая и чистая страстность, неуклонное стремление к истине, вопреки всему, дает им возможность к концу рассказа о них (обычно — еще во цвете лет) отряхнуть с себя налипшую грязь и отойти от жизни в обществе, от участия в общественной жизни.
Это — глубоко романтический момент в мировоззрении Стендаля, атеиста и просветителя.
Конечно, это романтизм в широком, а не в школьном смысле термина. Романтический элемент присутствует в мировоззрении Стендаля действительно в "снятом" виде основой его является то, что по окончании буржуазного героического периода, после исчезновения "допотопных гигантов"[15], писатель не может найти для себя жизненного выхода, из противоречий действительности. Стендаль испытывает все средства, которые помогли бы ему отыскать героизм в современности, и находит их прежде всего в своей героической и непреклонной душе; только в своих мыслях он находит гордую действительность, которую в насмешливо элегическом тоне и противопоставляет современному миру.
Отсюда должна была возникнуть галлерея героев, идеалистически, романтически превращающих стремления и желания в общественную действительность: именно потому герои эти и композиция в целом не могут достигнуть той общественной типичности, которой насыщена "Человеческая комедия".
Было бы совершенно неправильно, если бы этот романтизм Стендаля заслонил от нас огромную, всемирно-историческую значительность созданных им типов. Во всем французском романтизме жила печаль об исчезнувшем героизме. Источником романтического культа страстей, романтических грез о Возрождении была именно эта печаль, эти порожденные отчаянием поиски блестящих образцов великих страстей, так далеких от действительности, проникнутой духом лавочников. И один только Стендаль, именно потому, что он всегда оставался верен реализму, сумел воплотить эти чаяния романтиков. Он облекает в плоть и кровь, воплощает в образы человеческих судеб, полных жизни, то, к чему Виктор Гюго только стремился во многих своих драмах и романах и вместо чего он давал только абстракции, только скелеты, задрапированные пурпурной мантией риторики.
Персонажи Стендаля, на первый взгляд кажущиеся несомненно единичными явлениями, превращаются в типические характеры благодаря тому, что в них воплотились стремления лучших людей из послереволюционного поколения буржуазной молодежи. Стендаль отличается здесь от романтиков прежде всего тем, что он сознает странность своих героев и, окружая их атмосферой одиночества, самую их странность делает вполне реалистичеcкой. Кроме того, ни один романтик не мот бы изобразить с такой реалистической силой судьбу, неизбежно ожидающую его персонажей в современном обществе, — их неизбежное поражение в борьбе против господствующего общества, неизбежность их ухода, вернее — изгнания из жизни.
Всемирно-историческая типичность этих образов так велика, что концепции судьбы, сходные со стендалевской появляются независимо друг от друга то у одного, то у другого художника послереволюционной Европы. Эту концепцию вы найдете в Максе Пикколомини из "Валленштейна" Шиллера; Гиперион и Эмпедокл у Гельдерлина так же уходят из жизни; такова судьба и многих героев Байрона. То, что мы сопоставляем здесь великого реалиста Стендаля с такими писателями, как Шиллер и Гельдерлин, — вовсе не коллекционирование историко-литературных парадоксов. К этому приводит исследование того, как отразилась в идеологии диалектика развития общественных классов. Насколько велико различие творческих методов этих писателей (что зависит от различных путей общественного развития Франции и Германии), настолько сильно сродство их основных концепций. Элегия Шиллера "Вот жребий всего прекрасного на земле" звучит как музыка, сопровождающая Жюльена Сореля на эшафот и Фабрицио дель Донго в монастырь. И надо сказать, что такие настроения у Шиллера — это тоже не чистая романтика.
У всех этих писателей концепция героя и судьбы покоится на понимании развития их собственного класса, на гуманизме, пессимистически оценивающем современность, на утверждении высоких идеалов периода подъема буржуазии, на вере в то, что должно притти и придет время, когда эти идеалы воплотятся в жизнь (надежды Стендаля на 1880 г.).
Стендаль отличается от Шиллера и Гельдерлина тем, что пессимистическое отношение к современности не выливается у него в лирико-элегическую форму (как у Гельдерлина) и не ограничивается абстрактно-философским осуждением современности (как у Шиллера), но становится основой для острого и глубокого сатирико-реалистического изображения современности. Франция при жизни Стендаля действительно прошла через революцию и наполеоновскую империю. Против Реставрации во Франции возмущались действительные революционные силы. А Шиллер и Гельдерлин в экономически и политически отсталой Германии, не пережившей еще буржуазной революции, могли только мечтать о светлом будущем, не зная сил, которые могли бы его превратить в реальность. Вот источники сатирического реализма Стендаля и элегического лиризма немцев.
Верность гуманистическим идеалам, несмотря на горечь и пессимизм, вызываемые в Стендале современностью, дает образам Стендаля потрясающее богатство и изумительную глубину. И даже его иллюзии относительно общественного устройства в 1880 г., поскольку они были иллюзиями, коренящимися в противоречиях действительности и заставляющими искать осуществления надежд в будущем, могли быть стимулом для плодотворной работы писателя [16].
Как мы уже видели, иллюзии, ложные представления Бальзака о развитии общества были совсем иные. Поэтому он не переносит в современность исчезнувших с лица земли "допотопных гигантов". Напротив того, он изображает специфические типы людей своего времени, но придает им такую мощь, какой не может обладать в капиталистическом обществе ни один человек сам по себе, разве только как представители общественных сил. Благодаря этому Бальзак- реалист более глубокий и всеобъемлющий, чем Стендаль, несмотря на то, что в его мировоззрении и в его стиле больше романтических элементов; и, в конечном счете, он меньше, чем Стендаль делал уступок романтизму.
Бальзак и Стендаль относятся к истории буржуазного общества от 1789 до 1848 гг. глубоко различно. Каждый из них создает, со своей точки зрения, глубокое отражение современного им общества в целом. Их объединяет именно эта глубина, это презрение к мелочам, к пустякам; которыми занимался чисто натуралистический реализм. Для них обоих реализм совпадает с преодолением будничных и повседневных представлений, потому что их реализм — это поиски самой сущности действительности, сущности, скрытой за поверхностными явлениями. Каждый из них, однако, вкладывает в понятие сущности совершенно различное содержание. Бальзак и Стендаль представляют две диаметрально противоположные и все же исторически оправданные позиции по отношению к современной им фазе истории человечества. И потому-то они и должны были высказывать диаметрально противоположные мысли по поводу любого вопроса, за исключением общего вопроса о реализме существенного в искусстве.
Глубокое понимание и высокая оценка творчества Стендаля со стороны Бальзака — это нечто большее, чем проницательная и талантливая критика. Встреча двух великих реалистов- одно из значительнейших событий литературы. Ее можно сравнить со встречей Гете и Шиллера, несмотря на то, что она не могла привести к совместной работе Бальзака и Стендаля, как привела она к совместной работе великих немцев.
Толстой и развитие реализма
"Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества".
Ленин[1]
Эта глубокая и проницательная оценка дает ключ к определению места, которое Лев Толстой занимает в мировой литературе, в развитии художественного реализма. Надо сказать, однако, что мысль Ленина не была ни понастоящему понята, ни даже принята очень многими исследователями, называющими себя марксистами.
Мировая слава великого писателя, общественное значение его творчества в России начала XX столетия — все это заставляло наиболее известных теоретиков, примыкавших ко II Интернационалу, высказать свое отношение к Толстому. Но сложнейшие общественные явления, отразвившиеся в произведениях Толстого, были поняты ими односторонне или не поняты совсем, — а поверхностный или неверный анализ социальных основ творчества Толстого неизбежно приводит к поверхностной или совершенно ложной трактовке особенностей его творчества.
Ленин называет Толстого "зеркалом русской революции" и прибавляет, что на первый взгляд такое определение может показаться странным: "Не называть же зеркалом того, что очевидно не отражает явлений правильно?"[2] Но Ленин не останавливается на установлении противоречия, обнаружившегося при первом взгляде; он докапывается до глубочайших его основ и показывает, что данное противоречие представляет собой необходимую форму, в которой проявляется многообразный и сложный процесс революционного развития.
В противоречивости общественных взглядов и художественных образов Толстого, в неразрывном переплетении всемирно-исторического величия и детской слабости это-го писателя Ленин видит философское и художественное отражение силы и слабости социального протеста крестьянянских масс, нараставшего в период после реформы 1861 г. и до революции 1905 г. Это позволило Ленину глубоко оценить искусство, с которым Толстой изображает основные черты, характеризующие весь этот исторический период, мастерство, с которым Толстой изображает и помещиков и крестьян. В произведениях Толстого заключена широкая, меткая, исполненная ненависти критика современного русского общества; Ленин с полной конкретностью определяет содержание этой критики и доказывает, что в ее основе лежит патриархальное, наивно-крестьянское мировоззрение. Толстой, по Ленину, выражает настроения тех миллионных масс русского народа, которые уже ненавидят господство сегодняшней жизни, но еще не дошли до сознательной, последовательной борьбы против них. Именно с этой точки зрения Ленин говорил о мировом значении Толстого как художника. Максим Горький передает следующие его слова о Толстом:
"— Какая глыба, а? Какой матёрый человечище! Вот это, батенька, художник… И, — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было… — Кого в Европе можно поставить рядом с ним?
Сам себе ответил:
— Некого"[3].
Прямо противоположен подход к Толстому теоретиков II Интернационала. Они совершенно не понимают революционного значения крестьянского протеста, и это не позволяет им проникнуть дальше непосредственно видимой поверхности произведений Толстого, привязывает их исключительно к внешней тематике этих произведений. Но, не понимая классового характера творчества Толстого, эти писатели отвергали в то же время и легенду о мнимой общечеловечности, универсальности, которую приписывала Толстому русская и европейская буржуазная критика. Поэтому волей-неволей им приходилось, более или менее открыто, отрицать широкий общественный характер творчества Толстого. Плеханов, например, ставя вопрос о том, "откуда и докуда" можно признать Толстого явлением прогрессивным, подчеркивал прежде всего именно общественно-критическую деятельность Толстого; однако, его оценка этой деятельности прямо противоположна той оценке, какую давал Ленин. Сознательные представители трудящегося населения, говорит Плеханов, "ценят в Толстом такого писателя, который хотя и не понял борьбы за переустройство общественных отношений, оставшись к ней совершенно равнодушным, но глубоко почувствовал, однако, неудовлетворительность нынешнего общественного строя. А главное — они ценят в нем такого писателя, который воспользовался своим огромным художественным талантом для того, чтобы наглядно, хотя, правда, только эпизодически изобразить эту неудовлетворительность"[4] (Подчеркнуто мной. — Г. Л.).
Сходные с этой и не менее неправильные оценки основного содержания творчества Толстого можно найти также у Розы Люксембург и у Франца Меринга. И не случайность-что ложные тенденции меньшевистской эстетики получили доходящую до карикатуры законченность в высказываниях о Толстом самого яростного врага марксизма-ленинизма Иудушки-Троцкого.
Несмотря на очевидную несостоятельность меньшевистских взглядов, было бы легкомыслием ограничиться игнорированием их; ведь они живут еще в рассуждениях наших вульгарных социологов, хотя бы и в скрытой форме. Приведем пример: В. М. Фриче в статье, которая всего несколько лет назад была напечатана в качестве предисловия к немецкому изданию ленинских статей о Толстом, назвал Толстого "субъективны художником". В полном согласии с буржуазной критикой Фриче считал, что настоящей убедительности Толстой достигал только в изображении своего класса, т. е. дворянства. Но принадлежность к дворянству ограничивает, по Фриче, не только тематику Толстого; нет, "он совершенно открыто идеализировал его (дворянства, — Г. Л.) образ жизни: затушевывал его теневые стороны, т. е. освещал определенные явления не всесторонне, не объективно, а тенденциозно". Как мог при этом Толстой быть великим реалистом, а не заурядным апологетом русского дворянства — это, конечно, остается тайной.
Разрабатывая проблемы, которые выдвигаются творчеством Толстого, уясняя себе его действительное значение, мы должны разоблачить не только лживые легенды буржуазного литературоведения, но и "принципы" меньшевистской, вульгарно-социологической критики. Надежной опорой для нас послужит тот глубокий и единственно правильный анализ Толстого, который дан Лениным, развившим на марксистской основе все ценное, что дали для понимания Толстого великие русские критики — революционные демократы.
1.
Творчество Толстого является "шагом вперед" для всей мировой литературы благодаря тому, что художественный реализм достиг в нем нового, более глубокого развития. Условия, в которых происходило это развитие, были, однако, весьма своеобразны.
Толстой продолжил традиции высокого европейского реализма XVIII и XIX столетий, традиции Фильдинга и Дефо, Бальзака, и Стендаля. Но в годы, когда творил Толстой, пора реалистического расцвета в Европе уже давно миновала: к этому времени на Западе уже господствовали тенденции, разрушающие вышки и реализм. Литературная деятельность Толстого, рассматриваемая с точки зрения мировой литературы, — это мощное движение против течения, успешное противодействие падению высокого реализма.
Этим контрастом, однако, не исчерпывается своеобразие положения Толстого в мировой литературе. Было бы неоправданной прямолинейностью доводить этот контраст до его логического предела и изображать дело так, будто Толстой, сурово отвергая все литературные направления своего времени, неуклонно и неподвижно стоял на почве старых реалистических традиций.
Прежде всего, Толстой вовсе не являлся продолжателем артистических сторон этих традиций.
Мы не будем касаться отдельных его суждений о прежних и современных писателях-реалистах; эти суждения, как и у большинства выдающихся писателей, нередко противоречивы и подчиняются его собственным потребностям в различные творческие периоды. К мелочному натурализму современников Толстой относился с гневным и справедливым презрением. Но в одном из разговоров с Максимом Горьким он назвал Бальзака, Стендаля и Флобера величайшими писателями Франции, не делая никаких оговорок относительно Флобера. Оговорки он делает в той же беседе только при упоминании о Мопассане- для того, чтобы отделить его от братьев Гонкур, которых он называет клоунами. В более раннем предисловии к сочинениям Мопассана Толстой также не делает ни одного критического замечания по поводу упадочных тенденций в реализме Мопассана.
Трудно найти у Толстого и прямое стилистическое влияние предшествующих ему великих реалистов. Принципы его творчества являются продолжением их традиций объективно. Субъективно же они вырастали непосредственно из проблем его времени: из его взглядов на взаимоотношения между эксплоатируемым крестьянством и эксплоататорами. Конечно, изучение образцов старой реалистической литературы сыграло большую роль в выработке толстовского стиля; было бы, однако, ошибкой выводить стиль Толстого непосредственно из стиля старых реалистов, отыскивая здесь некоторую формально-литературную преемственность.
Развиваемые Толстым старые реалистические традиции предстают у него всегда в форме оригинальной, проникнутой духом его времени и чуждой эпигонству. Толстой всегда актуален в самом точном смысле, т. е. не только но содержанию, не только по общественным проблемам, которые его произведения отражают, но и в чисто художественном отношении. Поэтому многие черты художественной манеры Толстого близки к художественной манере его европейских современников. Однако здесь интереснее и важнее всего то, что даже эти общие черты играют в обоих случаях совершенно различную роль. У западных писателей второй половины XIX в. они являются признаком упадка высокого реализма, объективно способствуют его скорейшему распаду, влекущему за собой также и формальное разложение романа, новеллы, драмы; у Толстого, в связи с основной линией всего творчества этого писателя, те же черты являются элементами оригинальной и большой литературной формы, своеобразно развивающей традиции высокого реализма и возводящей реализм мировой литературы на новую высоту.
Изучение этого своеобразия толстовского стиля в связи с неповторимым своеобразием исторического положения Толстого и должно быть исходным пунктом для анализа его произведений с точки зрения всемирной литературы.
Без понимания этого своеобразия непонятен будет и мировой успех произведений Толстого; ведь Толстой произвел огромное впечатление именно как писатель современный, новый не только по содержанию, но и по форме. Его приветствовали (приблизительно с 70-х годов) те литературные круги, для которых традиции европейского реализма, господствовавшего до 1884 г., имели все меньшее значение, в которых иногда встречалось даже решительное и прямое противодействие этим традициям.
Нельзя забывать о том воодушевлении, с каким был принят Толстой как художник почти всеми писателями-натуралистами и пост-натуралистами. Конечно, не им, в первую очередь, обязан Толстой своей всемирной известностью; однако, такой широкий успех во всех странах мира, длящийся вплоть до наших дней, не был бы возможен, если бы почитатели различных современных художественных направлений не находили (или не стремились найти) в Толстом родственные им и поддерживающие их элементы. Всевозможные натуралистические "свободные театры" в Германии, Франции и Англии часто исполняли в первых своих спектаклях "Власть тьмы", так как в этой пьесе они полагали найти настоящий образец натуралистической драмы. Это нисколько не помешало тому, что немногим позднее Метерлинк теоретически обосновывал свой "новый" драматический стиль, ссылаясь на "Привидения" Ибсена и "Власть тьмы" Толстого. Всевозможные попытки этого рода продолжаются до наших дней.
Ясно, что в основе таких попыток лежит глубокое недоразумение. Наиболее сильные из современных Толстому критиков, как например Франц Меринг в Германии, с самого начала видели в этом именно недоразумение. Меринг прямо сказал, что художественная манера Толстого-не говоря уже о его общем мировоззрении-не имеет ничего общего с немецким натурализмом. Однако даже понимая ложность присвоения Толстого натуралистами и символистами, мы еще не устраняем самый факт этого присвоения. Бесспорно, что реакционные писатели, Meтерлинк или Мережковский, в действительности не имеют права опираться на творчество Толстого. Но понимание нами этой неправоты заставляет лишь по-иному ставить и конкретнее разбирать интересующий нас вопрос; упразднить его оно не может. Вопрос заключается в следующем: почему Толстой мог оказывать такое огромное воздействие на писателей, представляющих упадок peaлизма, на робких натуралистов или открытых антиреалистов, а также на их читателей и поклонников? Почему эти писатели и их приверженцы приняли. Толстого, одновременно отвергая старых реалистов, третируя их как устарелых "романтиков" или попросту как "ветхий хлам"? (Разумеется, такого рода почитатели Толстого никогда не понимали ни его сложности, ни его подлинного величия. Во всей необъятной буржуазной литературе о Толстом с трудом можно отыскать несколько метких замечаний о нем как о художнике; нечего и говорить, что хотя бы отдельных ценных замечаний относительно общественной основы его взглядов искать там нечего.)
Нетрудно установить, какие стороны мировоззрения Толстого оказались желанными и приемлемыми для буржуазных современников. Это те стороны, в которых отражалась слабость русского крестьянского движения. Это- утопическая, часто реакционная критика капитализма, принимающая у Толстого-художника и в особенности у Толстого-мыслителя форму критики, направленной против цивилизации вообще. Это — изображение беспомощности человека перед лицом общественных сил, переданной с величайшей правдивостью, но истолкованной (такое толкование часто встречается и у самого Толстого) как вечное бессилие человека перед "судьбой", и т. д.
Гораздо труднее определить соответственные стороны Толстого как художника. У него нет ничего общего с мелочным натурализмом, рабски копирующим действительность; еще дальше он от ирреалистических тенденций тех "школ", которые появились на почве дальнейшего упадка натурализма. Однако надо признать, что различные литературные направления второй половины XIX в. действительно могли присоединиться к отдельным сторонам толстовской художественной манеры и писательской техники, — правда, только при условии полного пренебрежения к подлинному и конкретному значению этих элементов во всей художественной системе Толстого.
Так, натуралисты подчеркивают у Толстого точное, чувственно ощутимое изображение ежеминутно изменяющейся внутренней и внешней жизни человека, прежде никогдa не удававшееся точное изображение изменчивых состояний человеческого тела и духа и т. д. Все это — художественные задачи, которые в такой форме никогда себе не ставил старый реализм, но которые (если их отделить от той связи с общественно-идейным целым, какую они имеют у Толстого) стремится разрешить натурализм. Что касается представителей тех "новейших" направлений, для которых характерны поиски выхода из банальной обыденщины натурализма, то они были потрясены способностью Толстого, при всей его восприимчивости к малейшим и ничтожнейшим явлениям повседневной жизни, никогда не растворяться в этой повседневности, всегда преодолевать ее и возвышаться до пафоса подлинно великого искусства.
Правда, взаимоотношение "импрессионизма" Толстого с широтой и величием его искусства осталось для пост-натуралистических писателей еще большей загадкой, чем сущность искусства Толстого для натуралистов. Тот факт, что после спада волны натурализма в XX веке Достоевский все более и более соперничал во влиянии с Толстым, еще раз подтверждает, как быстро уменьшается для литературы, развивающейся в сторону антиреализма, возможность разобраться в этой загадке хотя бы теоретически, не говоря уже о том, чтобы освоить ее художественно-практически. Широкое распространение в Германии книги Мережковского о Толстом и Достоевском тоже с достаточной ясностью указывает на границы, в которых возможно влияние Толстого на буржуазную литературу в период империализма.
Но, как ни превратно было толкование, даваемое реализму Толстого в эпоху открытой войны против реализма, надо признать, что влияние Толстого никогда не исчезло. Напротив, в последние предвоенные годы оно все увеличивалось, и это объясняется вовсе не одним только идеологическим отражением страха значительной части радикальной интеллигенции перед реальными последствиями наступающей мировой войны и перед угрозой пролетарской революции.
Реакционные элементы мировоззрения Толстого в особенности теория непротивления злу) были возвеличены, как никогда прежде, во времена расцвета экспрессионизма; однако, одновременно усилилась и более глубокая, более близкая к подлинному Толстому форма влияния его творчества — влияние его на новое поколение гуманистов. Ромен Роллан был первым, кто указал на величие Толстого именно с этой позиции. Но и другие писатели-гуманисты — Томас Манн, Стефан Цвейг — исходя из той же точки зрения, провозглашают Толстого величайшим писателем. Эти люди стремятся прежде всего открыть основное содержание толстовского мировоззрения и искусства, связать его реализм с гуманистическими тенденциями.
Всё же реализм Толстого казался даже лучшим представителям западно-европейского гуманизма чем-то странным; противоречивая, но закономерная и органическая форма, в которой выразился гуманизм Толстого, воспринималась скорее как загадочное соединение в одном лице беспощадного реалиста и великого проповедника человечности.
Как пример, приведем суждение Стефана Цвейга:
"В пейзаже Толстого всегда чувствуется осень: скоро наступит зима, скоро смерть завладеет природой, скоро нее люди и вечный человек в нашем духе изживут себя. Мир без мечты, без иллюзий, без лжи, ужасающе пустой мир… в нем нет другого света, кроме неумолимой правды, кроме его ясности, такой же неумолимой… Искусство Толстого… всегда только аскетически — свято, прозрачно и трезво, как вода, — благодаря его чудесной прозрачности можно заглянуть в самые большие глубины, но это познание никогда не напоит душу, не даст ей полного удовлетворения и восторга"[5].
Здесь чувствуется, как захвачен Цвейг высоким реализмом Толстого, недостижимым в современной Европе. Но, имеете с тем, видно и то, что реализм Толстого мало понятен европейскому писателю новейшего времени и является для него очень трудной проблемой.
2
Несмотря на своеобразный характер влияния, которое Толстой оказал на Европу, оно все же на представляло собой явления исключительного. Толстой вошел в мировую литературу в то время, когда Россия и скандинавские страны внезапно и с беспримерной быстротой завоевали себе в европейской литературе ведущую роль. До этого времени, в предшествующие годы XIX столетия, в Европе полагали, что основное русло литературы проходит через Англию, Францию и Германию. Писатели других наций только эпизодически появлялись на всемирном литературном горизонте. В 70-80-х годах это положение круто изменилось. Правда, славе всей русской литературы предшествовала слава, которую завоевал во Франции и Германии Иван Тургенев; однако влияние Тургенева по широте и глубине не может сравниться с влиянием Толстого и Достоевского, — а с другой стороны, влияние Тургенева в значительной мере объясняется тем, что многие черты его искусства были сходны с французским реализмом того времени. В противоположность этому для воздействия Толстого и скандинавских писателей — прежде всего Генриха Ибсена, достигшего мировой славы одновременно с Толстым, — большое значение имело своеобразие их тематики и художественной манеры. В своем письме Паулю Эрнсту (5 июня 1890 г.) Энгельс подчеркивает, что "за последние двадцать лет Норвегия пережила такой расцвет в области литературы, каким не может гордиться ни одна страна, кроме России… норвежцы создают гораздо больше духовных ценностей, чем другие нации, и накладывают свою печать также и на другие литературы, в том числе и на немецкую"[6].
Отмечая особый, чуждый западной литературе характер, который усилил впечатление, произведенное русской и скандинавской литературой, мы далеки от того, чтобы отождествлять это явление с декадентским культом экзотики, свойственным искусству в период империализма. Преклонение перед средневековыми мистериями, негритянской скульптурой, китайским театром есть, конечно, признак глубокого распада реализма и явной неспособности буржуазных писателей (за исключением немногих выдающихся гуманистов) хотя бы отчасти понять задачи подлинного реализма.
Могучее влияние России и Скандинавии вторглось в литературу, переживающую глубокий кризис. Натурализм всесторонне разрушал художественные основы высокого реализма. Однако не надо забывать, что крупнейшие из писателей, делавших это дело разрушения, Флобер, Золя, Мопассан", — сами стремились к большим художественным целям и достигали иногда подлинного величия. В среде их читателей и последователей также жило еще стремление к большой литературе.
Благодарная почва для восприятия русской и скандинавской литературы была подготовлена широко распространенным чувством того, что европейский реализм клонится к упадку и жаждой реалистического искусства, великого и современного. В русской и скандинавской литературе, даже у писателей менее значительных, чем Толстой, была невиданная для тогдашней Европы изобразительная мощь- значительность композиций и персонажей, интеллектуальная высота в постановке и разрешении проблем, смелость концепций, решительность в подходе к большим вопросам. Это сразу выдвинуло их на первое место.
Весьма сдержанный в своих суждениях Флобер с энтузиазмом приветствует "Войну и мир". (Он критикует только те части романа, где философия истории Толстого выражена прямо и непосредственно.) "Благодарю вас. — пишет он Тургеневу, — за то, что вы дали мне прочесть роман Толстого. Он — первоклассный! Какой он художник и психолог! Мне кажется, он подымается иногда до шекспировской высоты! У меня вырывались крики восторга при чтении этой вещи… а ведь она длинна!" Такой же энтузиазм вызывали тогда в широких кругах западноевропейской интеллигенции драмы Ибсена.
Флобер, в соответствии со своим мировоззрением, говорит только о художественной стороне произведений Толстого. Но широкое влияние этого писателя отнюдь не основано на чисто художественной яркости. Гораздо сильнее действовало другое: те же вопросы, которые занимали ум западноевропейского человека, ставились в русской и скандинавской литературе, но много глубже, и ответы на них давались гораздо, более решительные, выраженные притом в необычайной, привлекательной форме, С этой необычайностью и резкостью сочеталась почти классическая литературная строгость, которая не производила, однако, впечатления академизма и устарелости, но вполне естественно выражала остро современные проблемы на вполне современном языке.
К чисто эстетическому характеру романов Толстого, кажущемуся почти невероятным для западноевропейской литературы того времени, мы вернемся позднее. Здесь же, где речь идет не о самих произведениях, а только об их влиянии на Европу, мы, в подтверждение нашей мысли, укажем еще на строгость построения ибсеновских драм. В то время, когда европейская драма все больше и больше погружалась в описательное изображение среды, Ибсен строил сосредоточенное драматическое действие, напоминавшее современным читателям и зрителям об античной драме (см. современную Ибсену литературу о "Привидениях"); в то время, когда диалог все больше и больше терял свою напряженность и превращался в фонограмму повседневной речи, Ибсен писал диалог, каждая фраза которого вскрывала новую черту характера и подвигала вперед развитие действия в целом, — диалог, исполненный жизненной правды, в глубочайшем смысле этого слова, и все же никогда не являющийся простой копией обыденной речи. Недаром в широких кругах западноевропейской радикальной интеллигенции возникло представление о том, что в русской и скандинавской литературе родилась новая классика или, по крайней мере, появились предтечи грядущей классической литературы.
Эти надежды передовых европейских литераторов были основаны на иллюзий, на незнании общественных условий, определивших общий упадок буржуазной литера-туры и вызвавших в то же время единственное в своем роде явление — позднее цветение литературы в Скандинавии и России.
Фридрих Энгельс видел, в чем заключается своеобразие этой литературы; он раскрыл особый характер общественной почвы, на которой она выросла. Вот что писал Энгельс в цитированном нами письме Паулю Эрнесту: "Каковы бы ни были недостатки ибсеновских драм, в них все же отображен — хотя и маленький, среднебуржуазный, — но неизмеримо выше немецкого стоящий мир, в котором люди еще обладают характером, способным к инициативе, и действуют самостоятельно, хотя часто и причудливо с точки зрения иноземного наблюдателя. Все это я считаю нужным основательно изучить, прежде чем выступать со своим суждением"1. Энгельс подчеркивает здесь причину, благодаря которой скандинавская литера-тура произвела такое впечатление в Европе: в то время как буржуазная действительность все больше лишает людей характера, инициативы и самостоятельности, когда честные писатели только и могут изображать обнаглевших любителей наживы и их глуповато-наивные жертвы (Мопассан), — в это время "северная" литература показывает целый мир, в котором люди, пусть с трагическим или трагикомическим исходом, но все же энергично напрягая все свои силы, пытаются противостоять peaкции. Герои скандинавской литературы продолжают борьбу, начатую героями старой европейской литературы, и они терпят поражение, в конечном счете, от тex же общественных сил. Но они борются и погибают несравненно героичнее, чем их европейские современники. Сравните Нору или фру Альвинг у Ибсена с героинями европейской "семейной" трагедии этого времени, и вам будет ясна не только дистанция между ними, но и то, почему персонажи Ибсена с такой силой воздействовали на публику.
Буржуазная идеология после 1848 г., после июньского восстания и в особенности после Парижской коммуны, решительно повернула в сторону апологетики. Национальным объединением Германии и Италии были разрешены основныe проблемы буржуазной революции в крупнейших странах Запада (правда, чрезвычайно показательно, что в Италии и в Германии решение это не было революционным). Теперь центром общественной борьбы стала, с совершенной очевидностью, борьба буржуазии и пролетариата. Поэтому основная линия развития буржуазной идеологии все больше направляется на защиту буржуазии от притязаний пролетариата. Экономические основы империализма развиваются, и они все сильней воздействуют на буржуазную идеологию.
Это, конечно, отнюдь не означает, будто все писатели Европы стали к этому времени сознательными апологетами буржуазии: и в этот период нет ни одного выдающегося писателя, который не разделял бы возмущенной или иронической оппозиции по отношению к буржуазному обществу. Но пределы оппозиции и художественная сила ее выражения были обусловлены развитием буржуазного общества в сторону упадка, были сужены им и ограничены. Из буржуазного мира исчез героизм, исчезли подлинная инициативность и независимость. Настоящие писатели, избражающие это общество хотя бы и в оппозиционном дуxe, замечали перед собой только банальность окружающей жизни. Таким образом, сама действительность, которую они хотели отразить, осуждала их на художественную и идейную натуралистическую узость. Если из благородного стремления к большим идеям они пытались подняться над этой действительностью, то не находили опоры в реальных образцах, не находили жизненного материала, который позволил бы в концентрированном виде изобразить реальную возможность общественного подъема. Вследствие этого их стремление к величию не могло увенчаться успехом, становилось бессодержательным, абстрактно-утопическим или романтическим в дурном смысле слова.
Развитие капитализма началось в России и Скандивии много позже, чем в Западной Европе. Поэтому идеология в этих странах к 70-м и даже 80-м годам еще не была охвачена апологетической тенденцией. Те общественные условия, которые послужили основой для высокого реализма, — от Свифта до Стендаля, — еще действовали здесь, правда, в иной, значительно модифицированной форме. Энгельс, в указанном выше письме Паулю Эрнсту, придает большое значение, при анализе творчества Ибсена, тем особенностям общественного развития, которые так резко отличали Норвегию от Германии.
Общественная основа, на которой вырос реализм в России, была иная, чем в Скандинавских странах. Пока шла речь о том, чтобы объяснить общеевропейское значение скандинавской и русской литературы, достаточно было определить общие для них условия: запоздалое развитие капитализма, относительно еще небольшое место, занимаемое в жизни всего общества классовой борьбой между пролетариатом и буржуазией, и соответственно, неразвитость или, по крайней мере, меньшая откровенность апологетических черт в идеологии господствующих классов. Однако в Норвегии капиталистическое развитие имело другие конкретно-исторические формы, чем в России.
Энгельс настойчиво подчеркивает "нормальность" общественного развития Норвегии, "Вследствие своей изолированности и природных условий страна отстала, но общее ее состояние все время соответствовало производственным условиям и благодаря этому было нормальным". Даже наступление капитала в особых норвежских условиях происходит медленно, от этапа к этапу. "Норвежский крестьянин никогда не был крепостным, и это обстоятельство — как в Кастилии — накладывает свою печать все развитие. Норвежский мелкий буржуа — сын свободного крестьянина, и вследствие этого он — настоящий человек по сравнению с жалким немецким мещанином"[8]*. Все эти обстоятельства, отчасти определившие отсталость капиталистических отношений, оказались благоприятными для норвежской литературы. Подъем капитализма вызывает к жизни литературу остро оппозиционную, энергично-реалистическую, литературу талантливую и ставящую себе большие задачи.
Дальнейший рост капитализма неминуемо должен был приближать общественный уклад Норвегии к укладу других стран капиталистической Европы, допуская, правда, сохранение некоторых своеобразных черт. Действительно, эволюция норвежской литературы отражает этот процесс постепенного уравнения. Уже последний период творчества Ибсена свидетельствует о том, что вера писателя в силу противодействия капитализму падает; недаром в его драмах все сильнее звучат декадентские ноты и недаром в них все заметнее становится влияние западноевропейской литературы (символизма). Творческая судьба следующего поколения оппозиционных норвежских писателей-реалистов показывает все возрастающее подчинение их реакционным общеидеологическим и литературным течениям Запада, т. е. тенденциям, разлагающим реализм. Еще в довоенное время талантливый реалист Арне Гарборг впал в религиозный обскурантизм, а после войны капитулировал сам Кнут Гамсун, поддавшись даже фашистским влияниям.
Реальное историческое значение отсталости капитализма в России совсем иное. Вторжение капитализма в полуазиатскую крепостническую систему царизма вызвало в период 1861 по 1905 гг. то сильнейшее брожение, ту диференциацию во всем обществе, художественным отражением которых Ленин считал творчество Толстого. Особый характер этого общественного процесса определил собой и своеобразие искусства Толстого, а вместе с тем и отличие его от норвежской литературы второй половины XIХ в.
Ленин с полной ясностью характеризует это революционное развитие. Он пишет:
"Таким образом мы видим, что понятие буржуазной революции недостаточно еще определяет те силы, которые могут одержать победу в такой революции. Возможны и бывали такие буржуазные революции, в которых торговая или торговопромышленная буржуазия играла роль главной движущей силы. Победа подобных революций была возможна, как победа соответствующего слоя буржуазии над её противниками (вроде привилегированного дворянства или неограниченной монархии). Иначе обстоит дело в России. Победа буржуазной революции у нас невозможна, как победа буржуазии. Это кажется парадоксальным, но это факт. Преобладание крестьянского населения, страшная придавленность его крепостническим (наполовину) крупным землевладением, сила и сознательность организованного уже в социалистическую партию пролетариата, — все эти обстоятельства придают нашей буржуазной революции особый характер"[9].
Конечно, Толстой не имел и отдаленного представления об истинном характере переворота, который переживала Россия. Но он был гениальным писателем и поэтому правдиво отразил некоторые существенные стороны процесса, происходящего в действительности; вопреки своим общественным взглядам, он стал выразителем определенных сторон развития русской революции. Смелость и величие реализма Толстого возможны были потому, что этот реализм был порожден движением большой исторической значимости, движением, революционным в своей основе. Такой благоприятной общественной почвы не было в то время ни у одного западноевропейского писателя; только в прошлом, в эпоху, предшествующую 1848 г., такая почва существовала в западноевропейских странах, и она породила высокий реализм конца XVIII-начала XIX вв.
Таким образом, родственность Толстого его великим предшественникам есть результат сходства (в самых общих чертах) общественных ситуаций, обусловивших сущность их творчества. Различие между Толстым и этими писателями, в свою очередь, определено конкретно-историческим различием общественных условий, особенностями русской революции.
Подлинный реализм всегда связан со стремлением писателя вскрыть существенное содержание общественной жизни и рассказать о нем, не боясь выводов. Понимание этой субъективной основы нуждается, однако, в дальнейшей конкретизации. Ведь такое субъективное стремление бывает и у писателей, живущих в период упадка реализма, и, тем не менее, оно не защитило их от пороков идейного и художественного декаданса. Субъективная правдивость писателя только тогда может привести к подлинному реализму, если она является выражением мощного общественного движения. Только такое движение может, во-первых, натолкнуть писателя на проблемы, побуждающие к изучению и описанию важнейших сторон общественного развития, во-вторых, только оно может дать писателю твердость, может стать источником мужества и силы, без которых никакое субъективное стремление не бывает истинно плодотворным.
Объективная высота писательской честности, способности вскрывать и изображать существенные стороны жизни общества могла соединяться в условиях классового общества с мировоззрением, несущим в себе много реакционных предрассудков. В таких случаях художественная честность писателя приводила к отражению истины в той мере, в какой позиция писателя была общественно значительна, т. е. в той мере, в какой противоречия в мировоззрении писателя отражали существеннейшие противоречия объективной действительности. В конечном счете и это находится в зависимости от того, насколько велик размах общественного движения, насколько глубоки и исторически значительны выдвигаемые этим движением проблемы.
Ленинский анализ русского революционного движения до 1905 г. показывает, что особое положение русского крестьянства, огромное его значение в борьбе за низвержение полуфеодальной самодержавной монархии были одним из существенных моментов всемирно-исторического своеобразия русской революции.
Показав, что Толстой художественно отразил это крестьянское движение, Ленин тем самым дал ключ к пониманию того, почему Толстой в эпоху упадка реализма во всей Европе мог стать великим писателем-реалистом, равным по значению классикам мировой реалистической литературы. Вместе с тем, указав, что это крестьянское, движение представляло собой важную часть высшей формы буржуазной революции — той буржуазной революции, в которой окончательная победа буржуазии была невозможна, — Ленин разъяснил также, почему творчество Толстого является шагом вперед в художественном развитии человечества, в развитии мирового искусства.
Мы сказали, что наличие реакционных черт в мировоззрении реалистических писателей прошлого не лишало этих писателей способности широко и верно отражать объективную общественную действительность. Это положение также нуждается в конкретизации, Речь идет здесь не о любых идейных тенденциях писателя. Только те иллюзии, которые с неизбежностью порождаются данным общественным движением, — следовательно, только те, часто трагические иллюзии, которые исторически необходимы, — не служат непреодолимым препятствием объективного изображения общества. Таковы были, пример, иллюзии Шекспира и Бальзака. Ленин писал: "Противоречия во взглядах Толстого… — действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции"[10]. Все иллюзии, все реакционные утопии Толстого — от теории Генри Джорджа, якобы "освобождающей мир", до теории непротивления злу-все эти заблуждения коренятся в современном Толстому положении русского крестьянства. Их историческая неизбежность, конечно, не делает их ни менее реакционными, ни менее утопическими. Однако историческая обусловленность и значительность этих иллюзий "имеют следствием то, что они не только не, разрушили реалистической мощи Toлстого, но были связаны (правда, в очень сложной и противоречивой форме) с пафосом, величием, глубиной его искусства.
Ясно, что в западноевропейской известности Толстого эти реакционные утопические черты его творчества часто играли значительную роль. Но если, таким образом, перебрасывался мост от писателя русского патриархального крестьянства к западному буржуазному читателю, то все же этот читатель сталкивался, совершенно неожиданно для себя, совсем не с тем художественным миром, на какой он мог бы рассчитывать, исходя из философской теории Толстого. Читатель оказывался перед лицом "жестокости" и "холодности", характерных для всякого высокого реализма, он видел искусство, вполне современное по содержанию и форме выражения, но по самой своей сущности как бы пришедшее совсем из другого мира.
Только крупнейшие писатели-гуманисты послевоенного времени начали понимать, что этот чужой мир — на самом деле их собственный, утраченный ими мир, их невозвратное прошлое. И только эти гуманисты поняли, что в произведениях Толстого снова прозвучал голос классического писателя, подобного тем, которые в Западной Европе существовали до поворота буржуазии к реакции. Весьма показательно, что это понимание росло по мере того как гуманизм буржуазно-революционный изменялся под влиянием социалистического гуманизма, который принесла победоносная пролетарская революция.
3
Развитие буржуазного общества после 1848 г. разрушает предпосылки высокого реализма. Если подойти к этому вопросу с субъективно-литературной стороны, то мы увидим, что писатели все больше становятся только наблюдателями общества, в противоположность старым реалистам, которые участвовали в жизни общества. Старые реалисты накопляли свои наблюдения в процессе жизненной борьбы, и специальным наблюдением не исчерпывался тот труд, посредством которого писатель пытался овладеть действительностью.
Вопрос об одном только наблюдении жизни или переживании ее-это далеко не узко художественная проблема; она охватывает весь вопрос об отношении писателя к действительности.
Разумеется, было много писателей, которые со всей горячностью участвовали в жизни буржуазии после 1848 г. Но что это была за жизнь и что она могла, дать писателю? Густав Фрейтаг и Жорж Онэ жили одной жизнью с немецким и французским мещанством; это дало их произведениям теплоту, которая и доставила им недолгую, но широкую популярность. Но в чем сущность их творчества? Неполноценную, узкую, банальную, лживую среду они изобразили адэкватными, т. е. узкими, банальными, ложными средствами. Можно назвать только редкие исключения, когда интенсивное переживание, проникнутое сочуствием реакционным тенденциям эпохи, следующей за 1848 г., воплощается если не в исторически значительных, то все же в литературно незаурядных произведениях (напр. произведения Киплинга, в большой мере проникнутые духом английского империализма).
Подлинно честные и подлинно талантливые писатели из буржуазных слоев не могли сочувствовать идеям и практике своего класса в эпоху буржуазной реакции, не могли увлечься ими, отдаться им со всей интенсивностью и страстью одаренной натуры. Наоборот, с отвращением и ненавистью отворачивались они от своего класса. Что же им оставалось? Не находя в действительности такого течения, в котором можно было увидеть выход, не понимая классовой борьбы и перспектив революционного движения пролетариата, они вынуждены были довольствоваться позицией наблюдателей жизни.
По поводу этого изменения в отношении писателей к действительности создано было много различных теорий: флоберовская теория "беспристрастия" ("impassibilite"), Псевдонаучная теория Золя и золаистов и др. Но гораздо больше, чем эти теории, объясняет сама действительность, породившая их. Позиция наблюдателя, занятая писателем по отношению к действительности, означает, по существу, критическое, ироническое, часто исполненное ненависти и отвращения самоустранение писателя из жизни буржуазного общества. Реалист нового образца становится узким литературным специалистом, виртуозом литературной выразительности; это — кабинетный ученый, "ремесло" которого заключается в описании современной общественной жизни.
Это отчуждение имело своим неизбежным следствием то, что писатель располагал теперь значительно более узким, ограниченным материалом, чем писатель эпохи высокого реализма. Если "новый реалист" хочет описать какое-либо жизненное явление, он должен наблюдать его специально для литературной цели. Естественно, он усваивает прежде всего поверхностные, внешние черты. Действительно одаренный и оригинальный писатель будет, конечно, вести свои наблюдения так, чтобы отыскать в явлении оригинальные стороны, и попытается, по возможности, подчеркнуть оригинальность увиденных деталей все-ми доступными ему средствами искусства. Флобер советовал своему ученику Мопассану разглядывать какое-нибудь дерево до тех пор, пока он не откроет в нем черты, отличающие это дерево от всех других деревьев, а затем найти такие слова, которыми возможно было бы адэкватно передать своеобразие этого дерева.
И учитель и ученик часто выполняли такие задачи с величайшей виртуозностью. Но самая постановка задачи означает сужение целей искусства.
Мы не можем здесь дать исчерпывающее объяснение и критику европейской реалистической литературы второй половины прошлого столетия. Для задачи, поставленной в настоящей статье, можно удовлетвориться указанием на общие принципы ее эволюции. Мы видели уже, что общественный процесс, который вынуждал лучших, талантливейших буржуазных писателей перейти на позиции наблюдателей действительности, стать мастерами изобразителями наблюдаемой жизни, — тот же исторический процесс неизбежно разрушает основы высокого реализма и заставляет писателей заменять недостающее им содержание художественными суррогатами. Флобер понял это положение писателя очень рано и с трагической ясностью. Еще в 1850 г. он писал своему другу; юности Луи Буйлэ: "Мы располагаем многоголосым оркестром, богатой палитрой, разнообразными средствами. Ловкостью и находчивостью мы обладаем в такой степени, как, вероятно, никто до нас. Но чего нам нехватает, так это внутреннего принципа. Души вещей, идеи сюжета"[11]. Это горькое признание Флобера нельзя рассматривать, как преходящее настроение, временное разочарование художника. Флобер проник в самую сущность нового реализма.
Суммируя основные отрицательные черты европейской реалистической литературы после 1848 г., - те черты, которые мы находим даже у крупнейших ее представителей, — мы приходим к следующим выводам. Во-первых, из литературы исчезает настоящее эпико-драматическое напряжение, свойственное общественному процессу в действительности. Совершенно частные, отъединенные, лишенные взаимных связей персонажи поставлены среди неподвижных декораций и бутафории — виртуозно описанной "среды". Во-вторых, литература становится все беднее изображением действительных отношений между людьми; в ней изображаются неизвестные самим действующим лицам общественные причины их поступков; человеческие мысли и чувства отражаются в литературе все беднее и отрывочнее. Эта жизненная бедность делается иногда намеренно основным элементом произведениями освещается гневным или ироническим чувством автора; но еще чаще отсутствие человеческих общественных отношений замещается в литературе мертвой, косной, лирически надутой символикой. В-третьих, в тесной связи с охарактеризованными уже чертами, вместо исследования существенных сторон общественной жизни и изменения судеб отдельных людей в ходе общественного развития, на первый план выступают мимолетные, мгновенные наблюдения и виртуозно переданные детали.
Это превращение писателя из активного участника общественной борьбы, из живущего общественной жизнью человека в специалиста-наблюдателя завершается в результате долгого процесса. Уже отношение последних больших реалистов XIX в. к жизни их общества было очень противоречивым и парадоксальным. Достаточно вспомнить о Бальзаке и Стендале и сравнить их с французскими и английскими реалистами XVIII века, чтобы увидеть огромную перемену, происшедшую здесь. Отношение к обществу у Бальзака и Стендаля не только критическое, — общественную критику мы найдем, конечно, и у более ранних реалистов, меньше сомневающихся в социальной и этической ценности буржуазии, — нет, общественные взгляды Бальзака и Стендаля пропитаны пессимизмом, презрением, гневом и отвращением. Иногда лишь тонкие нити неустойчивых, ненадежных утопий соединяют этих писателей с буржуазным классом их времени. Чем старше становится Бальзак, тем больше отражается на его концепциях предчувствие полного краха аристократически-буржуазной культуры. Но тем не менее, Бальзак и Стендаль широко охватывают в своих произведениях жизнь современного им общества; сила их состоит в страстном переживании всех важнейших проблем, возникавших на различных этапах в период от Первой французской революции до 1848 т.
Отношение к обществу у Толстого еще более противоречиво и парадоксально.
Мировоззрение Толстого все более насыщалось ненавистью и презрением ко всем угнетателям и эксплоататорам. Толстой порывал какие бы то ни было связи с господствующими классами русского общества. К концу своей жизни он видел в них только банду мерзавцев и паразитов. Таким образом, он близок к той оценке господствующих классов, какую давали им крупнейшие реалисты второй половины XIX в.
Почему же Толстой как художник никогда не походил на Мопассана и Флобера? Или, применяя тот же вопрос к периоду, когда Толстой еще верил (или, по крайней мере, хотел верить) в возможность патриархального примирения противоречий между помещиками и крестьянами, спросим себя: почему ранний Толстой никогда не был заражен тем узким провинциализмом, каким, например, проникнуто творчество талантливого швейцарского реалиста Готфрида Келлера? Ведь известно, что Толстой так же мало и даже, может быть, еще меньше, чем его западные современники, понимал социалистическое движение революционного пролетариата.
Ленин в своем гениальном анализе дает нам ключ к решению этой проблемы.
Вульгарные социологи подсчитывают персонажей, которых изобразил Толстой, и делают из своей статистики вывод, будто Толстой был прежде всего бытописателем дворянства. Такой "анализ" пригоден разве для плохоньких натуралистов, которые, что бы они ни изображали, описывают лишь то, что находится прямо перед глазами, и не вникают в связь единичных явлений с обществом в целом. У больших реалистов изображение общества и его основных проблем никогда не бывает таким простым и непосредственным. Для них нет явлений, не включенных и общую связь; каждое явление в их произведениях переплетается многообразно и сложно с другими, личное и общественное, телесное и духовное, частное и общее соединяются на основе конкретных и богатых возможностей, заключенных в каждом реальном явлении. Вследствие такого многоголосия персонажи их также не представляют собой какое-нибудь отдельное, личное или общественное качество, и большинство из них не может быть точно уложено даже в самый широкий список театральных амплуа. Великие реалисты подходят к действительности с определенной, но чрезвычайно подвижной и жизненно содержательной точки зрения. И как бы ни были различны и законченны в себе отдельные человеческие образы их произведений, в них, зримо или незримо, живет основная точка, зрения автора.
Толстой отразил развитие крестьянской революции между 1861 и 1905 гг. в России, Вот, например, описание, взятое из произведения Толстого последнего периода, — картина военной жизни князя Нехлюдова ("Воскресение"):
"Дела не было никакого, кроме того чтобы в прекрасно сшитом и вычищенном не самим, а другими людьми мундире, в каске, с оружием, которое тоже и сделано, и вычищено, и подано другими людьми, ездить верхом на прекрасной, тоже другими воспитанной и выезженной и выкормленной лошади на ученье или смотр с такими же людьми и скакать и махать шашками, стрелять и учить этому других людей"[12].
В этом, как и в других, подобных этому описаниях — у Толстого их очень много, — есть, разумеется, точно очерченные детали. Но их назначение состоит не в том, чтобы выявить специфическое, неповторимое своеобразие описываемых предметов самих по себе, а в том, чтобы показать определенный способ употребления предметов, который диктуется определенными общественными условиями, общественными отношениями. А общественные отношения, лежащие в основе изображаемого Толстым мира, — это отношения эксплоататорские, это прежде всего эксплоатация крестьянства помещиками.
Незримый образ угнетенного крестьянина сквозит у Толстого не только в больших или беглых эпизодических описаниях быта. Он никогда не исчезает из сознания действующих лиц его произведений). Чем бы эти люди ни были заняты, объективное значение их занятий, их собственные мысли о своих делах и поступках — все ведет, осознанно или бессознательно, к отношениям, которые непосредственно или через какие-нибудь посредствующие звенья связаны с этой центральной проблемой. Правда, герои Толстого, как и сам Толстой, ставят проблему эксплоатации в чисто этической плоскости: нельзя жить за счет чужого труда и не погибнуть нравственно.
Как известно, Толстой (и от своего лица, и устами многих своих персонажей) высказал немало несостоятельных, реакционных, утопических мыслей о том, где следует искать выход из этого положения. Но постановка вопроса здесь важнее, чем его разрешение. Еще Чехов заметил, говоря о Толстом, что решение вопроса и его глубокая постановка- вещи разные, и только последняя безусловно необходима для художника. Оценивать же, насколько верно поставил Толстой самый вопрос, нельзя на основании одних только его непосредственных "программныx" высказываний. Дело ведь не в путаных и романтических мыслях героя его юношеского произведения "Утро помещика" и не в утопических планах, которые, по мысли Толстого, должны осчастливить человечество, — во всяком случае, не, в них одних. Сопоставьте эти планы с отношением к ним крестьян. Заманчивые обещания представителей эксплоататорского класса вызывают с их стороны недоверие, полное затаенной ненависти. На фантастические утопии они отвечают первой инстинктивной мыслью, что всякий новый план помещика не может быть не чем иным, как новым обманом, и чем возвышенней он звучит, тем, значит, тоньше рассчитан обман.
Только исходя из такого сопоставления можно судить о том, насколько прав был Чехов, когда утверждал, что Толстой верно поставил свою основную общественную проблему.
Глубина постановки вопроса у Толстого определяется тем, что он, с невиданной еще в мировой литературе конкретностью и точностью, изобразил существование и взаимоотношение "двух наций" в одном народе — эксплоататоров и эксплоатируемых. Величие Толстого обнаруживается в том, что, несмотря на свое старание найти объединение общества, уничтожить его раздвоенность морально-религиозным путем, он сам с неуклонной правдивостью вскрывает всю несостоятельность своей заветной мысли.
Развитие взглядов Толстого было очень сложным процессом. Одни иллюзии рушились, другие возникали. Но там, где Толстой больше всего великий художник, он всегда изображает непримиримость "двух наций"-крестьян и помещиков. В ранних произведениях (например, в "Казаках") эта непримиримая противоположность предстает еще в лирико-элегической форме. Но в "Воскресении" Катюша Маслова гневно кричит в ответ на покаянную речь Нехлюдова: "Ты мной хочешь спастись… Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись!" [13]
Изменяются внешние и внутренние художественные принципы и черты творчества Толстого, испытываются и отбрасываются различные теории и системы взглядов; но никогда не исчезает вопрос о "двух нациях", составляющий основу всего жизненного дела Толстого.
Уяснив себе эту центральную творческую проблему Толстого, мы поймем и тематическую близость и художественную противоположность между Толстым и современными ему западными писателями-реалистами. Как и всякий честный и талантливый писатель, Толстой все больше отдаляется от господствующих классов, бессмысленность, пустота, бесчеловечность жизни которых стали для него очевидными.
То же переживали и честные писатели на Западе. Но эти писатели, непримиримо оппозиционные к своему классу и еще не понимающие освободительной борьбы пролетариата, могли только перейти на положение наблюдателей жизни, и их искусство страдало от неизбежных последствий этой позиции. В противоположность им, Лев Толстой — писатель страны, где буржуазная революция стояла в порядке дня, писатель крестьянских масс, пpoтестующих против помещичьей и капиталистической эксплоатации, писатель, отразивший классовую борьбу "двух наций", на которые разделилась Россия, — стал одним из величайших реалистов капиталистической эпохи.
4
История реалистического романа, от цепи увлекательных приключений Лесажа до драматических новелл Бальзака, законченных и в то же время естественно связывающихся в единые циклы, — вся эта история является художественным отражением капиталистического развития, которое все более охватывает общество действием своих законов, ставящих определенные границы, в которых протекает жизнь отдельных людей, членов буржуазного общества. Уже в драматически сжатых произведениях Бальзака, включенных во всеобъемлющие циклы, видно начало кризиса искусства, который развивается в эпоху полной победы капитализма. Художники этого времени ведут героическую борьбу против банальности, сухости и пустоты буржуазной жизненной прозы. Драматическая острота фабулы у Бальзака имеет, в такой ситуации, особое значение: это художественно-формальная сторона попыток художника преодолеть прозу жизни. Формальному драматизму соответствуют в содержании страсти, напряженные до предела, и понимание типичности как до крайности заостренного выражения того или иного общества венного явления. Так создаются взрывы страстей, вносящих в скучную и пошлую жизнь буржуазного общества глубокую, богатую и пеструю человеческую поэзию. Позднее натуралисты, борясь против этой "романтики" низвели литературу до уровня обыденности и повседневности. Проза капиталистического общества восторжествовала в натурализме над живой поэзией.
Творчество Толстого — в соответствии с общественным развитием России — охватывает несколько фаз этого литературного процесса. Если измерять художественное развитие масштабом мировой литературы, то можно сказать, что Толстой начал с литературной ступени, предшествующей реализму бальзаковского типа, а в последний период испытал на себе влияние писателей, сменивших классиков высокого реализма.
Сам Толстой прекрасно понимал эпический характер своих больших романов. Но не только сам он сравнивал "Войну и мир" с эпосом Гомера; так же воспринимали эту книгу многие, и знаменитые и малоизвестные читатели. Это сравнение справедливо в том смысле, что оно характеризует подлинно эпическую широту и насыщенность "Войны и мира"; однако, оно является скорее характеристикой художественной тенденции, чем самого жанра, так как, несмотря на свое эпическое величие, "Война и мир" остается все-таки типичным романом. Но это не драматически сжатый роман Бальзака. В широте и свободе его композиции, спокойствии и размеренности развития действия, развития отношений между людьми, в медлительных, но, тем не менее, живых эпизодах, всегда необходимых для эпического повествования, — во всем этом есть нечто родственное сельским идиллиям превосходных английских романов XVIII в.
Большие произведения Толстого отличаются, однако, от своих английских прообразов прежде всего особым характером отраженной в них общественной действительности; они превосходят их в то же время художественной глубиной и богатством. Причина этого преимущества также коренится в своеобразии русской действительности, которая была гораздо менее буржуазной, чем в Англии XVIII в. В романах Толстого (особенно в "Анне Карениной") процесс обуржуазивания жизни чувствуется гораздо сильней, чем у английских реалистов революционного периода. Английские писатели XVIII в. жили в послереволюционное время, т. е. в то время, когда борьба против феодализма была в основном завершена; это дает произведениям Фильдинга и Гольдсмита прекрасную живость, крепость и спокойную уверенность, но в то же время иногда и черты самодовольства, мещанской ограниченности. В противоположность им, Толстой творил в эпоху революционной бури. Он писатель предреволюционного времени, эпохи назревания крестьянской революции. Благодаря тому, что центральным пунктом его творчества является крестьянский вопрос в России, его совершенно не коснулся тот поворот, который произошел в европейской литературе в связи с поражением революции 1848 г., поворот, глубоко повлиявший, например, на творчество Тургенева. Важно не то, насколько правильно Толстой понимал крестьянский вопрос в различные фазы своего творческого развития; решающее значение мы придаем тому, что этот вопрос всегда был основой всей его литературной деятельности.
Только это позволило ему в период буржуазной реакции в Европе сохранить художественные особенности, которые характерны для европейских писателей дореволюционного времени.
Сельской идиллии в больших романах Толстого почти всегда грозит разрушение. Уже в "Войне и мире" обеднение Ростовых воспринимается, как типичный случай разорения старого поместного дворянства, а духовный кризис Пьера Безухова и Андрея Болконского — как отражение того общественного сдвига, который достиг политической кульминации в восстании декабристов. В "Анне Карениной" беды, нависшие над сельской идиллией, еще грознее, и здесь ее враг уже показывает, свое капиталистическое, обличье. Теперь речь идет не просто о хозяйственном разорении, а о дилемме — разорение или поворот на путь капитализма. Показывая возможность этого пути, Толстой страстно возражает против него. Константин Левин, в сущности, продолжающий Николая Ростова с того места, где он был оставлен в "Войне и мире" уже не может разрешить стоящий перед ним вопрос так просто и бездумно, как это сделал Ростов. Левин не только борется за хозяйственное, укрепление своего имения, притом таким способом, чтобы не оказаться вовлеченным в процесс капитализированы; нет, он ведет еще, кроме того, непрестанную и напряженную борьбу с самим собой, стараясь оправдать перед собой свою жизнь-жизнь помещика, эксплоататора крестьян. Вся эпическая сила этого романа имеет своим источником иллюзии Толстого, будто для честных представителей его класса здесь нет неразрешимого трагического конфликта.
При сравнении "Анны Карениной" с "Войной и миром" мы видим, однако, что эта иллюзия уже поколеблена. Это сказывается и на композиции, которая приобретает более "европейский", более напряженный характер; это сказывается и в менее широком, менее спокойном и свободном развитии фабулы. Тематическое приближение к европейскому роману XIX века означает также и приближение к тому кризису, который переживал этот жанр. "Анна Каренина" еще отмечена многими свойствами paн-вето периода; однако, по сравнению с "Войной и миром", это гораздо меньше эпос и гораздо больше роман.
В "Крейцеровой сонате" Толстой сделал еще больший шаг в сторону европейского романа. Это-большая, но в то же время драматически-концентрированная форма новеллы, во многом напоминающая произведения, характерные для последнего периода подъема европейского реализма, когда обнаружилась все усиливающаяся тенденция изображать катастрофы, трагические переломы в судьбах людей. Правда, в то время писатели заботились еще о возможной полноте и точности внутренней мотивировки, и это делало их произведения настолько эпическими, т. е. отражающими общество в целом, насколько это возможно было в буржуазной литературе. Толстой приближается здесь в известной мере к композиционной манере Бальзака-и не потому, что он заимствует у Бальзака литературный стиль или находится под его влиянием (о стилистическом несходстве, даже противоположности обоих писателей, мы скажем ниже), а потому что действительность, окружавшая этих писателей, и отношение их к действительности обусловили известную общность в характере композиции. Наиболее ярко композиционный стиль позднего Толстого проявляется в "Смерти Ивана Ильича!". Но весьма знаменательно, что приближение к нему очень заметно и в последнем большом романе — в "Воскресении".
Однако тематическое сближение с современной европейской литературой отнюдь не означает сближения с царящими в ней художественными направлениями, разлагающими эпические и драматические формы искусства. Лев Толстой до конца жизни оставался, во всем существенном, великим реалистом — реалистом старого склада — и прежде всего творцом эпических произведений большого стиля.
Эпическая обработка действительности, в отличие от обработки драматической, включает в себя изображение не только внутренней, но и внешней жизни, людей, поэтизацию важнейших предметов из вещного мира, свойственного данной среде, и важнейших, типичных для нее внешних условий. Гегель называет это первое требование к эпическому отражению действительности объективной полнотой, точнее полнотой объектов (Totalitat der Objekte). Это требование — не теоретический вымысел, Каждый писатель инстинктивно чувствует, что роман не может считаться вполне законченным, если ему недостает такого целостного охвата объектов, если не изображены основные предметы, основные условия жизни, принадлежащие к данной теме, взятой во всей широте. Отличие старых реалистов от писателей новейшего времени, когда роман уже распался и перестал быть органической формой, эпосом буржуазного общества, обнаруживается решающим образом в том, как связывается у них изображение среды (в возможной ее полноте) с судьбами отдельных действующих лиц.
Новейший писатель ("наблюдатель жизни") может, конечно, знать все, что принадлежит к "целостному охвату объектов". Если он талантлив, то описание обстановки может у него получиться ярким и обладать большой впечатляющей силой. Кто из читателей не помнит рынков, бирж, кабаков, театров, скачек у Золя? В смысле энциклопедической подробности в передаче содержания и в смысле артистизма отдельных описаний Золя достиг очень многого. Но описанные им предметы и обстоятельства обладают самостоятельным бытием, чрезвычайно независимым от индивидуальных судеб действующих лиц. Это-грандиозные, но безразличные декорации, на фоне которых развивается человеческая драма. Даже в лучших случаях — это более или менее случайное место действия.
Совсем не то мы видим у Гомера. Гомер подробно рассказывает о доспехах Ахилла, которые сделали для него боги. Но описание этих доспехов не дано тотчас же, как только Ахилл выступает на сцену. Лишь после того как он ушел с поля битвы, а троянцы победили, лишь после того как был убит Патрокл, облаченный в доспехи Ахилла, и после того как рассказано о приготовлениях Ахилла к смертному бою, лишь в этот момент, накануне единоборства с Гектором, когда сила оружия двух героев решает судьбу двух народов, а превосходное вооружение Ахилла становится решающим условием победы, — лишь тогда дается описание того, как Гефест ковал щит Ахилла. Поэтому доспехи Ахилла изображены эпически не только в том смысле, какой придавал этому термину Лессинг в "Лаокооне", т. е. не только в том смысле, что Гомер рассказывает о процессе создания щита, вместо того чтобы ограничиться внешним описанием законченного предмета. Эпичность описания определяется его ролью в общей композиции. Оно введено там, где доспехи и история иx создания имеют огромное значение для развития действия и характеров. Щит Ахилла — это не предмет, характерный для среды, но не зависящий от действующих лиц; напротив, он сам живым образом участвует в действии.
Великие реалисты новой истории являются в этом отношении прямыми наследниками Гомера. Правда, изменился материальный предметный мир, и отношение к нему, людей тоже изменилось, стало более сложным, не таким непосредственно-поэтическим. Но величие романистов как художников в том и состояло, что они преодолевали непоэтичность окружавшего их мира. Опорные точки для этого им давало интенсивное участие в общественной жизни, органическое знание ее, ощущение ее движения и развития. Это давало им свободу в распоряжении большими и малыми, внешними и внутренними чертами сложной, запутанной действительности — ту свободу, благодаря которой они могли изображать судьбы своих героев как непосредственно необходимые, внутренне обусловленные. Отсюда и непринужденность, видимая легкость в подборе типичных предметов и внешних обстоятельств. Герои лучших романов — именно потому, что они подлинно типичны — неизбежно сталкиваются на своем жизненном пути с материальной средой, с предметами, со всеми обстоятельствами, типичными для их общественного круга, и писателю остается только свобода в выборе времени и места, где они должны появиться в изображаемой ими жизненной драме как необходимый ее элемент.
Быть может, за последние два столетия не было ни одного писателя, у которого охват объектов был бы так полон, как у Толстого. И не только в "Войне и мире", где изображены все этапы военной жизни — от царского двора и генерального штаба до партизанского отряда и военнопленных, и все этапы жизни частной — от рождения до похорон. В "Анне Карениной" описаны балы, клубы, различные кружки и общества, собрания, сельскохозяйственные работы, скачки и т. д.; в "Воскресении" — всевозможные стороны и проявления всей судебной системы. Толстой изображает их большей частью с такой широтой и детальностью, что они становятся картинами, умеющими самостоятельную ценность. Но попробуйте пробраться в любом из этих эпизодов, и вы убедитесь, насколько далек Толстой от своих западных современников, как близок он к великим реалистам эпического склада.
Эпизоды-картины никогда не бывают у Толстого самодовлеющими описаниями, простым "добавлением", которое, полноты ради, присоединяется к человеческой драме. Рождественский маскарад необходим в истории любви Сони и Николая Ростова; победоносная кавалерийская атака связана с кризисом в жизни Николая Ростова; эпизод на скачках играет большую роль в отношениях Анны Карениной к Вронскому; обстановка суда определяет значение встречи Нехлюдова с Катюшей и т. д. Мы указываем здесь только такие случаи, где необходимая связь внутреннего развития судьбы героев с "полнотой объектов" очевидна.
Но связи в произведениях Толстого очень сложны и разветвлены. Дело не только в том, что отдельные происшествия, имеющие объективный характер, связаны с субъективными, переживаниями героев; те крутые, изменения, которые поворачивают все направление фабулы, каждый из этапов в развитии чувства и мысли персонажей неразрывно и необходимо связаны у Толстого с объективной средой, с внешними обстоятельствам и их особым характером. Например, отношения Анны и Вронского неизбежно должны были привести к решающему кризису. Однако скачки и падение Вронского с лошади — не только повод для выявления кризиса; эта случайность определяет, какой характер будет иметь кризис, определяет многие черты в характере всех его трех участников так ясно, как это не было бы возможно в другом положении.
Такая роль сцены скачек в композиции всего произведению возвышает ее значение над "чистым живописанием". Она становится одной из важных перипетий большой драмы. Укажем еще на одно обстоятельство; участие в скачках типично для такого человека, как Вронский, посещение офицерских скачек, на которых присутствует двор, входит в типичный обиход высших бюрократов, подобных Каренину. Эти черты внешнего общественного поведения еще усиливают многообразную связь индивидуальных судеб действующих лиц с "полнотой объектов".
Такой подход к возможно полному изображению действительности избавляет произведения Толстого (как и произведения всех великих романистов, стремящихся к эпичности) от сухого и скучного описания "среды", связь которого с индивидуальным развитием гepoeв абстрактна и, вследствие этого, произвольна. "Полнота объектов" выявляет у Толстого неразрывную связь между судьбами людей и общественным миром, в котором они живут, притом выявляет ее в непосредственной чувственной форме.
5
Этот способ изображения есть необходимая предпосылка к созданию типических характеров. Энгельс указывает на огромное значение типических обстоятельств (в тесной связи с типичностью характеров). Но и в том случае, если взяты обстоятельства, соответствующие данной социальной действительности, понимание и описание их могут быть конкретными или абстрактными. У современныx буржуазных реалистов мы видим почти всегда последнее. В том случае, если действующие лица изображены так, что взаимоотношения человека с окружающим миром не вытекают с естественной необходимостью из самой сущности характера человека, если место действия и события (оцениваемые с точки зрения того же характера героя) представляются случайно отвлеченными, т. е. в художественном отношении играют роль простых декораций, тогда обстоятельства, пусть даже типичные в смысле правдоподобия для данной общественной среды, не могут быть художественно убедительными. Понять и признать рассудком, что та или другая среда описана во всех своих существенных проявлениях, — это далеко не то же, что глубоко пережить развитие чужой жизни, развитие, органически вырастающее перед нами из всех окружающих человека сложных обстоятельств, из типичной обстановки того общественного круга, в котором человек живет.
Различие между этими способами изображения имеет глубокое общественно-историческое основание. Преобладание описательности характерно для эпохи, когда художник превращается только в наблюдателя и отражает возрастающее подчинение капитализму всех сторон человеческой жизни. Уже Гегель понимал общий характер того изменения и неизбежные последствия его для всей литературы, для эпического искусства особенно. Он писал: "Дом и двор, шатер, седло, постель, меч и копье, корабль, на котором человек переплывает моря, колесница, на которой он устремляется в бой, жаркое и варево, битвы, еда и питье — все предметы, из которых состоит внешняя жизнь человека, не могут быть только мертвым средством удовлетворения потребностей; человек должен в них живо ощущать себя самого, чтобы, путем тесной связи с человеческим индивидуумом, эти внешние сами по себе предметы были запечатлены печатью одушевленной человеческой индивидуальности. Современная наша машинная и фабричная жизнь, с ее продуктами, имеющими согласный с нею характер, и вообще весь способ удовлетворения наших внешних потребноcтей, равно как и современная государственная организаций, этой точки зрения совершенно чужды твой жизненной основe, которой требует древний эпос. Как рассудок со всеми своими общими местами и господством их, не зависящим от индивидуальных взглядов, не мог занимать еще значительного места в подлинно эпическом мировоззрении, так и человек не мог еще предстать оторванным от живых связей с природой, от своей сильной и свежей, отчасти дружной, отчасти враждебной общей жизни с нею"[14]
Гегель наметил здесь центральную художественную проблему романа. Великие романисты вели героическую борьбу за художественное преодоление буржуазных жизненных условий, против того враждебного искусству типа отношений между людьми, между людьми и природой, который сложился в буржуазном обществе. Эта борьба могла состоять лишь в том, что писатель отыскивал в окружающей действительности еще сохранившиеся элементы живых человеческих отношений к обществу и природе, находил в своем богатом и деятельном познании жизни те моменты, в которых еще сохранилась живая связь между людьми, и выражал их в художественно сгущенной форме. Описанная Гегелем механичность "штампованность" жизни в капиталистическом обществе — это действительная и все возрастающая тенденция. Надо помнить, однако, что это все же только тенденция и что реальное общество никогда не может быть окончательно мертвым и застывшим.
Сопротивляется писатель течению или дает ему увлечь себя — вот в чем заключается решающий вопрос для буржуазного реализма.
В первом случае создаются живые образы действительности, добытые с величайшим трудом, в борьбе с неподатливым материалом, но тем более правдивые и глубокие, что в них воплощена жизнь, отстаивание жизни против "мира штампов". Художественная сила таких произведений, их правдивость достигаются тем, что правдивое общественное содержание передано в них в преувеличенной, сконцентрированной форме. Именно таковы произведения великих реалистов первой половины XIX в.
Второй случай — все ослабевающая борьба против течения характеризует послефлоберовский реализм. Было бы неверно думать, что если жизнь изменилась, а литература следовала за нею, то тем самым литература сохранила или даже усилила свою связь с жизнью. Решающее значение здесь имеет конкретное историческое содержание происходящих в обществе изменений. Характер эволюции послереволюционного буржуазного общества был таков, что чем больше писатели делали в своем творчестве уступок тенденциям, определявшим развитие общественной практики, тем больше они превращали в абсолютную, всеобъемлющую силу то мертвящее начало, которое в жизни все-таки оставалось только тенденцией. Их произведения, бессильные извлечь что бы то ни было живое из капиталистической действительности, были, вследствие этой своей ограниченности, много мертвее, "штампованней", чем сама действительность. Они скучнее, безнадежнее и банальнее, чем тот мир, который в них отражается.
Гомеровская живость отношения людей к окружающему их предметному миру не может возродиться в литературе эпохи капитализма. Правда, история романа знает одно счастливое исключение: Даниэлю Дефо удалось в "Робинзоне" сделать работу, необходимую для создания вещей, удовлетворяющих примитивные потребности, составной частью захватывающего сюжета и, благодаря живой связи этого производства вещей с человеческой судьбой, поднять его до истинной поэтичности. Но именно вследствие того, что "Робинзон" представляет собой единственное в своем роде явление, этот роман особенно показателен для выяснения, куда должна быть направлена изобретательность писателя, стремящегося преодолеть буржуазную прозу жизни. Художнику нисколько не поможет, если описания будут им сделаны в самых изысканных, блестящих, даже метких выражениях. Не поможет ему то, что он представит глубокую печаль и горький протест, живущий в душе изображаемого человека, как возмущение против безнадежной и пустой, бесчеловечной и омертвелой действительности. Это не послужит ни к чему, если даже печаль его будет выражена с большой искренностью и лирической прелестью.
Пример "Робинзона" показывает, что борьба против буржуазной прозы жизни может быть успешной лишь тогда, когда художник вымышляет ситуации, возможные в пределах существующей действительности (хотя реально они могут и не встречаться), и пользуется этими воображаемыми положениями, чтобы действующие лица его произведения выявили и развернули все главные стороны своей общественной сущности.
Эпическое величие Толстого основано на такой именно силе воображения. Сюжеты его развертываются, по видимости, медленно, без внезапных и крутых поворотов и как будто нисколько не выходя из обычной жизненной колеи обыкновенных людей — его героев. Однaко Толстой находит такие положения, с необходимостью вытекающие в определенный момент из всего предыдущего развития, такие ситуации, при которых человек поставлен в свободные, живые отношения с природой. Особенно богат такими картинами роман "Война и мир". Вспомните хотя бы охоту, устроенную Ростовыми, и вечернюю идиллию в доме старого дяди. В "Анне Карениной" отношение к природе уже значительно сложнее Тем больше достойна удивления гениальность, благодаря которой у Толстого из проблемы отношения Константина Левина к крестьянам, из eгo помещичье-сетиментального отношения к физическому труду с непринужденной внутренней логичностью возникают поэтические картины сенокоса.
Было бы неверно ограничивать всю проблему художественного оживления изображаемого мира поэтизированием отношения человека к природе. Растущая противоположность между городом и деревней и возрастающее общественное значение города обусловили перенесение места действия преимущественно в городские условия и, главным образом, в современные большие города; здесь, конечно, никакое художественное воображение не в си-лах возродить гомеровское отношение к природе и вещам, полностью превратившимся в товары. Это не значит, что писатель-реалист неизбежно капитулирует перед "штампованной" прозой капиталистического города; великие реалисты боролись против нее больше всего именно на этой почве. Когда писателю удавалось найти такие положения, при которых человеческие отношения, взаимное воздействие людей вырастали в большую драму, тогда и вещный мир, в котором эта драма находила себе внешнее выражение, все предметы, опосредующие человеческие отношения, сами приобретали поэтическое очарование[15].
Здесь не могло быть, конечно, прозрачной и светлой поэзии Гомера, поэзии "детства человечества". Жизненная правдивость высокого реализма неизбежно заставляет писателя отразить зловещий мрак, тяжко нависший над капиталистическим городом. Даже бесчеловечность художник должен включить в свой художественный мир. И она становится подлинной поэзией имению тогда, когда художник не боится изобразить ее.
В "Смерти Ивана Ильича" — шедевре позднего Толстого — изображена судьба посредственного, ничем не замечательного человека, и на первый взгляд это кажется похожим на современный буржуазный реализм. Но сила художественного изображения превращает обычную изоляцию умирающего человека в своеобразный остров Робинзона — правда, остров ужаса, ужаса перед смертью после бесцельно прожитой жизни. И вот все люди и предметы, образующие посредствующее звено в отношениях между людьми, овеяны мрачной и страшной поэзией. Уходящий мир судебных заседаний, картежных игр, привычного хождения в театр, безвкусно обставленной квартиры и отталкивающие сцены грязной телесной жизни смертельно больного человека-все это сливается здесь в одну жизненно-правдивую картину, в которой каждый предмет, каждая деталь кричат о страшной пустоте и бессмысленности человеческой жизни в капиталистическом обществе.
Перелом в реальной общественной жизни был главным предметом художественной работы Толстого. Это подчеркивает Ленин в статье "Л. Н. Толстой и его эпоха", объясняя глубокое значение слов, сказанных Константином Левиным:
"У нас теперь все это переворотилось и только укладывается", — трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861–1905 гг. То, что "переворотилось", хорошо известно, или, по крайней мере, вполне знакомо всякому русскому. Это-крепостное право и весь "старый порядок", ему соответствующий. То, что "только укладывается", совершенно незнакомо, чуждо, непонятно самой широкой массе населения"[16].
Необычайная способность воспринимать все перемены, производимые в людях тем "переворотом", который совершался во всей русской жизни, составляет одну из важнейших основ художественного величия Толстого. Вопреки своим неверным и реакционным политическим мыслям, Толстой умел с удивительной ясностью видеть превращения, которые претерпевали различные слои общества. При этом он не воспринимает действительность как статически застывшую, как устойчивый этап, к которому пришло и, на котором остановилось общество; внимание Толстого- художника обращено на сдвиги и развитие. Напомню хотя бы Облонского из "Анны Карениной". Натуралист сделал бы из этой фигуры помещика-бюрократа, наделив его чертами, характерными для определенной ступени развития капитализма в России; Толстой изображает ускоряющийся процесс капиталистического развития в личной жизни Облонского и его отражение.
По всему своему складу Облонский принадлежит к старому типу дворян, предпочитавших наслаждаться праздной и "широкой" жизнью, которую они ценили больше, чем карьеру при дворе, в армии или министерстве. Имению поэтому так интересно его превращение в полукапиталистический, капиталистически развращенный тип. Облонский служит исключительно из материальной нужды: землевлвдение уже не дает ему дохода, необходимого, чтобы поддерживать желаемый уровень жизни. Переход к более тесной связи с капитализмом (деятельность члена административного совета и т. п.) — это естестветнное последствие такого процесса, "естественное" расширение новой паразитарной жизненной базы. На этой основе прежние взгляды помещика Облонского, которые исчерпывались желанием наслаждаться жизнью, принимают новую форму поверхностно-благодушного, поверхностно-эпикурейского либерализма. Облонский усваивает из современного буржуазного мировоззрения все, что только может идеологически подкрепить его старения получать возможные удовольствия без помехи. Все-таки он остается, вместе с тем, и дворянином старого покроя, поскольку он инстинктивно презирает своих коллег-чиновников, гоняющихся за чинами, и толкует либеральный лозунг "kisser faire", как "живи и давай жить другим" или "после нас хоть потоп", применяя этот принцип в жизненной практике именно в таком добродушно-эгоистческом духе.
Все же и здесь между Толстым и великими реалистами начала XIX века есть важное различие. Картины общественной жизни носят у Толстого более мертвенный механический характер, чем у Бальзака или Стендаля. Такая черта вытекает из того же источника, который дает Толстому его художественную силу: Толстой рассматривает общество глазами эксплоатируемего крестьянина. Следует, однако, заметить, что и в бальзаковском мире только людям из тех классов, которые непосредственно борются за власть, государственные и общественные установления представляются театром оживленной борьбы и столкновения свободных человеческих стремлений. Людям плебейских общественных слоев все эти учреждения противостоят как чуждые, замкнутые, недосягаемые и предустановленные силы. Только Вотрен, личность небычайно волевая, вступает в единоборство с государственной властью; другие действительные или мнимые преступники влачат свое жалкое существование, скрываясь в порах общества, и полиция для них — сила внеличная и непреодолимая. Тем более это так для крестьян и бедных слоев мещанства (достаточно вспомнить роман "Крестьяне"). Естественно поэтому, что Толстой, глядя на мир глазами крестьянина, должен был видеть государственно-общественный аппарат именно таким отчужденным, мертвенно-косным.
И чем дальше, тем более резко изображает Толстой мертвенную косность царской власти и ее органов. Из старых, давно прошедших времен врываются в среду толстовских персонажей отдельные люди, которые, казалось бы, могут еще развивать живую деятельность в этом государстве. Таков, например, старый князь Болконский в романе "Война и мир"; но и он вынужден, разочарованный и раздраженный, замкнуться навсегда в своем поместьи. Жизнь ведет его сына, князя Андрея, от разочарования к разочарованию; с каждым шагом он теряет иллюзию, будто достойный и одаренный человек может активно участвовать в политической и военной жизни царской России. Отсюда общность между отцом и сыном.
Эта цепь разочарований, по Толстому, — вовсе не случайный, чисто индивидуальный удел того или иного человека, например, князя Андрея Болконского или Пьера Безухова. Напротив, в таких разочарованиях очень ясно видно отражение, какое имели в царской России французская революция и наполеоновский период, вызвавшие то умственное движение, те настроения и душевные сомнения, которые толкнули лучшую часть русского дворянства к декабрьскому восстанию. Известно, что Толстой долго работал над планом романа о декабристах, и этот факт, показывает, что, по крайней мере, перспектива создания образов революционеров дворян лежит в основе изображенного Толстым разочарования, которое переживают его герои-дворяне.
В юности и в первую пору зрелости русская государственность представлялась Толстому сравнительно рыхлой конструкцией с достаточно широкими просветами. Полу-патриархальная, форма несвободы в "Войне и мире" дает еще довольно простора для свободного движения, для самостоятельности и самодеятельности в сфере личной и местной общественной жизни; вспомните хотя бы о сельских дворянах, независимых от придворных кругов, о действиях партизан и т. д. Несомненно, что Толстой изучил и передал эти черты с большой исторической правдивостью. Но несомненно также, что освещение, которое он дал этим фактам прошлой истории, зависело от мировоззрения самого Толстого ко времени написания романа и от периода, который переживало русское общество в годы молодости Толстого. С изменением общественных условий и, соответственно, взглядов Толстого на государство и общество, изменяется и художественный подход к этим явлениям. "Казаки" так же, как и другие ранние рассказы Толстого о Кавказе, по своему основному взгляду на общество, очень напоминают "Войну и мир". Но в позднем отрывке "Хаджи Мурат", где изображен тот же исторический период, общество оказывается yже гораздо более сжатой и жесткой средой; для того, что бы свободно себя проявить, частная человеческая деятельность должна искать немногие еще оставшиеся щели.
Сила, вызвавшая это изменение, была не чем иным, как ростом капитализма. Чтобы понять особый мир Толстого надо себе ясно представить, каков был "азиатский", "октябристский" (по определению Ленина) капитализм в России. Этот особый характер капитализма усиливал неблагоприятность общественных условий для литературы, усиливал косность и мертвенность общественных установлений. К России было в значительной мере применимо то, что писал К. Маркс о "прусском" пути капиталистического развития в Германии: "Там, где у нас вполне установилось капиталистическое производство, напр… на фабриках, в сооственном смысле этого слова, наши условия гораздо хуже английских, так как отсутствует противовес в виде фабричных законов. Во всех остальных областях мы, как и другие континентальные страны Западной Европы, страдаем не только от развития капиталистического производства, но также и от недостатка его развития. Наряду с бедствиями современной эпохи нас гнетет целый рад унаследованных бедствий, возникающих вследствие того, что продолжают прозябать стародавние, изжившие себя способы производства и соответствующие им устарелые общественные и политические отношения. Мы страдаем не только от живых, но и от мертвых. Le mort saisit le vif! (Мертвый хватает живого!)"[17].
Благодаря тому, что Толстой изображает преимущественно жизнь высших классов, в его произведениях воплощена с огромной пластичностью основная тенденция зарождающегося в России "азиатского" капитализма, сводящаяся к тому, чтобы не разрушать и не преодолевать давящий страну самодержавный строй, а только приспособлять его, то возможности, к своим интересам. Уже в "Анне Карениной" Толстой создает яркие типы людей, отражающие процесс капитализации и бюрократизации русского дворянства. Рядом с Облонским (в котором Толстой, кроме того, с удивительной широтой и тонкостью показал либерала из этой среды со всей его половинчатостью и добродушной развращенностью) мы видим другой тип нового дворянина в Алексее Вронском. Страстная любовь Вронского к Анне заставляет его изменить весь образ жизни, в том числе и его экономическую основу: он отказывается от военной карьеры и становится крупным помещиком-капиталистом, перестраивающим способ хозяйствования в своем поместьи на капиталистический лад; участвуя в политической жизни дворянства, он защищает принципы либерализма и прогресса и пытается воскресить былую дворянскую "независимость" на крупнокапиталистической базе. "Случайное", с общественной точки зрения, явление — любовная страсть Вронского — толкает его на путь, типичный для развития его класса на данной исторической ступени. И как завершение обоих этих типов — Облонского и Вронского-возникает Каренин, совершенный бюрократ, реакционный чиновник буржуазно-помещичьего государства, мракобес и ханжа.
Капиталистическое разделение труда проникает все глубже, определяя собой все жизненные формы, в том числе и строй человеческих чувств и мыслей. Толстой наблюдает с возрастающим интересом за тем, как люди превращаются в специализированные машины, и его ирония становится все более горькой. Общественное разделение труда представляет собой прекрасный инструмент для подавления и эксплоатации трудящихся масс, и Толстой ненавидит этот аппарат, усматривая в нем средство угнетения и эксплоатации. Великий и универсальный художник, Толстой изображает воздействие этого процесса на общество, он вскрывает его внутреннюю диалектику, показывает, что капиталистическое общественное разделение труда не только обесчеловечивает трудящиеся низы, стремясь превратить рабочего человека в простой автомат, но и захватывает господствующую буржуазно-чиновничью верхушку.
Великолепна в этом отношении одна сцена из "Смерти Ивана Ильича".
Иван Ильич — законченный бюрократ, педантичный законник, с особой виртуозностью устраняющий все человечное из судебных процессов; которые он ведет. Это исправно функционирующее колесико из большого аппарата, созданного самодержавием для угнетения народа. Напрасно пытались люди, захваченные этой машиной, доказывать особые, человеческие обстоятельства своего дела; непреклонный судья вежливо возвращал их на путь параграфов, приспособленных к тому, чтобы судебная машина перемалывала людей во славу царизма.
Но вот Иван. Ильич опасно заболел. Он хотел бы узнать от врача, каково его положение. Однако врач — такой же убежденный бюрократ, такая же точная машина, как сам Иван Ильич, и обращается с ним так же, как Иван Ильич обращался с подсудимыми.
"Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячи раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор, и торжествующе весело даже взглянул сверх очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение — что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем — все равно, а ему плохо. И то заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора. Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:-Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы;- сказал он. — Вообще, это опасная болезнь или нет?..
Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря:
— Подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из залы заседания" [18].
Ужас последних дней Ивана Ильича в том и состоит, что везде он наталкивается на эту косность, в то время как у него самого, перед лицам смерти, впервые проснулась потребность в человеческих отношениях с людьми, потребность вырваться из бессмысленности всей своей жизни.
Развитие русского общества шло под двойным гнётом "азиатского капитализма" и сраставшегося с ним самодержавия. Гнет становился все сильнее. По мере продвижения этого объективного процесса, непрерывно нарастающего до революции 1905 т., растут ненависть и презрение Толстого к бесчеловечности общественного строя. В фигуре Каренина эта бесчеловечность воплощена уже огромной силой.
"В голове Алексея Александровича сложилось ясно все, что он теперь скажет своей жене. Обдумывая, что он скажет, он пожалел о том, что для домашнего употребления, так незаметно, он должен употребить свое время и силы ума; но, несмотря на то, в голове его ясно и отчетливо, как доклад, составилась форма и последовательность предстоящей речи. "Я должен оказать и высказать следующее: во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия; во-вторых, религиозное объяснение значения брака: в-третьих, если нужно, указание на могущее произойти несчастие для сына; в-четвертых, указание на ее собственное несчастье [19].
Позднейшие произведения, особенно "Воскресение", пронизаны еще большей ненавистью. Толстой не только страдает сильнее, чем раньше, от бесчеловечности государственного аппарата, но и яснее, чем прежде, понимает связь между бесчеловечностью и общественным строем, основанным на эксплоатации и угнетении. У бюрократического карьериста Каренина антинародная тенденция только угадывается в том, с каким равнодушием, с каким пренебрежением к благу или злу миллионных масс делал он дело, благодаря которому получал влияние в самодержавном аппарате. (Интересно отметить, что такого рода бесчеловечность, проявляющаяся в формально-бюрократическом отношении к любому делу, была осмеяна Толстым еще в "Войне и мире"-в иронически обрисованной фигуре Билибина.) В "Воскресений" бесчеловечность всего строя резко выделяется на фоне страданий его жертв. Этот роман дает широчайшее, правдивое и многостороннее изображение капиталистического аппарата угнетения, притом в его царистской форме; во всей буржуазной литературе нет ничего равного этому роману. Представители господствующего класса выведены здесь уже как банда подлых дураков, выполняющих свое предназначение с жестоким карьеризмом или тупым бездушием людей окончательно превратившихся в мертвые детали страшного и неумолимого пресса. Кроме свифтовского "Гулливера" нет, может быть, ни одного художественного произведения, где ирония по отношению к капитализму была бы злее. Самый способ изображения людей из господствующего класса становится у Толстого другим: они остаются такими же вылощенно-вежливыми, но это еще усиливает их внутреннее сходство со свифтовскими зловонными йэху.
Толстой изображает капитализм в его специфически-царистской форме. Это, однако, не уменьшает всемирного значения его произведений; напротив, жизненная насыщенность и конкретно-историческая правдивость только увеличивают силу их обобщения. Особо резкая форма, в которую выливается произвол в условиях самодержавия, есть только наиболее наглядный конкретный случай, сохраняющий, в своей основе, много черт, общих для всякого капиталистического государства. Это видно в эпизоде, где Нехлюдов обращается к одному из "йэху", одетых в генеральскую форму, с ходатайством об освобождении революционерки, заключенной в тюрьму. Hexлюдов нравится жене этого генерала; благодаря этому арестованная получает свободу. "Перед тем как уехать, уже в передней, Нехлюдова встретил лакей с запиской к нему от Mariette: "Pour vous faire plaisir, j'ai agi tout a fait contre mes principes, et j'ai intercede aupr.es de mon mari pour votre protegee. II se trouve que cette personne peutt etre relachee immediatement. Mon mari a ecrit au ommandant. Venez done бескорыстно. Jе vous attends. M."
— Каково? — сказал Нехлюдов адвокату. — Ведь это ужасно. Женщина, которую они держат 7 месяцев в одиночном заключении, оказывается ни в чем не виновата, и, чтобы ее выпустить, надо было сказать только слово
— Это всегда так…"[20].
Читатель "Воскресения" узнает не только об одном этом случае. С неистощимой силой воображения Толстой создает целый ряд различных человеческих судеб, на примере которых видно, насколько зависят они от личной прихоти, от личного произвола отдельных представителей, господствующего класса. Из суммы этих случаев слагается вся система, вся объективная, общая картина; но в любом из этих случаев уже видны основное назначение и основная сущность аппарата капиталистического государства — защита частной собственности господствующих общественных групп какими угодно — пусть жесточайшими — средствами.
Мир, изображаемый Толстым, приобретает все больше ужасающе косных черт. Щели, сквозь которые раньше пробивалась самостоятельность людей, почти все уже законопачены.
Константин Левин, мучаясь сомнениями, все же мог еще питатъ иллюзии о преимуществах сельской жизни, о гармонии интересов помещика и крестьянина; у Нехлюдова такая иллюзия уже не может зародиться. В творчестве позднего Толстого для человека не остается возможности найти себе свободную жизненную деятельность, хотя бы в частной жизни, в своей семье; ни для Николая Ростова, ни для Константина Левина бегство уже невозможно. В "Крейцероеой сонате" Толстой показывает "новейшие" формы любви и брака, т. е. ту ложь, то лицемерие, ту специфическую форму обесчеловечивания жизни, которые вносит сюда капиталистическое общество.
Толстой сказал однажды Горькому: "Человек переживет землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет трагедия спальни". Толстой выразил здесь свою мысль во "вневременной" и вечной форме, как он это делает почти всегда. Однако Толстой-художник много конкретней и историчней Толстого-мыслителя. Пусть его поздние изображения "постельной трагедии" продиктованы ложным аскетическим мировоззрением, — там, где оно воплощается в художественных образах, писатель выходит из рамок отвлеченной догматики и показывает реальные картины капиталистического брака, любви, проституции, показывает двойной гнет эксплоатации, давящий женщину.
Какая деятельность возможна в таком мире? Толстой знает и изображает жизнь, в которой для порядочного человека нет никаких путей.
Капитализм в России принял "азиатскую" форму; тем не менее, это был капитализм, и он приближался постепенно к общему типу развития капитализма. Поэтому жизненный материал, художественно обрабатываемый Толстым, становится все более похож на тот материал, который, отражаясь в западноевропейской художественной литературе, разрушил реализм и низвел его до уровня натурализма.
Конечно, в России, которую изображал Толстой, объективно существовала возможность подлинно человечной деятельности — для революционных демократов и социалистов. Но мировоззрение Толстого препятствовало ему писать об этой деятельности. Вместе с великими и могучими сторонами нарастающего крестьянского протеста в его творчество впитались половинчатость, отсталость, нерешительность, робость этого движения.
Толстой пишет ряд произведений, в которых, несмотря на реалистическую крепость деталей, действительность искажена ради доказательства того, что личное добропорядочное поведение не только возможно, но и оказывает большое воздействие на всю общественную жизнь ("Фальшивый купон" и т. п.). Но даже у позднего Толстого подлинное художественное величие проявляется именно в том, что он изображает явления реальной жизни с неподкупной правдивостью, независимо от того, подтверждают ли они его излюбленные мысли или разоблачают их полную несостоятельность. Так, напр., оставляя в стороне свои теории, Толстой вкладывает в уста Феди Протасова ("Живой труп") такие слова:
"Всем ведь нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора — только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь, Это мне было противно, может быть не умел, но, главное, было противно, второй — разрушать эту пакость: для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье: забыться, — пить, гулять, петь, — это самое я и делал. И вот доплелся" [21].
Невозможность личной активности, для людей, о которыx пишет Толстой, здесь выражена совершенно ясно.
В образе Нехлюдова Толстой попытался непосредственно изобразить силу добрых дел, творимых отдельными людьми. Но строгая правдивость Толстого привела его к созданию картины, существеннейшая часть которой отравлена горькой иронией. "Добрые дела" удаются Нехлодову лишь потому, что он "сам принадлежит к презираемому и ненавидимому эксплоататорскому классу, и в этих кругах к нему относятся как к добренькому дурачку, безвредному чудаку-филантропу; это дает ему возможность использовать свои семейные и дружеские связи с аристократами. Объективно его "добрые дела" — это малозначащие случайности, ничтожные перед жестокой принудительной силой общественного аппарата; они целиком зависят от любовных и карьеристских интриг людей, составляющих этот аппарат, и растворяются в этих интригах без остатка. Нехлюдов часто вынужден итти на такие поступки, которые порождают в нем и субъективное недовольство собой, презрение к себе; он поддается иногда соблазну спрятаться под маской лицемерия. А там, где Нехлюдов продолжает прежнюю толстовскую линию — линию неуверенных опытов Константина Левина, — он встречается с ненавистью и недоверием крестьян, которые в любом "великодушном" предложении помещика видят только новый утонченный обман.
Итак, Толстой изображает мир, в котором отношения между людьми и отношение людей к обществу очень близки к тому типу отношений, который изображали западные писатели-реалисты после революции 1848 г. Как всякого большого художника, его литературные формы суть формы отражения действительности в ее существенных общих и конкретных чертах. Почему же, несмотря на это неизбежное сближение с поздним буржуазным реализмом (хотя бы и видоизмененным), Толстой не только остался великим реалистом "старого стиля", но и сделал шаг вперед в развитии реализма?
Главное художественное различие между "старым" и "новым" реализмом состоит в различном подходе к изображению людей, в различном понимании типичности.
Чем была типичность в старом реализме?
Существенные определения какой-либо из крупнейших общественных тенденций воплощались в судьбах отдельных людей, чьи страстные стремления сталкиваются друг с другом; люди поставлены были в крайне напряженные, необычные положения, которые позволяют обнаружить последние выводы из данной общественной тенденции. Понятно, что такое произведение требовало оживленного и сложного действия, сюжета.
Бессюжетность, самодовлеющая роль описаний, замена типов "средними" людьми-все это признаки вырождающегося реализма. Но они пришли в литературу все-таки из жизни. Чем меньше могли писатели относиться к буржуазному обществу как к своему миру, тем труднее было им создавать полноценные сюжеты. Произведения, более или менее верно передающие существенные стороны общественной жизни, становятся почти бессюжетными; в противоположность им, романы или рассказы, сюжет которых построен с достаточной живостью и занимательностью, заполнены мелкими, общественно незначительным, внутренне бессодержательными событиями. Это, конечно не случайно, как не случайно и то, что немногие, действительно значительные литературные типы принимают в этот период форму портретов, скучно рисующих образы незаметных, обыденных людей; но и в образах выдающихся, на первый взгляд незаурядных людей сравнительно легко бывает распознать карикатуры на героев, — это пустые фразеры, велеречиво и бессодержательно критикующие капитализм или возвеличивающие его в еще более напыщенных и пустых речах.
Флобер очень рано понял, какие трудности стоят перед писателем в этот исторический период. Работая на "Мадам Бовари", он признается, что книга получается недостаточно интересной.
"Я заполнил около пятидесяти страниц, и там нет ни одного события. Это тягучее изображение буржуазной жизни и любви, лишенной активности; это любовь, которую тем труднее нарисовать, что она робкая и глубокая, но, к сожалению, без внутренних кризисов, так как у моего господина умеренный темперамент. Уже в первой части было нечто подобное: мой супруг любит свою жену немного похоже на то, как ее люфт у меня любовник; это две посредственности, принадлежащие к одной среде, но все же надо, чтобы они отличались друг от друга.." (Письмо к М-mе X. 15 января 1853 г.)[22].
Флобер, последовательный художник, шел этим путем до конца. Пользуясь как средством тонко расчлененными описаниями среды, утонченным анализом психологии своих скучных и посредственных персонажей, он пытался оживить безрадостную, бесцветную действительность, расцветить то, что в действительности: было написано серой краской на сером фоне. Эта попытка не могла удаться. Ведь так называемый "средний" человек потому и является посредственностью, что общественные противоречия, определяющие и его сущность, не только не обнаруживают в его душе всей своей резкой противоречивости, а, напротив, притупляют, заглушают друг друга и принимают обманчивую внешность статики, покоя. Отсюда и монотонность, неподвижность искусства, отображающего эту жизнь; Флобер признает эти недостатки, беспощадно открывает их и в собственном творчестве, но не видит других способов преодоления, кроме художественно-технических средств. А изощренность литературных приемов вызывает к жизни еще одно противоречие — между высоким искусством и неинтересностью, пустотой изображаемого предмета. Этот разрыв по временам доставлял Флоберу немало мучений. Но последующие, несравненно менее значительные западноевропейские писатели пошли еще дальше то тому же пути: они покрывают все более пышными словесными украшениями свои все менее живые, менее оригинальные фигуры, превращающиеся иногда в простые манекены.
Нет никаких сомнений в том, что объективное развитие русского общества и мировоззрение Толстого, эволюционирующее под его влиянием, толкали писателя к тому, чтобы образы людей в его произведениях все больше приближались к "средней" нивелированной личности. "Предустановленность" мира, в котором живут персонажи произведений Толстого, невозможность для них совершать поступки, действительно соответствующие их природе, — все это должно было в известной мере лишать их яркой типичности, которой обладают люди Бальзака и Стендаля, и сводить их к монотонной неподвижности.
Это ставило перед Толстым определенную художественную задачу, решать которую приходилось не только ему, но и всем его выдающимся современникам; вся русская литература второй половины прошлого века представляет собой новый этап в развитии высокого реализма. Общность в художественных поисках русских писателей определялась тем, что эпоха, в которой они жили, была чрезвычайно неблагоприятна для создания ярких и страстных характеров; общественные тенденции, которые привели западноевропейский натурализм к господству в нем "среднего" человека, все глубже и решительнее пронизывали русскую действительность. Писатели пытались найти такие художественные средства, которые помогли бы им создать человеческие образы, ясно выражающие сущность общественных сил, создать типы людей, возвышающиеся" над мутной обыденностью.
Величие русских писателей-реалистов заключается в том, что их попытка в значительной мере увенчалась успехом; они нашли глубокие общественные тенденции спрятанные под внешне безразличной оболочкой повседневной жизни, и, доведя их до логического предела, создали типы, отражающие существенные стороны современной жизни.
Самым важным, художественным средством, побеждающим обыденщину, было создание крайних ситуаций, какие только возможны в повседневной жизни. Эти ситуации основаны на таком общественном содержании, которое не уничтожает узких рамок серой действительности; напротив, столкновения с преградами, поставленными действительностью, с особенной силой заставляют почувствовать всю их жестокость. В то же время ситуации эти не притупляют общественных противоречий, а помогают им выявиться во всей полноте.
Истории, которые рассказывает Толстой, очень часто не отличаются ни одной своей внешней чертой от обыденной жизни. Но основой для этих рассказов он делает такие ситуации, ставит в центр всего повествования такие положения действующих лиц, что они сами то себе, силой простого своего существования, разоблачают ложь обыденщины и "срывают все и всяческие маски".
Еще раз укажем на повесть "Смерть Ивана Ильича Толстой берет жизнь обыкновеннейшего бюрократа; это позволяет ему сделать особенно резким контраст между бессмысленной, наполненной пустяками жизнью и голым фактом неизбежной смерти и, тем самым, вскрыть всю пустоту и бессмысленность буржуазного существования. Рассказ нигде не выходит из рамок обыденной жизни и я то же время дает глубокое изображение общества.
Вопрос о различной роли деталей у Толстого и западноевропейских его современников сводится к той же основе! Толстой приводит множество отдельных черт, замеченных им в действительности, и, тем не менее, его произведения никогда не распадаются на мелочи. Толстой придает большое значение описанию внешности своих героев, описанию внешних форм, событий, вызывающих или сопровождающих изменения в душевной жизни людей. Однако у него никогда нет такого "психо-физиологического" бездушия, которое характерно для большинства современных ему европейских реалистов.
Детали у Толстого многочисленны и всегда составляют органическую часть действия. Неизбежным следствием этого является разложение сюжета на мелкие, внешне незаметные, непрерывно следующие один за другим моменты. В каждом из них одна какая-нибудь деталь имеет первостепенное значение и даже играет роль носителя действия. Если острота положения заключается не только в его сущности, но в крайне острой форме выражения, то действие может быть разделено на ряд драматически связанных между собой поворотных моментов (как у Бальзака). Сами эти поворотные моменты могут быть намечены с такой сжатостью, которая приблизит повесть пли роман к форме драны. Но крайнее, предельные положения у Толстого бывают крайне острыми только внутренне, в возможности. Шаг за шагом, от минуты к минуте, то нарастая, то опадая, движется под покровом повседневности драматическое развитие жизненных противоречий. Только в этой форме может быть передана своеобразная интенсивность положений, создаваемых Толстым. Тщательность, с которой описаны все детали умирания Ивана Ильича, — это не натуралистическое описание телесного распада (как, например, описание самоубийства Эммы Бовари), но большая душевная драма, в которой приближение смерти, именно своими ужасающими подробностями, срывает одну за другой все маски с беспросветно-пошлой жизни Ивана Ильича и представляет эту жизнь во всей ее пустоте. Настолько пошла и лишена внутреннего движения жизнь Ивана Ильича, настолько же, в художественном смысле, содержателен и полон напряжения процесс ее разоблачения.
Разумеется, Толстой пишет не только так. В его творчестве много образов и ситуаций, которые доведены до предела и внутренне и внешне; там, где жизненный материал представляет только такие крайности, Толстой ищет и соответствующие темы. Но его художественный темперамент восстает как против обыденщины, так и против патологических выходов из нee. В тех случаях, когда это возможно, Толстой создает заостренные положения, соответствующие духу старого высокого реализма. Герои, действующие необычно, совершающие необычные поступки, идут, в сущности, тем же жизненным путем, что и другие, им подобные люди; отличие их лишь в том, что они идут до конца, без робости, компромиссов и лицемерия. Пример такой творческой линии у Толстого — судьба Анны Карениной. Анна Каренина живет в браке с нелюбимым мужем, навязанным ей общественными условностями, у нее есть страстно любимый человек. Такой же жизнью живет большинство женщин ее круга. Однако Анна идет своим путем до конца, без оглядки, не думая о последствиях, не позволяя себе утопить мучительные противоречия своего положения в болоте повседневности. Толстой многократно подчеркивает: Анна — вовсе не исключение, она делает то же, что и другие женщины. Но банальные светские дамы (например, мать Вронского) возмущаются: "Нет, как ни говорите, дурная женщина. Что это за страсти какие-то отчаянные! Ведь все что-нибудь особенное доказать" [23]. Обычный буржуа останавливается в недоумении перед трагедией, порожденной теми противоречиями жизни, которые не оборачиваются трагедией для него самого только потому, что трусость и пошлость заставляют его везде находить унизительные компромиссы.
Обывательницы из высших кругов русского дворянства судят об Анне Карениной так же, как обывательницы из французской аристократии судят у Бальзака о виконтессе Босеан. Есть несомненное сходство в основном художественном смысле этих фигур, в глубокой верности, с какой изображена в обоих случаях сильная индивидуальность. Но эта родственность еще больше оттеняет различие между Бальзаком и Толстым, представителями двух различных этапов в развитии реализма.
Бальзак изображает обе катастрофы в любовной жизни Босеан (см. "Отец Горио" и "Покинутая женщина") с величайшей драматико-новеллистической страстью. Внимание его при этом направлено именно на катастрофы. В истории первой любовной трагедии, которую переживает Босеан, показан только самый момент катастрофического изменения ее судьбы. Во втором случае Бальзак довольно подробно описывает возникновение новой любви, но катастрофа разражается и здесь "внезапно", с той же новеллистической и драматической сжатостью — конечно, этим отнюдь не снижается присущая произведениям Бальзака внутренняя правдивость. В противоположность Бальзаку Толстой с величайшим вниманием следит за всеми этапами развития любовных отношений между Анной и Вронским — от первой встречи до разрыва. Он гораздо эпичней Бальзака в классическом смысле слова; даже главные повороты, катастрофические перипетии в судьбах любящих включены всегда в широко-эпический план и лишь в очень редких случаях выливаются в остро-драматическую форму. Эпический характер основной линии романа подчеркивается меньшей драматичностью побочного сюжета — судьбы Левина и Китти.
Своеобразная, великолепная реалистическая трактовка деталей служит одним из основных средств художественного изображения. Любовное сближение и отчуждение Толстой изображает, как живой, непрерывный процесс. Но этот процесс отчетливо расчленен, и вы можете ясно различить узловые пункты его изменения. Такие "узлы" почти никогда не могут быть драматичными по внешности, часто они проходят как бы никем не замеченные; тем не менее, в них заключены события, действительно влияющие на судьбы людей. Поэтому, чтобы понятна была их значительность, из потока душевной и телесной жизни героев выделяются незначительные на первый взгляд черты, которые поднимаются силой обстоятельств до подлинно драматического значения. Например, Анна — после бала в Москве, после разговора с Вронским на Петербургском вокзале — "внезапно" замечает, глядя из окна вагона, как оттопырены уши у Каренина. Еще пример. Умирание любви Вронского к Анне вызывает горькие и злобные споры между ними, кончающиеся обычно примирением. Но неизбежность разрыва обнаруживает себя "внезапно", в маленькой, на поверхностный взгляд, детали. "Она подняла чашку, отставив мизинец, и поднесла ее ко рту. Отпив несколько глотков, она взглянула на него и по выражению его лица ясно поняла, что ему противны были рука и жест, и звук, который она производила губами"[24].
Такие детали драматичны в глубочайшем значении этого слова: это видимые, страстно переживаемые воплощения поворотных моментов в душевной жизни человека. Поэтому в них нет той мелочности, какой запечатлены пусть даже очень тонко и точно наблюденные детали "новейших" писателей, у которых детали играют самодовлеющую роль, не участвуя в развитии действия, искусство Толстого, своеобразная манера, с какой он концентрирует развитие в определенных моментах, позволяют вводить внутренне напряженные драматические сцены широкое и плавное течение повествования. Они оживляют течение, расчленяют поток, но не препятствуют его спокойному движению.
Эпический, характер романа, в значительной степени утраченный на драматико-новеллистическом этапе развития этой литературной формы в начале XIX в (Бальзак), с необходимостью вытекает из жизненного материала, который Толстой находит в действительности и из существеннейших черт которого кристаллизуются его основные формальные принципы.
В произведениях Толстого, как и в произведениях бо-лее ранних реалистов, отражается большой исторический переворот; однако же, с точки зрения изображаемых персонажей, он проявляет себя только в опосредованной форме.
Человеческие образы старых реалистов непосредственно представляли могучие силы, решающие тенденции и противоречия буржуазной революции. Их индивидуальные страсти были непосредственно связаны с проблемами этой революции. Такие образы, как Вертер у Гете или Жюльен Сорель у Стендаля, очень ясно обнаруживают связь между личными страстями и общественной необходимостью, они показывают общественное значение именно этих индивидуальных страстей, как формы выражения общественных тенденций.
Особенности русской буржуазной революции, охарактеризованные Лениным, отношение Толстого к центральному вопросу буржуазной революции — крестьянскому вопросу- закрыли для Толстого возможность такого непосредственного изображения общественной борьбы в духе бальзаковского реализма. Мы знаем, с какой глубиной и совершенством создавал иногда Толстой образы крестьян; но неизбежным следствием его отношения к крестьянскому движению было то, что его лучшие произведения посвящены, в основном, отражению "крестьянского вопроса" в жизни господствующих классов, помещиков и земельных капиталистов. Эта тематическая форма неизбежно должна была стать еще одним моментом, связывающим Толстого с "новейшим" реализмом.
После того как в Западной и Средней Европе буржуазно-революционное движение в основном замерло и центром общественных противоречий стало противоречие между пролетариатом и буржуазией, писатели-реалисты, ограниченные буржуазным мировоззрением, могли отражать только отблески этой главной проблемы своего времени. Если это были выдающиеся писатели, они наблюдали и описывали, какие духовные движении, какие типы связей между людьми, какой строй мышления и характеров вырастает на почве капиталистических общественных отношений. Но так как в большинстве случаев эти "писатели не понимали проблемы, объективно лежащей в основании тех человеческих отношений, которые они изображали, так как они большей частью отрицали ее значение или игнорировали ее, то эти писатели иногда сознательно, а чаще бессознательно лишали создаваемые ими человеческие конфликты общественной, т. е. подлинно объективной основы Вследствие этого они должны были — хотя бы и не сознавая этого — затемнять в характерах и в фабуле важнейшие, решающие общественные черты, лишать свое литературное произведение большого исторического фона и заменять его "социологическим" или импрессионистическим описанием "среды". Уничтожение общественно-исторического фона вынуждает "новейших" реалистов к определенному типу человеческих образов. Обычно это заурядные фигуры, списанные с буржуазной действительности, т. е. лица, в характерах которых объективные общественные противоречия отражаются в притупленной, иногда до неузнаваемости выродившейся форме. Если же писатель хочет отрешиться от серой обыденщины, он ищет острых жизненных проявлений в чисто индивидуальных страстях и создает эксцентричные или (когда делается попытка психологического углубления) патологические образы.
Выше, в связи с кратким анализом "Анны Карениной", было упомянуто, что изображению страстей у Толстого его манере поэтического преувеличения такая дилемма совершенно чужда. Страсть Анны Карениной так содержательна и ярка не оттого, что ее чувство патологически раздуто и, вследствие этого, превосходит обычную, нормальную индивидуальную страсть; ее сила и выразительность в том, что она с удивительной ясностью выявляет противоречия буржуазного брака, буржуазной любви. Поступки Анны, выходящие из рамок обыденного, заставляют выйти на свет и обнаружиться с трагической отчетливостью те противоречия, которые в скрытой и притупленной форме таятся в каждом буржуазном браке.
Форма, в которой изображены страсть и вся судьба Анны Карениной, не является, однако, у Толстого постоянной или хотя бы преобладающей при изображении других персонажей, Образы людей из господствующих классов, судьбы этих людей представляют собой у Толстого функцию их отношений к эксплоатации крестьянства. Толстой показывает это все более и более сознательно. Как строится жизнь человека, базой которого является выжимание земельной ренты, эксплоатация мужика? Какие общественные проблемы возникают для каждого из людей, живущих на такой общественной основе? Эти вопросы образуют исходную точку художественной работы Толстого.
Как действительно большой художник и достойный последователь величайших реалистов прошлого Толстой видит сложность возникающих здесь связей и никогда не довольствуется вскрытием одних только непосредственных отношений между эксплоататорами и эксплоатируемыми. Его гениальность заключается в том, что любую сложную, противоречивую личности он воспринимает как некое единство и показывает, что основой, объединяющей все разнородные индивидуальные черты, является oбщественное положение человека, его принадлежность к эксплоататорскому, паразитарному слою. С огромным реалистическим мастерством и художественной убедительностью Толстой показывает — и не столько в аналитических комментариях, как в чувственных образах — связь между паразитарным бытием человека и отдельными чертами его характера, даже, казалось бы, очень далекими от его экплоататорской деятельности. Толстой находит эти специфические общественные черты везде: в том, как человек рассуждает по поводу самых отвлеченных вопросов, как он любит, что ему нравится в искусстве и. т. д.
Вследствие этой удивительной конкретности, Толстой никогда не схематизирует ни общественные отношения, ни их психологическое отражение. С одной стороны, он точно отличает помещика крупного от мелкого помещика, который сам управляет своим имением, от помещика, который туда и не заглядывает, а просто тратит ренту, не задумываясь, откуда она получается. Толстой отличает помещиков от бюрократов или интеллигентов, выросших на основе феодально-буржуазного землевладения и живущих отчасти или полностью на земельную ренту, уделяемую им помещиками. С другой стороны, Толстой показывает, как одна и та же социальная причина различно проявляется в различных людях, в зависимости от их природных склонностей, воспитания п т. д., - поэтому судьбы его персонажей, классово близких друг к другу, как индивидуальны и разнообразны.
Сила толстовского реализма состоит, таким образом, в том, что Толстой изображает чрезвычайно сложный и расчлененный мир, его запутанное и неравномерное раз-питие, и все же никогда не заслоняет обилием разнообразных и разнородных явлений тот общественно-исторический фон, который определяет собой единство человеческих судеб, единство всего многоцветного мира отдельных общественных явлений. В реалистической картине, написанной Толстым, всегда видна связь всех человеческих характеров с развитием общества в целом; именно это поднимает мир, в изображении Толстого, над обыденным уровнем. Отсюда в сочинениях Толстого и то богатство, то естественное, органическое единство каждой человеческой личности и ее судьбы, которое так близко к "старым", великим реалистам и так чуждо реалистам "новым", измельчавшим, с их нагим схематизмом и бедностью, которую не может скрыть излишество разрозненных и малозначащих деталей.
Создание типов на основе больших страстей и решительных поступков, представляемых хотя бы только как возможные, — это и есть тот конкретный способ, посредством которого Толстой преодолевал, невыгоды, заключающиеся в таком материале, как паразитарная жизнь буржуазно-помещичьего общества. Противоречия, даже самые резкие и решающие, очень редко выражаются в этой среде в своей крайней, адэкватной форме — притом это случается тем реже и слабее, чем более непосредственно тот или иной душевный конфликт связан с отношениями эксплоатации; а ведь именно отражение отношений в жизни людей из эксплоатирующих классов составляет одну из важнейших тем Толстого.
В сочинениях об искусстве Толстой указывает, что наиболее характерная черта современного искусства — это "недовольство жизнью". Это определение приложимо также и к его собственным художественным произведениям. Но здесь важно отметить, что недовольство жизнью всегда объясняется у Толстого тем, что паразитарная жизнь неизбежно приводит всякого человека, если только он не окончательный, подлец или дурак, к внутреннему разладу с самим собой и разладу со своей средой.
Это чувство неудовлетворенности Толстой превращает в действие, пользуясь, так сказать, методом предельных возможностей. Пьер Безухов и Андрей Болконский, Левин и Нехлюдов ищут такой общественной деятельности которая дала бы им жизненную гармонию, привела бы в соответствие их взгляды и поступки; при этом они обнажают противоречие между своим стремлением к гармонии, к адэкватной деятельности и общественной основой их жизни. Противоречия эти бросают героев Толстого из одной крайности в другую. Но так как Толстой, с одной стороны, выбирает себе героев из числа субъективно честных представителей господствующих классов, а с другой стороны, не хочет и не может приводить их к разрыву с их классом, то все душевные колебания героев происходят только внутри жизненного круга господствующих классов. Обнаруживаются предельные возможности, намечаются крайне решительные поступки, они взвешиваются со всей серьезностью, предпринимаются даже шаги к их осуществлению; но еще до того, как поступок совершен, выступают противодействующие тенденции; частью это те же противоречия, но на следующей ступени, где более глубоко вскрывается их содержание, частью же это попытки найти компромисс с действительностью. Таким образом, возникает непрестанное движение, оно выявляет существеннейшие стороны жизненного строя во всем их разнообразии, но лишь в крайне редких случаях приводит к подлинно драматическому повороту, к резкому нарушению предшествующего состояния. Живость, внутреннее богатство персонажей Толстого зависят от того, что перед ними вновь и вновь брезжат предельные возможности, но они не достигаются никогда, и боль, причиняемая расхождением самосознания и бытия, никогда не унимается.
Предельные возможности всегда вскрывают у Толстого жестокость противоречия между общественным бытием, сознанием. Они всегда тесно, хотя и не всегда непосредственно, связаны с глубокими проблемами русского общественного развития. Это имеет очень большое художественное знамение. Герои Толстого ищут для себя выхода робко, ощупью и всегда тщетно; они не способны делать решительные поступки и безвольно отказываются от намерений, которые едва только начали исполнять; и все-таки их никогда не захлестывают банальность и мелочность, в которых тонут герои западноевропейского натуралистического романа, изображенные только как "частные" люди. Огромное богатство литературного мира Толстого проистекает из удивительной широты, с которой им показано отражение основных общественных противоречий в любых, даже самых интимных, сторонах жизни отдельных людей. Правда, герои толстовских произведений разделяют предрассудки своего создателя и верят в возможность отрешения от общественной жизни; но, изображая катастрофы частной жизни в связи с такими бессильными и заранее обреченными на неудачу попытками, Толстой возвышает "частные" мысли и поступки своих героев до подлинно общественной значительности.
Лев Толстой отличается от предшествующих ему великих реалистов своим чрезвычайно своеобразным способом художественной обработки действительности. Можно сказать, что Толстой возвращает роман, прошедший новеллистически-драматическую фазу у Бальзака, к его изначальной, собственно эпической форме. Движение вперед и вспять внутри определенного и общественно строго ограниченного жизненного круга — как бы ни было оживленно такое движение — дает романам Толстого эпическое спокойствие и единство, какие не были возможны в романах Бальзака.
Гете (в "Вильгельме Мейстере") проводит такое различие между романом и драмой: "В романе должны изображаться по приемуществу настроения, душевные состояния, события, в драме — характеры и поступки; роман должен двигаться медленно, и мысли главного героя, во что бы то ни стало, должны сдерживать стремление целого к развитию. Драма же должна спешить, и характер главного героя — стремиться к концу, и только быть сдерживаемым. Герой романа должен быть пассивен; во всяком случае, он не должен быть деятельным в высокой степени. От драматического героя требуются действия и поступки" [25].
Это определение достаточно характеризует "Вильгельма Мейстера", но относится уже гораздо меньше к позднейшему "Избирательному сродству", и конечно, еще меньше к романам великих французских реалистов. В приложении же к романам Толстого это определение может служить довольно точным описанием их стиля; при этом не следует думать, будто, противопоставляя душевное состояние характеру, Гете понимал настроение как неясное, расплывчато-эмоциональное изображение человека, растворение его образа в "среде", которая дает изображенному некий "колорит". "Вильгельм Мейстер" сам по себе показывает, как далек был Гете от такого взгляда на роман. "Настроение" и "характер" означают здесь различные степени сосредоточенности, сгущенности в способе изображения. "Настроение" — это большая, почти необозримая широта изображения духовной жизни, огромное богатство черт, противоречивых, на первый взгляд не объединяемых одной общественной тенденцией и образующих органическое и внутреннее подвижное единство, благодаря общему направлению всех стремлений человека направлению его духовно-морального саморазвития. В противоположность такому способу изображения, драматический характер — это сосредоточение существеннейших общественных противоречий и одной сильной, напряженной страсти, взрывающихся в катастрофе или ряде катастроф, дающих в максимально сжатой форме всю содержательность и разнообразие изображаемой жизни, После того, что было сказано выше, не требуется долгих разъяснений, чтобы понять, как близка эпичность романов Толстого к идеалу Гете.
Отличие Толстого от великих реалистов XIX в. выражается, быть может, яснее всего в том, как Толстой изображает духовную, нравственную жизнь людей, т. е. — интеллектуальном облике его персонажей. Интеллектуально-нравственная жизнь играет решающую роль в образах людей, создаваемых Толстым; он является и в этом отношении достойным последователем великих реалистов. Но способ изображения этой жизни у него своеобразный и весьма отличный от более ранних реалистов.
Большие диалоги у Бальзака (а иногда также у Стендаля) — это идейные дуэли, ярко освещающие духовный облик их участников. В этих диалогах извлекается интеллектуальная квинтэссенция из больших общественных проблем; эти диалоги решающим образом влияют на судьбы людей. Вотрен и Растиньяк спорят о морально-общественных проблемах. Их разговоры опираются, конечно, на жизненно-драматические события, эти последние служат исходным пунктом спора; но зато и сами они получают в процессе спора истолкование, показывающее их общее значение. Ряд таких разговоров, все вновь и вновь возобновляемых и углубляющих тему, приводит к полному и бесповоротному изменению судьбы Растиньяка.
У Толстого даже самые длинные и важные разговоры и монологи не могут иметь такую функцию. Они только освещают — всегда с удивительным мужеством и остротой мысли — те предельные возможности, вокруг которых идет развитие героев. Таковы, например, разговоры Константина Левина со своим братом (и позднее с Облонским) о том, справедлива ли частная собственность, и о духовно-нравственном обосновании единства помещичьих и крестьянских интересов, которого хочет достигнуть Левин. Эти разговоры не могут привести к драматическому повороту в жизни, так как ни решительный разрыв с частно-собственнической системой, ни превращение в бессовестного эксплоататора, удовлетворенного таким положением, не принадлежат к общественно-человеческим возможностям Левина. Но в споре освещается острота центральной проблемы, выясняется самое больное место в жизни и взглядах Левина. Здесь обнаруживается центр, вокруг которого вращаются мысли и чувства Левина в каждый момент его жизни: когда он любит, когда он отдается наукам или, в привычном кругу, бежит от жизни. И более общем смысле- это все же поворотные моменты жизни героя, поднятые на большую высоту абстракции, но форма их очень своеобразна. Они ясно и точно показывают предельные возможности человека и его особый нравственно-общественный склад, но сами не претворяются в действительность, не переходят в поступки, в действие, и остаются навсегда только неосуществленной возможностью. В то же время это никогда не бывает абстрактно-надуманной возможностью, но всегда вполне конкретной, центральной жизненной проблемой определенного человека.
Значение этих высказанных мыслей, этих интеллектуальных проявлений общественной жизни персонажей в романах Толстого диаметрально противопоставляет великого русского писателя новейшим западным реалистам. Известно, как бедна умственная жизнь их героев, как неясен их интеллектуальный облик. Причина этого порока понятна: если в изображении судеб отдельных людей основные общественные противоречия затушеваны и притуплены, то невозможным становится и подлинно глубокое изображение духовной жизни этих людей. Диалог или монолог на абстрактные, философски значительные темы может быть художественно живым и конкретным лишь в том случае, когда он содержит в себе cпецифическую абстракцию специфического общественного противоречия в сознании определенного человека. Если этого нет, то перед вами только абстрактный гарнир. Поэтому, конечно, вовсе не случайно, что, западноевропейские писатели времен упадка реализма старательно избегают значительных диалогов и не позволяют своим героям выражать мысли, поднимающиеся над уровнем повседневных обывательских разговоров. Эти писатели отражают, таким образом, "штампованность", "предустановленность" капиталистического мира. В этом "штампованном" мире мысли и выражение мыслей среднего человека превращаются в скучную и вечно повторяющуюся рутину.
Естественно, что и Толстой, давая широкую картину капиталистического мира, не мог обойти стихию обывательских разговоров. Уже в "Войне и мире" есть много диалогов, не имеющих другой художественной цели, кроме изображения пустопорожней рутины общественной жизни в "высшем свете". Но, как мы уже видели, у Толстого это только одна сторона жизненной картины. Ироническое подчеркивание механического функционирования официальной общественности (Толстой неоднократно сравнивает разговоры светских людей с работой прядильной машины) образует сатирический контраст с живыми душевными движениями других персонажей и подчеркивает их свободный и существенный характер. Кроме того, Толстой заставляет своих героев, свободных от рутины (Пьера Безухова, Константина Левина), вмешиваться в такие разговоры и своей "неуклюжей" повадкой рвать прочно спряденные нити.
Всякий раз, когда сходный жизненный материал, то видимости, сближает Толстого с буржуазным реализмом новейшей формации, тотчас же обнаруживается и художественная противоположность Толстого этому литературному течению.
Здесь нужно, однако, подчеркнуть еще некоторые моменты родства и различия.
Большие диалоги у старых великих реалистов всегда возникают в чрезвычайно конкретных жизненных обстоятельствах. Но они так круто взлетают на огромную драматическую высоту, что внешние обстоятельства и среда могут лишь в очень малой мере быть включены в самый разговор. Драматическая острота положения, драматическая конкретизация характера персонажей в их собственных высказываниях — все это делает почти излишним вплетение в разговор каких бы то ни было внешних обстоятельств.
У позднейших реалистов обстоятельства мгновенные и внешние, случайные и преходящие чуть совсем не затопили действительного содержания разговоров. Чем эти разговоры тривиальнее, чем они ближе к пошлой обыденщине, тем более становится необходимым перемежать их мимолетными наблюдениями и мелкими фактами из быта окружающей среды, чтобы придать им хотя бы внешнюю, поверхностную оживленность.
Большие разговоры в произведениях Толстого, по внешней форме своего выражения, всегда строго связаны с тем определенным местом и временем, где они происходят. Даже внешние признаки случайного места и случайного времени вторгаются в разговор: вспомните, например, о разговоре Левина с Облонским в риге, после охоты. Но эта конкретность внешних обстоятельств, никогда не упускаемая из виду, не бывает у Толстого простым средством для поверхностно-эмоционального оживления. Конкретность и "случайность" обстоятельства подчеркивают, например, в эпизоде, о котором мы напомнили, что речь идет о длительном и жизненно важном для Левина вопросе, который все время присутствует в его мыслях, беспокоит его и каждую минуту может вылиться в признание, в разговор. Конкретная обстановка подчеркивает одновременно случайный и необходимый характер мыслей Левина, высказанных им так неожиданно.
Бальзаковские диалоги должны быть всегда доведены до конца, так как только завершение развиваемой в них мысли может вызвать и обосновать реальный драматический поворот. Диалоги современных западных реалистов, по большей части, не имеют ни начала ни конца. Это именно случайно выхваченные куски, отрезки жизни, отъединенные и бессвязные в художественном значении этого слова.
Диалоги у Толстого только на первый взгляд обрываются случайно. В действительности они с удивительным умом и художественной проницательностью доводятся как раз до того момента, когда человек с беспощадной точностью постигает мучащее его противоречие в его чистой форме и устанавливает для себя его неразрешимость. Разговор, который, невидимому, начался по случайному поводу, доходит до этой высшей точки и теперь- тоже, казалось бы, случайно — обрывается и умолкает. Но он уже выполнил свое назначение, которое ведь в том только и состояло, чтобы пролить свет на определенную "предельную возможность". Разговор должен был вращаться вокруг специфического центра, но вовсе не должен был привести к действительному перелому.
Таким образом, случайный повод и случайное прекращение разговора у Толстого — тоже моменты эпического стиля. Высказывания или размышления людей вытекают из равномерного потока жизни и возвращаются в него после того как показано, что скрывается и беспрерывно движется под его спокойной поверхностью. Так создает Толстой новые элементы художественной формы, которые способны поднять до peaлистической эпичности даже враждебный искусству жизненный материал.
7
Увеличение подвижности и гибкости в развитии сюжета и характеристике персонажей — один из наиболее существенных и новых моментов, внесенных Толстым в старые реалистические традиции. Внешне такая подвижность часто напоминает литературную манеру западноевропейских реалистов второй половины XIX в., и это обстоятельство чрезвычайно способствовало быстрому успеху Толстого в западных странах; но функция этой формы у Толстого прямо противоположна тому значению, которое имеют сходные с ней черты в "новейшем" реализме. Там это признаки разрушения больших реалистических форм; у Толстого же это элементы их дальнейшего развития, реалистического углубления.
Толстой хорошо знал и пристально изучал произведения своих западных современников; однако, его художественные тенденции формировались отнюдь не под их влиянием. Чернышевский понял своеобразие Толстого уже в 60-х годах, как только появились первые произведения этого писателя, в которых его литературные особенности, его специфическое направление были еще только в зародыше. Чернышевский писал о преобладающем интересе Толстого к внутреннему психологическому процессу, к тому, как одна мысль вырастает из другой.
"Психологический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту. Но обыкновенно он имеет, если можно так выразиться, описательный характер, — берет определенное, неподвижное чувство и разлагает его на составные части, — дает нам, если так можно выразиться, анатомическую таблицу"[26].
Произведения великих писателей изображают иногда драматический переход "одного чувства в другое, одной мысли в другую. Но обыкновенно нам представляются только два крайние звена этой цепи, только начало и конец психического процесса… Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не ограничивается изображением результатов психического процесса, — его интересует самый процесс…"
Насколько сам Толстой знал эту свою особенность, так рано схваченную Чернышевским, и насколько сознательно развивал он ее в позднейший период творчества, показывает следующее место из "Воскресения":
"Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр; чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода везде одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем непохож на себя, оставаясь все, между тем, одним и самим собою"[27].
Подобные же возражения против слишком прямолинейной концепции человеческих характеров, против мнимой упрощенности и неподвижности их изображения старой реалистической литературе можно встретить и у многих современных натуралистов. Но, когда двое говорят похожие или даже одинаковые слова, это еще не значит, что они говорят одно и то же.
Протест современных Толстому натуралистов против неподвижности, негибкости характеров выражал их тенденцию, направленную против создания определенных характеров вообще.
Художественный образ человека может получить индивидуальную определенность только в том случае, когда персонаж взят в развитии, в активном взаимодействии с активным внешним миром. Если же статичное описание персонажа включено в косную среду, то основные качества и свойства его характера могут быть только названы, но ее изображены. Другими словами, в этом случае нет художественного средства, которое позволило бы отделить существенные черты характера от преходящих состояний так, чтобы различие между ними содержалось в самих образах, а не в поясняющих описаниях. Поэтому, когда натуралисты возражали против легковесных. "приемов" (каковы, например, повторяющиеся словечки, жесты и т. п.), которыми писатели хотят иногда добиться постоянства, единства характера, они были во многом правы и, во всяком случае, последовательны. Но до конца последовательные натуралисты, отказываясь от таких уловок, сами вынуждены, по причине статичности своего подхода к изображению людей, дробить характеры, превращая их в хаос мимолетных настроений.
Совсем другое мы видим у Толстого. В драматическом, бальзаковском смысле характеры у него не развиваются; но их движение в реальных жизненных условиях, их конфликты с внешним миром дают им отчетливый и крепкий контур. В то же время определенность, которую они, таким образом, получают, не так однозначна и линейна, как у человеческих характеров в изображении старых реалистов.
Действие в романах Толстого идет по кругу, центр которого образуют неосуществимые вполне, но всегда существующие предельные возможности; при этом каждая фигура имеет конкретное пространство, конкретный объем, в котором происходят движения ее чувств и сознания. Толстой изображает мгновенные, преходящие душевные состояния персонажей, он делает это с неменьшей тонкостью и точностью, чем любой из наиболее одаренных "новых" реалистов. Но образ никогда у него не распадается при этом на множество отдельных легковесных настроений, так как все они охватываются тем кругом, за пределы которого не могут выйти никакие душевные движения данного человека.
Таков, например, Константин Левин. Иногда он склоняется к реакционному консерватизму, иногда ему кажутся неопровержимыми аргументы против частной собственности на землю и недра; но обе эти полярности представляют собой пределы его мышления, своеобразного строя его мыслей, направленных на выяснение основной проблемы его эпохи и решение жизненного вопроса, главного для самого Левина. Компромисс, которого ищет Левин, находится где-то между этими полюсами. Поэтому, как ни велик размах его колебаний, они не только не делают облик Левина неопределенным, не превращают образ Левина в груду разнородных настроений в духе "нового" реализма, но рисуют точно и содержательно тот зигзагообразный путь, которым должны были итти, не могли не итти люди, подобные Константину Левину. Как мы уже видели, Толстой никогда не изолирует друг от друга отдельных проявлений личности своих персонажей: например, отношения Левина к его братьям, жене, друзьям теснейшим образом связаны с его отношением к основной жизненной проблеме. Поэтому колебания Левина делают его облик детальнее и разнообразнее, отнюдь не стирая линий, которыми он очерчен.
Изображение мыслей, настроений и чувств как определенного "объема" мыслей, настроений и чувств позволяет Толстому давать удивительно богатую и поэтическую противоречивую и изменчивую — картину отношений между людьми.
Толстой не вкладывает, например, в уста Дарьи Облонской окончательного суждения "приличной женщины" о "прелюбодейке" Анне Карениной. Он описывает, однако, с величайшей подробностью все перемены в настроении Дарьи Облонской по дороге к имению Вронского, во время пребывания там и на обратном пути. Ее настроение переходит в задумчивость, в отрывочные мысли, в сомнения по поводу ее привычных взглядов на жизнь, и эти мысли движутся от зависти к блестящей и свободной жизни Анны, столь не похожей на домашнее рабство Дарьи, к решительному отрицанию того образа жизни, который ведут Анна и Вронский. Одновременность и смена этих мыслей и настроений создают правдивую и полную картину определенных человеческих взаимоотношений с индивидуальной и общественной точек зрения. Толстой с огромной правдивостью и точностью находит границы тех настроений, которые возможны и неизбежны для того или иного человека и в своей совокупности характеризуют его.
Богатство и живость толстовского мира покоятся в очень большой степени именно на том, что в отношения любых двух лиц друг к другу каждое имеет свой особый конкретный мыслительный и эмоциональный круг. Каждая связь, каждое отношение приобретают поэтому глубокую изменчивость и внутреннюю подвижность (вспомните хотя бы дружбу Пьера Безухова с Андреем Болконским), не повреждая при этом четкого и ясного контуpa, которым очерчены особенности каждого из персонажей.
Это богатство, эта живость возрастают еще oттого, что и границы душевной жизни людей Толстой не представляет как застывшие и неизменные навеки. Толстой показывает, как в соответствии с изменением внешних обстоятельств, в соответствии с внутренним ростом или распадом характера объем душевной жизни расширяется или сужается, а иногда даже, освобождаясь от старого, принимает другое, совершенно новое содержание. Но так как Толстой всегда показывает последовательность, преемственность этих перемен, и мы всегда видим и чувствуем, почему и как изменяется душевная жизнь человека (благодаря тому, что при всех переменах сохраняется ряд существеннейших общественных и индивидуальных определений характера), мир Толстого от этого только обогащается, рисунок его образов становится от этого только более тонким и детализованным, нисколько не теряя своей определенности.
Такой способ изображения характеров — значительный шаг вперед в развитии реализма. Разумеется, тенденция к нему видна уже в произведениях старых великих реалистов; если бы ее не было, образы людей неизбежно приобрели бы в них неподвижно-мертвенные черты. Таким образом, у Толстого были в этом отношении предшественники. Но все дело в том, какое значение имеет такой способ изображения характеров в творчестве того или иного писателя. У старых реалистов, особенно в романах, написанных в драматико-новеллистической манере, изображение "объема" душевной жизни персонажа представляет собой, в известной мере, аксессуар; с другой стороны, вся жизнь персонажа протекает в одном определенном пространстве. Отдельные колебания и душевные движения людей внутри этого ограниченного пространствa изображаются в то же время с драматической решительностью и внезапностью, с драматической однолинейностью. Вспомните, например, такую колеблющуюся фигуру, как Люсьен де Рюбампре, и вы увидите, с какой стремительностью, не выходя из своего прежнего духовного крута, он поддается влиянию Вотрена или принимает решение лишить себя жизни.
Новое, внесенное Толстым, состоит в том, что способ характеристики, о котором мы говорим, он сделал основным для изображения людей. Насколько сознательно применяет Толстой этот способ, насколько связан этот способ с самыми глубокими проблемами мировоззрения Толстого, можно видеть из того, что значение, которое имеет у него каждый из персонажей для композиции в целом, всегда зависит от емкости его "духовного объема" и от способности первоначального объема его чувства и мыслей претерпевать изменения в ходе жизненного развития.
Эпизодические фигуры, в особенности те, посредством которых Толстой показывает бесчеловечную косность современного ему общества, имеют, конечно, сравнительно слабую душевную подвижность. Это наблюдение применимо также к тем фигурам, которые враждебны или чужды мировоззрению самого Толстого, к таким, например, людям, как Вронский, Каренин, Иван Ильич и др.
Отношение писателя к его персонажу ясно выражается в том, как изображен исходный пункт его душевных колебаний. Люди, характеры которых Толстой хочет показать как подлинно ценные, всегда вступают в живые взаимоотношения с окружающими людьми, у них возникает живое взаимодействие между внутренним развитием и внешними обстоятельствами, в которые они попадают, в которых они должны разобраться и найти свое место. Если же Толстой изображает человека, которого он хочет охарактеризовать, главным образом, с отрицательно и стороны и в то же время считает необходимым подчеркнуть его большое значение в общей жизненной картине, то он рисует его внутренне гораздо более косным, связанным условностями даже в моменты самых глубоких душевных колебаний. Он ставит, однако, подобных людей в такие положения, которые глубоко потрясают их, казалось бы, надежную и несомненную жизненную основу, заставляют их решать новые, необычные вопросы, и это вносит подвижность и изменчивость даже в эти косные и, казалось бы, всегда равные себе натуры (Вронский за границей, Каренин и Вронский у постели больной Анны и т. д.). Но действие развивается теперь так, что, как только исчезает повод, вызвавший непривычное душевное движение, человек возвращается к своей обычной неподвижности.
Этот оригинальный и плодотворный способ характеристики, при всей его глубокой родственности старому реализму и при всем его отличии от реализма позднейшего показывает все-таки, что у Толстого и поздних буржуазных реалистов была некоторая общность жизненной основы. Общность эта должна была отразиться и в стиле Толстого; ведь ни один подлинный писатель-реалист не может закрывать глаза на общественную правду, на действительные, изменения, происходящие в структуре общества. Творчество писателя отражает эти изменения не только в своем содержании, не только в попытках разобраться в происходящем и дать ему оценку; литературная форма также неизбежно отражает в себе специфические общественные сдвиги данного времени, если даже эти сдвиги враждебны искусству по своему существу, если они грозят исказить, разложить или омертвить искусство. Форма, в которую выливается стремление великих реалистов прошлого противостоять увлекающему их общественному течению, всегда очень конкретна. Они стремятся найти в конкретной общественной действительности такие тенденции, с помощью которых данный жизненный материал, со всеми своими враждебными искусству качествами, может быть художественно преодолен, может стать материалом живого искусства. Другое дело художники, которые относятся к уродству современного капиталистического общества с вполне обоснованным и понятным отвращением, но исходят в своей работе только из этого абстрактного чувства; они неизбежно отклоняются от своей цели, впадают в пустой формализм. Формы большого реалистического искусства всегда возникают как отражение существенных черт действительности, конкретного жизненного материала определенного общества, определенного периода, — даже тогда, когда основные черты общественного строя так враждебны искусству, как это мы видим во времена капитализма.
За известным формально-техническим сходством Толстого с поздними буржуазными реалистами стоят, таким образом, общие для них реальные жизненные проблемы: проблема свободных, подвижных общественных отношений, проблема неизбежного разрыва между идеологией и действительной жизнью у членов буржуазного общества (за исключением революционного рабочего класса).
Правда, противоположность между действительностью и мысленными представлениями о ней — это очень давняя проблема литературы. Она стоит, например, в центре бессмертного "Дон-Кихота". Но мы говорим здесь о специфической, современной форме этого противоречия, той форме, которая стала центральной проблемой новейшего буржуазного реализма. Эта форма — разочарование в действительности, крушение прежних надежд и иллюзий. Еще Бальзак назвал один из лучших своих романов "Утраченные иллюзии"; но иллюзии разбиваются в этом романе, сталкиваясь с общественной действительностью, в процессе отчаянной борьбы, в пылу трагической (или трагикомической) атаки протестующих людей на объективно необходимые исторические явления. В романе, наиболее типичном для позднейшего реализма, в "Воспитании чувств" Флобера, уже нет настоящей борьбы: там противостоят друг другу бессильный субъект и бессмысленная объективность. Сдержанная лиричность тона показывает, что художник сочувствует бессильным мечтам свои персонажей и ненавидит пошлую действительность, безраздельно господствующую в жизни. Эта тенденция нисколько не становится слабее от того, что художник, как мы это видим и у Флобера, часто прячет свое подлинное отношение к жизни за ироническим объективизмом.
Разочарование как главная литературная тема художественно отражает положение лучших и честнейших людей из буржуазных классов, которые окончательно пришли к убеждению, что их жизнь в капиталистическом мире лишена смысла, которые увидели фальшь и внутреннюю несостоятельность буржуазной идеологии, но не смогли найти реального выхода из противоречий своего бытия.
Этот мотив очень важен и в том образе мира, который рисует Лев Толстой. Кавказская идиллия оказывается так же непохожей на представления о ней Оленина, как политика и война непохожи на представления о них Андрея Болконского, любовь и брак — на представления Левина и т. д. И Толстой делает наблюдение, превращающееся в закон: сильнее всего жизнь обманывает наиболее значительных людей, именно у них расхождение между идеологией и жизнью проявляется острее всего. Чем глупее или низменнее человек, тем меньше его мучит такое противоречие: глупость и подлость психологически проявляют себя прежде всего в том, что человек легко приспособляет свои мысли и чувства к пошлой общественной действительности. Очень редко, и то лишь в известные периоды творчества, в произведениях Толстого попадаются хотя бы эпизодические персонажи, мысли и чувства которых были бы настроены в лад с окружением и которых автор не изображал бы при этом ни подлыми, ни глупыми людьми (например, князь Щербацкий в "Анне Карениной").
Очень важно отметить, однако, что разочарована (т. е. признание того факта, что действительность не такова, какой ее хотели бы видеть люди) имеет у Толстого совсем иную окраску, чем у современных ему западных реалистов; поэтому, как мы видели, и художественные средства, которыми изображается это разочарование, у него совсем иные. Прежде всего, Толстой далеко не всегда представляет разочарование в жизни или ее отрицание как нечто действительно имеющее себе оправдание в самой жизни. По Толстому, причина разочарования людей очень часто кроется в узости и ограниченности их собственных представлений о действительности. Толстой показывает, что хотя жизнь не такова, как о ней думают, она все же всегда бесконечно богаче, многообразнее и живее, чем любые предвзятые субъективно-романтические представления; то, что жизнь может дать человеку, существенно отличается от того, чего он от нее ждал, — но именно тем, что жизнь может дать гораздо больше, чем думал и хотел человек.
Жизненное богатство, превосходящее привычные и узкие представления, Толстой всегда находит в "естественной" жизни. Еще в ранней повести "Казаки" романтические представлений Оленина о Кавказе разбиваются при столкновении с реальной жизнью кавказской станицы. Оленин разочарован, но разочарование в то же время и обогатило его, оно было ступенью его духовного роста. Разочарование Левина в своих прежних взглядах на любовь и брак или эволюция взглядов Пьера Безухова имеют много общего с разочарованием Оленина.
Уже здесь видна социальная противоположность Толстого поздним буржуазным реалистам. Вследствие глубокой связи своего мировоззрения с развитием русской крестьянской революции, Толстой, конечно, не мог, подобно своим западным собратьям, притти к концепции общества как безнадежной пустоты. Отсутствие социальных перспектив вынуждало буржуазных реалистов отождествлять современную действительность, непосредственно ими наблюденную, с действительностью вообще, а бессмысленность жизни в капиталистическом обществе возводить в метафизическую бессмысленность жизни, как таковой. Конкретная критика капиталистического строя сплошь и рядом перерождается у этих отчаявшихся людей в проклятие, посылаемое всей жизни, в злобную клевету на объективную действительность.
В противоположность им, Толстой никогда не отождествляет капиталистическую действительность со всякой действительностью вообще. Он видит в современном мире извращение, загрязнение настоящей человеческой жизни, и поэтому всегда противопоставляет ему естественную и, тем самым, человечную жизнь. Правда, представления Толстого об этой "естественной" человеческой жизни романтически приподняты или реакционно-утопичны, а иногда и проникнуты духом общественного компромисса; тем не менее, такое отношение Толстого к действительности, вытекающее из его ориентации на крестьянство, дает ему возможность яснее видеть реальную жизнь, более правильно и глубоко изображать конфликт между субъективными стремлениями и объективной действительностью, чем это доступно было его современникам на Западе.
Разочарованием, которое переживают герои, Толстой пользуется для разоблачения половинчатости их утопических и непродуманных представлений о жизни. Это видно лучше всего в тех случаях, когда Толстой проверяет жизнью свои собственные — почти всегда уже отвергнутые- утопические планы "осчастливить" крестьян. Толстой изображает эту проблему в целом ряде произведений (начиная с "Утра помещика" до "Воскресения" и "Свет во тьме светит") с различных сторон и отвечает на нее по-разному. Но главный смысл здесь всегда остается один и тот же: утопические представления о жизни терпят крах, сталкиваясь с реальной жизнью деревни, с глубоким, непреодолимым недоверием и ненавистью, с какими встречают крестьяне любого доброжелателя из среды эксплоататоров и паразитов. Толстой показывает, что не действительность, а сам человек виновен в его разочаровании, что жизнь права, разрушая утопические мысли о ней, так как в самой жизни всегда содержится истина, более высокая и богатая, чём в иллюзиях и мечтах.
Может показаться, что Толстей близок к поздним буржуазным реалистам в том смысле, что и он изображает преимущественно жизнь эксплоататоров и те сомнения, которые неизбежно возникают у людей, принадлежащих к эксплоататорским классам. Но сходство здесь только внешнее, а различие проявляется здесь, быть может, ярче всего.
Создавая образы людей из господствующих классов, Толстой видит наибольшую характерность этих людей в их чужеядности и паразитарности. Хотя сущность экспло-атации Толстой усматривает (преимущественно в земельной ренте, бессмысленность жизни эксплуататоров не только раскрывается у него несравненно более глубоко и метко, чем у современных буржуазных реалистов, но это изображение освобождается также от свойственной им метафизической неподвижности. У Толстого нет ни бессодержательной саморазъедающей иронии, ни беспредметной грусти этих писателей. К разоблачению пороков действительности его толкает сильный и резкий дух протеста. Если разочарование переживают те герои, которых Толстой любит, то даже их он ставит в положение наивных глупцов, не способных разглядеть то, что скрывается в жизни за прозрачной, в сущности, маской.
Чем старше Толстой, тем резче его протест (вспомните, например, эпизод, участниками которого являются Нехлюдов и Мариетта в "Воскресении"). Но и раньше Толстой не видел в типичных житейских "трагедиях" богатых людей ничего рокового, ничего подлинно трагичного. Он всегда считал, что такого рода конфликты могут быть преодолены, если у человека есть здравый рассудок и здоровое нравственное чувство. Правда, Толстой показывает также, что такого здорового нравственного чувства у людей из высших классов не бывает, если только они не воспитали его в себе долгой и мучительной внутренней борьбой под давлением жестоких жизненных обстоятельств, которые заставляют пережить много страданий и разочарований (напомним в качестве примера брак Пьера Безухова с Элен).
Сталкивая "утонченность" образованных людей из высших классов с действительной жизнью, вдребезги разбивая все эти фальшивые "трагедии", такие ничтожные перед лицом маленьких и жестоких жизненных фактов, Толстой, как будто, подходит очень близко к поздним буржуазным реалистам. Но и здесь, как всегда, действительный смысл его творчества совершенно иной. Главное для Толстого — это разоблачение мелочности, слабости и несерьезности (несмотря на субъективную искренность) "изысканных" барских чувств. Причины крушения этих чувств, по Толстому, не в том, что они будто бы слишком хороши, человечны и нравственны "для этой низкой жизни", а напротив, в ничтожности и мелочности этих чувств и их обладателей. "Утонченные" чувства Каренина во время болезни Анны нисколько не меняют того, что он был и остался сухим и бездушным бюрократом. После такого углубления "тонкости" чувств в момент, когда трагедия достигает высшей точки, все эти люди неизменно возвращаются к продолжению трагикомедии своего прежнего образа жизни, в их душе снова господствуют прежние, более низкие, но и более естественные для них чувства.
Перспектива, которую открывает Толстому его ориентация на крестьянскую критику общества, позволяет ему изображать любовные и семейные трагедии, не впадая ни в мрачную патологию, ни в патетически-роковой тон, столь обычные для поздних буржуазных реалистов.
Гуманистически-нравственный пафос Толстого, его надежды на обновление человечества поднимают его над узким и мелочным мировоззрением новейших буржуазных реалистов. Он всегда ее только хочет быть художником, но и стремится прежде всего использовать искусство для проповеди общественного переустройства; это спасает его как писателя от беспочвенности и разложения формы, свойственного всевозможным модернистам. Благодаря своему проповедническому пафосу, благодаря своей вере в будущее человечества Генрих Ибсен, современник Толстого, тоже стоял в общественно-этическом и художественном смысле выше большинства писателей своего "времени. Но мы уже говорили, как велико различие между художественным credo Ибсена и Толстого. Дело здесь не в правильности или ложности сознательно отстаиваемых идей, так как Толстой проповедовал не меньше реакционного вздора, чем Ибсен, а в том общественном движении, которое эта проповедь Толстого, при всей своей ложности, объективно выражала.
Мировоззрение Толстого глубоко пропитано реакционными предрассудками. Но эти предрассудки связаны с действительным характерам здорового и растущего движения, перед которым лежит большое будущее; предрассудки Толстого отражают действительно слабые стороны и непоследовательность этого движения. Толстой — не единственный пример в мировой литературе, когда художник, на основе неверного мировоззрения, все же создает непреходящие художественные ценности. Взаимоотношение между ложностью мировоззрения и величием реалистического художественного дара очень сложно; однако, сразу же можно понять, что вовсе не всякой ложное мировоззрение может лежать в основании большого реалистического творчества. Иллюзии и заблуждения большого писателя-реалиста только в том случае могут быть плодотворны для искусства, если это исторически необходимые иллюзии и заблуждения, связанные с большим историческим движением. Ленин нашел в творчестве Толстого эту связь и тем самым указал путь для анализа художественного значения великого писателя.
Толстой очень мало понимал историческую сущность капитализма и совсем не понял пролетарского революционного движения, и все же он создал удивительные по своей правдивости картины русского общества. Толстой видел общество с точки зрения протестующего крестьянства; он усвоил и всю ограниченность, все ошибки его точки зрения. Но это были, во всемирно-историческом смысле, необходимые ошибки, необходимая ограниченность, а потому они и могли быть отчасти плодотворны для художественной работы и, во всяком случае, не препятствовали созданию больших реалистических образов.
Ленин оказал о крестьянстве перед революцией 1905 года:
"Против крепостничества, против крепостников-помещиков и служащего им государства крестьянство продолжает еще оставаться классом, именно классом не капиталистического, а крепостного общества, т. е. классом- сословием"
Реакционная ограниченность мировоззрения Толстого, социально-философские иллюзии Толстого происходят из такого сословного характера общественной основу его мировоззрения.
Было бы очень поучительно проследить это сложное, одновременно положительное и отрицательное, взаимодействие мировоззрения и художественного творчества в различных сторонах произведений Толстого. Но мы можем здесь указать только на один момент, в котором Толстой решительно отличается от своих западных современников и благодаря которому Толстой, во времена всеобщего художественного упадка, не только сохраняет, но и развивает великие реалистические традиции. Мы говорим о том факте, что Толстой никогда не ценил искусства ради искусства.
Искусство всегда было для Толстого средством для сообщения определенного содержания, а художественность формы — средством для того, чтобы склонить читателей к определенным идеям. И как раз благодаря этому качеству (немало эстетиков осуждали его за "тенденциозность") Толстой был в силах спасти исчезающее искусство рассказа.
Большие повествовательные формы возникли первоначально из обыденных рассказов из желания достигнуть социально-нравственного эффекта посредством искусства, т. е. посредством пластической обработки подлинных судеб отдельных людей и общественных коллективов. Ясная группировка различных фактов и явлений, позволяющая охватить их в целом, умение постепенно раскрывать последовательность и значение событий — все это очень существенным образом связано с теми намерениями, теми целями художника, которые выходят за пределы искусства в более узком, специализированном, ремесленном смысле слова.
Когда историческое значение общества отняло у художника эти цели и превратило его в простого наблюдателя жизни, он неизбежно должен был утерять и руководящий принцип рассказа. Интерес художника все больше переносится теперь на случайные, поверхностные, занимательные детали, именно эти детали, а не морально-человеческие ценности, связанные с идеями художника, побуждают его отбирать из жизненного материала то, чему будет предназначена основная роль в произведении.
Толстой, с этой точки зрения, до конца дней своих оставался писателем "старомодным". Благодаря этому он сохранял такое искусство рассказа, какое можно встретить только у величайших реалистов прошлого.
В западноевропейской критике немало говорится о художественном упадке, который-де наступил у Толстой после большого кризиса в его мировоззрении, Разумеется, стиль позднего Толстого существенно изменился в связи с эволюцией его мировоззрения; эпическое великолепие, почти гомеровская широта и безыскусственность "Войны и мира" утратились. Но было бы ошибкой недооценивать прекрасные чисто художественные качества поздних произведений Толстого. Если даже судить только с художественно-формальной стороны, то вряд ли современная литература на Западе знает хоть один такой формально законченный (в классическом смысле) рассказ, как "После бала". И уж, конечно, во всей современной западной литературе нет ни одного романа, который мог бы сравниться с всеобъемлющим эпическим величием "Воскресения". Тон, манера, стиль Толстого сильно изменились. Но поздний Толстой в своих произведениях, оставался несравненным, величайшим художником своего времени.
8
Эстетические высказывания Толстого дали повод к еще большим недоразумениям, чем его поздние художественные произведения. Сочинения Толстого об искусстве были поняты как выступление против искусства вообще, как отрицательное отношение ко всякой художественной деятельности, — другими словами, очень и очень многие полагали, что Толстой занимает по отношению к искусству такую же позицию, какую в свое время занимал Платон.
Надо сказать, что такое истолкование небезосновательно и ее случайно; некоторые мысли художественно-критических статей и отдельных высказываний Толстого об искусстве (ниже мы будем говорить еще об этом) отчасти имели цель вызывать именно такое недоразумение. Но замечательно, что это недоразумение повлекло, казалось бы, странное следствие: оно еще более усилило влияние сочинений Толстого об искусстве на художников. Это, однако, вполне понятно. Чем дальше заходил процесс распада художественных форм в капиталистических странах Запада, чем искусственней становились многочисленные и быстро сменяющие друг друга художественные "школы" и "течения", лишенные связи с большими жизненными проблемами, тем сильнее становилось и недовольство искусством в среде лучших буржуазных интеллигентов, тем больше возрастало сомнение в ценности искусства вообще. Романтическая оппозиция против бесчеловечной капиталистической цивилизации легко переходит к полному отрицанию искусства, в котором видят теперь лишь недостойную игру, бесполезное занятие, служащее только пустому наслаждению и чуждое большим задачам, стоящим перед человечеством.
Такого рода тенденции могли, конечно, найти себе опору в определенных сторонах толстовской критики искусства. Но если отождествить их с взглядами Толстого, то действительное содержание его эстетики останется совершенно непонятым. Толстой хотел уничтожить современное псевдоискусство, противопоставляя ему искусство подлинное, народное.
Критика Толстого направлена против современного буржуазного искусства. Исходный пункт этой критики великолепен по своей стихийно-материалистической простоте. Толстой ставит вопрос: кто и для кого создает это искусство? Миллионы трудящихся не подозревают о егю существований, и если бы они и узнали это искусство, то не нашли бы в нем никакого соответствия своей жизни и чувствам.
С едкой иронией и беспощадным реализмом Толстой рассказывает, как изощренная техника, необходимая для обслуживания верхушечного слоя, делается руками тех людей, которые находятся в положений эксплоатируемых рабочих; это для них тяжкий и унизительный труд, ничем не отличающийся от всякого труда, затрачиваемого на прихоти паразитов-бар (см., напр., описание театральной репетиции).
Толстой не удовлетворяется установлением этого факта. Он исследует те умственные и душевные искажения, которые терпит даже талантливый и убежденный художник, когда он вынужден обслуживать художественные потребности экаплоататорского класса или сам захвачен влиянием идеологии, порожденной паразитарным обществом и служащей для его оправдания.
Величайшую опасность для искусства Толстой видит в том, что художественному творчеству становятся чуждыми, самые серьезные жизненные вопросы. В предисловии к сочинениям Мопассана он выдвигает следующий критерий отношений искусства к жизни: во-первых, правильное, т. е. нравственное отношение писателя к своему предмету; во-вторых, ясность изложения или красота любви или ненависти к тому, что изображает художник[29].
Толстой видит, что искусство все больше теряет свои качества, что у современного художника исчезает такое отношение к своему искусству, вытекающее из определенного отношения к общественной действительности. Даже у Мопассана, которого Толстой считает исключительно одаренным художником, он находит ложные тенденции современного искусства, состоящие в том, что для создания художественного произведения будто бы "не только не нужно иметь никакого ясного представления о том, что хорошо и что дурно, но что, напротив, художник должен совершенно игнорировать всякие нравственные вопросы; что в этом даже некоторая заслуга художника, По этой теории художник может или должен изображать то, что истинно, то, что есть или то, что красиво, что, следовательно, ему нравится, или даже то что может быть полезно, как материал для "науки", но что заботиться о том, что нравственно или безнравственно, хорошо или дурно, не есть дело художника".
Эта совершенно ложная установка, подчинившая себе даже самых одаренных художников, коренится, по Толстому, в том, что искусство перестало быть делом всего народа. В новейшие времена оно стало средством наслаждения для праздных и скучающих паразитов, а художественная работа превратилась в строго специализированную профессию, в умение потакать барской прихоти. С большой проницательностью Толстой вскрывает вредоносные последствия оторванности и специализации для искусства: пустую виртуозность формы, разработку излишних, ничего не говорящих деталей, фотографически-безразличное копирование внешних явлений, потерю интереса к настоящей жизни и ее вопросам. Отсюда все уменьшающаяся содержательность, искусства.
"…Чувства, вытекающие из желания наслаждении, не только ограничены, по довольно давно изведаны и выражены… круг чувств, переживаемых людьми властвующими, богатыми, не знающими труда поддержания жизни, гораздо меньше, беднее и ничтожнее чувств, свойственных рабочему народу. Люди нашего кружка, эстетики, обыкновенно думают и говорят противное. Помню, как писатель Гончаров, умный, образованный, но совершенно городской человек, эстетик, говорил мне, что из народной жизни после "Записок охотника" Тургенева писать уже нечего. Все исчерпано"[30]. Любовные же интриги и ссоры людей из высших классов обычно кажутся художественно неисчерпаемыми.
Толстой отвергает такой взгляд и доказывает, насколько трудовая жизнь внутренне богаче однообразной жизни бездельников; в связи с этой полемикой он показывает также, насколько искусство новых времен беднее старого- действительно великого и народного — искусства именно в изображении самых существенных сторон жизни. Изобилие подробностей- это только блестящее прикрытие действительного ничтожества. Старое, простое и умное искусство не нуждалось в таком прикрытии. Толстой приводит в пример библейскую легенду о Иосифе
Прекрасном:
"…рассказ этот доступен всем людям, трогает людей всех наций, сословий, возрастов, дошел до нас и проживет еще тысячелетия. Но отнимите у лучших романов нашего времени подробности, что же останется?
Так что в новом словесном искусстве нельзя указать на произведения, вполне удовлетворяющие требованиям всенародности. Даже и те, которые есть, испорчены большей частью тем, что называется реализмом, который вернее назвать провинциализмом в искусстве" [31].
Нет ничего легче, как указать на слабые стороны толстовской критики современного искусства. Уже то, что Толстой называет правильное чувство, правильное отношение к жизни "религиозным" и производит упадок искусства от "неверия" господствующих классов, достаточно ясно показывает реакционную сторону его эстетики. Вдобавок, эту тенденцию Толстого ни в коем случае нельзя рассматривать как случайную, не имеющую общего значения ошибку; она всегда сплетается с положительной частью его эстетики. Суждения Толстого о Шекспире, Гете, Бетховене, его утверждение, что упадок искусства начался еще с Ренессанса, — все это образует систему до известной степени целостную, законченную и, во всяком случае, ясно выражающую реакционные стороны общего мировоззрения Толстого.
Мы считали бы, однако, неверным уделять здесь много внимания критике этих поверхностных и теперь совершенно неактуальных ошибочных взглядов Толстого на искусство; это отклонило бы нас от выяснения подлинно плодотворных элементов в эстетических взглядах Толстого.
Центральный вопрос заключается, по нашему мнению в крестьянски-плебейском гуманизме толстовской эстетики.
Такое определение может показаться, на первый взгляд несколько парадоксальным, если принять во внимание что указанные выше оценки Толстого стоят в резком противоречии к лучшим гуманистическим традициям XVIII и XIX вв. Ведь нельзя сомневаться в том, что эти оценки — далеко не единичные симптомы, что Толстой, нападая на гуманистические традиции, по существу старается сузить понятие гуманизма и внести в него реакционный смысл.
Все это так. Но, тем не менее, факт остается фактом. Основная линия толстовского подхода к эстетике связана с центральными проблемами гуманистической эстетики. Толстой был одним из немногих выдающихся людей его времени, которые живо, хотя и одностороннe, восприняли гуманистические традиций и пытались их своеобразно развивать. Речь идет здесь о проблеме целостности человека, о борьбе против уродств, которые неизбежно приносит с собой капиталистическая цивилизация.
Уже для ранних буржуазных гуманистов сложилось парадоксальное положение: приветствуя прогрессивное капиталистическое развитие производительных сил, они "объявили" бесчеловечным капиталистическое разделение труда (напомним высказывания Маркса о Фергюсоне).
Это противоречие, неразрешимое для буржуазного гуманизма-ни для Фергюсона, ни для Шиллера или Гегеля, — углубляется все сильней по мере экономического развития капитализма, по мере распространения его господства на все области человеческой деятельности и в особенности по мере перерастания буржуазной идеологии в апологетику капитализма, полнейшего отчуждения между буржуазно-гуманистическими идеалами и "нормальным" ходом капиталистической общественной жизни. Честные и наиболее значительные буржуазные художники начинают изображать это отчуждение и находят даже в самом искусстве тот же принцип, чуждый и враждебный жизни (ср., напр., поздние произведения Ибсена). А на заре империализма эта идеология превращается уже в воспевание безжалостной и хищной силы, в бесчеловечность философии и искусства, поющего теперь славословие грядущему варварству (Ницше). "Жизнь" как центральная категория империалистической "философии", достигшей своего крайнего выражения в фашизме, — это объединение всех принципов, враждебных жизни, это объявление войны человеческому духу, всем ценностям, которые созданы тысячелетним развитием человечества, и даже простому существованию человека.
Критика Толстого направлена прежде всего против такой бесчеловечности. Разумеется, в этой критике множество внутренних противоречий. Толстой как мыслитель испытывает сильнейшее влияние агностических тенденций, не признающих способность человеческого ума к истинному познанию и восстающих против человеческого разума вообще (Кант, Шопенгауэр, буддизм и т. д.). Его любимые герои выражают эти взгляды в еще более утрированной форме, чем публицистика самого автора, — например, Константин Левин говорит о "подлости" разума. Отчаянная борьба против развращенного мира, которая ведется изнутри этого мира, давящего своими закоснелыми паразитическими условностями, толкает Толстого к анархо-индивидуалистическим взглядам; он говорит, например, что во всех вопросах надо следовать только самому себе и т. д.
Но, несмотря на все эти шатания и заблуждения Толстого, основа его эстетики остается неизменной: это ориентация искусства на подлинную народность, на то большие жизненные вопросы, которые, благодаря своей значительности и всеобщности, могут быть понятно каждому. В своей утопии, в представлениях о будущем обществе, где не будет бездельников-паразитов, Толстой мечтает о таком искусстве, которому может научиться каждый трудящийся; именно поэтому искусство и в смысле художественного достоинства своей формы будет неизмеримо более высоким, чем современное художество с его усложненной виртуозностью и легковесной изощренностью. С этой точки зрения Толстой оценивает все современное искусство и видит в нем хаос, сумбур и даже отсутствие критерия для суждения о том, что хорошо и что дурно. Псевдохудожественные произведения часто кажутся, с виртуозно-технической точки зрения, более высокими, более совершенными, чем произведения подлинно художественные. Ни один эстетик, ни один литератор не может найти для искусства твердого критерия. Но такой человек есть: это крестьянин, человек с неиспорченным вкусом, который может и в искусстве отделить настоящее от подложного.
Толстой снова делает мольеровскую служанку судьей в искусстве. В этом крайнем выражении его стремления к подлинной народности проявилось также и глубочайшее противоречие всей его концепции — противоречие, еще неразрешимое тогда во всемирно-историческом смысле и поэтому, наряду с очевидными заблуждениями, носящее в себе и такие тенденции, которые таили возможность к плодотворному развитию в будущем.
В своей знаменитой диссертации "О поэзии наивной и сентиментальной", которая была первым глубоким философским анализом сущности современного искусства, Фридрих Шиллер говорит о той же проблеме "мольеровской служанки":
"Мольер как наивный поэт мог полагаться на суждения своей служанки в том, что ему выпустить и что ему оставить в своих комедиях; было бы также желательно, чтобы мастера французского котурна проделывали ту же пробу со своими трагедиями. Но я бы не посоветовал, чтобы с клопштоковскими одами, с лучшими местами из "Мессиады", "Потерянного рая", "Натана Мудрого" и многих других пьес был сделан подобный опыт".
С удивительной остротой ума Шиллер намечает здесь основное противоречие, которое встанет во весь рост в, вопросе о народности искусства перед позднейшей буржуазной литературой. Это противоречие ясно видит и Толстой, и он пытается его разрешить по-своему.
Шиллер тоже считает, как и Толстой, что великое искусство "наивных" поэтов выше современной "сентиментальной поэзии". Он понимает, однако, не только историческую необходимость возникновения более субъективного, проблематического, сложного искусства, но и то, что оно дает человечеству непреходящие ценности. Исторически необходимо, чтобы искусство ушло от своих первоначальных форм народности, оторвалось от широких слоев народа и чтобы мольеровская служанка, вследствие того, уже действительно не могла судить о нем. Но величайшие представители "сентиментальной поэзии" все же создают на этой проблематичной основе произведения подлинно высокого искусства, которые не могут остаться ненародными навсегда. Суждения мольеровской служанки не отнимают величия у произведений Гете и Шиллера, Бальзака и Стендаля.
В период Первой французской революции и Наполеона Шиллер мог иметь преувеличенные надежды на будущность "сентиментального" искусства. Но для Толстого, жившего в период всеобщего упадка буржуазного искусства, в период его внутреннего обнищания и формального распада, безнадежность дальнейшей судьбы этого искусства была уже очевидна. В этих условиях преувеличенность толстовского отрицания становится вполне понятной (но, конечно, не менее ошибочной); понятно, почему Толстой распространяет свою уничтожающую оценку "сентиментального" искусства на все прошлое, начиная с Ренессанса, и не делает исключения даже для подлинно великих произведений. Однако, вследствие этой односторонности, Толстой проникает иногда глубже и основные вопросы искусства, чем те выдающиеся мыслители прошлых времен, которые ставили вопрос правильнее и в подходе к нему учитывали его многосторонность.
Большинство теоретиков народности в западноевропейском искусстве второй половины XIX в. впадало в романтическую реакцию или в узкий, ограниченный провинциализм. В противоположность им, Толстой, и здесь выступающий как представитель крестьянской демократической революции в России, провозглашает неразрывный coюз народности с подлинно великим искусством.
С этой точки зрения можно сказать, что толстовский мужик, который правильно судит об искусстве, является связующим звеном между мольеровской служанкой и той кухаркой, которая, по выражению Ленина, должна научиться управлять государством.
Историческое значение этой позиции Толстого не уменьшается от того, что его концепция народности тоже отмечена неясными или ложными чертами, выражающими слабость крестьянской революции. Слабая сторона концепции, непосредственно бросающаяся в глаза, состоит в том, что связь между народностью и искусством представлена как слишком простая, и вследствие этого та часть художественного наследия, которую Толстой считает подлинно ценной, ограничивается слишком узким кругом.
Но признание слабостей толстовской точки зрения, которые были отражением слабых сторон великого народного движения, не должно закрывать от нас огромное значение крестьянски-плебейского гуманизма Толстого.
Со времен подготовки французской революции 1789 г., со времен бессмертного Фигаро, высмеявшего пустоголовых аристократов, театр не знал такого здорового и торжествующего плебейского смеха, как тот, что звучит в "Плодах просвещения", когда простодушная и умная крестьянская девушка легко водит за нос своих господ, формальная образованность которых отлично уживается с самым грубым суеверием.
Пусть понятие "человечность" звучит слишком узко и ограниченно в крестьянски-плебейской концепции Толстого, все же здесь есть основные черты подлинно гуманистической борьбы против обесчеловечивания человека в классовом, особенно в капиталистическом, обществе. Толстой требует восстановления целостности человека, его избавления от эксплоатации и угнетения, от унизительного подчинения капиталистическому разделению труда; Толстой требует такого жизненного устройства, когда основой всей жизни является труд. Надо быть либерально-меньшевистским вульгарным социологом, слепо влюбленным в капиталистическую форму прогресса, чтобы в этом яростном, иногда отчаянном протесте видеть только его реакционные стороны.
Гегель, профессор королевско-прусского университета, подходил к подобным вопросам с несравненно большей широтой. В своей "Эстетике" он говорил о юношеских вещах Гете и Шиллера:
"Каким бы мы ни признали разумным и полезным раз-питие сословий в сложившейся буржуазной и политической жизни, нас никогда не покинет потребность в действительно индивидуальной полноте (Totalitat), интерес к ней и к живой самостоятельности. В этом смысле достоин удивления юный поэтический дух Гете и Шиллера, его попытки возвратить образам людей самостоятельность, утраченную в предустановленных условиях новейшего времени"[32].
Гуманистический протест Толстого прозвучал в те времена, когда унижение человека стало гораздо более глубоким, чем во времена классических гуманистов. Поэтому протест Толстого заключает в себе больше элементов отчаяния, он более элементарен, менее диференцирован. В то же время он искренне и глубже, ближе к формам протеста угнетенных масс человечества — к протесту крестьян против нечеловеческого строя жизни.
Толстой пронес традиции великого реализма через эпоху, когда его разрушали натурализм и формализм. Толстой не только сохранил эти традиции, но развил их и конкретной и современной форме. В этом незабываемая заслуга Толстого-художника.
Толстой пронес через эпоху отчуждения искусства от народа великую мысль, что подлинное искусство может быть только народным искусством, что отрыв от народной почвы убивает искусство, что совершенство художественной формы неразрывно связано с народностью содержания. В этом огромное значение эстетики Толстого.
Толстой умер вскоре после первой русской революции, незадолго до революции 1917 г. Он был последним из великих классиков буржуазного реализма, он был последним, но достойным представителем того ряда, который идет от Сервантеса до Бальзака. Его произведения еще и теперь воспринимаются почти как современные, их содержание и форма непосредственно доступны и понятны миллионам наших современников без специальных объяснений и исторических комментариев. Это стало возможным не только в силу колоссального таланта Толстого. В живой связи реализма Толстого с проблемами современного искусства, стоящими перед нами сегодня, в огромном влиянии, которое Толстой оказывает и еще долго будет оказывать на советскую литературу, отражается общественно-исторический факт огромной значительности: поразительно быстрое перерастание русской буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Немногим больше тридцати лет назад отсталая порабощенная царская Россия только приближалась к буржуазно-демократической революции; теперь это социалистически преобразованная страна. В других странах расцвет буржуазной культуры, буржуазного искусства отделен от подъема пролетарского социалистического движения десятилетиями или даже целыми столетиями. Лучшие традиции прежней буржуазной культуры coxраняются там, главным образом, благодаря усилиям марксистской мысли, противодействующей буржуазно реакционному нигилизму. В России живая связь с великим культурным наследием создавалась самим революционным развитием. Именно на этой почве выросло искусство Максима Горького, первого классика социалистического реализма, в то же время непосредственно и живо связанное с лучшими традициями старого реализма и прежде всего с творчеством Льва Толстого.
Из наличия этой живой связи, ее многообразия и важности отнюдь не следует, конечно, чтобы социалистический реализм мог попросту принять толстовское наследие без критической переработки его в социалистическом духе. Реализм Горького показывает, как глубока и серьезна должна быть переработка наследия Толстого в дальнейшем развитии искусства.
В способах художественной характеристики мы видим у Горького целый ряд тенденций, унаследованных от Толстого. Но различие между Горьким и Толстым, быть может, еще более значительно, чем сходство. Максим Горький, связанный с социалистической революцией пролетариата, видит те неизмеримые перспективы человеческого развития, которые были полностью скрыты от взора Толстого. Поэтому движение внутренней жизни людей, изображаемых Горьким, не так жестко предопределено, не так замкнуто в определенном кругу, как душевная жизнь подавляющего большинства персонажей Толстого. Для людей Горького есть возможность вырваться из своего прирожденного или созданного жизнью круга мыслей и чувств; при этом они не теряют своей индивидуальности и своеобразия, а напротив, их личность становится свободнее, богаче, выше.
Изображение осуществимости и действительного осуществления этой возможности изменяет у Горького человеческое, а следовательно, и художественное значение круга (или объема) человеческой внутренней жизни, о котором мы говорили выше, анализируя конкретно-художественную роль этого подхода к развитию личности в творчестве Толстого. Для людей Толстого известный круг единственно возможных жизненных проявлений просто определяет их личность. Для тех персонажей Горького, которые не могут из своего круга прорваться наружу, его пределы становятся тюремной стеной. Таким образом, у Горького этот принцип изменился в корне, качественно, идет ли речь об изображении положительных или отрицательных фигур. В этом-дальнейшее углубление реализма на качественно новой, социалистической ступени развития.
Человеческая комедия Предреволюционной России
"Лишь тогда, когда "низы" не хотят старого и когда "верхи" не могут по-
старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса"
Ленин[1].
1
Творчество Горького охватывает эпоху созревания революционного кризиса в России, эпоху непосредственной подготовки Октябрьской социалистической революции. Горький — великий писатель и классик реализма прежде всего потому, что он доказывает этот процесс всесторонне, Он не только изображает рост революционного движения в среде пролетариата и крестьянства, но уделяет также значительное внимание изображению буржуазии, мещанства, интеллигенции, показывая, почему эти слои задолго до революции не могли больше жить "по-старому", показывая, как неразрешимые конфликты, неизбежно возникающие в жизни "верхов", превращаются в необходимые предпосылки для победы революции.
Творчество Горького не только всесторонне — оно отличается также необычайной глубиной. К нему вполне приложимы слова Маркса о Бальзаке. Как рассказывает Лафарг, Маркс отмечал, что Бальзак был не "только бытописателем своего времени, но также творцом тех прообразов-типов, которые при Людовике-Филиппе находились еще в зародышевом состоянии, а достигли развития уже впоследствии, при Наполеоне III". Горький, великий историк предреволюционной России, улавливает такие черты и такие тенденции развития во всех слоях русского общества, которые сохранили свое значение и после победы пролетариата — конечно, значительно измененные под влиянием великой революции, уничтожающей старое и пробуждающей новое. Вот почему многие образы Горького оказались "пророческими"; и мы вспоминаем о них, например, когда речь идет о гнусностях контрреволюции, о различных формах пережитков капитализма и т. д.
Горький изображает прежде всего подготовку общенационального кризиса русского общества накануне революции. В смысле глубокой исторической взаимозависимости отдельных образов и типов все произведения Горького представляют собой связный цикл — "Человеческую комедию" предреволюционной России. Правда, их можно назвать циклом лишь в этом определенном отношении. Горький очень редко связывает отдельные произведения композиционно. В его произведениях изображены отдельные страницы, отдельные ступени и стороны великого процесса; люди, фигурирующие в отдельных произведениях Горького, не переходят из романа в роман, сталкиваясь друг с другом, как в "Человеческой комедии" Бальзака.
Это различие отнюдь не случайно. Очень значительная часть творчества Горького посвящена изображению русской провинции, во всем ее варварском запустении и изолированности. Внешний мир и даже ближайшее соседство маячит где-то на горизонте. Бальзаковское связывание отдельных произведений путем появления в них одних и тех же персонажей звучало бы здесь фальшиво.
Только в изображении перетряски всего общества революцией идея цикличности закрепляется у Горького и в композиционном смысле ("Егор Булычев" и "Достигаев").
Значительное место в творчестве Горького занимает русская провинция. Изображая жизнь маленького города, казалось бы, замкнутую в своем тесном кругу, Горький с большим мастерством показывает, как изолированно, не задевая жизни широких кругов населения, проходили начальные события русского революционного движения, как оторваны были от массы первые революционеры-народники и как, по мере возникновения и усиления рабочего движения, это положение заметно меняется. В "Климе Самгине" Горький показывает уже реакцию буржуазной интеллигенции на рабочее движение.
Через все творчество Горького красной нитью проходит уверенность в том, что люди не могут так жить, как они жили в царской России. Начав с изображения деклассированных отщепенцев буржуазного общества, Горький постепенно раздвигает рамки картины и глубоко затрагивает в своих произведениях общий сдвиг классовых взаимоотношений в России за последние десятилетия пeред революцией. При этом он в першую очередь показывает, как человек становится сыном своего класса.
Такая постановка вопроса резко отделяет Горького от современной буржуазной литературы и ее теоретической базы-вульгарной социологии. В последней человек и класс образуют механическое единство; классовое бытие человека здесь почти биологическая, во всяком случае фаталистическая обреченность, непреложная судьба. Социологическая литература наделяет людей признаками классовой принадлежности примерно так же, как и в старые времена палачи клеймили преступников каленьям железой перед отправкой их на каторгу.
Совсем иначе, сознательно выступая против этой точки зрения, определяет значение классовых признаков Горький. Он говорит:
"Неоспоримо, что "классовый признак" является главным и решающим организатором "психики", что он всегда с различной степенью яркости опрашивает человеческое слово и дело. В каторжных, насильнических yсловиях государства капиталистов человек обязан быть покорнейшим муравьем своего муравейника, на эту роль его обрекает последовательное давление семьи, школы, церкви и хозяев, чувство самосохранения усиливает его покорность к закону и быту; все это так, но конкуренция в недрах муравейника до того сильна, социальный хаос в буржуазном обществе так очевидно растет, что тоже самое чувство самосохранения, которое делает человека покорным слугой капиталиста, вступает в драматический разлад с его "классовым признаком".
В этом теоретическом обосновании своей творческой практики Горький выказывает несравненно более глубокое понимание диалектического характера связи между общественным классом и индивидуумом в капиталистическом обществе, чем многие наши марксиствующие "социологи". Сам Маркс говорит об этом взаимоотношении класса и индивидуума в капиталистическом обществе следующее:
"…В ходе исторического развития и как раз вследствие неизбежного при разделении труда превращения общественных отношений в нечто самостоятельное появляется различие между жизнью каждого индивида, поскольку, с одной стороны, он является личностью, а с другой-подчинен той или другой отрасли труда и связанным с нею условиям…
…Отличие личного индивида от классового индивида, случайность для индивида жизненных условий, появляется лишь вместе с появлением того класса, который сам есть продукт буржуазии. Только конкуренция и борьба индивидов друг с другом порождает и развивает эту случайность, как таковую.
Поэтому при господстве буржуазии индивиды представляются более свободными, чем они были прежде, ибо их жизненные условия случайны для них; в действительности же они, конечно, менее свободны, ибо более подчинены вещественной власти"[2].
Горький изображает именно эту случайность. Он изображает сложный и полный противоречий процесс воспитания классового индивидуума самой жизнью, т. е. показывает, как вырабатывается человеческая личность в результате взаимодействия человека и его общественного окружения, как в этом процессе возникновения личности проявляются, растут, ослабевают, переплетаются, переходят в свою противоположность те черты, которые превращают человека в классового индивидуума.
Горький повсюду подчеркивает драматический, полный конфликтов характер этого процесса. Он — так же, как и Маркс — видит, что эти конфликты ярче всего сказываются е тех случаях, когда жизнь индивидуума становится средоточием объективной борьбы интересов отдельных классов, когда индивид стоит перед необходимостью принять решение. Тогда-то и выявляется, какие классовые признаки стали в нем господствующими в итоге его индивидуального развития.
Это развитие идет, так сказать, от противоречия к противоречию. Правда, исход каждого конфликта предопределен всем предшествующим развитием человека и самым характером конфликта, следовательно, необходим, но отнюдь не в фаталистическом смысле. Постоянно возникают неожиданности: те или иные предпосылки развития "вдруг" занимают важнейшее место в облике человека. Так, например, бедняк и сирота Илья Лунев ("Трое") становится, в результате ряда случайностей, торговцем. Он глубоко неудовлетворен своей жизнью, он ищет "настоящих людей", которые могли бы указать ему путь к достойному человека существованию. Но когда Медведева в которой он нашел такого человека, упрекает его в том, что он, купец, живет за счет неоплаченного труда пролетариев, в нем вдруг, удивляя его самого, сказывается классовое сознание купца. С таким же изумительным драматизмом, но с прямо противоположным исходом, протекает конфликт между Ильей Артамоновым и его отцом. Потенциальное противоречие, основанное на том, что Илья не хочет брать на себя фабрику, драматически обнаруживается и приводит к полному разрыву, когда отец бросает ему упрек: "Мы работали, а тебе гулять? На чужом труде праведником жить хочешь?"
Само собой разумеется, эти примеры — крайние случаи разрешения давно назревшего драматического противоречия. Однако менее резкие конфликты, не имеющие, казалось бы, никаких последствий, носят тот же внутренне-драматический характер. Они являются вехой на пути осознания человеком самого себя, на пути открытия новых возможностей его личного развития, возможностей, которые существовали уже давно, пока, быть может только в воображении данного человека. Так, Матвей Кожемякин выступает в дискуссиях, организованных старым ссыльным революционером, с пропагандой своеобразной идеологической амнистии для всех классов особенно для купцов, и примирения их — это выступление сразу объясняет, почему освободительные попытки Матвея неизбежно должны были оказаться бесплодными и почему они впредь так же точно обречены на бесплодие.
Не случайно подобные конфликты так часто возникают у Горького в связи с вопросом о взаимоотношениях между экоплоататорами и эксплоатируемыми.
Не случайно и то, что отношение к эксплоатации человека человеком становится центральным моментом в личных конфликтах персонажей Горького. Великая творческая задача Горького заключалась в изображении развития современных классов в старой России, стране зачаточного "азиатского" капитализма, с пережитками крепостничества в экономическом бытии и сознании людей. У западных современников Горького предметом изображения является уже вполне сложившееся капиталистическое общество с "готовыми" классами, в которых положение отдельных индивидуумов было значительно более определенно, чем в России, переживавшей глубокую и быструю ломку всех общественных отношений.
В полном соответствии с исторической истиной Горький изображает в своих произведениях настоящую "кухню ведьм", в которой новые классы капиталистического общества вывариваются из старых, разлагающихся феодальных и полуфеодальных классовых образований.
Но этим не исчерпывается своеобразие изображаемого Горьким мира. Возникновение современного капитализма в России является в то же время периодом империалистического загнивания капитализма, периодом назревания предпосылок буржуазной революции, которая в России перерастала в пролетарскую. В рамках этой исторической ситуации процесс возникновения капиталистического общества является в то же время процессом его распада и гниения. Великое искусство Горького заключается в том, что при изображении каждого отдельного персонажа он замечает оба момента развития в их нераздельности.
В ряде своих романов и рассказов Горький изображает несколько поколений капиталистов, чтобы как можно точнее проследить неравномерное и сложное развитие буржуазных отношений. Так, уже в повести "Фома Гордеев", он дает различные типы старых русских купцов, которые не только резко отличаются друг от друга по своим индивидуальным особенностям, но иллюстрируют различные стадии развития "азиатчины", о которой писал Ленин, как в ее нетронутом девственном виде, так и в процессе "модернизации". Особенно ярко выявлена эта лукавая, азиатская форма смешения старого и нового в облике старого Маякина, Гениально изображен и сын Маякина, который окольным путем, через сибирскую ссылку, становится в итоге копией своего отца, лишь несколько модернизованной. В зяте Маякина тот же тип беззастенчивого и хитрого купца воплощается в более "цивилизованных" формах.
Еще более диференцированно изображен этот процесс в "Деле Артамоновых". В лице Петра Горький показывает косность и неспособность к развитию части старого купечества; в Алексее, напротив, изображено ловкое, хитрое и жульническое приспособление другой части купечества к "модернизующемуся" капитализму. В третьем поколении сказывается, с одной стороны, влияние приближающейся революции — переход Ильи Артамонова в лагерь революционного пролетариата; с другой, в облик Мирона — сочетание модернизации и разложения и, наконец, в лице Якова — сочетание старомодной косности и неповоротливости с психологией паразита империалистической эпохи.
Социальные предпосылки этого развития, хаос, дикость и варварство периода первоначального накопления в России изображены с величайшей полнотой. Не случайно, что в каждом "купеческом романе" Горького содержится ряд биографий, показывающих, как составлялось то или иное состояние. Во всех этих биографиях говорится об убийствах, воровстве, беззастенчивом вымогательстве и обмане, темных махинациях и т. п. Это изображение немного похоже на картину первоначального накопления в Англии, нарисованную великими реалистами XVIII в.
Само собою разумеется, что основное, внимание Горького направлено в сторону жертв, а не палачей. Свой творческий путь он начал с изображения деклассированных этим процессом, лишенных почвы людей. Рисуя деградацию отдельной личности, он в то же время дает потрясающую картину той бесчеловечной формы, в которой совершается пролетаризация крестьян и мелких ремесленников.
Однако такой многосторонний художник, как Горький, не мог изобразить распад старых общественных форм только как процесс деклассирования. Большинство изображаемых им капиталистов вышли первоначально из той же бесконечно широкой массы мелких людей. Изображая "подъем" человека к богатству, Горький показывает, что малейшая доля человечности, порядочности, совестливости неизбежно мешает такому подъему. "Воспитание" Ильи Лунева заключается в том, что он становится свидетелем убийства и частичным соучастником воровства. Он сам пытается "подняться" посредством убийства и ограбления старого ростовщика. Начало-многообещающее, убийство остается нераскрытым, но Лунев все-таки срывается, потому что "по-человечеству" для него оказывается невозможным проведение в жизнь его планов. Он отлит не из того металла "чистой преступности", из которого должен быть создан человек, чтобы выбиться "в капиталисты".
Горький изображает этот процесс разложения и перестройки чрезвычайно разносторонне. Он с полным основанием приписывает очень большое значение разложению всей идеологической системы старой России, в первую очередь — религиозных форм. Он изображает этот процесс во всей его сложности. Новая идеология никогда не возникает прямолинейно из разложения старой. Этот процесс всегда начинается с беспомощного брожении в умах широких масс, людей, охваченных разложением старых устоев. Апатия и короткие вспышки стихийного возмущения у слабые и обираемых, неясное и в то же время хитроумное приспособление своих эгоистических интересов к возможностям старой и новой идеологии — у "героев" первоначального накопления — таковы обычные формы этого психологического процесса. Поэтому Горький вполне последователен, выводя в своих произведениях столько "пророков" и обманщиков, заставляя свои персонажи много говорить о правде старой религии, о смысле жизни, пути к добру и т. д.
В этой идеологической путанице выражается растерянность, отчаяние и возмущение трудящихся масс, страдающих в одно и то же время от развития капитализма и недостатка этого развитии, от переплетения старой зависимости и нового гнета. Но безнадежное отчаяние и вспышки слепого гнева занимают внимание Горького только в первый период его творчества.
Соприкосновение с рабочим движением, все более глубокое понимание большевизма сыграли решающую роль в изображении революции у великого писателя. Он более критически подходит к представителям чисто стихийного бунтарства и яснее видит их внутреннюю неустойчивость. "Коноваловы способны восхищаться героизмом, но сами они — не герои. И лишь в редких случаях "рыцари на час", — говорит впоследствии Горький о персонажах, созданных им в первый период его творчества.
Значение связи с революционным рабочим движением сказывается у Горького, прежде всего, совершенно непосредственно — он сам становится великим художником революционной борьбы пролетариата и трудящегося крестьянства. Но этим непосредственным результатом далеко не исчерпывается благотворное влияние большевизма на творчество Горького. Большевизм дает ему возможность правильно понять движение всего русского общества, правильно оценить различные течения в среде либеральной оппозиции и в революционном движении, направленном против царизма.
Горький видит личный героизм народовольцев. Он не скрывает также идейную беспомощность движения народников, поверхностный и часто реакционный характер их мировоззрения, враждебность их методов интересам революционной борьбы. С большим мастерством изображает Горький одиночество первых революционеров среди мелкой буржуазии города и деревни, уже доведенной до отчаяния, но еще лишенной классовой сознательности. Несмотря на свое туманное мировоззрение, эти герои — белью вороны, выделяющиеся в массе своим интеллектуальным уровнем и гуманностью. Когда Матвей Кожемякин приглашает к себе такого революционера и его предупреждают, что тот был сослан в Сибирь, Кожемякин говорит: "Знаю-с… догадался я. По уму, извините".
В "Климе Самгине" Горький изображает разложение народничества и его постепенное приближение к вульгарному либерализму.
В этом последнем и, может быть, самом значительном своем романе Горький рисует живую картину постепенно го (проникновения марксизма в ряды интеллигенции, в то время как в "Матери" показано творческое влияние марксизма на рабочее движение. Первый процесс, по самой сути дела, более сложен и более запутан, С исключительной тонкостью изображает Горький источники возникновения легального марксизма и различных разновидностей меньшевизма Он не дает абстрактного классового анализа, но показывает, что для различных типов буржуазной интеллигенции искаженные формы марксизма играют совершенно необходимую роль. Горький дает чрезвычайно богатую и разностороннюю картину проникновения декадентских течений в идеологию формирующейся буржуазной интеллигенции. Метерлинк, легальный марксизм и многое другое смешиваются в головах молодого поколения. Эта идейная путаница представляет своеобразную и очень наглядную параллель к тому сочетанию азиатского варварства и новейшего европейского разложения, которое можно видеть у молодого поколения капиталистов, изображенных Горьким.
Все эти течения и тенденции показаны нашим великим писателем на фоне косного, внешне неподвижного болота повседневной русской жизни старого времени. Это мещанское болото как следует всколыхнулось только в 1905 году, его окончательно уничтожает только Великая социалистическая революция. В мире, изображенном Горьким, это болото грозит поглотить всякого, кто не сумеет постигнуть истину революции. Скука, господствующая в обыденной жизни маленького человека, нарушается лишь животными эксцессами пьянства и распутства, после ко-торых она становится еще сильнее. Бесцельное и бессмысленное прозябание или утрата своего места в этом жалком мире воспринимается, как "судьба". Вера в судьбу — идеология слабых и апатичных — служит извинением в пустой бессмысленности их бесцельной жизни.
Эта скука, эти животные вспышки, этот фатализм, по мнению Горького, теснейшим образом связаны с тем, что обитатели этого болота хотят жить замкнутой, эгоистической жизнью; являются ли они жертвами общественного порядка вещей или, наоборот, пользуются благами, которые он доставляет, они в одинаковой степени далеки от общественных интересов. В "Матвее Кожемякине" Горький с непревзойденным мастерством изображает такое болото- маленький русский городишко Окуров. Вот что говорит он об этой жизни:
"Чтобы разорвать прочные петли безысходной скуки, которая сначала раздражает человека, будя в нем зверя, потом, тихонько умертвив душу его, превращает в тупого скота, чтобы не задохнуться в тугих сетях города Окурова, потребно непрерывное напряжение всей силы духа, необходима устойчивая вера в человеческий разум. Но ее дает только причащение к великой жизни мира, и нужно, чтобы, как звезды в небе, человеку всегда были ясны видимые огни всех надежд и желаний, неугасимо пылающие на земле.
Из Окурова не видно таких огней".
Одна из наиболее замечательных черт творчества Горького заключается в том, что он умеет подметить единый принцип в явлениях, которые с первого взгляда кажутся прямо противоположными друг другу. Он видит, что животный, тупой индивидуализм старого мещанства продолжает неизменно жить в той части молодого поколения, которая получила новое образование, но не принимает активного участия в перестройке старой жизни, унижающей человеческое достоинство. Пожалуй, наиболее выпукло показано это в "Мещанах". В непрерывных и монотонных спорах между старыми и молодыми членами семейства Бессеменовых это "единство противоположностей" сказывается очень ясно. Исключенный из высшего учебного заведения студент, для которого участие в демонстрации является "ограничением свободы личности", в сущности, такой же трусливый и глупый мещанин, как и его отец. В этих нелепых и скучных спорах он будет продолжать бессмысленную жизнь своего отца.
2
Горький изображает этот мир не как хроникер, не как "социолог", а как воинствующий гуманист.
В гуманизме Горького прежде всего следует отметить непримиримую ненависть ко всякой апатии, к идеологии безразличия, преклонения перед "судьбой". Уже в ранней новелле "Коновалов" рассказчик, от лица которого ведется повествование, пытается убедить Коновалова в не-преодолимом влиянии обстоятельств — но тщетно, ибо даже этот "рыцарь на час" не может и не хочет воспринимать жизнь как некую фаталистическую неизбежность.
В большинстве своих произведений Горький изображает побежденных. Но герои эти побеждены в сложной и богатой перипетиями борьбе, исход которой в каждом отдельном случае не предрешен заранее. Конечный результат определяется сложным взаимодействием воспитания, среды, случайных встреч и событий. Классовая закономерность ясно показана в конечном результате; она слита в глубокое и сложное единство с индивидуальной необходимостью определенной человеческой доли. Но это единство, это объединение индивидуальной судьбы и социальной необходимости всегда является результатом сложной борьбы и никогда не дано как исходный момент, как предпосылка.
Только такое изображение индивидуальной жизни позволяет Горькому — в противовес современным буржуазным реалистам — показать человеческие возможности, погибающие под тяжестью неблагоприятных обстоятельств. Но это изображение уничтоженных человеческих ценностей отнюдь не носит у Горького характера мягкого, сентиментального сострадания. Он с беспощадной правдивостью рисует могущество социальных сил, определяющих судьбу индивидуальности. Он показывает в то же время отрицательные свойства личности, явившиеся непосредственной причиной ее падения.
Однако Горький не только воинствующий гуманист. Он в то же время гуманист пролетарского типа. Скорбь, ненависть, возмущение лучших буржуазных писателей по поводу деградации личности неизбежно имеют фаталистический характер или носят на себе отпечаток "чистой", оторванной от социальной жизни "общечеловеческой" этики. Для этих писателей характерно или романтическое отвращение к капитализму или иллюзии буржуазного прогресса. Напротив, Горький рисует живую диалектику всех общественных и движущих сил, формирующих человека. Когда Горький говорит о разуме, силе, труде, страсти, доброте, или о противоположных явлениях: злобе, неразумии, слабости и т. д., речь его всегда конкретна, полна социального содержания. Он никогда не ищет формальной середины между двумя крайностями и в то же время не является слепым апологетом одной из сторон. Разум? Да, разум безусловно следует признать положительным явлением, противостоящим тупости повседневной жизни. Но сейчас же встает вопрос: какой разум? Разум преобразователя общества или разум ловкого жулика? Так же показана у Горького диалектика добра. Он страстно утверждает доброту в противовес жестокосердному отгораживанью друг от друга в болоте мещанства. Но в то же время он ясно видит, что доброта, проявляющаяся в определенном направлении, в сочетании с конкретным предрасположением характера, может быть началом гибели личности. Все человеческие черты Горький всегда рассматривает в связи с общественным процессом освобождения человечества, в связи с великой борьбой, порождающей настоящих людей.
Творчество пролетарского гуманиста Горького является вместе с тем сохранением и обогащением гуманистического наследия прошлого, в первую очередь — наследия русской культуры. Горький самым непосредственным образом связан с идеями русской литературы, от Пушкина до Толстого и Чехова, с идеями русских критиков.
Его произведения свидетельствуют о нерушимой народности и жизненности классической русской литературы. В своих произведениях Горький неоднократно подчеркивает, какое громадное и серьезное влияние оказывают русские классики именно на народную массу. И наоборот- он часто изображает литературные занятия "образованных", как простую игру, снобизм, самоотравление идеологией европейского декаданса. Один из многочисленных примеров возбуждающего действия классической литературы — то впечатление, которое лермонтовский "Демон" произвел в мастерской богомазов ("В людях").
Большая литература делает слепого зрячим. Она дает человеку возможность осознать самого себя. Горький борется в первую очередь против тупости, отсутствия у человека ясного представления о собственной жизни. Горький верит, что выработка подлинной сознательности неизбежно связана с борьбой за освобождение человечества. Тупое бессилие, непонимание самого себя являются в его глазах самым страшным последствием царского режима. В повести "Мать" старушка Ниловна вырабатывает в себе ясный и сознательный взгляд на свою жизнь благодаря общению с революционерами. Раньше она была настолько забита, что не помнила о своем прошлом. В качестве контраста Горький рисует целый ряд лиц, окончательно утративших воспоминание о своей собственной жизни, тупо прозябающих в серых буднях и живущих, собственно, только от одного опьянения к другому.
В этом изображении отупляющей силы быта Горький является продолжателем лучших традиций классической литературы.
Большие проблемы искусства возникают не вдруг, они не являются выдумкой гениальных мастеров, это "изобретения" самой жизни. Известная связь и последовательность, наблюдающаяся между великими литературными образами, известная историческая традиция в создании этих образов является лишь отражением действительных связей, существующих в объективной жизни. Это было замечено уже Добролюбовым и Чернышевским. Прекрасный пример-разбор "Обломова" Добролюбовым. Касаясь целого ряда литературных образов, от пушкинского Онегина до Обломова, Добролюбов показывает непрерывность возникновения и в то же время непрестанное развитие определенной темы.
Не случайно этот образцовый критический разбор был написан как раз по поводу "Обломова". Роман Гончаровa с редко встречающейся силой художественного обобщения освещает некоторые моменты развития России, связанные с ее отсталостью в прошлом.
Не случайно и то, что Горький как публицист и как художник обращается к проблеме обломовщины, к ее истолкованию у Добролюбова, и по-своему, в соответствии с условиями своего времени, развивает и еще более обобщает эту тему. Борясь против "карамазовщины", Горький следующим образом характеризует Ивана Карамазова, как Обломова:
"Всматриваясь в словоблудие Ивана Карамазова, читатель видит, что это — Обломов, принявший нигилизм ради удобств плоти и по лени, и что его "неприятие мира"- просто словесный бунт лентяя, а его утверждение, что человек — "дикое и злое животное", — дрянные слова злого человека".
Таким образом, Горький толкует обломовщину широко. Он показывает, что это явление постоянно встречается там, где громкие слова или мнимо возвышенные чувства скрывают от самого человека недостаток воли и желания бороться за изменение мира. Ряд Обломовых, изображенных Горьким, завершается уже новым и вполне отрицательным типом Клима Самгина. Горький продолжает и первоначальную традицию "Обломова": он изображает человеческие типы, у которых именно мягкий, бездейственный, но привлекательный и не лишенный известной ценности характер является причиной их личного падения. У Гончарова эти черты Обломова теснейшим образом связаны с его паразитическим помещичьим существованием. Горький обобщает проблему, показывая черты этой гибельной бездейственности в различных классах русского общества.
Проблемы обломовщины приобретают у него более "плебейский" характер. Яснее всего это сказывается в образе Якова ("Трое"), Яков отвечает Илье Лунезу, который хочет расшевелить его, совсем в духе Обломова:
"— Ты сердишься, а — напрасно. Ты подумай: люди живут для работы, а работа для них… а они? Выходит — колесо… Вертится, вертится, а все на одном месте. И непонятно, — зачем".
Основа обломовщины, изображенной Горьким, — индивидуалистическая, замыкающаяся в своих тесных рамках мещанская жизнь. У лучших обитателей этого болота возникают прекрасные, глубоко человеческие чувства, возникает глубокое недовольство жизнью и отчаянные попытки создать подлинно человеческое существование. Но все эти попытки рушатся из-за безволия и бездействия; источник же этого бездействия — в эгоистической замкнутости обывателя. В Матвее Кожемякине Горький дает самый глубокий и самый полный образ этого нового Обломова. Чисто обломовская черта Матвея Кожемякина заключается в том, что ему хотелось бы заменить уродливую, грязную, разящую водкой "идиллию" своего паразитического существования прекрасной, достойной человека идиллией. Он влюбляется в революционерку. "И представлялась тихая жизнь без нужды в людях, без скрытой злобы на них и без боязни перед ними, только — вдвоем, душа с душою".
Когда Кожемякин мечтает о совместной жизни с любимой женщиной, у него возникают картины монастыря или замка. Конечно, гибнет не только эта любовь, но и вся жизнь Матвея Кожемякина. Но его сродство с Обломовым проявляется также в правдивости и нежности его чувства. Читая дневник престарелого Матвея Кожемякина, молодая девушка восклицает: "Господи, это хорошо! Точно у Тургенева". Читатель невольно вспоминает статью Чернышевского о Тургеневе "Русский человек на rendez-vous".
Возвращение Горького к проблеме "обломовщины" является, как мы уже говорили, ее дальнейшей разработкой и обобщением. Это сказывается не только в изображении людей обломовского типа, но еще больше — в дальнейшем развитии образа практического антагониста Обломова — Штольца. У Гончарова Штольц является только представителем практической деятельности вообще. Добролюбов с предельной ясностью видит эту беспочвенность Штольца в тогдашней русской жизни, абстрактно-утопичный характер этого образа. Выяснив социальные причины этой абстрактности, Добролюбов резюмирует свой взгляд следующим образом:
"Оттого-то из романа Гончарова мы и видим только, что Штольц-человек деятельный, все о чем-то хлопочет, бегает, приобретает, говорит, что жить — значит трудиться, и пр. Но что он делает и как он ухитряется делать что-нибудь порядочное там, где другие ничего не могут сделать, — это для нас остается тайной".
В некоторых типах Горького эта абстрактная деятельность резко диференцируется, ее конкретная диалектика становится очевидной. Горький противопоставляет Обломову, с одной стороны, такие образы, как Маякин, Алексей или Мирон Артамонов, а с другой стороны — сознательных героев революционного рабочего движения. борьба решает судьбу России. Сам Обломов в новых условиях становится интересной и очень широко распространенной, но только эпизодической фигурой, в широком историческом смысле.
Оригинальная разработка этой старой темы в произведениях Горького является лишь одним из многочисленных примеров того, как п его. творчестве оживают традиции русской литературы. Соициалистический реализм Горького воспринял это наследие так же точно, как Великая социалистическая революция явилась наследницей лучших традиций освободительного движения прошлого. Установить многочисленные нити, связывающие Горького с классической литературой XIX в. и показать то новое, что внесено им в прежнюю художественную традицию, — такова важнейшая задача истории нашей литературы. Решение этой задачи явилось бы одновременно дальнейшим развитием добролюбовской критики.
3
В творчестве Горького очень важную роль играет автобиографический элемент. Это сближает его со многими выдающимися писателями нового времени (вспомним хотя бы таких художников, как Руссо, Гете или Толстой). Сходство далеко не случайное. Великие художники, рисующие основные черты своей эпохи во всей их жизненной полноте, должны были сами пережить нарастание и развитие определенных проблем, наиболее характерных для всего их творчества. То, как происходит это непосредственное освоение исторического содержания данной эпохи, весьма характерно для нее самой.
Большой писатель-рассказчик воспринимает не только содержание своего творчества, но и его основные стилистические особенности, как нечто данное исторической действительностью. Творческое своеобразие отнюдь не является для него частным делом, чисто субъективным моментом. Напротив, бедность многих писателей новейшего времени объясняется именно тем, что они не в состоянии взглянуть на свое личное развитие исторически-объективно. Другие писатели, даже такие как Флобер, усматривают в своей субъективности элемент, мешающий объективному характеру произведения. Впрочем, подобный "аскетизм" отнюдь не мешает проникновению ложно-субъективных элементов в повествование.
Автобиографические произведения Горького выдержаны в духе классических автобиографий. Можно даже сказать, что основное различие между ними, "личная нота" горьковской автобиографии заключается именно в ее исключительной объективности. Это не значит, что тон рассказа Горького беспристрастен. В отношении тона автобиографические произведения Гете значительно более объективны. Объективность Горького заключена скорее в самом содержании автобиографии, в том отношении к жизни, которое в ней проявляется. Автобиография Горького совершенно исключительна в том отношении, что в ней чрезвычайно мало субъективно-личного. Горький изображает процесс своего собственного развития через посредство тех обстоятельств, событий и людей, которые содействовали его росту. Только говоря об известных "узловых станциях" своей жизни, он показывает, как то или иное событие подняло его личность на более высокую ступень. Но даже это Горький далеко не всегда делает в форме непосредственного субъективного обобщения, а нередко предоставляет самому читателю составить себе представление об этом развитии на основании объективно изображенной ситуации. Такое построение своей автобиографии Горький поясняет собственными словами:
"В детстве я представляю себя ульем, куда разные простые серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек но всякое знание-все-таки мед".
Эта объективность — самый личный момент в автобиографии Горького, ибо здесь проявляется его глубокая связь с жизнью трудящегося народа, этой базы его непримиримого воинствующего гуманизма. В самом начале своей автобиографии он определенно выясняет эту связь между объективностью и гуманизмом. Горький пишет, что детство его кажется "суровой сказкой", которую он все-таки должен рассказать, несмотря на все заключающиеся в ней ужасы.
"Но правда выше жалости, и, ведь, не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живет — простой русский человек" (Подчеркнуто мною. — Г. Л.).
Здесь ясно обнаруживается связь между объективностью Горького и его воинствующим гуманизмом: это та партийность материалиста, о которой писал Ленин, полемизируя против ложного объективизма Струве. Об этом единстве объективности и партийности ясно говорится в самой автобиографии в связи с великой борьбой за освобождение трудящихся:
"Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла я по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной".
Это было написано з 1913 г. Горький тут же прибавляет, что самое удивительное в жизни заключается не только в ужасающей силе этой животной подлости, но и в том, что "сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе — человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой". Итак, именно объективность является основой настоящей борьбы с силами темного царства.
Горький понимал, что именно эта черта отличает большую литературу от малой, что она является основой различия между классической традицией и ложным субъективизмом его современников. Вот, что пишет Горький в одной статье 1908 г.:
"Для старых писателей типичны широкие концепции, стройные мировоззрения, интенсивность ощущения жизни, в поле их зрения лежал весь необъятный мир. "Личность" современного автора — это его манера, писать, а личность — комплекс чувств и дум-установится все более неуловимой, туманной и, говоря правдиво, жалкой. Писатель- это уже не зеркало мира, а маленький осколок; социальная амальгама, стерта с него, и, валяясь в уличной пыли городов, он не в силах отразить своими изломами великую жизнь мира и отражает обрывки уличной жизни, маленькие осколки разбитых душ".
Автобиографические произведения Горького показывают, как возникает настоящее "зеркало" в современном мире. Они выдвигают большую проблему — проблему значения восприимчивости для художника. Смысл восприимчивости совершенно искажен в позднейшей литературе. Существует ложное, но твердое убеждение в том, что сущность восприимчивости-в пассивном отражении, что восприимчивость якобы исключает возможность активного подхода к жизни и ее проблемам, что она якобы является противоположностью практического начала. Это неправильное, представление родилось из новейшего субъективизма. Горький верно отмечает в этом потерю "социальной амальгамы".
Такие писатели живут только собой. Для них восприимчивость означает внимательное прислушиванье к своим внутренним переживаниям, к переживаниям своего я. Их внимание направлено не на внешний мир, не на самую жизнь — они наблюдают процесс своей собственной реакции на внешние явления, и "восприимчивость" их превращается в абсолютно пассивное созерцание своего собственного живота. Эта противоположность между Горьким и другими современными писателями ярче всего выражена, пожалуй, в его воспоминаниях о Леониде Андрееве. Андреев- писатель большого таланта; в своих разговорах с Горьким он был относительно откровенен. В один из моментов такой откровенности Андреев жалуется Горькому на то, что тот всегда и везде находит интересных людей, а ему, Андрееву, это никогда не удается. Но Андреев не видел, что дело здесь не в удаче или неудаче, а в естественном результате различного подхода обоих писателей к жизни. Андреев обладает чрезвычайно живой фантазией и связанной с ней большой, но не имеющей определенного, направления, способностью к абстрагированию. Как только он сталкивается с тем или иным жизненным явлением его фантазия сейчас же перерабатывает это явление, переводит его на более высокую ступень поэтической абстракции. Этим исчерпывается для Андреева интерес к любому жизненному явлению. Он не обладает терпением, необходимым для того, чтобы вскрыть в этом явлении его настоящую правду, понаблюдать за ним со всех сторон, на различных ступенях развития, упорно и систематически сравнивать его с другими явлениями — и только тогда создать образ этого явления, как можно более полно со- ответствующий его жизненному богатству.
Хотя с формальной точки зрения это звучит парадоксально, но мы сказали бы, что терпеливость Горького является следствием его активности, а нетерпение Андреева происходит оттого, что он не принимает активного, практического участия в битвах своей эпохи, ведет исключительно "писательское" существование. Существенные черты действительности, для осознания которых необходима терпеливая восприимчивость Горького, становятся видимы только в связи с жизненной практикой; они понятны только тому человеку, чья жизнь имеет практическую направленность.
Значение различия между существенным и несущественным, между истинным и только интересным, но часто в то же время ложным и поверхностным, приобретает решающее значение именно с точки зрения жизненной практики. Для человека, относящегося к жизни пассивно, разница между существенным и несущественным, правильным и ложным стирается. Существенные моменты в других вещах и в других людях выявляются только в непрерывном взаимодействии между человеком и внешним миром, взаимодействии, которое возникает на почве практической деятельности. Только практика определяет выбор, помогает найти принципы отбора и проверяет правильность выбранной точки зрения.
Но активность без восприимчивости слепа. Только страстное приятие мира, каков он есть, во всей его неисчерпаемой многосторонности и непрестанной изменчивости; страстная жажда учиться у жизни; любовь к действительности, несмотря на все ее ужасы, которые ненавидишь и с которыми борешься, — любовь не безнадежная потому, что в этой жизни все-таки виден путь к добру, к человечности; вера в жизнь, в то, что, несмотря на повседневно проявляющиеся в ней глупость и злобу, она идет вперед своими собственными силами, силами человеческих стремлений, — только такая страстная восприимчивость к жизни является основой настоящей практической деятельности.
Это- оптимизм без иллюзий. Иллюзии маскируют действительность. Человек во власти иллюзий живет не настоящей жизнью, а только своими иллюзиями или их крушением. Мнимая противоположность человека с иллюзиями — личность неверующая, разочарованная — также живет только собственным разочарованием и его личными причинами.
Современный пессимизм и оптимизм — иллюзии и разочарование — создают только схемы, пусть даже — как, например, у Андреева — фантастические и интересные схемы. Как иллюзии, так и разочарование — преграды, мешающие воспринимать действительность.
Жизненное богатство — предпосылка большого творчества. Оно определяет не только богатство материала, но и глубину творческих проблем, доступных писателю. Богатая жизнь писателя — необходимая предпосылка для изображения действительно типического. Может быть, яснее всего выражена эта связь у английского эстетика XVIII века Герда. Вот, что пишет Герд, комментируя слова Аристотеля о том, что Софокл изображает людей такими, какими они должны быть, Еврипид же — такими, каковы они на самом деле:
"Смысл этих слов следующий: Софокл при своем обширном общении с людьми расширил то ограниченное и узкое представление, какое образуется при наблюдении над отдельными характерами в законченное понятие целого рода. Напротив, философски мыслящий Еврипид, который провел большую часть своей жизни в Академии и оттуда хочет обозревать жизнь, слишком сильно прилеплялся к частному, к действительно существующим лицам, так что род растворялся в индивиде. И потому, смотря по сюжетам, он изображал свои характеры, конечно, естественно и правдиво, но иногда без высшего типического сходства, которое требуется для полноты поэтической правды".
Создание настоящих типов может явиться только результатом сопоставления отдельных индивидуумов, бога-того и обоснованного, т. е. заимствованного писателем из пережитой им жизни и подтвержденного жизнью, такого сопоставления, которое способно вскрыть закономерные основания этого высшего обобщающего средства как в индивидуальном, так и в социальном смысле. Чем богаче жизнь писателя, тем больше глубина понимание этой общности отдельных черт, тем более всеобъемлющим будет единство индивидуального и общественного в изображаемых им типах, тем интереснее и творчески все будут его образы.
Богато прожитая жизнь воспитывает в Горьком это способность создавать типы путем непосредственно сравнения совершенно различных людей. Само собой разумеется, что в этом воспитании большого писателя очень важную роль играла литература. Великая миссия классической литературы сказывается и в ее влиянии на молодого, формирующегося писателя. Но Горький с самого, начала всегда сопоставляет прочитанную литературу жизнью. Так, например, читая "Евгению Гранде" Бальзака он не только увлекается простотой и величием этого произведения, но сравнивает образ старого ростовщика со своим дедом.
При всей значительности литературных образцов решающим моментом остается все-таки богатая жизнь, страсть к восприятию и переработке ее разнообразных явлений. В автобиографических произведениях Горького очень интересны ранние образцы подобной "переработки" жизненных типов в сторону их обобщения. Приведем один характерный пример:
"Чистенький, аккуратный Осип вдруг кажется мне похожим на кочегара Якова, равнодушного ко всему.
Иногда он напоминает начетчика Петра Васильева, иногда — извозчика Петра, порою в нем является что-то общее с дедом — он так или иначе похож на стариков, виденных мною. Все они были удивительно интересные старики, но я чувствовал, что жить с ними нельзя, — тяжело и противно. Они как бы выедают душу, их умные речи покрывают сердце рыжею ржавчиной. Осип — добрый? Нет. Злой? Тоже нет. Он умный, вот что ясно мне. Но, удивляя своей гибкостью, этот ум мертвил меня, и, в конце концов, я стал чувствовать, что он мне всячески враждебен".
Итак, автобиография Горького показывает, как возникает в наше время великий художник, как сознание ребенка постепенно превращается в зеркало мира. Этот образ самого Максима Горького как одного из важных действующих лиц "Человеческой комедии" предреволюционной России, это изображение жизни как настоящего воспитателя большого художника — выступают еще яснее благодаря объективности стиля. Горький пишет портрет великого воспитателя — реальной действительности, он показывает, как жизнь сделала его человеком, поэтом, борцом. Именно личные переживания, непосредственное знакомство со всеми описанными в его произведениях тяжелыми явлениями жизни воспитали в нем этот воинствующий гуманизм. Толстой удивлялся доброте и силе Горького, говоря, что после всего того, что ему пришлось пережить, Горький имел полное право быть злым.
Неустанное внимание к жизни, глубокий интерес ко всем ее разнообразным явлениям, отсутствие самого отдаленного намека на внешнюю схематизацию — таковы чисто ленинские черты в личности Горького.
4
Исходным "моментом его творчества (так же, как у большинства великих рассказчиков) является новелла, т. е. рассказ о (каком-либо замечательном, выходящем за рамки повседневности событии. Это событие должно быть неожиданным, что (позволяет дать более рельефную характеристику одного или нескольких действующих лиц как в индивидуальном, так и в социальном отношении. Это-то свойство новеллы делает ее как бы первоначальным и наиболее популярным видом эпического повествования. Хорошие рассказчики из народа (а при известных условиях даже из высших классов), рассказывая своим слушателям о странных и в то же время характерных случаях жизни, стараются выявить типический момент, и бессознательно приближаются к форме новеллы. В самом начале своего творческого пути Горький создал законченные по своей форме новеллы. Это несомненно было не только продолжением литературных традиций, но в то же время — самым непосредственным проявлением стремления к художественному рассказу, порожденного его богатой жизнью; литературные традиции (пример великих художников прошлого только возвысили это стремление и сделали его вполне сознательным.
Но уже в этот ранний период творчества перед Горьким встают все проблематические стороны искусства новеллы, связанные с самой сущностью современной жизни. Чем сложнее становится общественная жизнь, тем труднее дать исчерпывающую характеристику человека на основании одного события его жизни. Особенно потому, что "случайность" (в соединении классовых и индивидуальных черт) сильно мешает выявить именно социально-типические черты человека в том неожиданной событии, о котором рассказывает новелла. Возможность такого выявления еще существовала в период раннего Ренессанса; она образует социальную основу новеллы Боккаччио и его современников. У этих писателей короткий рассказ отличается замечательной стройностью, в которой нет ничего искусственного, ничего схематичного, ничего абстрактно-стилизованного, как у современных подражателей классической новеллы.
Рамки современной новеллы расширяются в соответствии с большей сложностью ее материала: она изображает более или менее длинную цепь достопримечательных событии, которые, развиваясь "кресчендо", приводят к завершающему событию, соответствующему стилистической "pointe", концовке классической новеллы. Этот момент подготовляется предшествующими событиями, которые настолько разъяснили характеры действующих лиц, что концовка полностью обнаруживает сущность определенного лица как индивидуальную, так и общественную. Само собою разумеется, что такое расширение новеллы не только увеличивает се объем, но приносит с собой и важные стилистические проблемы.
Однако, несмотря на все необходимые новшества, основные формы старой новеллы остаются образцом и для новой. Без соблюдения определенных формальных условий, как напр., энергично и кратко изложенного действия, характеристики персонажей через развитие действия (а не наоборот и т. д.), новелла потеряется в тягучих описаниях среды, в психологическом анализе или вообще превратится в импрессионистическую картину. Это и происходит у большинства современных рассказчиков.
Со времен Бальзака и Стендаля крупнейшие писатели нового времени стараются придать своим сложным (состоящим из целой цепи событий) рассказам такую же четкую форму, какой обладала старая новелла. Это предъявляет большие требования к творческой фантазии писателей, ибо чем сложнее изображаемые противоречия, тем труднее найти такое единичное событие, в котором достаточно ярко и живо проявились бы различные стороны жизненных конфликтов.
Стремление к этой трудно достижимой новеллистической форме весьма характерно для Горького, причем не только в его новеллах в собственном смысле слова, но и в романах и автобиографиях. В его распоряжении — бездна живых образов; он напоминает в этом отношении Бальзака. Но, несмотря на это — или, пожалуй, именно благодаря этому — Горький идет в композиции своих произведений не от персонажей, а от событий, Только последние его романы являются в стилистическом отношении исключением из этого правила; однако, ранее усвоенные стилистические элементы заметны в методе характеристики героев этих романов.
Благодаря богатству своего жизненного опыта Горький располагает таким количеством материала, что он всегда имеет возможность выбрать наиболее яркий эпизод и, не нарушая жизненной правды, усилить его до степени чрезвычайного события. Ему никогда не приходится цепляться за серую повседневность в выборе персонажей и событий. Так как намерение его заключается в раскрытии нечеловеческих условий дореволюционной русской жизни, то в своем творчестве Горький исходит из особенно грубых, жестоких эпизодов. Чем сильнее эпизод, тем яснее показывает он то, что было вообще возможно в тогдашней России. Великое искусство Горького состоит в том, что он всегда умеет изобразить такие эпизоды не только как возможные, но и как типические реальные случай. Он показывает, что внутреннее развитие людей необходимо толкает их к жестокой развязке. Противоположная тенденция Горького, дополняющая раскрытие ужасов русской жизни, изображение ценных человеческих качеств, пробивающихся, невзирая ни на что, в этом мраке, — требует такого же "новеллистического" подхода, т. е. рассказа о драматических событиях, в которых неожиданно раскрываются человеческие характеры.
В течение XIX в. новелла приобретала свойства романа, а роман отчасти приблизился к новеллистической концентрированности изложения. Первый момент характерен для всего развития литературы XIX века, Только немногим большим художникам удалось спасти новеллистическую форму от разложения и гибели. Вторая тенденция характерна для лучших писателей этого периода, их борьбы против неблагоприятных условий, создаваемых для искусства капиталистическим обществом.
Горький следует традициям лучших европейских писателей, оставаясь, как всегда, вполне оригинальным. Не только в своей автобиографии, но и в обширном письме к Октаву Мирбо он говорит о глубоком влиянии, которое оказал на его развитие Бальзак. Влияние это основано на том, что оба великих писателя поставлены были перед сходной-конечно, с соответствующими видоизменениями — задачей: изобразить чрезвычайно сложные противоречия эпохи великих сдвигов, изобразить эти противоречия во всей их жизненной полноте. Для обоих писателей характерно большое внимание к процессу буржуазного разложения; в то же самое время как могучие художники они стремятся отразить этот процесс разложения в художественно завершенных, цельных произведениях. Не случайно поэтому, что первые романы Горького отличаются новеллистической концентрированностью композиции, так же как и очень многие значительные романы Бальзака.
Но при этом сближении романа и новеллы между ними все же остается большое различие которое всегда соблюдали- сознательно или, инстинктивно все большие художники. Новелла, и в современной своей форме, изображает наиболее напряженный момент в судьбе отдельного человека. Поэтому действие социальных сил и личных страстей изображается в ней как бы преувеличенно. Выдающийся художник умеет с достаточной убедительностью показать возможность существования подобных явлений. Вспомним хотя бы такие новеллы Горького, как "Страсти-мордасти", "Рождение человека" и др. В тех случаях, когда Горький хочет изобразить появление ценных человеческих свойств в изображаемом болоте, он также выбирает форму новеллы ("Емельян Пиляй").
Правда, этим далеко не исчерпывается круг новеллистических возможностей Горького. Форма новеллы дает ему возможность показывать на примере особенно интересных, "крайних" случаев диалектику классовой необходимости и личной судьбы. Он показывает, какими сложными, иногда прямо сказочными путями утверждается истина классового бытия, вопреки протестующему, заблуждающемуся или сбитому с толку сознанию. И здесь новелла является только вкладом в типологию, не исчерпывая всей полноты типического в его всеобъемлющей форме. Но самый факт возможности данной своеобразной судьбы отдельного индивида освещает необходимость типических классовых положений и значительно обогащает познание их. Вспомним, как "спасает" бесцельно мечтающего молодого купчика — Обломова из "Голубой жизни" — его класс, превращающий его в расчетливого и угрюмого купца.
Наконец, новеллистическая форма дает возможность изобразить в сравнительно изолированном виде определенные стороны большого общественного течения, большого социального комплекса, причем все движение в целом служит только общим фоном. Укажем хотя бы на прекрасный рассказ "Мордовка".
Иначе обстоит дело с новеллистическим характером первых больших романов Горького. Здесь типическое значение исключительного случая должно полностью выявиться в цепи изображаемых событий, оно должно стать основой изображения известного эпического целого, При создании романа большие художники несравненно сильнее ощущают неблагоприятность буржуазного материала для своего творчества, чем при создании новеллы. Эта трудность — проблема, общая для всех романистов XIX в.
Молодой Горький стоит перед еще более трудно преодолимыми препятствиями, чем его предшественники, великие писатели XIX в. Какое значение ни придает писатель изображению процесса индивидуалистического разложения общественных связей, ему, как творцу эпического произведения, необходимы известные точки опоры, прочные связи между людьми, общие сферы деятельности, общие предметы занятий и т. д., одним словом, видимый, ощутимый мир, в котором может эпически развертываться действие романа. Как известно, развитие капитализма все более разлагает эту "целостность объекта", как называет Гегель предпосылку эпической поэзии.
Бальзак и Стендаль еще во многом живут воспоминаниями о героическом периоде буржуазного развитии — о французской революции, Толстой — воспоминаниями о полуфеодальной, патриархальной деревенской жизни. Хотя эти великие писатели изображают именно разложение подобных жизненных форм, они все же имеют возможность богато использовать в своем поэтическом творчестве еще, уцелевшие от этого разложения остатки. Горький изображает процесс общественной ломки и разложения, зашедший значительно дальше, а, с другой стороны, он с гораздо большей обличительной, революционной страстью подчеркивает именно разложение cтарых жизненных форм, старых сфер человеческой деятельности. Он с большой полемической силой показывает, как эти старые жизненные формы потеряли все свое прежнее знамение, стали пустыми, бессодержательными масками, прикрывающими тупость и зверство дореволюционного быта.
Чтобы ясно ощутить это различие, вспомним хотя бы описания именин, свадеб, поминок и т. д. у Толстого и у молодого Горького. Нет у Горького ни одного изображения свадьбы, поминок и т. п. без какого-нибудь скандала, без свирепого проявления тупости и зверства, прикрываемых этими формами. Он использует эти "торжества" для изображения вспышки накопившихся противоречий. Так, например, в "Гордееве", на торжественном обеде в связи с освящением нового судна, доведенный до полного отчаяния Фома бросает капиталистам в лицо свою ненависть и свое презрение, рассказывая публично биографии присутствующих, со всеми убийствами и плутнями, совершенными этими людьми. Это наглядно-критическое изображение гниения старых жизненных форм является важной чертой творчества Горького. Так в "Матвее Кожемякине" он показывает, как старый народный обычай безобидной потасовки вырождается и ужасающе жестокую, зверскую драку. Дальнейшее развитие этого мы видим в "Климе Самгине", где Горький изображает массовую панику и гибель тысяч людей при "патриархальном празднике" коронации Николая II.
Горький с величайшей последовательностью идет по избранному пути. Из его произведений исчезают те события, предметы и отношения людей, которые придавали эпическим произведениям прежнего типа их значимость, их чувственно-ощутимы и, наглядный социальный смысл. Жизнь теряет свое видимое лицо. Жизнь распадается. Мы видели, как старые азиатские формы русского капитализма превращали людей в злых, ожесточенных отшельников, в существа, духовно и физически прозябающие в своих раковинах, как улитки. Эта животно-индивидуалистическая жизнь мелкобуржуазной массы приобретает, вследствие развития капитализма и поверхностной модернизации, только иную окраску. В жизни царит скука, тупое ощущение бесцельности. Тупое прозябание сменяется животными эксцессами.
Как можно изобразить в таких условиях длительное развитие значительных событий, как найти в этом мире мелкой случайности цельные, богатые, действительно жизненные характеры?
Уже Достоевский остро ощущает эту творческую проблему. В конце своего романа "Подросток" он очень подробно пишет о том, каким неблагодарным сюжетом для писателя является изображенная им "случайная семья". Иронически намекая на Толстого (но не упоминая его имени), Достоевский говорит, что только изображение старого русского дворянства может дать писателю благодарный материал, ибо только там можно найти "хоть вид красивого порядка". И он вкладывает в уста автора письма такое заключительное суждение о рукописи:
"Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства! Работа неблагодарная и без красивых форм" Горький берется за эту "неблагодарную" работу. Случайные люди, случайная среда, "случайное семейство"- все это приобретает у него яркий реалистический смысл, все подчеркивает разложение старой России.
Как всякий действительно большой художник Горький не закрывает глаза на неблагодарность этого жизненного материала. Только эклектики или эпигоны бегут от трудностей, которые ставит жизнь настоящему великому искусству. Действительно большой художник не создает себе иллюзий. Найти возможность подлинно художественного изображения в самых неблагоприятных обстоятельствах, использовать эту неблагодарность материала для создания новой, оригинальной формы — такова задача настоящего искусства.
Итак, Горький видит животную тупость дореволюционной жизни, ее "зоологический индивидуализм", безысходную скуку и внешнюю неподвижность. Он разлагает состояние косного покоя на непрерывную цепь движений, мелких приливов и отливов, вспышек, вызванных отчаянием, подъемов и депрессий. Он разлагает свинцовую тучу скуки на мелкие драматические сценки, полные внутреннего движения, трагизма и комических эффектов. Он создает в своих романах бесконечную цепь этих мелких, оживленных внутренним беспокойством сцен. Горький изображает возмущение людей окружающей средой, их отчаяние, погружение в апатию, одним словом — внутреннее и внешнее разложение человеческой личности под воздействием различных социальных сил русской жизни.
Одиночество для него не "душевное состояние", как для западных писателей (вне зависимости от того, проклинают они одиночество или превозносят его). В мире Горького, одиночество человеческое скорее темница, тюрьма. Уже Толстой изображал развитие людей не как прямолинейное движение, а как движение, происходящее в рамках определенной сферы, не отграниченной механически и навсегда от всего остального мира. У Толстого человека характеризуют крайние возможности, между которыми происходит его развитие.
Горький продолжает эту тенденцию значительно дальше Толстого. Он лучше Толстого понимает социальные причины ограниченности определенной "сферы", в которой совершается развитие человека. Он несравненно более сознательно и критически смотрит на социальные перегородки, отграничивающие эту сферу, он видит в них могущественные и жестокие силы, с которыми страстно борется всю свою жизнь. Поэтому личная "сфера" носит у Горького более четкий социальный характер, имеет определенную общественную историю и в то же время рассматривается с большей полемической острогой, чем у Толстого. Ограниченная "сфера" случайного индивида- это тюрьма человеческой личности. Одиночество человеческое превращается у Горького из состоянии в историю, в драматическое событие: Горький показывает, как постепенно из взаимоотношения между личностью и средой вокруг каждого отдельного человека возникают тюремные стены этого одиночества — особые для каждого человека, несмотря на общую социальную основу, "собственные" стены его одиночной камеры.
Поэтому Горький всегда уделяет большое внимание истории детства своих героев, в противовес, например, Бальзаку, который обычно касается воспитания своих героев лишь эпизодически. Может показаться, что Горький примыкает в этом отношении к традиции более старого романа (как "Ученические годы Вильгельма Мейстера" или "Том Джонс"). Но это сходство только кажущееся: Гете и Фильдинг изображают детство своих героев для того, чтобы показать зарождение положительных качеств своих героев, Горький, напротив, описывает детство, чтобы наглядно изобразить постепенное окостенение индивидуальности в мире взрослых людей. Горький рассматривает отведенный человеку "участок" как результат его личного развития. Он описывает не только возникновение тюрьмы, но и последующую историю неудачных попыток бегства из нее и в заключение показывает, как жертва в полном отчаянии разбивает голову о тюремные стены.
Скука становится у Горького драматичной, в одиночестве возникает диалог, болото посредственности поэтически оживляется, Горький не спрашивает подобно западным современникам: каков обыкновенный средний человек? Его интересует развитие — как возникают посредственности, как уродуется человек настолько, что становится посредственностью?
Здесь, в решающих творческих проблемах, сказывается значение воинствующего гуманизма Горького. Как все великие реалисты, он изображает деградацию человека под влиянием капитализма. В соответствии с условиями русской действительности, он изображает этот процесс значительно более ужасным, чем прежние писатели. Но как воинствующий пролетарский гуманист Горький видит в этом разложении только преходящую историческую необходимость, результат определенного периода человеческого развития, а не завершенный факт, не вековечную обреченность. С гневным возмущением разоблачает он это разложение, как специфическую, присущую буржуазному обществу болезнь. В изображении погибших возможностей он временами показывает человека цельного, еще не поддавшегося процессу разложения, и рисует самый процесс. Горький — единственный писатель своей эпохи, изобразивший фетишизацию человеческих отношений при капитализме, не поддаваясь ее влиянию и сознательно раскрывая ее сущность.
Творческая техника Горького определяется этой центральной проблемой его искусства. Мы можем остановиться здесь только на некоторых, наиболее значительных моментах. Прежде всего следует упомянуть о поразительной краткости отдельных сцен, из которых слагается эпическое целое его романов. Эта краткость является естественным следствием исторического разрушения "целостности объекта".
Но эти короткие сценки Горького полны напряженного внутреннего драматизма. Как все большие реалисты, он дает всестороннее изображение своих персонажей, обнаруживая свойства человека в, действии, а не при помощи описания или чистого анализа. Самая сущность изображаемого Горьким мира определяет краткость действий его героев, эти действия слишком часто бывают только вспышками отчаяния, за которыми следует возврат к апатии или зверству.
Вследствие этой "дефектности" своего материала кий вынужден отказаться от широты повествования, присущей старым образцам эпического рода. Но как прирожденный большой художник он не может отказаться ни от изображения процесса развития человека во всей его целостности, ни от изображения человека в действии. Отсюда у Горького своеобразный стиль как бы раздробленного изображения цельного человеческого образа. В следующих одна за другой коротких, действенных сценках он постепенно освещает своего героя со всех сторон. Все возможности каждого персонажа выявляются в его поступках; в итоге этих кратких, четко нарисованных сцен создается цельная картина богатства человеческой личности, подавленной капитализмом, выясняется индивидуальное и общественное единство этого потенциального богатства.
Пролетарский гуманизм Горького дает возможность безошибочно сохранять в этом отношении правильные пропорции. Горький обвиняет капитализм в разрушении человеческой личности. И тем не менее он далек от героизирования слепого возмущения личности, свойственного Достоевскому и его последователям. Правильные пропорции в изображении диалектики общественных и индивидуальных факторов являются у Горького не формальной гармонией, а результатом правильного понимания всего исторического процесса, который с железной необходимостью ведет через ужасы капитализма к пролетарской революции.
Короткие сценки Горького (в отличие от многих его современников) поднимают нас на большую духовную высоту. Следуя традициям классиков, он не ограничивает себя никакими натуралистическими рамками.
Изображая обыкновенных людей, он не теряется в обыденности мышления и не боится показывать в людях высокие духовные возможности данного определенного типа. Приведем из громадного количества возможных примеров только один. Старик Маякин находит у своей дочери тетрадку, в которой высказывается гегельянская мысль о том, что все существующее разумно. Старый мошенник реагирует на эту фразу с такой же страстностью, как папаша Гранде у Бальзака реагирует на цитату из Бентама. Он говорит:
"Это неспроста тоже сказано — все на земле разумно! Ишь… догадался кто-то! Н-да… это очень даже ловко выражено… И кабы не дураки — то совсем бы это верно бы было… Но как дураки всегда не на своем месте находятся, нельзя сказать, что все на земле разумно!!!.." Тут излишни всякие комментарии.
Возвышение маленьких сцен до определенной духовной высоты создает в то же время общую социальную связь, которая может совершенно отсутствовать в сознании отдельных людей. Они думают о своей личной судьбе и отчаиваются в сознании своего одиночества, — читатель же видит все экономические и духовные факторы, неизвестные этим персонажам, но объективно определяющие несчастье отдельной личности.
Эти возвышения над уровнем повседневности, эти сложные методы изображения целостного человека в мире, сущностью которого является именно разрушением разложение этой целостности, совершенно необходимы для того, чтобы повествование о жизни героев таких произведений Горького, как "Фома Гордеев" или "Трое", превратилось в настоящий, эпически законченный роман. Правда, роман очень своеобразный, патетически сосредоточенный, повесть гневного гуманистического протеста.
Возрастающая близость революционному рабочему движению, более глубокое приятие принципов большевизма, опыт первой русской революции вызывают коренное изменение стиля Горького. Трудно представить себе больший стилистический контраст между отдельными произведениями одного и того же крупного писателя, чем контраст между "Фомой Гордеевым" и "Матерью". И это различие отнюдь не является формалистическим измышлением Горького, а вытекает из самой сущности материала.
Вспомним о словах Ленина, взятых нами в качестве эпиграфа для настоящей статьи. В первых своих рассказах и романах Горький изображал людей, которые не могут жить по-старому. В "Матери" он показывает, что рабочие и крестьяне, или па меньшей мере их авангард, не хотят жить по-старому.
Это влечет за собой коренное изменение того человеческого материала, из которого строится мир произведений Горького. Сознательность вытесняет тупое отчаяние; подготовка к революции и революционное действие становится на место слепого бунта или тупой апатии. Новое расположение материала влечет за собой и новую манеру изображения. В повести "Мать" мы видим старую Россию со всеми ее ужасами и жестокостями, — они даже усиливаются вследствие того, что революционное движение массы вызывает зверские репрессии со стороны царизма.
Но решающее направление развития, определяющее судьбу людей, здесь совсем иное: указан трудный, но ясный путь, на котором рабочий класс преодолеет власть тьмы и создаст себе светлую, достойную человеческого существования жизнь.
Освободительная роль пролетарской революции изображается Горьким не только как перспектива развития, но как действительность сегодняшнего дня: пролетарское революционное движение еще до наступления революции освобождает, переделывает людей, участвующих в нем.
Поднимая, их над бессознательной тупостью их жизни, превращая в сознательных борцом за освобождение всего человечества, рабочее движение делает людей всесторонне развитыми, уверенными к себе, счастливыми людьми- несмотря на тягость их личной судьбы, несмотря на пытки, тюрьму, ссылку.
Так возникает в художественном стиле "Матери" неожиданная, но родившаяся из самого материала и поэтому художественно правдивая и убедительная гармония. Рассказ о героической борьбе авангарда рабочего класса возвышается до уровня простого величин эпоса. Из революционного разрушения старых жизненных форм, из революционного строительства организации рабочего класса возникает новая "целостность объекта". Стачка, первомайская демонстрация, суд, побег из тюрьмы — все эти картины отличаются увлекательной широтой и содержательностью настоящего эпоса. Даже вмешательство зверской репрессивной силы — как например, при демонстрации или похоронах — не является здесь простым "препятствием" как при изображении распада старых жизненных форм в романах с буржуазной тематикой. Нет, перед нами происходит великая борьба эпического масштаба, борьба света и тьмы. Эта особенность новой сферы действия людей изменяет также метод изображения их отдельных поступков. Отдельные сцены, при всей скупости изобразительных средств, приобретают простую эпическую широту, которую они ранее у Горького не имели.
Великий сдвиг, осуществленный этим произведением во всей литературе, заключается, следовательно, не только в том, что Горькому удалось изобразить положительных героев с помощью своего обычного метода — т. е. показать, как люди становятся положительными героями, как революционное рабочее движение воспитывает в них высоко развитую индивидуальность. Впервые за многие столетия литературного развития Горький — первый классик социалистического реализма — снова дает образец положительного пафоса эпического творчества.
Этот стилистический сдвиг, вызванный в творчестве Горького влиянием большевизма и революцией, изменяет стиль его позднейших произведений, несмотря на известное возвращение к сюжетам из буржуазной жизни. Само собою разумеется, что Горький не хочет и не может изменить основные творческие приемы, вытекающие из социальной природы изображаемого предмета. Жизнь буржуазии старой России, ее разложение не дают возможности рисовать, без насилия над материалом, такие широкие эпические картины, какие мы находим в повести "Мать". Взволнованная драматическая краткость отдельных сцен, дробный характер всестороннего изображения людей здесь попрежнему необходимы.
Но общее развитие повествованию в позднейших произведениях становится шире, спокойнее, эпичнее. Эти произведения неизменно рисуют движение капиталистического общества к собственной гибели, причем автор все время ясно видит, что этот путь ведет человечество к счастью. Исчезает неопределенная взволнованность юношеских произведений, драматическая лирика исканий, отчаяния. Их место занимает уверенное спокойствие большого гуманиста, который с предельной ясностью видит путь человечества. Это эпическое спокойствие и уверенность не ослабляют "пристрастности", не ослабляют обвинительного характера позднейших романов Горького. Напротив, его обвинительная речь звучит еще сильнее и убедительнее. Конечно это уже не резкая филиппика человека, занятого отдельным эпизодом борьбы, а глубокий обвинительный акт против всей капиталистической системы. Отсюда этническое спокойствие изображения, высокая степень типизирующего обобщения.
Автобиографические произведения Горького образуют стилистический переход от "Матери" к позднейшим большим романам. Они рисуют, как мы показали выше, противоречивый, но могучий и непреодолимый процесс, процесс развития великого пролетарского гуманиста Горького посреди чудовищного быта русской провинции.
В ряде прекрасных глубоко народных образов — укажем хотя бы на чудный образ бабушки — Горький показывает могучие силы, скрывающиеся в народе и предвещающие ему великое будущее.
Мы уже говорили кратко о первом из больших романов позднейшего периода, изображающем своего Обломова более мелкой среды, Матвея Кожемякина. ним следует мощное эпическое изображение роста и разложения русского капитализма, показанное на примере истории одной семьи — "Дело Артамоновых". Не случайно, что в этот период в разных, странах возникает мысль создать "роман поколений" на жизни капиталистов, показать историю упадка капитализма на примере одной буржуазной семьи. Так, Томас Манн пишет "Буденброков", Голсуорси- "Сагу о Форсайтах". Но даже эти крупнейшие буржуазные писатели способны правильно и глубоко изобразить эту деградацию капитализма только в ее психологических, внутренних явлениях. Они ограничиваются в своем изображении рассказом о вырождении одной семьи, приобретающей "символическое" значение только благодаря определенным приемам стилизации.
Горький так же изображает психологические черты упадка и уделяет большое внимание наследственности. Но у него живая связь с развитием всего общества, с вступлением этого общества в революционный период показана совсем иначе, гораздо богаче и шире, чем у крупнейших западных современников. Именно потому, что Горький ясно видит, куда ведет развитие современного общества, его романы, при значительно большей скупости изобразительных средств, достигают несравненно более высокой степени обобщения, большей эпической монументальности, чем произведения Манна или Голсуорси.
Мы уже говорили вкратце о последнем большом романе Горького. Не хватает слов для того, чтобы с достаточной силой выразить значение "Клима Самгина", как истории буржуазной интеллигенции перед революцией. Метод Горького, его уменье показывать живую взаимозависимость между идеологическим укладом и личной жизнью людей, связывая все это с развитием классовой борьбы, одерживает здесь блистательную победу. Следовало бы написать отдельную монографию о том, как изображает Горький проникновение марксизма в лагерь буржуазии и разнообразные искажения его в этой среде.
Однако Горький не только рисует историческую картину развития предреволюционной буржуазной интеллигенции, он показывает — совершенно в духе Бальзака — те тенденции, которые приобрели значение для позднейшего развития этой интеллигенции, для ее будущей позиции по отношению к диктатуре пролетариата.
Остановимся на центральной проблеме "Клима Самгина" — проблеме индивидуализма. В ранних произведениях Горький большей частью изображает людей, в которых живое зерно человеческой личности растоптано, размолото русской действительностью. В "Климе Самгине" он подходит к вопросу о личности с совершенно новой стороны. Он показывает полное отсутствие этого живого зерна, бесхребетность буржуазного интеллигента. Само собою разумеется, что этот мотив возникал и в более ранних произведениях Горького, но здесь он становится центральным моментом всестороннего, систематического изображения.
Эта бесхребетность, лежащая в основе новейшего индивидуализма, является общей проблемой буржуазной литературы второй половины XIX в. Может быть наиболее наглядную критику индивидуализма дал Ибсен, изобразивший стареющего Пера Гюнта за следующим занятием: Пер Гюнт очищает луковицу, сравнивая каждый слой ее с определенной фазой развития своей личности. Наконец, потрясенный, он замечает, что вся его жизнь, вся его личность представляет собой только груду шелухи без всякого зерна внутри. Свое завершение эта критика находит у Ибсена в прекрасном сатирическом образе пустого велеречивого болтуна Хьяльмара Экдаля в "Дикой утке".
"Клим Самгин" Горького — критика великолепная и далеко превосходящая Ибсена. Клим Самгин-это Пер Гюнт без фантазии, Хьяльмар Экдаль, делающий карьеру в более широком смысле этого слова. Бесхребетность — основная идея его жизни: он с детских лет старается играть роль какой-то личности и с беспринципностью дипломата скользит, как актер, по самым различным ситуациям. Глубина даваемого Горьким изображения заключается, с одной стороны, в том, что он проводит своего "героя" через всевозможные жизненные ситуации и с изумительной разносторонностью показывает, как одинаково выражается эта осторожная дипломатическая беспринципность в различнейших жизненных положениях — от любви до политики и деловых взаимоотношений и как в определенные моменты эта беспринципность прямо переходит в подлость.
С другой стороны, Горький показывает социальную обстановку, в рамках которой вырастает такой тип, Он показывает, насколько тесно связано развитие этого типа с обострением классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом. Ибсен и другие западные писатели в лучшем случае могли подойти к индивидуальному изображению этого" типа. Горький на протяжении всего романа дает почувствовать читателю приближение решающей схватки между пролетариатом и буржуазией. Очень сложным путем, лишенным какого бы то ни было педантизма, он показывает связь между развитием характера Клима Самгина и центральной проблемой эпохи. Очень характерны слова, которые кто-то из действующих лиц романа говорит молодому Климу: " — На все вопросы, Самгин, есть. только два ответа: да и нет. Вы, кажется, хотите придумать третий? Это желание большинства людей, но до сего дня никому еще не удавалось осуществить его".
Горькому удалось воплотить в изображении личной судьбы Клима Самгина эту сомнительную попытку значительной части буржуазной интеллигенции найти "третий путь" между революцией и контрреволюцией, между буржуазией и пролетариатом. Разоблачение бесхребетного филистерства Клима Самгина завершает картину предреволюционной России, нарисованную Горьким, превращая ее в картину вполне законченную, охватывающую все важнейшие моменты, в "Человеческую комедию" бальзаковского типа. Горький как великий историк этого периода, как живописатель гибели старого мира становится одним из видных участников борьбы за уничтожение этого мира, одним из значительнейших его могильщиков.
Но этот мир не может быть убит и уничтожен сразу, его нужно уничтожать систематически и постепенно, кусок за куском, он похож на того легендарного дракона, у которого вырастают новые головы на месте отрубленной старой. "Человеческая комедия" Горького — не только бессмертное изображение уничтоженного старого общества, но в то же время одно из самых действенных орудий борьбы с еще живыми его остатками. Зверство кулака и утонченная "культурность" вредителя уходят своими корнями все в тот же мир варварского капитализма, беспощадному разоблачению которого посвящена большая часть "Человеческой комедии" Горького. Горький снова и снова, все Е новых разрезах ставит эту проблему, он отнюдь не склонен недооценивать опасность. Горький не считает врага уничтоженным до тех пор, пока он не будет выкорчеван совершенно. Это также ленинская черта. И враг оценил эту непримиримость гениального писателя, друга великого Сталина. Убийство Горького — свирепая месть тех грязных и жестоких людей, с которыми он боролся всю свою жизнь.
Но "Человеческая комедия" Горького тем и отличается от "Человеческой комедии" Бальзака, что содержание ее не исчерпывается законченным изображением старого зверства. У Бальзака где-то на горизонте маячит эпизодическая фирура Мишеля Кретьена, героической жертвы баррикадной борьбы у монастыря Сен-Мерри, настоящего представителя демократических масс. У Горького из чудовищной тьмы капиталистического общества возникает целая вереница светлых героев его революционных рассказов, возникают художественно правдивые изображения людей которые действительно освободили человечество, героев Великого Октября.
Примечания
1
Ленин, Философские тетради, стр. 68, М., Партиздат, 1934.
2
О тебе идет речь (лат.).
3
Герман и Доротея перевод Фета.
(обратно)1
Маркс и Энгельс, Восемнадцатое брюмера, Соч., т. VIII, 1930, стр. 324.
(обратно)2
К. Маркс, Революционная Испания, Собр. соч., т. X, стр. 726.
(обратно)3
Под влиянием призыва Алабанды Гиперион упрекает самого себя в созерцательной бездеятельности.
(обратно)4
Республиканский культ дружбы Гельдерлина, образцами которого служили тираноубийцы Гармодий и Аристогитон, превращается у Гундольфа в предвестье эстетизирующего декадентски-гомосексуального "Союза Георге".
(обратно)5
Перев. Е. Н, Бируковой.
(обратно)6
К. Маркс, Письмо к Л. Фейербаху, 20 октября 1843 г., Собр, соч., т. I, стр. 533.
(обратно)7
К. Маркс и Ф. Энгельс, Святое семейство, Собр. соч., т. III, стр. 157 52
(обратно)8
Из переписки 1843 г., Собр. соч., т. I, стр. 352.
(обратно)1
Karl Victor. Die Tragodie des heldischen Pessimismus: Deu-tsche Vierteljahrsschrift fuк Literaturwissenschaft und Geistesgeschich-te. XII Jahr, Arthur P f e i f f e r. Georg Buchner. Vom Wesen der Geschichte des damonischen und dramatischen. Frankfurt a/M 1934.
(обратно)2
Цитаты из работ Бюхнера приводятся по изданию "Akade-mia". Георг Бюхнер. Сочинения, 1935 г.
(обратно)3
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. IV, стр. 397.
(обратно)4
Одна из немногих ошибок, которые сделаны Бюхнером при обрисовке характера Робеспьера: он приписывает ему "зависть" к Дантону. Легко себе представить, с какой радостью подхватили эту ошибку реакционные критики.
(обратно)1
Маркс и Энгельс об искусстве, стр. 499.
(обратно)2
Там же, стр. 501.
(обратно)3
К критике гегелевской философии права, Собр. соч. т. I, стр. 400.
(обратно)4
Там же, стр. 404.
(обратно)5
Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, Собр. соч., т. VIII, стр, 331.
(обратно)6
Ф. Энгельс Людвиг Фейербах, Маркс и Энгельс, Собр. соч., т. XIV, стр. 635.
(обратно)7
Там же, стр. 642.
(обратно)8
Маркс и Энгельс об искусстве, стр. 388-389
(обратно)9
Известная антология народной поэзии, изданная Арнимом и Брентано.
(обратно)1
К. Маркс и Энгельс, Сочинения, т. VIII, стр. 279.
2
Маркс и Энгельс об искусстве, стр. 164.
3
К. Маркс, Капитал, т. III, 1936 г., стр. 36.
4
К. Маркс, Капитал, т. III, гл. 47, стр. 586.
5
К. Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, Собр. соч. т. VIII, стр. 408–409.
6
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, часть II, стр. 297.
7
К Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, Собр. соч т. Vlil, стр. 411.
8
К. Маркс, Капитал, т. III, стр. 715.
9
Маркс и Энгельс об искусстве, стр. 319.
10
К. Mapкс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 315–316.
11
К. Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, Собр. соч., т. VIII, стр. 412.
12
К. Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, Собр. соч… т. VIII, стр. 324, изд. ИМЭЛ.
13
Это критическое замечание Бальзака в высшей степени актуально для пас, так как еще и теперь не вышел из моды способ характеристики "лейтмотивными" оборотами речи, широко распространившийся вместе с развитием натурализма и под влиянием Рихарда Вагнера. Бальзак справедливо считает, что под этой манерой кроется неспособность к глубокому изображению характера в его движении и развитии.
(обратно)14
Острая вражда к стилю Стендаля толкает Бальзака к нелепому парадоксу. В других своих статьях он гораздо справедливее оценивает Дидро. Но даже в этом парадоксе сквозит действительная тенденция Бальзака.
(обратно)15
К. Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, т. VIII, Ф. 324.
(обратно)16
Нельзя забывать, что Стендаль был современником Бланки, героического революционера, венцом стремлений которого было восстановление плебейски-якобинской диктатуры. Стендаль не дожил до превращения буржуазного якобинства в уродливую карикатуру и до перехода лучших буржуазных революционеров на сторону пролетариата. К рабочему движению своего времени он относился как революционный демократ (см. "Люсьен Левен"). Он презирал июльскую монархию за кровавое подавление рабочего движения, но не понимал и не мог тогда понять роль пролетариата как революционного преобразователя общества.
(обратно)1
Ленин, Сочинения, т. XIV, стр. 400.
2
Л е н и н, Сочинения, т. XII, стр. 331.
(обратно)3
Горький, Собрание сочинений, ГИХЛ, М, 1931 г., т. XXII стр. 216.
(обратно)4
Г. В. (Плеханов, Отсюда и досюда, Собр. соч., ГИЗ, т. XXIV, стр. 193–194.
(обратно)5
Stefan Zweig. Baumeister der Welt, Wien-Leipzig-Zurich"
(обратно)6
Маркс и Энгельс об искусстве, стр. 29.
(обратно)7
Маркс и Энгельс об искусстве, стр. 30.
8
Маркс и Энгельс об искусстве, стр. 30.
(обратно)9
Л е н и н, Сочинения, т, XII, стр.
(обратно)10
Там же, стр. 333.
(обратно)11
Flaubert, Correspondence, V. I, p. 304.
(обратно)12
Л. Толстой, Воскресение, ч. I, гл. 13.
(обратно)13
Там же. гл. 48
(обратно)14
Н е g е I, Aestetik (Glockner) Bd. VII, 111, S. 342.
(обратно)15
В романе Бальзака "Блеск и нищета куртизанок" есть примеры, показывающие, насколько сознательно к этому стремились реалисты прошлого.
(обратно)16
Л е н и н, Сочинения, т. XV, стр. 100.
(обратно)17
К. Маркс, Капитал, 1937 г., том I. Предисловие к первому изд… стр, 4–7.
(обратно)18
Л. Толстой, Смерть Ивана Ильича, гл. 4.
(обратно)19
Л. Толстой, Анна Каренина, ч. II, гл. 8.
(обратно)20
Л. Толстой, Воскресение, ч. II, гл. 18.
(обратно)21
Л. Т о л с т о й, Живой труп, картина 9.
(обратно)22
Flaubert Correspondence V. II p. 67.
(обратно)23
Л. Т о л с т о й, Анна Каренина, ч. VIII, гл 4.
(обратно)24
Л. Толстой, Анна Каренина, ч. VJI, гл. 25, 296
(обратно)25
Гете, Вильгельм Мейстер, Годы учения, кн. V, гл. 7.
(обратно)26
Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й, Избранные сочинения, Гослитиздат, 1934, стр. 466.
(обратно)27
Л. Толстой, Воскресение, ч. I, гл. 69.
(обратно)28
Ленин, Сочинения, т. V, стр. 92
29
Л. Толстой, Предисловие к сочинениям Мопассана.
(обратно)30
Л. Толстой, Что такое искусство? Гл. 9.
(обратно)31
Там же, гл. 16.
(обратно)32
Hegel, Aesthetiv (Glockner), Bd. i, S. 266
(обратно)1
Ленин, Соч., XXV, стр.
2
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. IV,стр. 66–67.
(обратно)

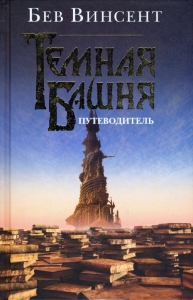


Комментарии к книге «К истории реализма», Георг Лукач
Всего 0 комментариев