Теория романа (Опыт историко-философского исследования форм большой эпики)
Георг Лукач Новое литературное обозрение. 1994. № 9 С. 19–78
Посвящается Елене Андреевне Грабенко[1]
Часть 1. Формы большой эпики в их соотношении с замкнутостью или проблематичностью культуры в целом
1. Замкнутые культуры
Структура греческого мира. Его историко-философское развитие. Христианство.
Блаженны времена, для которых звездное небо становится картой дорог — и торных, и еще не проторенных, — дорог, освещенных светом этих звезд. Все и ново для них — и знакомо до боли, все и причудливо — и обычно. Как ни обширен мир, он похож на наш собственный дом, ибо огонь, горящий в душе, — того же свойства, что и звезды; мир и Я, свет и огонь, они отличны друг от друга, но никогда не чураются друг друга, — ведь огонь — это душа всякого света, а всякий огонь порождает свет. Так любое деяние души наполняется смыслом и становится дважды закругленным, для ума и для чувств; оно становится закругленным, ибо, пока творятся дела, душа уходит на покой; закругленным еще и потому, что ее поступки отделяются от нее, приобретая вместе с самостоятельностью собственный центр, который они заключают в окружность. "Философия, — говорит Новалис, — это в сущности тоска по дому, страстное желание повсюду чувствовать себя дома". Поэтому философия и как форма существования, и как начало, определяющее форму литературного произведения и дающее ему содержание, всегда служит симптомом разрыва между внутренним и внешним, признаком существенных различий между Я и миром, несогласованности души и деяния. Поэтому и нет у блаженных времен философии или, что то же самое, в такие времена все люди являются философами, преследующими, как во всякой философии, утопическую цель. Ибо какую же еще задачу ставит перед собою истинная философия, как не составление той самой карты-прообраза, и в чем состоит проблема трансцендентального места, как не в том, чтобы возвести всякое движение, вырвавшееся из незримых глубин, к форме, ему неведомой, но извечной, обрядившей его в спасительную символику? Тогда страсть — это путь к полной самостоятельности, путь, предписанный разумом, и безумие чертит загадочные и все же поддающиеся расшифровке знаки трансцендентной силы, которая иначе была бы осуждена на немоту. И тогда еще нет ничего внутреннего, потому что нет для души ничего ни внешнего, ни иного. Когда душа уходит на поиски приключений и справляется с ними, для нее оказываются незнакомыми и подлинная мука исканий, и подлинная опасность находок: собою она никогда не рискует; она еще не знает, что может потеряться, и не думает о том, что должна себя искать. Такова мировая эпоха эпоса. Радостные строгие очертания даруются людям и делам не беспечальностью или прочностью бытия (бессмысленные и печальные стороны всемирной истории не разрослись с начала времен, лишь утешные песнопения раздаются звонче или приглушеннее), а этой приспособленностью деяний к внутренним требованиям души: требованиям величия, самораскрытия, цельности. Если душа еще не почуяла в себе бездны, которая манит ее вниз или гонит к горному бездорожью, если божество, правящее миром и раздающее невиданные и неправедные дары судьбы, встает непонятное, но знакомое перед человеком, как отец пред малым дитятей, то тогда любое деяние становится ладным платьем души. Тогда бытие и судьба, приключение и свершение, Жизнь и Сущность превращаются в равновеликие понятия. Ибо вопрос, образным ответом на который является рождающийся эпос, гласит: "Как Жизнь может стать сущностной?" И то, что не дает нам приблизиться к Гомеру и достигнуть его, — а ведь, строго говоря, к эпосу относятся только его поэмы, — объясняется тем, что он сумел найти ответ еще до того, как в процессе исторического развития духа прозвучал вопрос.
Здесь можно приблизиться к тайне греческого мира — его недоступной нашему пониманию завершенности и его непреодолимой чуждости: греку известны лишь ответы, но не вопросы, лишь решения (хотя и загадочные), но не загадки, лишь формы, но не хаос. Определяющий круг форм грек описывает еще по сю сторону парадоксальности, и все то, что позднее, когда эта парадоксальность станет злободневной, должно было бы привести к пошлости, приводит его к завершенности. Когда речь заходит о греках, постоянно смешивают философию истории с эстетикой, а психологию с метафизикой, привязывая их формы к нашей эпохе. За этими молчащими, навеки онемевшими масками прекрасные души выискивают собственные неуловимые высшие мгновения пригрезившегося покоя, забывая при этом, что эти мгновения ценны лишь своей неуловимостью, а сами они только и обладают глубиной и величием, потому что ищут прибежища у греков. Более глубокие умы, пытающиеся превратить свою кровь в холодную пурпурную сталь и выковать из нее броню, чтобы раны их были навеки скрыты от чужих взоров и чтобы их геройские жесты стали парадигмой заново пробужденного подлинного геройства грядущих времен, сопоставляют хрупкость своей структуры с греческой гармонией и собственные страдания — с воображаемыми муками, обуздать которые должна была бы греческая чистота. Воспринимая в солипсистском ослеплении завершенность формы как проявление внутренней разорванности, они полагают, что из созданий греков им слышится голос мучений, которые по своей силе настолько же превосходят их собственные страдания, насколько их творчество уступает греческому искусству. Но тем самым полностью извращается трансцендентальная топография духа, которая поддается описанию во всем, что касается ее сущности и ее последствий, метафизическую значимость которой можно постичь и истолковать, но для которой никак нельзя будет найти удовлетворительное психологическое объяснение, будь то интуитивное или истолковательное. Ибо предпосылкой всякого психологического истолкования является определенное очертание трансцендентальных мест, в пределах которых оно и функционирует. Вместо того чтобы стремиться таким образом истолковать греческий мир, — то есть в конечном итоге, неосознанно спрашивая себя: "Как могли бы и мы создать эти формы?" или "Как вели бы себя мы, если бы у нас эти формы были?", — не полезнее ли спросить: "Какова столь отличная от нашей трансцендентальная топография греческого духа, сделавшая эти формы возможными и даже необходимыми?"
Мы говорили: у грека ответы появились раньше, чем вопросы. Это тоже надо понимать не психологически, а в крайнем случае трансцендентально-психологически. Это означает, что в последнем структурном отношении, коим обусловлено все переживаемое и формируемое, между трансцендентальными местами и между ними и априорно зависимым от них человеком нет различий — то есть различий непреодолимых, разрешающихся лишь в результате скачка. Это означает, что и восхождение к наивысшей точке и нисхождение к полному отсутствию значения совершаются на путях приравнивания, то есть по сплошной цепи легко преодолимых ступеней. Поведение духа на этой родной почве превращается поэтому в пассивно-визионерское восприятие готового. Мир смысла постижим и обозрим, и все зависит от того, найдет ли в нем индивид подходящее место. Ошибка здесь означает либо чрезмерность, либо недостаточность, нехватку проницательности или чувства меры. Ибо знание — это лишь приподнимание темных покрывал, творчество — срисовывание зримо-вечных сущностей, а добродетель — совершенное знание путей; быть чуждым смыслу — значит лишь чрезмерно отдалиться от него. Этот мир однороден, и даже разлад человека и мира, отрыв Я от Ты не могут нарушить его единство. Посреди мира стоит, как и все прочие звенья его гармонии, душа; она ограничена такими же пределами, что и другие вещи; граница эта обозначена резко, четко, но лишь относительно, в силу однородности и уравновешенности мировой системы. Ведь человек не является единственным носителем субстанциальности и не стоит одиноко посреди отраженных образований: его отношения к другим и возникающие из них структуры так же субстанциальны, как и он сам, причем даже более субстанциальны, потому что более всеобщи, более "философичны", ближе к родным прообразам (любовь, семья, государство). Моральное долженствование для него — это только вопрос педагогики, оно просто означает, что он еще не вернулся "домой", и не выражает еще уникального и нерушимого отношения к субстанции. И самого человека ничто не принуждает к скачку: он запятнан случайностью материальной природы и должен очиститься, восходя к субстанции и удаляясь от материи, дальняя дорога простирается перед ним, но никакая бездна не разверзалась в его душе.
В этих пределах заключен по необходимости завершенный мир. И хотя за пределами круга, которым созвездия нынешнего сознания опоясали непосредственно переживаемый и формируемый космос, — ощущается дыхание неведомых грозных сил, им все равно не под силу лишить его смысла; они могут уничтожить жизнь, но не посягнуть на бытие; на сформировавшийся мир они могут бросить черные тени, которые, однако, сами включаются в структуру его форм и лишь оттеняют их по контрасту. Метафизический круг, в котором живут греки, уже нашего, и поэтому нам не найти себе в нем места; или вернее будет сказать так: этот круг, трансцендентальную сущность которого составляет замкнутость, нами разорван, — в замкнутом мире мы больше дышать не можем. Мы открыли, что дух способен творить; поэтому прообразы безвозвратно утратили для нас свою предметную очевидность и непреложность, и наше мышление идет путем бесконечного приближения, никогда не достигающего цели. Мы открыли формотворчество, и с тех пор всему, что мы, утомившись и отчаявшись, выпускаем из рук, вечно недостает окончательной завершенности. Мы нашли в себе единственно истинную субстанцию, и тем самым разверзлась непреодолимая пропасть между знанием и делом, между душой и структурами, между Я и миром, так что по ту сторону этой пропасти всякая субстанциальность распыляется в рефлексии. В результате мы вынуждены постулировать собственную Сущность и рыть еще более глубокую и более грозную пропасть, отделяющую нас от нас самих. Наш мир невероятно разросся по сравнению с греческим, каждый его уголок таит гораздо больше даров и угроз, мы в этом смысле богаче греков, но от такого богатства исчезает главный положительный смысл, на котором зиждилась их жизнь, — тотальность. Ибо тотальность как формирующая первооснова всякого частного явления означает, что замкнутое произведение может быть завершено; оно может быть завершено потому, что в нем происходит все, ничто не исключено и не отсылает ни к какой высшей действительности, потому что все в нем зреет для собственного совершенства и, достигая самого себя, включается в строение целого. Тотальность бытия возможна только в том случае, когда все однородно, еще до того, как оно образует форму; когда формы не стесняют, а лишь служат самопознанию, выходу на поверхность всего того, что томилось и дремало в недрах формирующейся вещи; когда знание является добродетелью, а добродетель счастьем и когда красота раскрывает мировой смысл.
Таков мир греческой философии. Подобное мышление возникло, однако, когда субстанция уже начала бледнеть. Если греки, по сути, не знали эстетики, так как все эстетическое предвосхитила метафизика, то точно так же Греция не знала и различия между историей и историей философии: она в самой истории прошла все стадии, соответствующие великим априорным формам; ее история искусств — это метафизико-генетическая эстетика, развитие культуры совпадает с философией истории. В ходе этой эволюции субстанция постепенно отходила от абсолютной жизненной имманентности Гомера и подошла к также абсолютной, но ощутимой, осязаемой трансцендентности Платона; ясные и четко отличающиеся друг от друга эволюционные стадии (греческий мир не знает плавных переходов), в которых, словно в вечных иероглифах, запечатлен смысл всего пути, как раз и образуют великие вневременные парадигматические формы, структурирующие мир: эпос, трагедию и философию. Мир эпоса отвечает на вопрос: "Как Жизнь может стать сущностной?" Но ответ лишь тогда созревает до вопроса, когда субстанция уже лишь манит нас издали. Только после того как трагедия ответила на вопрос: "Как Сущность может стать живой?" — стало ясно, что жизнь в своем бытии (а всякое долженствование устраняет жизнь), уже утратила имманентность сущности. Чистая сущность пробуждатся к жизни в творящей Судьбе и в обретающем себя через творчество герое, тогда как чистая жизнь уходит в небытие перед лицом единственно подлинной и действительной Сущности; и вот по ту сторону жизни, исполненной цветущего изобилия, обнаруживается такой уровень бытия, по отношению к которому повседневная жизнь не может даже служить антитезой. И это бытие Сущности также не рождено потребностью, не рождено проблемой: прототипом возникновения греческих форм явилось рождение Паллады. Как действительность Сущности, вторгаясь в бытие, ею же и порождаемое, обнаруживает утрату чистой жизненной имманентности, так и эта проблематическая основа трагедии проявляется и становится проблемой только в философии. Когда отдалившаяся от жизни Сущность становится единственной трансцендентной действительностью и когда даже судьба в трагедии структурируется философией как грубый и бессмысленный эмпирический произвол, страсть героя — как чисто земное поведение, а завершение его судьбы — как жизненный предел случайного субъекта, — тогда на вопросы бытия трагедия отвечает уже не возникновением чего-то непреложного, а чудом, радужным мостом, перекинутым над бездной. Герой трагедии сменяет живого гомеровского человека, объясняет и преображает его, переняв у него гаснущий факел и вновь заставив его светиться. Новый платоновский человек, мудрец, обладающий активным познанием и созидающим сущности созерцанием, не только разоблачает героя, но и проливает свет на мрачную опасность, которую тот одолел, и, превозмогая героя, преображает его. Но мудрец — это последний тип человека, и мир его — последняя парадигматическая форма жизни, данная греческому духу. Выяснение вопросов, вызывающих и питающих платоновское видение мира, не принесло новых плодов: череда времен сделала весь мир греческим, но в то же время сам дух Греции становился все менее греческим; у него появились новые вечные проблемы (и решения), но греческое своеобразие topos vontos[2]; исчезло навсегда. И паролем для нового, обещающего иную судьбу духа становится: "сумасбродство в духе греков".
Да, именно так: сумасбродство — в духе греков! Кантовское звездное небо сияет лишь в темной ночи чистого познания, и ни одному одинокому путнику (а в новом мире быть человеком — это и означает быть одиноким) не освещает дороги. Внутренний же свет только на ближайший шаг придает уверенность или… ее видимость. Никакой свет не струится изнутри, чтобы осветить мир событий, их чуждый душе лабиринт. И кто поручится за то, что поступки субъекта действительно сущностно соответствуют его сущности (а это последний сохранившийся ориентир), раз субъект уже сам для себя стал явлением, объектом? раз его собственная глубинная суть предстает ему лишь как вечный императив, запечатленный на воображаемых небесах долга? раз она должна выйти наружу из неизмеримой бездны, таящейся в самом субъекте, ибо Сущностью является лишь то, что выходит из этих бездонных глубин, которых никто еще не сумел достичь и даже созерцать? Искусство, эта призрачная действительность приспособленного к нам мира, получило тем самым самостоятельность: оно больше не является слепком, потому что все прообразы исчезли; оно стало теперь сотворенной тотальностью, ибо естественное единство метафизических сфер разорвано навсегда.
Не к чему, да и невозможно разрабатывать здесь какую-либо философию истории, объясняющую эти преобразования в трансцендентальной топографии. Является ли наше собственное движение (как падение или как подъем — все равно) причиной этих перемен или же боги Греции были изгнаны другими силами, — говорить здесь об этом неуместно. И даже в самых общих чертах не обозначить весь путь, ведущий к нашему состоянию, ту прельстительную силу, которая еще таилась в мертвом греческом мире и своим люциферовским блеском заставляла все снова и снова забывать о непоправимых разрывах в толще мира и грезить о новых формах, противоречивших, правда, новой сути мира и оттого каждый раз распадавшихся. Так возник новый церковный град; от парадоксального соединения неизбывно грешной души с абсурдным и оттого достоверным искуплением действительность почти по-платоновски озарилась небесным светом, а из разверстой пропасти возникла иерархическая шкала земли и небес. У Джотто и Данте, у Вольфрама и Пизано, у Фомы и Франциска[3] мир снова стал округлым и обозримым и опять обрел тотальность: зияющая бездна лишилась угрозы действительной глубины, но весь ее мрак, нисколько не утратив силу своей слепящей черноты, стал чистой поверхностью и легко, непринужденно нашел себе место в замкнутой и цельной цветовой гамме. Вопль о спасении диссонировал с совершенной ритмической системой мира и создал возможность возникновения не менее совершенного равновесия, чем греческое, — равновесия интенсивности неадекватных, разнородных сил. Настолько приблизились Вечная непостижимость и недостижимость искупления, что дальние картины стали явью. Страшный суд стал реальностью, одним из звеньев осознаваемой как уже сбывшаяся гармонии сфер; его истинная суть — отравленная рана Филоктета, которую может исцелить один лишь Параклет[4], - оказалась забыта. Возник новый, парадоксальный греческий мир: эстетика опять превратилась в метафизику.
В первый и последний раз. Теперь, когда это единство распалось, уже больше нет спонтанной тотальности бытия. Источники, воды которых размыли прежнее единство, правда, иссякли, но мир остался навеки рассечен их безнадежно высохшими руслами. Отныне всякое возрождение греческого мира означает то, что эстетика более или менее сознательно гипостазируется в чистую метафизику, что все выходящее за пределы искусства стараются насильственно умалить и уничтожить, забывая, что искусство — только одна из многих сфер бытия и что предпосылкой его существования и самосознания служит распад мира, перестающего довлеть себе. Но такое перенапряжение субстанциальности искусства ведет к отягощению и перегрузке его форм; им приходится создавать то, что раньше давалось само собой; они, следовательно, должны, до того как может начаться их собственная, априорная действенность, своими силами создать ей необходимые условия: предмет и его среду. Собственная тотальность формам больше не дана; поэтому им приходится до такой степени сузить и облегчить формируемое, чтобы можно было справиться с этой ношей, ибо в противном случае они столкнутся с кризисом невоплотимости и внутренней ничтожности необходимого и единственного возможного предмета, тем самым внося в мир форм структурную неслаженность мира действительного.
2. Проблема историко-философских форм
Общие положения. Трагедия. Эпические формы
Эти перемены в трансцендентальных ориентирах делают художественные формы объектом историко-философской диалектики, которая, однако, должна быть различной в зависимости от природы каждого жанра. Может статься, что трансформация коснется лишь предмета и условий его оформления, оставив в неприкосновенности конечное отношение формы с трансцендентальным оправданием ее существования; тогда формы лишь слегка варьируются, отличаясь друг от друга во всех технических деталях, но не в основном принципе своего структурирования. Но может быть и так, что изменения произойдут как раз в определяющем principium stilisationis[5] жанра, тогда по необходимой историко-философской обусловленности одной и той же творческой воле будут соответствовать различные формы творчества. Речь идет здесь не о новых умонастроениях, вызывающих создание новых жанров. Такое наблюдалось в греческой истории, когда, например, понятия героя и судьбы стали настолько проблематичными, что это вызвало к жизни нетрагическую драму Еврипида. Здесь царит полное соответствие между априорной необходимостью и метафизическим страданием субъекта, стимулирующими творчество, и предустановленным вечным местом формы, на которое встает завершенное творчество. Однако жанрообразующий принцип, который мы имеем здесь в виду, не требует никаких перемен в умонастроениях, он только переориентирует их на новые цели, глубоко отличные от прежних. Это означает, что разрывается также прежняя параллельность трансцендентальной структуры в творящем субъекте и в избранном мире созданных форм, так что глубинные основы творчества как бы лишаются родины.
Понятие романа поставил в тесную связь с понятием романтизма сам немецкий романтизм, хотя он и не всегда до конца это разъяснял. Он сделал это с полным правом, ибо форма романа, как никакая иная, отражает трансцендентальную бездомность. Совпадение истории с философией истории имело для Греции то последствие, что каждый род искусства рождался лишь тогда, когда солнечные часы духа показывали, что его час наступил, и исчезал лишь тогда, когда его прообразы уже больше не виднелись на горизонте. В после-греческую эпоху эта философская периодичность утратила силу. Здесь в невообразимой путанице переплетаются различные жанры, знаменуя собой искания, цель которых более не дана ясно и однозначно; все вместе они составляют лишь историческую тотальность де-факто, где можно искать и даже порой находить эмпирические (социологические) предпосылки той или иной формы, однако историко-философский смысл периодичности более не концентрируется на жанрах, получивших символическое значение, и может быть разгадан и истолкован из тотальности исторических эпох, а не обретен в них самих. Если имманентный смысл жизни должен сгинуть даже при едва заметном содрогании трансцендентальных связей, то далекая от жизни и чуждая ей сущность находит свой венец в собственном существовании, и от сильных потрясений ее священный блеск может разве что поблекнуть, но окончательно никогда не исчезнет. Поэтому трагедия, хоть и преображенная, но по сути своей нетронутая, уцелела до наших дней, тогда как эпопее пришлось уйти со сцены, уступив место совсем новой форме — роману.
Разумеется, радикальное преобразование представления о жизни и ее отношении к Сущности не могло не изменить и трагедию. Одно дело, когда имманентность смысла жизни исчезает с катастрофической ясностью, оставляя Сущности чистый, ничем не замутненный мир, иное — когда эта имманентность неощутимо, словно силою каких-то чар изгоняется из космоса; когда жажда вновь обрести ее остается живой и неутоленной, но никогда не превращается в безнадежное отчаяние; когда в путанице каждого отдельного явления приходится искать избавительное слово и высматривать присутствие этой утраченной имманентности; когда Сущность не может создать из поваленных стволов леса жизни трагическую сцену и ей остается либо вновь ненадолго вспыхнуть в пламени пожара, поглотившего все помертвелые остатки разбитой жизни, либо решительно повернуться спиной ко всему этому хаосу и укрыться в абстрактной сфере чистой эссенциальности. Именно отношение Сущности к жизни, которая сама по себе недраматична, неизбежно ведет к стилистической двойственности новейшей трагедии, полюсами которой являются Шекспир и Альфьери. Греческая трагедия находилась за пределами дилемм "близость к жизни или абстракция", ибо для нее полнота охвата не требовала приближения к реальности, а прозрачность диалога не отменяла его непосредственности. Из каких бы случайных или необходимых исторических фактов ни возник хор, его художественное назначение состоит в том, чтобы по ту сторону всякой жизни придавать Сущности жизненность и полноту. Он мог поэтому играть роль фона, выполняющего, подобно мраморной атмосфере между фигурами на рельефах, лишь функцию завершения, но вместе с тем фона подвижного и совместимого с любыми внешними колебаниями действия, которое не обусловлено никакой абстрактной схемой; способного вбирать в себя это действие и возвращать драме в обогащенном виде. Он может пространно передавать словами лирический замысел всей драмы, может, не подвергаясь риску распада, сочетать низменные, нуждающиеся в трагическом опровержении голоса животного рассудка с высочайшей сверхрассудочностью судьбы. В греческой трагедии одна и та же сущностная основа служит и актеру, и хору; они совершенно однородны, а поэтому могут, не рискуя разрушить все здание, выполнять совершенно различные функции: вся лирика ситуации и судьбы может сосредоточиться в хоре, оставляя на долю актеров все объясняющие слова и все охватывающие жесты голой трагической диалектики; и их никогда нельзя будет отличить друг от друга иначе, как лишь по едва заметным переходам. Ни в какой, даже в малейшей степени не угрожает ни хору, ни актеру опасность настолько приблизиться к жизни, что это могло бы взорвать драматическую форму; потому и могут они оба достичь несхематичной, априорно предначертанной полноты.
Исчезновение жизни из новейшей драмы не было органичным явлением, и речь может идти разве что об изгнании. Однако это совершенное по воле классицистов изгнание свидетельствует не только о самом существовании изгнанницы, но и об ее могуществе: жизнь присутствует в каждом слове и в каждом жесте, которые в томительном напряжении стараются не запятнать себя близостью к ней; это она незримо и иронично предопределяет чопорность и строгую расчисленность структуры, возникает из абстрактной модели, сужает ее или запутывает, делает либо сверхзначительной, либо непонятной. Бывает и другая трагедия, которая пожирает жизнь. Своих героев она выводит на сцену живыми людьми, окруженными со всех сторон не более чем живой массой, и в путанице действия, несущего на себе груз жизни, должен в конце концов запылать огонь ясной судьбы, которому предстоит превратить в пепел все человеческое, ничтожное, чтобы эта ничтожная жизнь обычных людей обратилась в ничто, а аффекты людей героических, вспыхнув огнем трагической страсти, превратили бы их в безупречных героев. Тем самым героизм приобретает полемический и проблематичный характер: это теперь уже не естественная форма существования в сущностной сфере, а усилие подняться над чистой человечностью массы и своих собственных инстинктов. Иерархическая проблема жизни и Сущности, изначально формирующая греческую драму, а потому никогда не являвшаяся объектом изображения, таким образом сама вводится в трагический процесс; она разрывает драму на две совершенно разнородные половины, связанные друг с другом лишь взаимоотрицанием и взаимоисключением, то есть полемично и — в нарушение основ этой драмы — интеллектуально. Основа драмы становится столь широкой, а путь, который герою предстоит пройти в собственной душе, прежде чем почувствовать себя героем, — столь длительным, что все это противостоит сжатости драматических форм и сближает драму с эпическими формами, точно так же как неизбежным следствием полемического акцента героизма (не представляет исключения и абстрактная трагедия) является разрастание чистого лиризма.
Но у этой лирики есть еще один источник, также проистекающий из сдвига во взаимоотношениях Сущности и жизни. Для греков падение жизни как носителя смысла не уничтожило, а лишь перенесло в иной контекст родство и близость людей; все появляющиеся здесь персонажи находятся на одинаковом расстоянии от мировой основы — Сущности, а значит каждый из них своими глубокими корнями тесно связан с любым другим; все они друг друга понимают, ибо говорят на одном и том же языке, и друг другу доверяют, даже будучи смертельными врагами, потому что все в равной мере стремятся к одному и тому же центру и движутся на одном и том же сущностно едином уровне существования. Но если Сущность, как это происходит в современной драме, способна обнаружиться и утвердиться лишь в ходе иерархического конфликта с Жизнью и если каждый персонаж заключает в себе этот конфликт, либо как предпосылку жизни, либо как начало своего существования, то тогда каждое из dramatis personae[6] должно быть только свойственными ему нитями связано с судьбой, которую оно само порождает; тогда каждое действующее лицо происходит из непреодолимого одиночества и, окруженное другими одинокими людьми, спешит навстречу одинокому трагическому концу; тогда любое трагическое слово, отзвучав и затихнув, так и остается непонятным, и ни один трагический поступок не находит сочувственного отклика. Между тем одиночество в драме — это нечто парадоксальное. Оно, собственно, составляет самую суть трагического начала, ибо у души, обретшей себя в судьбе, могут быть братья, идущие к той же звезде, но не спутники. Диалог, как драматическая форма выражения, предполагает высокую степень общности между этими одинокими людьми — иначе он не может быть многоголосым и подлинно драматичным. Язык одинокого человека лиричен, монологичен, и в беседе слишком явно обнажается инкогнито его души, затопляя и перегружая однозначность и четкость реплик обеих сторон. И это одиночество глубже того, какого требует трагическая форма, отношения к Судьбе (в таком одиночестве ведь жили и греческие герои): оно должно само для себя стать проблемой и, углубляя, но и запутывая трагическую проблему, встать на ее место. Это одиночество — не просто опьянение души, охваченной Судьбою и ставшей песнопением, оно и мука существа, осужденного на жизнь наедине с собою и жаждущего общения. Это одиночество порождает новые трагические проблемы, прежде всего ту, что главенствует в новейшей трагедии, — проблему доверия. Погруженная в жизнь, но исполненная Сущности душа нового героя никогда не сможет понять, что под тем же покровом жизни не обитает такая же Сущность: она верит в равенство всех, кто здесь собрался, но не может понять, что эта вера не от мира сего и что внутренняя уверенность в своем знании не гарантирует такой вере основополагающей роли в жизни: она верит в то, что идея ее собственного существования живет в ней, ее вдохновляя, и должна поэтому верить, что окружающая ее шумная толпа не более как карнавальная сумятица и что стоит произнести лишь одно слово, идущее от Сущности, как маски спадут и незнакомые братья заключат друг друга в объятия. Она верит в это и ищет этого, но находит лишь себя самое, одинокую в своей судьбе; обретение себя приводит ее в экстаз, к которому примешивается обвинительно-элегическая нота печали из-за того пути, которым она к этому пришла: разочарование в жизни, которую не назовешь даже карикатурным изображением того, что с такой ясновидческой силой возвещала мудрость ее судьбы и что придавало ей сил, позволяя одиноко идти во мраке. У этого одиночества не только драматическая, но и психологическая природа, оно свойственно не просто любому из dramatis personae, но в нем содержится еще и жизненный опыт человека, становящегося героем; и, дабы не оставаться в драме непереработанным сырьем, психология может найти себе выражение лишь как лирика души.
Большая эпика воссоздает экстенсивную тотальность жизни, драма — интенсивную тотальность эссенциальности. Поэтому, когда бытие утрачивает спонтанно проявляющуюся и чувственно воспринимаемую тотальность, драма может благодаря априорности своей формы обрести пусть и проблематичный, но тем не менее всеобъемлющий и завершенный мир. Для большой эпики это невозможно. Для нее конкретная данность мира — это последний принцип, в своей решающей, определяющей трансцендентальной основе она эмпирична; иногда она может ускорить течение жизни, может довести все потаенное, как и все зачахнувшее, до имманентного им утопического конца, но широту и глубину, закругленность и символичность, богатство и упорядоченность жизни, коренящейся в истории, она никогда не сможет преодолеть своей формой. Любая попытка создания действительно утопической эпики будет обречена на провал, потому что она должна будет субъективно или объективно выйти за пределы эмпиризма и потому перейти в лирическую или драматическую сферу. А такой переход никогда не окажется плодотворным для эпики. Были, по-видимому, времена — некоторые сказки донесли до нас фрагменты тех исчезнувших миров, — когда те цели, достижение которых ныне воспринимается только как утопия, составляли визионерскую явь; и эпическим творцам тех времен не было нужды покидать почву непосредственной действительности, чтобы изобразить трансцендентальную действительность как единственно сущую; более того, они могли просто повествовать о событиях, подобно тому как в древней Ассирии скульпторы, ваявшие крылатых быков, конечно же, причисляли себя — и притом с полным правом — к натуралистам. Но уже у Гомера трансцендентальное начало прочнейшим образом вплелось в земное существование, а его неподражаемость как раз и основана на умении сделать это начало вполне имманентным.
Эта неразрывная связь с существованием и структурой действительности, проводя четкую границу между эпикой и драматическим искусством, закономерно обусловлена тем, что главный объект эпики — жизнь. Если понятие Сущности уже само по себе приводит к трансцендентности, чтобы там, кристаллизовавшись в более высокое бытие, выразить своей формой долженствующее бытие, которое в своей оформленной реальности остается независимым от содержания простого бытования, то понятие жизни исключает подобную предметность выявившейся и сгустившейся трансцендентности. Миры Сущности распростерты здесь над существованием благодаря силе форм, одни лишь внутренние возможности которой и обусловили облик и содержание этих миров. А миры жизни застыли здесь, формы только принимают и структурируют их, возвращая имманентный смысл. Играя роль Сократа — повивальной бабки мысли, формы никогда, никаким волшебством, не смогут внести в жизнь нечто такое, что было бы в них и уже не присутствовало в ней. Иными словами, характер, создаваемый драмой, есть умопостигаемое Я человека, тогда как характер эпики — это Я эмпирическое. Долженствование, в предельной интенсивности которого ищет убежище беззащитная на земле Сущность, может овеществляться в умопостигаемом Я как нормальная психология героя, а в эмпирическом Я оно так и остается долженствованием. Его сила имеет чисто психологический характер, подобно другим элементам души; его целеустановки эмпиричны, как эмпиричны и все возможные устремления человека или его окружения; содержание его исторично, как и любое другое из тех, что возникают в потоке времени, и его не оторвешь от той почвы, на которой оно произросло: оно может зачахнуть, но так никогда и не сможет пробудиться к новому, идеальному существованию. Долженствование убивает жизнь, и драматический герой вооружается ее символическими атрибутами только для того, чтобы в символической церемонии своей смерти выявить трансцендентность; напротив, эпические герои должны жить, а не то они разрушат или уничтожат ту стихию, которая их несет, окружает и питает. Долженствование убивает жизнь, а всякое понятие выражает некое долженствование; поэтому мышление никак не может подвести к адекватному определению жизни, и поэтому, вероятно, философия искусства адекватнее трагедии, чем эпике. Долженствование убивает жизнь, и эпический герой, созданный по нормативной модели, всегда будет оставаться лишь тенью живого человека из исторической действительности, да — тенью, но ни в коем случае не прообразом, как и мир, данный ему в опыте и приключении, останется лишь упрощенным слепком реального мира, но никак не его ядром и не сердцевиной. Утопическая стилизация эпопеи может создать лишь дистанции, но и они будут отделять лишь одну конкретную ситуацию от другой; возникающая при этом печально-возвышенная отстраненность лишь придает тону риторический характер, и хотя она может приносить прекраснейшие плоды элегической лирики, но никогда такая отстраненность не пробудит к живой жизни содержания, превышающего бытие, и не пробудит его к самоценной действительности. Обращена ли такая отстраненность вперед или назад, обозначает ли она движение вверх или вниз по отношению к жизни, она никогда не творит новую реальность, а лишь дает субъективное отражение того, что уже существует. Герои Вергилия живут сухой и размеренной жизнью теней, питаемые кровью пламенной страсти, принесшей себя в жертву, чтобы возродить сгинувшее навеки, а монументальность Золя — это не более как однообразно-увлеченное прослеживание многоликих и все-таки обозримых разветвлений социологической системы категорий, претендующей на полное постижение жизни своего времени.
Есть большая эпика, драма же в таком эпитете не нуждается и постоянно от него отмежевывается. Ибо сам по себе исполненный субстанции и субстанциально завершенный космос драмы не знает контраста между целым и частью, между случаем и симптомом: в драме сам факт существования означает тождество с космосом, обладание Сущностью, тотальностью. Из понятия жизни, напротив того, не вытекает с необходимостью ее тотальность; она содержит в себе в равной мере относительную независимость всякого живого самостоятельного существа по отношению к любым внешним связям, как и неизбежность и незаменимость таких связей. Поэтому могут существовать такие эпические формы, предметом которых является не тотальность, а лишь часть ее, малая, но жизнеспособная доля существования. Поэтому для эпики тотальность не дана самим жанром эпопеи и является не трансцендентальным, как в драме, а эмпирико-метафизическим понятием, неразделимо соединяющим в себе и трансцендентность и имманентность. Ибо в эпике субъект и объект творчества не совпадают, как это происходит в драме, где деятельная субъективность, в перспективе всего произведения, есть лишь предельное понятие, нечто вроде сознания вообще; здесь субъект и объект ясно присутствуют в са-мом произведении и отделены друг от друга; и поскольку из эмпиричности объекта вытекает, по логике эпической формы, эмпиричность творящего субъекта, то последний никак не может быть основой и гарантией тотальности изображаемого мира. Со всей очевидностью тотальность может быть выявлена лишь содержательностью объекта: она метасубъективна, трансценден-тна, это откровение и благодать. Субъектом эпического произведения является всегда эмпирический человек из жизни, но в большой эпике его творческая дерзость, нацеленная на овладение жизнью, оборачивается смиренной созерцательностью, молчаливым изумлением перед лицом явленного ему смысла, столь неожиданно, но и столь естественно открывшегося его взору простого человека.
В малых эпических формах субъект противостоит объекту более властно и с большим самообладанием. С какой бы холодной отрешенностью летописца рассказчик (мы не можем и не должны здесь даже в самой общей форме характеризовать систему эпических форм) ни взирал на удивительное господство случая, распоряжающегося по собственному усмотрению судьбами людей (с их точки зрения — бессмысленно и губительно; с нашей — захватывающе приоткрывая бездны), как бы трогательно и с каким бы покоряющим правдоподобием ни поднимал он маленький уголок мира до уровня ухоженного, цветущего сада, разбитого посреди бескрайнего хаоса пустынь жизни; какое бы вдохновение и объективность ни владели им, когда глубокому и своеобразному столкновению одного человека с жизнью он придает обобщенную форму судьбы, — всякий раз одна лишь его субъективность вырывает из великой массы явлений какой-то кусок, наделяя его самостоятельной жизнью, так что целое, из которого изъят фрагмент, предстает лишь как впечатления и мысли персонажей, как самопроизвольное продолжение прерванных было причинных связей и как отражение некоторой самодовлеющей действительности. Потому завершенность этих эпических форм носит субъективный характер: некий кусок жизни писатель вводит в окружающую среду, выделяющую и усиливающую этот вырванный из жизненного целого фрагмент; выбор фрагмента и определение его границ потому и носят на себе в произведении печать субъективного знания и волнения, что их природа более или менее лирична. Относительность самостоятельных действий живых существ и их всеобщей связи между собой, относительность органично возникающих жизненных связей может быть снята, поднята на уровень формы, если творящий субъект произведения сознательно раскрывает некий имманентный смысл в изолированном существовании именно этого куска жизни. Созидательная деятельность субъекта, диктующая формы и границы, суверенная власть над объектом — такова лирика эпических форм, не обладающих тотальностью. В лиричности такая эпика обретает свое окончательное единство; это не упоение одинокого Я беспредметным созерцанием своей собственной сути, не растворение объекта в ощущениях и состояниях души — нет, такая лирика, рожденная в соответствии с нормами и создающая формы, несет на себе всю структуру произведения. Но чем значительнее, богаче смыслом фрагмент жизни, тем больше должна расти и мощь непосредственного воздействия этой лирики; равновесие в произведении определяется равновесием творящего субъекта с объектом, который он выделил, приписав ему особое значение. В новелле, то есть такой повествовательной форме, где обособленно рассматриваются проблематичные явления жизни, такая лирика должна еще надежно скрываться за жесткими линиями отдельного, словно высеченного в камне события: лиричность сводится здесь исключительно к отбору; кричащий произвол случая, приносящего счастье или гибель, но всегда обрушивающегося беспричинно, можно компенсировать только ясным, чисто объективным подходом к нему без всяких комментариев. Новелла — наиболее художественная форма: последний смысл всякого художественного творчества она выражает как атмосферу, как содержательный смысл изображения, — хотя именно поэтому и абстрактно. Бессмысленность выступает в новелле во всей своей наготе, ничем не приукрашенная, и при этом колдовская сила бесстрашного и безнадежного взгляда как бы освящает ее формой: бессмысленность обретает форму именно как бессмысленность, не что-либо иное; она становится вечной, форма утверждает ее, превозмогает, освобождает. Между новеллой и лироэпическими формами пролегает пропасть. Как только то, что благодаря форме восходит к смыслу, наполняется, хотя и относительно, имманентным смыслом также в отношении своего содержания, онемевший субъект должен броситься на поиски собственных слов, которые перекинули бы мост от относительного смысла изображенного события к абсолюту. В идиллии лирика почти полностью сливается с контурами людей и вещей; именно она придает этим контурам мягкость и воздушность уединения, блаженную удаленность от бушующих где-то бурь. Только там, где идиллия устремляется к эпопее, как, например, в "больших идиллиях" Гете и Геббеля, где вся тотальность жизни со всеми ее опасностями издалека доносится до изображаемых событий, пусть даже укрощенная и приглушенная расстоянием, — там должен зазвучать собственный голос поэта, его рука должна создать спасительную отстраненность, дабы победоносное счастье его героев не обернулось позорным самодовольством тех, кто трусливо отворачивается от не преодоленной, а лишь отведенной от них беды, и дабы угрозы и потрясения жизни не свелись к бледным схемам, низводя до уровня ничтожного фарса торжество спасения. До уровня же ясного и вольного разговора о тотальности вырастает эта лирика там, где события в их эпической объективированности несут и символизируют собой неиссякаемые чувства; где душа — это герой, а ее томление — это действие (chantefable назвал я некогда, говоря о Шарле-Луи Филиппе, эту форму)[7]; где объект, то есть изображенное событие, должен остаться и остается чем-то изолированным, но так, чтобы в переживании, объемлющем это событие и сообщающем ему блеск, был заложен окончательный смысл всей жизни, вся сила поэта, осмысляющего и покоряющего жизнь. Но и такая сила также лирична: личность поэта не вслушивается в события, считая их хранителями тайного смысла, а, пользуясь ими как инструментами, сознательно и самовластно заставляет звучать собственное истолкование смысла мира; форму обретает не тотальность жизни, а отношение к ней писателя, его одобрительная или неодобрительная позиция как эмпирического субъекта, вступающего в повествование во всем своем величии, но и в своей ограниченности, свойственной любому человеку.
Однако и уничтожение объекта субъектом, ставшим неограниченным властелином бытия, не может само по себе создать экстенсивную по сути своей тотальность жизни: как бы высоко ни возносился субъект над действительностью, ему удается при этом вполне завладеть лишь единичными объектами, сумма которых, однако, никак не создает подлинной тотальности. Ибо даже такой возвышенно-юмористический субъект все равно сохраняет свою эмпирическую природу, а его творческий акт сводится к тому, что он овладевает однородными с ним по своей сути объектами; и круг, которым он очертил свое изображение, придав ему завершенность, обозначает лишь границу его собственной субъективности, но никак не самодовлеющего космоса. Душа юмориста жаждет более подлинной субстанциальности, чем та, какую ему могла бы предоставить жизнь; поэтому он разбивает все формы и границы хрупкой тотальности жизни, чтобы достигнуть единственно истинного источника бытия — чистого, господствующего над миром Я. Но с раздроблением мира объектов и сам субъект превращается в какой-то осколок; его Я остается сущим, однако существование его распыляется в созданном им и лишенном субстанциальности мире осколков. Такая субъективность стремится изобразить все, но именно по этой причине ей удается отражать не более, как некий фрагмент.
Таков парадокс субъективности, свойственной большой эпике; здесь "проигравший выигрывает", любая творческая субъективность тогда становится лирической и лишь тогда оказывается причастна благодати, откровению целого, когда только воспринимает чужое и в своем смирении становится не более чем органом восприятия мира. Такой скачок совершается от "Новой жизни" к "Божественной комедии", от "Вертера" к "Вильгельму Мейстеру"; такой же скачок совершил Сервантес, когда он, замолкнув сам, заставил во всю мощь заговорить мировой юмор "Дон Кихота", тогда как Стерн и Жан-Поль предлагали великолепными звучными голосами лишь субъективные отражения того или иного субъективного же — а потому ограниченного, узкого, произвольно выбранного — куска жизни. Это не оценка, а лишь априорное суждение, определение жанров; жизнь как целое не позволяет обнаружить в себе трансцендентальный центр и не допускает того, чтобы одна из ее живых клеток возвысилась до главенства над целым. Только если субъект, отрезанный от любых проявлений жизни с ее неизбежным эмпиризмом, царит в чистых высях эссенциальности, если он сам лишь носитель трансцендентального синтеза — тогда он способен хранить в своей структуре все условия тотальности, сделав собственные границы границами мира. Но в эпике такого субъекта не бывает: эпика — это жизнь, имманентность, эмпиризм, и "Рай" Данте по сути своей ближе к жизни, чем все щедрое изобилие Шекспира.
Синтетическая мощь сферы Сущности делается еще сильнее в конструктивной тотальности драматической проблематики: все с точки зрения этой проблемы необходимое, идет ли речь о душе или событии, получает право на существование благодаря своему отношению к центру; имманентная диалектика этого единства придает каждому отдельному явлению соответствующую форму бытия в зависимости от того, насколько оно отдалено от центра и какое значение имеет для проблемы. Сама проблема здесь невыразима, представляя собою конкретную идею целого, так что богатство таящегося здесь содержания измеряется лишь созвучием всех голосов. Для жизни же проблема есть абстракция; отношение к какой-то проблеме никак не может вобрать в себя всю полноту жизни того или иного персонажа, и любое событие из его жизненной сферы неизбежно получает здесь лишь аллегорическую форму по отношению к проблеме. Правда, в "Избирательном сродстве", которое Геббель по праву назвал "драматическим произведением", высокое искусство Гете сумело все соразмерить с центральной проблемой, но души героев, изначально введенные в узкое русло проблемы, не обладают тем не менее подлинным существованием; действие, жестко привязанное к этой проблематике, не может обрести цельность и завершенность; даже заселяя столь тесное при всем своем изяществе здание этого своего мирка, автор вынужден был привлечь и чужеродные элементы, и если бы даже он всюду добился такого же успеха, как в некоторых моментах своей чрезвычайно продуманной композиции, все равно тотальность не была бы достигнута. А "драматическая" концентрация "Песни о нибелунгах"[8] — это великолепное заблуждение pro domo[9] Геббеля, отчаянная попытка большого поэта спасти для изменившегося мира распадающееся эпическое единство эпического сюжета. Сверхчеловеческий образ Брунхильды опускается уже до гибрида женщины с валькирией, что ставит в унизительное положение добивающегося ее руки бессильного Гунтера; что же касается Зигфрида, победителя дракона, то здесь сохранены и перенесены на образ рыцаря лишь отдаленные сказочные мотивы. Спасительной, правда, оказывается проблема верности и мести, фигуры Хагена и Кримхильды. И все же это отчаянная и узко эстетическая попытка средствами композиции, с помощью структуры и организации воссоздать единство, не данное более само собой. Да, отчаянная попытка и героическое поражение! Ибо так еще может быть достигнуто некоторое единство, но не подлинная цельность. В действии "Илиады" — где нет начала и нет конца — расцветает целый космос, превращаясь во всеобъемлющую жизнь; за прозрачным композиционным единством "Песни о нибелунгах", за искусно сооруженным фасадом таятся жизнь и тлен, замки и развалины.
3. Эпопея и роман
Стих и проза как средства выражения. Тотальность как данность и как заданность. Мир объективных структур. Тип героя
Эпопея и роман, две формы большой эпики, отличаются друг от друга не авторским подходом, а той историко-философской данностью, с которой автор имеет дело в творчестве. Роман — это эпопея эпохи, у которой больше нет непосредственного ощущения экстенсивной тотальности жизни, для которой жизненная имманентность смысла стала проблемой, но которая все-таки тяготеет к тотальности. Видеть в стихе или в прозе единственный решающий признак жанра значит подходить к этому вопросу поверхностно и лишь с узко художественных позиций. Ни для эпопеи, ни для трагедии стих не является главным конструктивным фактором, но это важный симптом и, подобно азотной кислоте, помогает определить металл: он дает возможность наилучшим образом заглянуть в суть этих жанров. Стих в трагедии резок и суров, он тяготеет к изоляции, к созданию дистанций. Он погружает героев в глубокое одиночество, не допускает никаких иных отношений между ними, кроме отношений борьбы и уничтожения; в лирике этого стиха может звучать отчаяние и упоение начала и конца пути, в ней может отражаться неизмеримая глубина бездны, над которой парит существенность, но в этом стихе никогда не возникнет, как это иногда бывает в прозе, чисто душевное, чисто человеческое согласие между персонажами, никогда отчаяние не обернется элегией, а упоение — тоской по собственным вершинам, никогда душа, охваченная тщеславием, не попытается измерить свою глубину, глядясь в нее как в зеркало. Стих в драме, примерно так говорит Шиллер в письме к Гете, разоблачает любую тривиальность в трагическом замысле, он обладает специфической остротой и весомостью, перед которыми не может устоять ничто просто "живое", то есть драматически пошлое; обыкновенный контраст языка и содержания неизбежно выявит пошлость. Стих в эпике тоже создает дистанции, однако в жизненную сферу они приносят радость и облегчение, ведут к ослаблению недостойных уз, стесняющих и людей и вещи, к устранению удушающей и угнетающей атмосферы, нависающей над жизнью и рассеивающейся лишь в некоторые блаженные моменты, — и как раз такие моменты должны благодаря создаваемым в стихе дистанциям стать жизненной нормой. Таким образом, стих работает здесь в противоположном направлении, хотя непосредственный результат тот же самый: исключить все пошлое, приблизиться к сущности жанра. Ибо в сфере жизни, для эпики пошлость — это тяжесть, а для трагедии — это легкость. Объективным свидетельством того, что полное удаление всего жизненного есть не пустое абстрагирование, а становление Сущности, может быть лишь плотность, которую обретают эти столь далекие от жизни творения: только если их существование (вопреки всяким сравнениям с жизнью) оказывается более полным, значительным и завершенным, чем этого следовало ожидать от любого стремления к осуществлению, — можно ясно ощутить, что трагическая стилизация совершилась; и всякая легкость или бледность, не имеющая, однако, ничего общего с обывательским понятием безжизненности, показывает, что здесь нет истинно трагического мироощущения, и при всей психологической тонкости и индивидуальном лирическом мастерстве выявляет пошлость произведения.
Для жизни же вещей тяжесть означает отсутствие непосредственного данного смысла вещей, безнадежное блуждание в бессмысленных причинных связях, прозябание в бесплодной близости к земле и удаленности от неба, тщетность любых попыток вырваться из объятий грубой вещественности, — то есть то, что извечно стремились преодолеть лучшие имманентные силы жизни; на оценочном языке формы это и называется пошлостью. Блаженно сущая тотальность организуется в предустановленной гармонии эпического стиха: уже в долитературную эпоху, в процессе мифологического охвата всей жизни бытие очистилось от пошлой тяжести, и в стихе Гомера лишь распускаются набухшие почки этой весны. Стиху достаточно легкого толчка, чтобы почки стали лопаться, достаточно венком свободы украсить то, что уже освобождено от всяких пут. Если роль поэта заключается, напротив, в высвобождении скрытого смысла, если его герои, разрушив стены своей темницы, ценою ожесточенных боев завоевывают пригрезившуюся им отчизну долгожданной независимости от земного притяжения или отправляются на поиск ее в мучительное странствие, — то всех сил стиха не хватит, чтобы проложить торную Д9рогу, закрыв бездну ковром из цветов. Ибо легкость большой эпики не более как утопия, присущая определенному историческому моменту, и отрешенность формы, какую стих сообщает всему, что он несет, может только лишить эпику ее великой обезличенности и тотальности, превратив ее в идиллию либо в лирическую игру. Ибо легкость большой эпики имеет ценность и творческую силу только как результат полного освобождения тяготящих ее оков. Забывая о рабстве в пылу разыгравшейся фантазии, совершая побег на блаженные острова, которых не найти на карте пошлых реальностей, никогда не создать большую эпику. Во времена, которым отказано в этой легкости, стих либо изгнан из большой эпики, либо невольно и непреднамеренно превращается в лирический. Только проза может тогда с должной силой передать страдания и избавление, борьбу и триумф, путь и освящение; только ее не стесненная ритмом гибкость и стройность равно годится для выражения и свободы, и оков, и наличной тяжести, и завоеванной легкости имманентного мира, воссиявшего от обретения смысла. Не случайно, что распад превращенной в песнь действительности привел в прозе Сервантеса к исполненной страдания легкости эпоса, тогда как веселый танец Ариосто остался игрой, остался лирикой; не случайно приверженный к эпике Гете отливал свои идиллии в стихи, а для романов о Вильгельме Мейстере, добиваясь тотальности, избрал прозу. В мире дистанций всякий эпический стих лиричен (стихи "Дон Жуана"[10] и "Онегина" приобщают эти произведения к произведениям великих юмористов), потому что в стихе все тайное становится явным, и дистанция, которую искусно преодолевает, постепенно приближаясь к смыслу, степенный шаг прозы, выступает в стремительном полете стиха оголенной, презренной, втоптанной в грязь или как забытая мечта.
Стих Данте тоже не лиричен, хоть и лиричнее стиха Гомера; балладный тон он сгущает, приспосабливая к эпопее. Для Данте жива и ощутима имманентность жизненного смысла, но в потустороннем мире; это законченная имманентность трансцендентного начала. Дистанция в обычном мире жизни выросла до непреодолимости, но за пределами этого мира каждый заблудший находит свою извечную родину; каждый одинокий голос из дольнего мира находит себе согласный отклик в мире горнем. Обширно-хаотический мир дистанций распростерт под сияющей розой небесного смысла, постоянно ощути- мого, открытого и видимого. В небесном граде живут лишь те, кто в нем родился, кто неразрывно связан с ним силою судьбы, но в смутности своей и отягощенности узнает эту силу только тогда, когда путь уже пройден и смысл стал ясен; всякий персонаж поет песнь своей единичной судьбы, воспевая особенное событие, в котором осуществилось то, что ему было предопределено. Это и есть баллада. И поскольку тотальность трансцендентного мироздания для каждой единичной судьбы представляет собою предопределенную, объясняющую и всеохватную априорность, то при последовательном постижении этого здания, его структуры и его красоты (именно в этом главный смысл дантовского хождения в потусторонний мир) — все окутывается единством явленного смысла: в познании Данте каждый индивид становится строительным камнем целого, баллады становятся песнями эпопеи. Но только в потустороннем мире, где исчезают дистанции, смысл посюстороннего предстает обозримым и имманентным. В земном же мире тотальность раздроблена и является лишь чаемой; стихи Вольфрама или Готфрида[11] составляют только лирическое украшение их романов, а балладность "Песни о нибелугнах" может быть лишь прикрыта композиционными средствами, но не доведена до всеохватной тотальности.
Эпопея создает завершенную в себе жизненную тотальность, роман же стремится вскрыть и воссоздать потаенную тотальность жизни. Готовая структура предмета, то есть субъективное выражение того факта, что ни в объективной жизненной тотальности, ни в ее отношении к субъектам нет ничего явно гармонического, — определяет весь дух этого жанра. Все трещины и провалы, заключенные в исторической ситуации, должны стать элементом изображения, они не могут и не должны быть прикрыты композиционными средствами. Суть романа, определяющая его форму, объективируется в психологии героев: эти люди постоянно в поиске. Сам факт поисков свидетельствует, что ни цели, ни пути не могут быть непосредственно даны или что их психологически непосредственная и непоколебимая данность не составляет очевидного подтверждения реальных связей или этической необходимости, составляя лишь факт душевной жизни героя, которому не обязательно что-либо соответствует в мире объектов или в мире норм. Иными словами: в романе может говориться о преступлении или безумии; но границы, отделяющие преступление от положительного героизма, а безумие — от мудрости, оказываются зыбкими и носят чисто психологический характер, даже если достигнутое с ужасающей ясностью представляется с точки зрения обыденной действительности безнадежной ошибкой. В этом смысле ни эпопея, ни трагедия не знают преступления и безумия. То, что согласно общепринятым понятиям именуется преступлением, для них либо вовсе не существует, либо составляет тот символический момент, когда раскрывается отношение души к судьбе, влекущей душу к поискам ее метафизической родины. Эпопея — это либо чистый мир детства, где нарушение устоявшихся норм неизбежно влечет за собой возмездие, которое в свою очередь должно быть отмщено — и так до бесконечности, — либо законченная теодицея, где и преступление, и наказание равновеликими гирями ложатся на чаши весов Страшного суда. А в трагедии преступление — это либо ничто, либо некий символ, либо всего лишь элемент интриги, обусловленный чисто техническими нуждами, либо, наконец, взрыв земных норм, ворота, через которые душа обретает доступ к себе самой. Безумия же эпопея не знает совершенно, — разве что как невнятный язык, которым выговаривает себя потусторонний мир; для непроблематичной трагедии безумие может быть символическим выражением конца — либо физической смерти, либо отмирания души, заживо сгорающей в собственном пламени. Ибо преступление и безумие — это объективизация трансцендентальной бездомности, будь то бездомность деяния в области общественных взаимосвязей пли бездомность души в области сверхличной системы этических ценностей. Всякая форма — это разрешение диссонансов бытия, особый мир, где бессмысленность становится — обретя свое место, — носителем, напряженной предпосылкой смысла. Итак, если в каком-то произведении высшая бессмысленность, пустота глубоких и истинных человеческих устремлений или же возможность крайнего людского ничтожества должны быть приняты как основополагающие элементы, если абсурдное само по себе разъясняется, анализируется и тем самым признается реально существующим и неистребимым, то пусть даже в этом произведении некоторые устремления и увенчиваются успехом, но все-таки в основу всех образов и событий, как фундамент всего здания, как его априорная основа, должно лечь исчезновение явных целей и решительная дезориентация всей жизни.
Там, где не даны непосредственно никакие цели, там структуры, которые душа, реализуя себя среди людей, находит в качестве арены и субстрата своей деятельности, теряют явную укорененность в сверхличных нормативных основах; они остаются просто сущими, может быть, прочными, а может, и прогнившими, но никогда не осенены они абсолютом и никогда не вбирают в себя естественным образом льющуюся через край внутреннюю жизнь героя. Они образуют условный мир, всемогуществу которого непокорно лишь ядро души, необозримое разнообразие которого проявляется всюду, строжайшая упорядоченность которого как в становлении, так и в бытии с неизбежной очевидностью предстает перед взором познающего субъекта и которая все-таки при всей упорядоченности не предстает ни как конечный смысл для ищущего субъекта, ни как непосредственный чувственный материал для субъекта действующего. Этот мир — вторая природа; как и первую, ее можно определить лишь как систему познанных, но чуждых по своему смыслу необходимостей, а потому ее подлинная субстанция непостижима. Но для поэзии только субстанция и существует, и только сходные, родственные субстанции могут вступать друг с другом в воинственную связь композиционных отношений. Лирика может игнорировать феноменальность первой природы и, сильная этим игнорированием, создавать многоликую мифологию субстанциальной субъективности: для нее существует только великий миг, когда вечными становятся полное смысла единство природы и души или их столь же осмысленная раздельность, необходимое и осознанно принятое вечное одиночество души: внутренняя чистота души, вырвавшись из безразличного потока времени и поднявшись над смутной множественностью вещей, в лирический миг застывает, превращаясь в субстанцию, а чуждая и непознаваемая природа благодаря силе души воплощается в сияющий символ. Но подобные взаимосвязи души и природы возникают только в лирический миг. В другие времена лишенная смысла природа превращается в некое подобие чулана, заполненного живописно-чувственными лирическими символами, кажется погруженной словно по колдовству в лихорадочное движение, и только волшебное слово лирики способно умиротворить ее и привести в состояние осмысленного оживленного покоя. Ибо только лирике такие мгновения дают основу и форму; только в лирике эта внезапная вспышка субстанции неожиданно открывает ключ к колдовским письменам; только в лирике субъект, к которому приходит это переживание, становится единственным носителем смысла и подлинной действительности. Местом действия драмы является сфера, лежащая за пределами этой действительности, а для эпических форм субъективное переживание остается в самом субъекте: оно становится состоянием души. И природа, лишенная как собственной, далекой от смысла, жизни, так и символической осмысленности, становится фоном, кулисой, вторым голосом: она утратила самостоятельность и стала лишь чувственно воспринимаемой проекцией главной сущности — внутренней жизни души.
У второй природы, образуемой социальными отношениями, нет лирической субстанциальности: ее слишком жесткие формы несовместимы с символическим мгновением, а у ее законов слишком четкое содержание, чтобы обойтись в лирике без конкретных источников. Да и сами эти источники живут исключительно в силу тех законов, не обладают независимой от них чувственной силой бытия и без них распались бы. В отличие от первой эта вторая природа не является чувственно-безмолвной и чуждой смыслу; она представляет собой застывший комплекс смыслов, ставших чуждыми и больше не возбуждающими душевной жизни; это кладбище былых душевных движений, и пробудить ее, будь такое возможно, мог бы только метафизический акт, возрождающий то духовное начало, которое ее создало изначально или поддерживает в идеальном бытии, но ни в коем случае не чья-либо другая душевная жизнь. Вторая природа слишком близка по крови тому, к чему стремится душа, чтобы та могла обращаться с нею как с простым сырьем для своих настроений, но в то же время слишком ей чужда, чтобы адекватно выражать ее устремления. Чуждый характер этой второй природы по сравнению с первой, свойственное новому времени сентиментальное чувство природы — все это выражает собой сознание того, что созданная человеком окружающая среда превратилась из отчего дома в тюрьму. Пока структуры, созданные людьми для человека, действительно к нему приспособлены, они остаются его естественным и необходимым обиталищем; в душе человека не может поселиться какое-нибудь томление, для которого природа стала бы предметом поисков и обретений. Первая природа, составляющая закон для чистого познания и утешение для чистого чувства, есть не что иное, как историко-философское выражение взаимного отчуждения человека и созданных им структур. Когда духовное начало этих структур больше не явлено непосредственно, когда они уже не выступают просто как сгущенно-сосредоточенное проявление душевных движений, способное в любую минуту вновь обрести духовность, они, чтобы сохраниться, должны обрести слепую, без разбора и без исключений, власть над людьми. Пытаясь понять эту угнетающую их власть, люди нарекли ее законом; он всемогущ и вездесущ, что вызывает ощущение безнадежности, но в сознании с помощью возвышенной и возвышающей логики закону придается характер внечеловеческой неизменной и вечной необходимости. Природа законов и природа душевных состояний имеют своим основанием один и тот же душевный источник: их предпосылкой является невозможность достигнуть исполненной смысла субстанции и адекватного объекта для определяющего субъекта. Сталкиваясь с природой, единственно реальный субъект растворяет весь внешний мир в своих душевных состояниях и, в силу тождества между созерцающим субъектом и его объектом, сам превращается в душевное состояние; и чистое стремление к познанию мира, свободного от воли и желаний, превращает его в безличное, конструктивное и сконструированное воплощение познающих функций. Это неизбежно. Ибо субъект играет основополагающую роль, только если действует изнутри, то есть как этический субъект; он только тогда не подвергается воздействию закона и душевного состояния, когда арена его поступков и нормативный объект его действий формируются из чистой этики, когда право и обычаи отождествляются с нравственностью, когда, чтобы перейти к действию, ему нет необходимости вносить в свои создания больше духовности, чем можно действием извлечь из них. Душа такого мира не пытается познавать законы, ибо она сама является законом для человека; в любом материале он видит тот же лик той же самой души. И для него было бы мелочной и излишней игрой преодолевать чуждость неодушевленной окружающей среды искусственно возбуждаемыми в себе душевными состояниями; мир человека — это мир, где душа чувствует себя дома, будь то душа человека, божества или демона; в этом мире она находит все необходимое, и ей не нужно ни создавать что-либо из собственного естества, ни что-то оживлять, так как она преисполнена поисками, собиранием и формированием того, что ей дано непосредственно как нечто родственное.
Эпический индивид, герой романа, рождается в результате такой чуждости внешнему миру. Покуда мир внутренне однороден, люди тоже не отличаются друг от друга по своим качествам; существуют, правда, герои и злодеи, праведники и преступники, но даже величайший герой всего лишь на голову выше окружающих, а исполненные достоинства речи мудрейших слушают даже глупцы. Обособленная жизнь души оказывается возможной и необходимой только тогда, когда различия между людьми создают между ними непреодолимую пропасть; когда боги безмолвствуют и ни жертвы, ни экстаз не в состоянии заставить их раскрыть свои тайны; когда мир поступков, отчужденный от людей, в силу этой самостоятельности становится пуст и неспособен вместить истинный смысл поступков, приобрести благодаря им символический характер и превратить их в символы: когда душевная жизнь и внешние события навсегда отделились друг от друга.
Строго говоря, герой эпопеи никогда не бывает индивидом. С давних пор главным признаком эпоса считалось, что предметом его является не личная судьба, а судьба некоего сообщества. И это понятно, потому что завершенность и замкнутость системы ценностей, определяющие эпический космос, образуют слишком органичное, цельное единство, чтобы какая-то его часть, обособившись, могла почувствовать себя внутренне самобытной личностью. Всемогущество этики, превращающее всякую душу в нечто самоценное и неповторимое, еще чуждо этому миру и далеко от него. Когда жизнь как жизнь находит в себе свой имманентный смысл, то органические категории определяют абсолютно все: индивидуальная структура и своеобразие возникают из уравновешенной взаимообусловленности части и целого, а не из полемической саморефлексии одинокой и заблудшей личности. Поэтому в столь цельном мире событие может получить только количественное значение: ряд происшествий, воплощающих это событие, приобретает вес в зависимости от того, какое благо или зло он несет большому органическому целому — народу или роду. Следовательно, то обстоятельство, что герои эпопеи должны быть царями, мотивировано другими причинами, чем аналогичное, хотя и тоже формальное, требование в отношении трагедии. Там оно возникло из необходимости устранить с дороги судеб всякие мелкие проявления жизненной причинности, потому что только у личности, стоящей на вершине социальной пирамиды, чье символическое бытие сохраняет чувственную конкретность, конфликты вырастают непосредственно из трагической проблемы; потому что ее внешне изолированное положение создает вокруг нее ореол значительности. То, что в трагедии было символом, в эпопее становится действительностью — значимостью связи между единичной судьбой и целым. Мировая судьба в трагедии — это лишь ряд нулей, присоединенных к единице и превращающих ее в миллион; в эпопее же она наделяет события содержанием; соучастие в этой судьбе не обособляет ее носителя, наоборот, связывает его неразрывными нитями с сообществом, чья судьба кристаллизируется в его жизни.
И сообщество это выступает как конкретно-органическая, а потому и осмысленная тотальность; благодаря этому в эпопее масса происшествий всегда упорядочена, но никогда не замкнута; это как чрезвычайно полнокровное живое существо, братьями или соседями которого являются такие же сходные с ними живые существа. То, что гомеровские поэмы начинаются в разгар событий и не завершаются концом, объясняется вполне обоснованным безразличием эпического духа ко всякой архитектонике, а включение чужеродных сюжетных мотивов, — например, фигуры Дитриха Бернского в "Песни о нибелунгах", — никак не может нарушить это равновесие, ибо в эпосе все живет своей жизнью и приходит к завершению согласно внутренней значимости. Чуждые элементы могут здесь спокойно соединяться с центральным ядром, при всяком соприкосновении конкретных вещей между ними возникают конкретные отношения; благодаря перспективной удаленности и неполному раскрытию чужеродные элементы не угрожают единству целого и вместе с тем сохраняют очевидность органического бытия. Данте — единственный великий пример явной победы архитектуры над органикой, и потому он знаменует историко-философский переход от чистой эпопеи к роману. Ему еще присущи замкнутая имманентность и отказ от дистанций, свойственные истинной эпопее, но его персонажи — это уже индивиды, сознательно и энергично противящиеся сковывающей их действительности и благодаря такому сопротивлению становящиеся настоящими личностями. Систематичен также конституирующий принцип тотальности Данте, устраняющий эпическую самостоятельность частичных органических единиц и превращающий их в иерархически упорядоченные части в прямом смысле слова. Правда, такая индивидуализация больше заметна во второстепенных, чем в главных персонажах, и тенденция эта усиливается на периферии по мере удаления от цели; каждая частичная единица сохраняет собственную лирическую жизнь, чего не знал и знать не мог древний эпос. Такое соединение предпосылок эпоса и романа, их синтез, нашедший воплощение в эпопее, основан на двойственном характере дантовского мира: мирской разлад жизни и смысла преодолевается и устраняется благодаря совпадению жизни и смысла непосредственно переживаемой трансцендентальности: Данте противопоставляет иерархию осуществленных постулатов лишенному их организму древнего эпоса, и точно так же только он может обходиться без героя, стоящего на вершине общественной пирамиды и судьбою своей определяющего судьбу всего сообщества, — ибо переживаемое его героем есть символическое единство человеческой судьбы в целом.
4. Внутренняя форма романа
Абстрактность как основная черта романа и связанные с ней опасности. Роман как процесс. Ирония как принцип формы. Дискретная структура романного мира и средства изображения. Внутренняя емкость романа.
Тотальность мира Данте — это тотальность зримой системы понятий. Именно эта чувственная овеществленность и субстанциальность как самих понятий, так и их системной иерархии позволяют сделать цельность и тотальность основополагающими, но не регламентирующими структурными категориями такого мира, так что его можно пройти насквозь волнующим, но безопасным (благодаря мудрому руководству) путем, а не бродить беспорядочно, на ощупь выбирая дорогу к цели; это делает возможным возникновение эпоса, историко-философская ситуация которого уже настойчиво выдвигает проблемы, подводящие этот эпос совсем близко к роману. Тотальность романа поддается систематизации лишь на абстрактном уровне; соответственно возможная здесь система, вне которой тотальность неспособна пережить исчезновение органически, сводится исключительно к отвлеченным понятиям и непосредственно не имеет значения для эстетического творчества. Правда, эта абстрактная система составляет последнюю основу, на которой все строится, но в действительности, — как данной, так и структурируемой — нам явлены только ее отличия от конкретной жизни, то есть условность объективного мира и чрезмерная душевная изоляция мира субъективного. Элементы романа полностью абстрактны в гегелевском значении этого слова: абстрактна страсть людей, направленная лишь на утопическое завершение и не воспринимающая как подлинную реальность ничего, кроме себя и собственных вожделений; абстрактны социальные структуры, опирающиеся лишь на свою фактическую силу; абстрактен творческий подход, который не устраняет, а оставляет нетронутой дистанцию между обеими абстрактными группами структурных элементов, не превозмогает ее, а делает ощутимой в качестве переживания романного героя и, превратив ее в орудие композиции, использует для объединения обеих групп. Очевидна опасность, какою чревата такая абстрактность для романа: либо роман преобразуется в нечто лирическое или драматическое, либо сужает тотальность мира до рамок идиллии, либо, наконец, опускается до уровня развлекательного чтения. И отвратить эту опасность можно, только сознательно и последовательно рассматривая в качестве окончательной действительности всю хрупкость и незавершенность мира, все, что в нем отсылает к чему-то другому.
Всякая художественная форма определяется неким метафизическим диссонансом, который она утверждает и структурирует в жизни как основу завершенной в себе тотальности; настрой рождаемого здесь мира, человеческая и событийная атмосфера определяются опасностью, возникающей из не устраненного полностью диссонанса и представляющей угрозу для формы. Диссонанс романной формы, нежелание смысловой имманентности войти в эмпирическую жизнь создает проблему формы, которая носит здесь не столь явный характер, как в других видах искусства, и которая, видимым образом касаясь содержания, требует, вероятно, еще более открытого и решительного взаимодействия этических и эстетических факторов, чем когда речь идет о явно формальных проблемах. Роман — это зрелая, возмужалая форма в отличие от эпопеи с ее нормативной детскостью; драма же, обращенная к жизни, не подвластна возрастам, понимаемым как априорные категории, как нормативные стадии. Раз роман — возмужалая форма, то это означает, что замкнутость его мира объективно расценивается как незаконченность, а субъективно переживается как смирение. Поэтому опасность, угрожающая этой форме, двойная: либо бессвязность мира выступает со всей очевидностью, уничтожая имманентность смысла, и смирение оборачивается мучительным отчаянием, либо слишком сильное желание разрешить диссонанс, признать его и упрятать в форму ведет к преждевременным заключениям, что оборачивается распадом формы на разнородные части, поскольку хрупкость, прикрытая лишь внешне и не преодоленная, разрывая слабые связи, обнаруживается как не переработанное сырье. Однако в обоих случаях структура остается абстрактной: превращение абстрактной основы романа в форму осуществляется лишь в ходе познания этой абстракции; требуемая формой имманентность смысла возникает именно как результат решительного и последовательного обнаружения отсутствия этой имманентности.
Искусство в своем отношении к жизни — это всегда некое "вопреки"; формотворчество — это самое глубокое подтверждение существования диссонанса. Но в любом другом жанре, включая эпопею, по уже понятным теперь причинам, утверждение диссонанса предшествует созданию формы, тогда как для романа оно как раз и составляет его форму. Поэтому здесь отношения этики и эстетики в творческом процессе иные, чем в прочих литературных жанрах. Там этика представляет собою лишь чисто формальную предпосылку, которая благодаря своей глубине позволяет проникнуть в сущность, необходимую для формы, а благодаря широте — достигнуть тотальности, опять-таки необходимой для формы, — и которая своей масштабностью создает равновесие конституирующих элементов, обозначаемых на языке чистой этики словом "справедливость". В романе же этика, образ мыслей обнаруживает себя в структуре каждой детали, и, следовательно, в силу своей конкретнейшей содержательности она становится действенным конструктивным элементом произведения. Таким образом, в отличие от других жанров, обладающих завершенными формами, роман выступает как нечто становящееся, как процесс. Поэтому в художественном отношении он представляет собою наиболее уязвимую форму, которую многие, отождествляя такие понятия, как проблематика и проблематичность, характеризовали как "полуискусство". При этом даже возникала соблазнительная иллюзия их правоты, потому что только у романа имеется карикатурный двойник, почти не отличимый от него во всех несущественных формальных чертах; двойник этот — развлекательная литератуpa, обладающая всеми внешними признаками романа, однако в своей сути ни с чем не связанная и ни на чем по-настоящему не основанная, то есть совершенно бессмысленная. В других жанрах, где бытие представлено в устойчивых формах, такие карикатуры невозможны, потому что внехудожественная сторона формотворчества не может быть ни на миг утаена; здесь же может возникнуть сближение вплоть до полного, но обманчивого сходства; это происходит вследствие скрыто регламентирующего действия связующих и формирующих идей, а также потому, что пустая подвижность обладает внешним сходством с процессом, последнее содержание которого нельзя охватить разумом. Но в каждом конкретном случае от зоркого взгляда не ускользает мнимый, карикатурный характер этого сближения; также и все иные доводы против истинно художественного характера романа обладают лишь иллюзией истины. Не только потому, что нормативная незавершенность и проблематика романа составляют форму, обладающую историко-философской подлинностью, и благодаря этому сквозь внешние напластования прорывающуюся к истинному состоянию современного духа, но еще и потому, что роман как процесс исключает завершенность лишь в отношении содержания, а формально создает подвижно-устойчивое равновесие между становлением и бытием; будучи идеей становления, он становится состоянием и, образуя нормативную суть этого становления, сам себя преодолевает: "Путь открыт, путешествие окончено".
Итак, это "полуискусство" предписывает более строгую и непогрешимую систему законов, чем "завершенные формы", и законы эти тем более обязательны, чем меньше поддаются определению и формулировке: это законы такта. Такт и вкус, категории сами по себе низшие, относящиеся к чисто жизненной сфере и даже несущественные по сравнению с основными понятиями этического мира, приобретают в романе большое, основополагающее значение: только благодаря им субъективность, которой начинается и заканчивается тотальность романа, оказывается в состоянии сохранить свое равновесие, проявить себя как эпическая нормативная объективность и таким образом преодолеть абстракцию — главную опасность, угрожающую этой форме. Ибо опасность эту можно сформулировать так: когда этика в своей не только формальной, но и содержательной априорности должна стать опорой художественной формы, а между тем в фигурах персонажей, в отличие от эпических эпох, не совпадают и даже не сближаются между собой этика как внутренний жизненный фактор и укорененность поступков в социальных структурах, — там возникает опасность, что вместо всей наличной тотальности обретет форму лишь ее субъективный аспект, заслоняя и даже разделяя объективность, которой требует большая этика. Оасность эту стороной не обойти, ее можно только преодолеть изнутри. Ибо эта субъективность не устраняется, если она остается невысказанной или если она превращается в волю к объективности: такое умолчание и стремление сами становятся еще более субъективными, чем открытое, осознанное проявление субъективности, а потому и более абстрактными (опять-таки в гегелевском смысле).
Самопознание, а с ним и самоустранение субъективности первые теоретики романа, создатели эстетики раннего романтизма, окрестили иронией. Как составная часть формы романа она означает расщепление нормативного творческого субъекта на два вида субъективности: одна, представляя собой внутренний мир души, противостоит чуждым силам мира и стремится навязать этому миру содержание собственных чаяний, а другая, прозревая абстрактность, а с нею и ограниченность чуждых друг другу миров — субъективного и объективного, — постигает их в границах, понимаемых как необходимое условие их существования и благодаря этому сознанию, хоть и сохраняя двойственность мира, все же усматривает и создает единое мироздание, приводя во взаимную обусловленность сущностно разнородные элементы. Такое единство, однако, носит чисто формальный характер; взаимные чужеродность и враждебность внутреннего и внешнего миров не устраняются, а лишь признаются необходимыми, и субъект такого признания столь же эмпиричен, погружен в мирскую суету и так же ограничен в своих душевных переживаниях, как те, что стали его объектами. В такой ситуации ирония лишается холодно-абстрактного высокомерия, сужающего ее объективную форму до субъективной, до сатиры, а тотальность — до одного определенного аспекта, так как наблюдающий и творящий субъект оказывается вынужденным применять к себе самому свое понимание мира, делая себя, наравне со своими творениями, свободным объектом свободной иронии, короче говоря, делаясь чисто воспринимающим субъектом, который как раз и предусмотрен нормами большой эпики.
Эта ирония не что иное, как самокоррекция нестойкости: неадекватные отношения могут превратиться в фантастический и упорядоченный хоровод недоразумений и неузнаваний, где все рассматривается со многих сторон: в изоляции и во взаимосвязи; как носитель ценностей и как ничтожность; как абстрактная обособленность и как конкретная автономность жизни; как увядание и как расцвет; как боль причиненная и как боль пережитая.
На качественно совершенно новой основе вновь достигается точка зрения на жизнь, где нерасторжимо переплетаются относительная самостоятельность частей и их связь с целым — с той только разницей, что части эти, несмотря на связь с целым, никогда не теряют свою жестко-абстрактную независимость, а их отношение к тотальности, хотя и приближаясь, насколько это возможно, к органичности, тем не менее представляет собой концептуальное, непрестанно отменяемое отношение, а не настоящую исконную органику. Если рассматривать все это применительно к композиции, то это ведет к тому, что люди и их действия хоть и обладают безграничностью подлинного эпического предмета, но их структура существенно отличается от эпической. Структурное различие, обнажающее такую в своей основе понятийную псевдоорганику романного материала, — это различие между однородной непрерывностью органики и разнородной прерывистостью случайных элементов. Из-за такой случайности части романа относительно самостоятельнее, чем в эпопее, обладают большей завершенностью и, чтобы они не взорвали целое, их приходится включать в него с помощью средств, находящихся за пределами их собственного бытия. Они должны обладать, по-иному, чем в эпопее, четким композиционно-архитектоническим значением, либо освещая по контрасту центральную проблему, как вставные новеллы в "Дон Кихоте", либо исподволь вводя заранее сюжетные мотивы, которые станут решающими для концовки, — как "Признания прекрасной души"[12]; их существование, однако, никак не может быть оправдано одним лишь их наличием. Такая возможность самостоятельного существования отдельных частей, объединенных лишь общей композицией, имеет, правда, значение только как симптом, наглядно выявляя тотальную структуру романа, и, собственно говоря, отнюдь не обязательно, чтобы каждый образцовый роман доходил в своей структуре до таких крайних пределов; попытки преодолеть проблематику формы романа исключительно подобным способом даже приводят к искусственности, к схематичности композиции, как, например, у романтиков или у Пауля Эрнста в его первом романе[13].
Действительно, случайность — всего лишь симптом; он освещает только фактическое положение дел, которое неизбежно присутствует всегда и всюду, но ироничная тактика композиции постоянно искусно прикрывает его иллюзией органики. Внешняя форма романа — по сути своей биографическая. Колебание между системой понятий, все время упускающих из виду жизнь, и жизненным комплексом, неспособным обрести покой и самозавершенность, где утопия стала бы имманентностью, — такое колебание может найти объективное выражение лишь в чаемой органике биографии. В такой исторической ситуации, когда органика представляет собою всемогущую категорию всего бытия, было бы безрассудным насилием над именно органическим характером живого существа пытаться превратить индивида с его ограничивающей ограниченностью в источник всего стиля и в центральный момент всей формы. В эпоху устойчивых систем образцовое значение отдельной жизни не выходит за пределы единичного примера: если бы вздумали объявить ее носителем, а не субстратом ценностей — то было бы смехотворной дерзостью. В биографической форме отдельный изображенный индивид приобретает собственный вес, который, если соразмерять его с могуществом жизни — с одной стороны и с могуществом системы — с другой, был бы слишком велик в первом случае и слишком мал — во втором; его мера обособленности слишком велика в первом случае и незначительна во втором, и отношение его с идеалом, который он несет в себе и осуществляет, является чрезмерно подчеркнутым в первом случае и недостаточно подчиненным — во втором. В биографической форме тщетное стремление души как к непосредственному жизненному единству, так и к всезавершающей архитектонике системы приводится в состояние покоя и равновесия, превращается в бытие. Ибо центральная биографическая фигура обязана своим значением лишь отношению к возвышающемуся над нею миру идеалов, но и сам этот мир реализуется лишь постольку, поскольку живет в данном индивиде, в данном жизненном опыте. Таким образом, в биографической форме устанавливается равновесие двух жизненных сфер, каждая из которых в отдельности не осуществлена и неосуществима; и возникает новая, самобытная жизнь, парадоксально завершенная и осмысленная, — жизнь проблематичного индивида.
Мир случайностей и проблематичный индивид — это две реальности, взаимно обусловливающие друг друга. Если индивид не проблематичен, то стоящие перед ним цели очевидны, и мир, созданный благодаря их достижению, может, конечно, ставить на его пути трудности и препятствия, но никогда не представляет для него серьезной угрозы. Настоящая опасность возникает лишь тогда, когда внешний мир утратил связь с идеями, и они превращаются в субъективные факты душевной жизни, в идеалы. Неосуществимость идей, их эмпирическая нереальность, их превращение в идеалы разрушают непосредственную, беспроблемную органику индивидуальности. Она становится целью для себя самой, так как все важное для себя, все, что дает ей подлинную жизнь, она хотя и находит в самой себе, но не как достояние и основание жизни, а как предмет поисков. Но окружение индивида образует лишь иной субстрат и материю тех же самых категориальных форм, на которых покоится его внутренний мир: поэтому суть внешнего мира должен составлять непреодолимый разрыв между действительностью и идеалом, лишь в структуре своей соответствуя различиям в материале. Различия эти ярче всего проявляются в чистой негативности идеала. В субъективном мире души идеал так же чувствует себя на родной почве, как и прочие душевные факторы, хотя он и низведен до уровня переживания; он может поэтому выступать непосредственно, притом с положительным содержанием; напротив, в окружении человека разрыв между действительностью и идеалом проявляется в объективном отсутствии идеала и влечет за собой имманентную самокритику чистой данности, разоблачающей свою ничтожность вне имманентного идеала.
Это самоуничтожение, которое в своей непосредственной данности обнаруживает чисто мыслительную диалектику и лишено непосредственной чувственной очевидности, проявляется в двоякой форме. Во-первых, как дисгармония между душевным миром и его действенным субстратом, тем более явная, чем истиннее душевный мир и чем ближе к своим источникам те идеи бытия, что обернулись в душе идеалами. Во-вторых, как неспособность безразличного к идеалу и враждебного к душе мира найти в себе действительное завершение, обрести как нечто целое форму тотальности, форму связности со своим элементами и этих элементов между собой. Иными словами, такой мир не поддается изображению. И в отдельных частях, и в целом он не укладывается в формы непосредственного чувственного воссоздания. Он оживает, лишь будучи соотнесен либо с внутренним опытом затерянных в нем людей, либо с созерцательно-творческим взглядом писателя как субъекта изображения, иначе говоря, только став объектом переживаний или размышлений. Такова формальная основа и художественное оправдание романтического требования к роману: объединяя в себе все жанры, включить в свою структуру и чистую лирику и чистую мысль. Парадоксальным образом именно дискретный характер действительности требует ради эпической значительности и чувственной ощутимости произведения вовлекать в него элементы, чужеродные эпике и даже литературе вообще. И роль их не исчерпывается созданием лирической атмосферы и интеллектуальной содержательности, которую они сообщают прозаичным, разрозненным и несущественным событиям; только в них может обнаружиться последняя все объединяющая основа целого — система регламентирующих идей, созидающая тотальность. Дискретная структура внешнего мира покоится в конечном счете на том, что по отношению к действительности идейная система обладает лишь регламентирующей властью. Неспособность идей проникать внутрь действительности делает последнюю разрозненной и разнородной, заставляя ее еще больше нуждаться в явной связи с системой идей, чем это было в мире Данте. Каждому явлению там было указано место в мировой архитектонике и тем сразу же дарованы жизнь и смысл, вполне имманентно присутствовавшие в гомеровском мире органики в любом проявлении жизни.
Внутренняя форма романа представляет собой, таким образом, процесс движения проблематичного индивида к самому себе, как путь от смутной погруженности в наличную действительность, гетерогенную и, с точки зрения индивида, лишенную смысла, к ясному самосознанию. По достижении этого самосознания обретенный идеал, правда, просвечивает лучами жизненного смысла в имманентность бытия, но противоречия между бытием и долженствованием не сняты, да и не могут быть сняты в сфере данного процесса, то есть романной жизни; возможно лишь максимальное сближение противоположностей, глубочайшее и интенсивное озарение, открывающее человеку смысл его жизни. Оформленная имманентность смысла достигается благодаря осознанию того обстоятельства, что такое прозрение смысла есть высшая благодать бытия, единственная цель, ради которой стоит поставить на карту жизнь, и единственная награда, ради которой стоит бороться. Этот процесс охватывает целую человеческую жизнь, и его нормативное содержание, путь к самосознанию, предопределяет одновременно и объем его, и его направление. Внутренняя форма такого процесса, адекватнее всего выражающегося в биографии героя, показывает огромную разницу между дискретной беспредельностью романного сюжета и непрерывной бесконечностью сюжета эпопеи. Романная беспредельность — это дурная бесконечность, и, чтобы оформиться, она нуждается в границах, тогда как бесконечность чисто эпического сюжета носит внутренний, органический характер, сама в себе содержит ценности, подчеркивает их, ставит себе пределы снаружи и изнутри и, безразличная ко всему, что эти пределы преступает, усматривает в нем лишь следствие или в лучшем случае симптом. Биографическая форма помогает роману преодолеть дурную бесконечность: с одной стороны, в своем объеме мир ограничивается тем, что может пережить герой, а все эти переживания направлены на познание героем смысла жизни и себя самого; с другой — дискретная разнородная масса изолированных людей, ничего не значащих социальных структур и лишенных смысла событий приобретает единое членение благодаря связи каждого отдельного элемента с центральной фигурой и той жизненной проблемой, которую символизирует ее жизненный путь.
Начало и конец романного мира, предопределяемые началом и концом процесса, который дает содержание всему произведению, становятся полными смысла вехами четко отмеренного пути. Хоть сам по себе роман и не зависит от естественных границ человеческой жизни, от рождения и смерти, точками своего начала и конца он тем не менее отмечает границы проблемного, существенного отрезка пути, рассматривая лишь в данной перспективе и лишь в связи со своей проблематикой все, что случилось до или после; тем самым он все равно имеет тенденцию развернуть свою эпическую тотальность в рамках человеческой жизни, составляющей для него главное. То, что начало и конец романной жизни не совпадают с обычными границами жизни человека, как раз и показывает, что биографическая форма нацелена на идеи: конечно, именно человек является той нитью, которая связывает весь мир в его тотальности, но жизнь этого человека приобретает такую значимость только благодаря тому, что является типическим представителем той системы идей и пережитых идеалов, которая регламентирует внутренний и внешний мир романа. Пусть романная биография Вильгельма Мейстера простирается от обострившегося кризиса, вызванного определенными жизненными обстоятельствами, вплоть до обретения выпавшего ему на долю жизненного призвания, но это биографическое повествование строится на тех же принципах, что и жизнеописание героя в романе Понтоппидана[14], длящееся от первых важных детских впечатлений до самой смерти. В любом случае это отличается от стиля эпопеи: там центральная фигура и события, в которых она участвует, сами по себе составляют организованную массу, так что начало и конец имеют для них иное, куда меньшее значение: это всего лишь моменты наибольшей интенсивности, по природе подобные всем другим; это, конечно, вершинные точки в структуре целого, но они никогда не означают ничего большего, чем предельное напряжение или разрядку. В этом, как и во всем ином, Данте занимает уникальное положение, — ибо у него структурные принципы, тяготеющие к роману, возвращаются к эпопее. Начало и конец у Данте предрешают собой все существенное в жизни, и все важное и значимое разыгрывается в этих пределах: до начала царил беспросветный хаос, после конца возникла огражденная отныне от всякой угрозы уверенность в спасении. Но то, что заключено между началом и концом, как раз отклоняется от категорий биографического процесса: это вечно сущее становление экстатического видения; и то, что была бы в состоянии охватить и изобразить романная форма, обречено здесь, в силу абсолютной значимости дантовского переживания, на абсолютную несущественность. Роман включает в промежуток между началом и концом главное содержание своей тотальности, поднимая тем самым индивида на недосягаемую высоту: он своим жизненным опытом должен создать целый мир и поддержать его в равновесии; такой высоты никогда не сможет достигнуть эпический индивид, даже герой Данте, обязанный своей значимостью не своей чистой индивидуальности, а излившейся на него благодати. Однако именно в силу такой ограниченности индивид становится орудием, центральное положение которого зависит исключительно от его способности раскрыть некоторую мировую проблематику.
5. Историко-философская обусловленность романа и его значение
Этическое в романе. Демоническое. Историко-философское место романа. Ирония как мистика.
Композиция романа — это парадоксальный сплав разнородных и дискретных составных частей, приводящий к созданию снова и снова распадающейся органики. Взаимосвязь абстрактных составных частей в своей абстрактной чистоте носит формальный характер; поэтому последним объединяющим принципом должна здесь быть этика творческой субъективности, доведенная до очевидности своего содержания. Но поскольку она должна снова отменить себя самое, дабы была реализована нормативная объективность эпического творца, поскольку вместе с тем она не может и полностью отказаться от субъективности, пропитать собою объекты изображения и проявить себя как смысл объективного мира, — то она сама, чтобы обрести творческий такт, создающий равновесие, вынуждена корректировать себя некой новой этикой, в свою очередь обусловленной своим содержанием. Это взаимопроникновение двух этических комплексов, двойственность творчества в сочетании с единством формы составляют содержание иронии, нормативной интенции романа, обреченного на величайшую усложненность благодаря структуре своего материала. Для любой формы, где идея изображается воплощенной в действительность, судьба идеи в действительности не нуждается в диалектической рефлексии. С отношениями идеи и действительности справляется чисто чувственное изображение, между ними не остается пробела, заполнить который могла бы лишь осознанно и открыто выступающая мудрость писателя; следовательно, мудрость эта может проявиться еще до творческого акта, скрываясь за формами и не будучи вынужденной сама себя преодолевать в произведении — в качестве иронии. Ибо писательская рефлексия, этическое отношение автора к содержанию, двойственна: прежде всего она затрагивает обдуманную структуру судьбы, которая в жизни выпадает идеалу, ее чисто фактический характер и ценностное суждение о ней. Но И сама эта обдуманность в свою очередь становится предметом рефлексии: она сама лишь идеал, нечто субъективное, постулируемое, и ей самой уготована своя судьба в чуждой ей действительности, только эта судьба уже должна быть изображена как чистая рефлексия самого рассказчика.
Это потребность рефлексии определяет глубочайшую меланхолию всякого подлинного и великого романа. Наивность писателя (подразумевающая, что чистая рефлексия глубоко художественна) насильственно обращается здесь в свою противоположность; и завоеванный в отчаянии компромисс, неустойчивое равновесие двух взаимоуничтожающих рефлексий, вторичная наивность, то есть объективность романиста, является лишь формальной заменой первичной; она делает возможным образование и завершение формы, но уже то, как она это делает, красноречивым жестом указывает на принесенную ради этого жертву, на потерянный навеки рай, которого искали и не нашли, и именно тщетные поиски и смиренный отказ от их продолжения как раз и очертили окончательно контуры формы. Роман — это форма возмужалости и зрелости: его автор утратил лучезарную младую веру всякой поэзии в то, что "судьба и душа — разные обозначения одного понятия" (Новалис); и чем более глубоко и болезненно укореняется в нем настойчивое желание предъявить жизни этот символ веры всякой поэзии как свой императив, тем более глубоко и болезненно дается ему осознание той истины, что это всего лишь требование, а отнюдь не настоящая действительность. И это понимание, то есть ирония, обращено как против героев романа, наделенных поэтической юношеской верой, но не способных претворить эту веру в действительность, так и против собственной авторской мудрости, вынужденной признать, что борьба тщетна и в итоге действительность неизбежно одержит победу. Более того, в каждом из этих двух направлений ирония опять-таки удваивается. В ней схватывается не только безнадежность отказа от борьбы, жалкая неудача попыток приспособиться к чурающемуся идеала миру и ради покорения этой реальности отречься от ирреальной идеальности души. Изображая действительность как победительницу, ирония не только разоблачает ее ничтожность по сравнению с побежденным, не только показывает, что эта победа никак не может стать окончательной и идея вновь и вновь будет восставать против нее; но и то, что превосходство реального мира — не столько в его собственной силе, не имеющей точного направления, а потому и недостаточной для победы, сколько в неизбежной внутренней проблематичности души, обремененной идеалом.
Меланхолия взросления возникает из противоречивого переживания, когда исчезает или уменьшается юношеское доверие к внутреннему голосу своего призвания, но и от внешнего мира, вслушиваясь в него в надежде от него же узнать средства к господству над ним, отныне не услышишь слов, которые бы недвусмысленно указывали цели и пути. Героев юности ведут по их дорогам боги: манит ли их конец пути блеском гибели или сиянием торжества, или же и тем и другим вместе, они никогда не идут в одиночестве, они всегда ведомы. Отсюда и прочная уверенность их шагов; рыдают ли они, всеми покинутые, на необитаемых островах, или, в ослеплении сбившись с дороги, бредут, шатаясь, к вратам ада, их всегда окружает атмосфера надежности, созданная богом, предначертавшим пути героя и идущим впереди него. Боги падшие или еще не пришедшие к власти становятся демонами; их могущество жизненно и действенно, но мир еще не проникнут им или уже больше не проникнут: мир обрел свои смысловые и причинные связи, непонятные живой и действенной силе бога, обернувшегося демоном, и с позиции которых все его заботы абсолютно бессмысленны. Но его действенная сила остается, потому что устранить ее нельзя и потому что существование нового бога связано с исчезновением старого; и по этой причине в сфере единственного существенного метафизического бытия они оба обладают равной действительностью. "Это нечто, — говорил Гете, касаясь демонического начала, — не было божественным, ибо казалось неразумным; не было человеческим, ибо не имело рассудка; не было сатанинским, ибо было благодетельно, не было ангельским, ибо в нем нередко проявлялось злорадство. Оно походило на случай, ибо не имело прямых последствий, и походило на промысел, ибо не было бессвязным. Все ограничивающее нас для него было проницаемо; казалось, оно произвольно распоряжается всеми неотъемлемыми элементами нашего бытия; оно сжимало время и раздвигало пространство. Его словно бы тешило лишь невозможное, возможное оно с презрением от себя отталкивало"[15].
Есть, однако, некое существенное стремление души, которую только существенное и заботит, независимо от его происхождения и целей, есть некая душевная тяга к дому, столь сильная, что в слепом порыве душа готова вступить на любую тропку, если только кажется, что она ведет к дому; и ее пылкая страсть такова, что душа обязательно пройдет свой путь до конца: для такой души всякая дорога ведет к Сущности, домой, ибо ее родиной является адекватная себе суть. Поэтому трагедия не знает настоящих различий между богом и демоном, тогда как для эпопеи демон, если он вообще вступает на ее почву, — это существо хоть и более высокого порядка, чем человек, но бессильное, побежденное, хилое божество. Трагедия разрушает иерархию высших миров; для нее нет ни бога, ни демона, ибо внешний мир — только повод для души обрести себя, стать героическом; в себе и для себя трагический мир не обладает ни совершенным смыслом, ни его недостатком; он равнодушно противостоит любым смыслам, являя собою хаотическое нагромождение слепых событий, каждое из которых душа, однако, превращает в судьбу; только ей дана такая способность, и так она поступает со всем, что с нею происходит. Лишь тогда, когда трагедия уходит, а драматический образ мыслей становится трансцендентным, на сцену выходят боги и демоны: только в "драме благодати" tabula rasa высшего мира снова заполняется фигурами высшего и низшего ранга.
Роман — это эпопея оставленного Богом мира; психология романного героя демонична; объективность этого жанра — в зрелом понимании той истины, что смысл никак не может полностью пронизать действительность, но и она без него распадается в ничто; это одно и то же, сказанное по-разному. Все это говорит о внутренних границах творческих возможностей романа и одновременно недвусмысленно указывает на тот историко-философский момент, когда могут появляться великие романы, когда они могут возвыситься до символизации самого существенного. Дух романа — дух мужественной зрелости, и характерной структурой его сюжета является дискретность, разрыв между внутренним миром и внешними приключениями. "I go to prove my soul"[16], - говорит Парацельс из одноименной драмы Браунинга, и эти великолепные слова имеют лишь один недостаток: их произносит драматический персонаж. Ибо герой драмы не знает приключений, так как любое происшествие (которое должно было бы для него превратиться в приключение) при первом же соприкосновении с судьбоносной силой обретшей себя души само становится судьбой, лишь средством испытания, лишь поводом для обнаружения того, что содержалось в акте обретения душою себя. Герой драмы не знает и внутренней жизни, ибо она возникает из враждебного двуединства души и мира, из мучительного разлада психики и души; трагический же герой обрел свою душу, а потому никакой чуждой себе действительности не ведает: все внешнее становится для него проявлением предуказанной и соразмерной ему судьбы. Поэтому герою драмы не нужны приключения, чтобы испытать себя; на то он и герой, что его внутренняя устойчивость не подлежит никаким испытаниям и гарантируется априори; происшествия, оформляющие его судьбу, составляют для него только символическую объективацию, глубокую и величественную церемонию. Существеннейшее внутреннее прегрешение против стиля в современной драме, прежде всего у Ибсена, состоит в том, что ее главные герои нуждаются в испытаниях; они ощущают в себе расстояние, отделяющее их от собственной души, и отчаянно стремятся преодолеть его, дабы выдержать испытание событиями; герои современных драм переживают как личный опыт то, что является исходной предпосылкой драмы, и в самой драме разворачивается процесс той стилизации, которую автор должен был бы осуществить как феноменологическую предпосылку своего творчества.
Роман — это форма приключения, и именно она подходит для выражения самоценности внутреннего мира; содержание романа составляет история души, идущей в мир, чтобы познать себя, ищущей приключений ради самоиспытания, чтобы в этом испытании обрести собственную меру и сущность. Внутренняя устойчивость эпического мира исключает приключение в точном смысле слова: на долю героев эпопеи выпадает пестрый ряд приключений, но в том, что они выдержат их, как внутренне, так и внешне, сомневаться не приходится; боги, владыки мира, всегда обязательно торжествуют над демонами (божествами препятствий — так именует их индийская мифология). Отсюда и пассивность эпического героя, на которой настаивали Гете и Шиллер: в хороводе приключений, украшающем и заполняющем его жизнь, воссоздается объективно-экстенсивная тотальность мира, а сам он — лишь светящийся центр, вокруг которого вращается это развитие; внутренне он самая неподвижная точка ритмического движения мира. Что же касается героя романа, то его пассивность не вытекает из формальной необходимости, а обозначает отношение героя к своей душе и окружающему миру. Ему необязательно быть пассивным, и поэтому всякое проявление пассивности становится для него особым психологическим и социологическим качеством и определяет некий особенный тип среди структурных возможностей романа.
Психология героя романа — сфера деятельности демонического начала. Биологическая и социологическая жизнь весьма склонны к тому, чтобы без изменений пребывать в своей собственной имманентности: люди стремятся просто жить, а социальные структуры — оставаться нетронутыми; и при отсутствии активного бога инертная самоуспокоенность этой тихо догнивающей жизни обрела бы неограниченное господство, если бы люди, одержимые демоном, не выходили бы порою без всяких на то оснований за свои пределы и не отрекались бы от психологических или социологических основ своего существования. Тогда покинутый Богом мир внезапно предстает лишенным субстанции, иррациональным смешением, одновременно и плотным и проницаемым; все, что ранее казалось самым прочным, распадается, подобно пересохшей глине, при первом же прикосновении одержимого бесом индивида, а пустая прозрачность, за которой виднелись манящие картины природы, вдруг превращается в стеклянную стену, и люди тщетно бьются о нее, словно пчелы об окна, ничего не понимая, без всякой надежды пробить ее и даже не замечая, что пути здесь нет.
Ирония писателя — это негативная мистика безбожных времен: docta ignorantia по отношению к смыслу, в которой проявляется злотворный и благотворный демонизм, отказ понимать в этом демонизме что-то большее, чем сам факт его существования, и глубокая, выражаемая только творчески уверенность; в этом нежелании знать, в этой невозможности знать постигнуто, увидено и обретено самое последнее, истинная субстанция, нынешний несуществующий бог. Поэтому-то ирония и составляет объективность романа.
"В какой мере объективны характеры, выведенные писателем?" — спрашивает Геббель и отвечает: "В той, в какой человек свободен в своем отношении к Богу". Мистик свободен, если он отрекся от себя и целиком растворился в Боге; герой свободен, если он, охваченный люциферовским упрямством, сумел достичь внутреннего совершенства и если он во имя деяний своей души изгнал всякую половинчатость из мира, находящегося под его гибельной властью. Нормативный человек добился свободы по отношению к Богу, потому что высокие нормы деяний и субстанциальной этики коренятся в бытии Бога, сообщающего совершенство вещам, в идее искупления. Властитель современности, будь то бог или демон, не властен над этими нормами. Но осуществление нормативных требований в душе или в деянии неотделимо от своего субстрата, от современного в историко-философском смысле — иначе терпит урон их исконная сила, их основополагающее воздействие на свой объект. Даже мистик, стремящийся к абсолютному божественному идеалу, минуя конкретных богов, и достигающий такой цели, в этом своем переживании все равно связан с современным Богом; и когда подобное переживание завершается в деянии, то происходит это в категориях, предписанных показаниями мировых историко-философских часов. Итак, эта свобода подчинена двойной категориальной диалектике: надмирно-теоретической и историко-философской; в ней остается невыразимым самое существо свободы — основополагающая связь с искуплением; высказано и воссоздано может быть только то, что пользуется языком указанной выше двойственности.
Но без этого окольного пути, ведущего от слов к молчанию, от категорий к Сущности, от Бога к Божественному началу, обойтись нельзя: попытка непосредственно достичь безмолвия обернется беспомощным рефлектированием в несовершенных исторических категориях. Таким образом, в полностью завершенной форме писатель свободен по отношению к Богу, ибо в ней и только в ней сам Бог превращается в субстрат творчества, того же рода и той же ценности, что и прочие нормативные виды материи, подлежащие оформлению, и целиком охватывается категориальной системой данной формы: бытие Бога и качество этого бытия обусловлены его отношением к творческим формам, то есть его собственными творческими возможностями, обусловлены ценностью тех технических средств, которыми он для этого располагает. Но поскольку Бог причисляется к таким техническим понятиям, как подлинность материала, соответствующего различным формам, то художественная завершенность оказывается двуликой и вводится в ряд значимых деяний: предпосылкой этой завершенной технической имманентности является предваряющая — нормативно, а не психологически — конструктивная связь с абсолютной трансцендентной Сущностью: воссоздающая реальность трансцендентальная форма произведения может возникнуть, только если в ней самой стала имманентной истинная трансцендентность. Пустая имманентность, укорененная только в переживаниях писателя и не связанная одновременно с обращением к родине всех вещей, — это имманентность поверхности, которая прикрывает трещины, но не может, будучи поверхностной, вместить в себя эту имманентность и потому сама становится ненадежной. Для романа ирония, то есть свобода писателя по отношению к Богу, является трансцендентальным условием объективности изображения. Это ирония, которая силою интуитивного двойного зрения может разглядеть и мир, лишенный Бога, и то, чем Бог его насыщает; ирония, которая видит утраченную утопическую родину идеи, превратившейся в идеал, и в то же время постигает сам этот идеал в его субъективно-психологической обусловленности, то есть в единственно возможной форме его существования; ирония, которая, будучи сама демонической, воспринимает демона в субъекте как метасубъективную Сущность и благодаря этому, рассказывая о приключениях душ, заблудившихся в пустой бессодержательной действительности, высказывает и свое невыразимое предчувствие прошлых и будущих богов; ирония, которая на тернистом пути внутренней жизни ищет и не находит соразмерный себе мир; ирония, которая изображает одновременно и злорадство Бога-творца при виде неудачи всех немощных восстаний против созданных им внушительно-пустых декораций, и невыразимые муки Бога-искупителя из-за того, что он пока еще не может вернуться в этот мир. Ирония как самоустранение дошедшей до своих пределов субъективности — это высочайшая свобода, возможная в мире, лишенном Бога. Поэтому она не только является единственно возможным априорным условием истинной объективности, создающей тотальность, но и — поскольку ее структурные категории адекватны состоянию самого мира — возвышает эту тотальность романа до репрезентативной формы целой эпохи.
Часть II. Опыт типологии романной формы
1. Абстрактный идеализм
Два основных типа. "Дон Кихот". Его отношение к рыцарской эпике. Преемники "Дон Кихота": а) трагедия абстрактного идеализма, б) современный юмористический роман и его проблематика. Бальзак. "Счастливчик Пер" Понтоппидана.
То, что мир покинут Богом, сказывается в несоответствии души и деяния, внутреннего мира и мира событийного, в отсутствии трансцендентальной сопряженности устремлений человека. У этого несоответствия, грубо говоря, есть два типа: душа либо уже, либо шире внешнего мира, назначенного ей как арена и субстрат ее деяний.
В первом случае заметнее, чем во втором, демонический характер переживающего приключения проблематичного индивида, зато его внутренняя проблематика выступает не так ярко; его неудачи от столкновения с действительностью на первый взгляд кажутся чисто внешними. Демонизм узкой души — это демонизм абстрактного идеализма. Эта душа вступает на прямой, непосредственно ведущий к цели путь осуществления идеала; в своем демоническом ослеплении она полностью забывает о дистанции между идеалом и идеей, между мировым духом с индивидуальной душой; с подлинной и непоколебимой верой из долженствования идеи она делает вывод о необходимости существования идеи и воспринимает несоответствие действительности этому априорному требованию, как околдованность злыми демонами, думая, что развеять чары и освободить мир можно, найдя волшебное слово или вступив в мужественную борьбу с колдовскими силами.
Проблематика, определяющая структуру этого типа героя, лишена внутренних аспектов, что в свою очередь приводит к полному отсутствию трансцендентального чувства дистанции, к потере способности переживать дистанции как нечто действительное. Ахилл или Улисс, Данте или Арджуна — именно потому, что их путеводителями являются боги, — знают, что могли бы оказаться без их поддержки, представ немощными и беспомощными перед лицом непобедимых врагов. Поэтому в отношениях между объективными и субъективными мирами сохраняется равновесие: герой трезво оценивает превосходство противостоящего ему внешнего мира, но, несмотря на свою внутреннюю скромность, ему удается в конце концов торжествовать победу, ибо к ней его, более слабого, приводят высшие силы, так что не только соотношения сил, воображаемых и реальных, соответствуют друг другу, но и победы и поражения не противоречат ни фактическому, ни долженствующему мировому порядку. Когда теряется это инстинктивное чувство дистанции, сила которого служит главным фактором безупречной жизненной имманентности, "здоровья" эпопеи, — тогда отношения субъективного мира и объективного приобретают парадоксальный характер; из-за сужения действующей души — по сравнению с душой эпического героя — мир как субстрат ее поступков также становится для нее уже, чем на самом деле. Но так как, с одной стороны, такое изменение мира и каждое обусловленное им действие не могут затронуть истинную суть внешнего мира и так как, с другой стороны, подобная позиция вынуждена оставаться чисто субъективной, никак не воздействуя на сущность мира и улавливая лишь искаженный его образ, — то в результате встречаемое душой противодействие проистекает из источников, ей абсолютно чуждых. Таким образом, у действия и противодействия нет ничего общего ни в объеме, ни в качестве, ни в действительности, ни в объективной направленности. В силу этого они не могут сталкиваться в настоящем конфликте и должны представлять собою лишь гротескную невстречу или столь же гротескное столкновение по обоюдному недоразумению. Эта гротескность частию возмещается, частию усиливается благодаря содержательности и интенсивности души. Ибо ее сужение есть не что иное, как демоническая одержимость некоей идеей, возведенной в ранг сущего, рассматриваемой как единственно существующая и заурядная действительность. Содержательность и интенсивность такого рода поведения должны поэтому возносить душу к подлинной возвышенности и одновременно усиливать гротескное противоречие между воображаемой и фактической действительностью, определяющее романную интригу. Дискретно-разнородный характер, присущий роману от природы, достигает здесь чрезвычайной остроты: сферы души и действия, психологии и поведения уже больше не имеют ничего общего.
К этому присоединяется то обстоятельство, что ни один из двух принципов ни сам по себе, ни в соотношении с другим не обладает неотвратимостью и способностью к дальнейшему развитию. В достигнутом душою трансцендентном бытии она покоится по ту сторону всяких проблем; здесь в ней больше не рождаются сомнения, искания, отчаяние, способные вывести ее из ее рамок, привести в движение; тщетные гротескные бои за самоосуществление во внешнем мире не затрагивают ее самой; ее уверенности в себе не может поколебать ничто, но только потому, что она заперта в своем устойчивом мире и для нее ничто не становится предметом переживания. Полностью лишенная внутренне переживаемой проблематики, она сводится к чисто внешней активности. Так как в своем основном бытии она покоится в себе самой, не затрагиваемая ничем, то любое ее движение становится действием, направленным вовне. Итак, жизнь такого человека неизбежно становится непрерывной чередой избранных им самим приключений. Он стремглав кидается в них, ибо жизнь означает для него только одно: переживать приключения. Беспроблемная концентрация его душевной жизни заставляет его претворять последнюю в дела, считая ее обычной и будничной сутью мира; в отношении этой стороны его души он лишен всякой созерцательности, несклонен и неспособен к действию, обращенному вовнутрь. Он должен быть искателем приключений. Но мир, который ему приходится делать ареной своих поступков, представляет собою странное смешение цветущей безыдейной органики и застывшей условности тех идей, которые живут в его душе чисто трансцендентной жизнью. Поэтому он может вести себя одновременно спонтанно и идеологично: мир, явленный ему, полон не только жизни, но и той иллюзорной жизни, которая живет в нем как единственная действительность. А поскольку такой мир дает почву для недоразумений, то герой, приблизившись было к действительности, всякий раз гротескно проходит мимо: иллюзорная идея улетучивается перед лицом бессмысленно застывшего идеала, тогда как истинная суть наличного мира, лишенная идей самодовлеющая органика занимает господствующую позицию.
Здесь со всей ясностью обнаруживается безбожный демонический характер подобной одержимости, но, с другой стороны, сказывается также и его сбивающее с толку, завораживающее и само по себе демоническое сходство с божественным началом: душа героя спокойна, замкнута, завершена в себе, как произведение искусства или же божество; такой душевный склад может, однако, проявляться во внешнем мире только в неадекватных приключениях, которые не в силах опровергнуть маниакальную замкнутость героя в себе; изолированная, подобно автономному произведению искусства, душа отрезана не только от всякой внешней действительности, но и от всего того, что в ней самой не подвластно демону. Так максимум переживаемого смысла превращается в максимум бессмысленности: возвышенность оборачивается безумием, мономанией. И эта душевная структура должна полностью атомизировать возможные поступки героя. Хотя из-за чисто рефлективного характера этой внутренней жизни внешняя действительность остается не затронутой ею и при каждом поступке героя выступает "такою, какая она есть", нанося ему ответный удар, — именно поэтому она представляет собою абсолютно инертную, бесформенную и бессмысленную массу, совершенно неспособную, по отношению к герою, к единой и планомерной контригре; из нее обуревающая героя жажда приключений произвольно и несвязно выбирает моменты, дающие ей возможность проявить себя. Так взаимно обусловливают друг друга инертность психологии и атомизированный в изолированных приключениях характер действия, делая ясной опасность, свойственную такому типу романа: дурную бесконечность и абстрактность.
Сервантес, чье произведение навеки объективировало такую структуру, преодолел эту опасность, наглядно и ощутимо показав, как в душе Дон Кихота глубоко переплелись возвышенность и безумие; его удача обусловлена не только гениальным чутьем, но и историко-философским моментом, когда был написан роман. Это больше, чем простая историческая случайность, что "Дон Кихот" был задуман как пародия на рыцарские романы, и его связь с ними — не просто внешняя. Рыцарский роман разделил судьбу всякой эпики, пытающейся сохранить и продолжить свою форму, превратившуюся в чисто формальные элементы, когда трансцендентальные условия ее существования были уже устранены историко-философской диалектикой; он потерял свои корни в трансцендентном бытии, и его формы, которым уже нечего делать в плане имманентности, зачахли, стали абстрактными, так как, утратив сами субстанцию, они лишились и силы создавать новые предметы; место большой эпики заступило развлекательное чтение. Но за пустой оболочкой этих мертвых форм некогда находилась подлинная, хотя и проблематичная, большая форма — рыцарская эпика средневековья, примечательный пример романной формы, возникшей в эпоху, когда доверие к Богу сделало возможным и необходимым возникновение эпопеи. Великая парадоксальность христианского космоса состоит в том, что разорванности и нормативному несовершенству посюстороннего мира, его обреченности на заблуждения и грехи противопоставлено всегда возможное спасение, вечно присутствующая теодицея потустороннего мира. Данте удалось ввести тотальность двоемирия в подобную эпосу форму "Божественной комедии", другим же эпическим поэтам, оставшимся на этой земле, пришлось так и оставить трансцендентное начало в ее художественно нетронутой трансцендентности, а значит, создать лишь сентиментально чаемые, всего лишь искомые, лишенные имманентного смысла жизненные тотальности, то есть романы, а не эпопеи. Своеобразие этих романов с их мечтательной грацией состоит в том, что все поиски в них — не более как видимость поисков, что над всеми блужданиями героев царит непостижимая, не облекаемая в форму благодать, что дистанция, теряя в них свою субстанциальную действительность, превращается в загадочно-прекрасный орнамент, а преодолевающий ее скачок — в подобие танцевальной фигуры, и таким образом и то, и другое становится чисто декоративным элементом. Эти романы, собственно говоря, не что иное, как большие сказки, ибо трансцендентность в них не подхвачена, не сделана имманентной, не воспринята трансцендентальной предметообразующей формой, а так и осталась чистой, несмягченной трансцендентностью; лишь тень ее служит декоративным заполнением трещин и пробелов посюсторонней жизни, превращая материю этой жизни — благодаря динамической однородности всякого истинного произведения искусства — в субстанцию, также сотканную из теней. В гомеровском эпосе всемогущество жизни, категории чисто человеческой, охватывало не только людей, но и богов, превращая их в чисто человеческие существа. Здесь же непостижимый божественный принцип не менее всевластно царит над человеческой жизнью, и такая сама себя преодолевающая потребность в тотальности, такая двумерность лишает людей рельефности, сводя их к одной лишь поверхности.
Эта прочная и завершенная иррациональность всего воссозданного космоса бросает демонический отблеск на проглядывающую тень Бога: с точки зрения этой жизни нет возможности понять его и найти ему нужное место, а значит, он не может проявить свою божественность; и поскольку такое творчество рассчитано на посюсторонний мир, то нет возможности обнаружить и показать, исходя из мысли о Боге — как это происходит у Данте, — основополагающее единство всего бытия. Рыцарские романы, в пародийной полемике с которыми появился "Дон Кихот", утратили такую трансцендентную связь, а после потери этого миропонимания (если только весь мир не превращался, как у Ариосто, в иронически прекрасную, чистую игру) таинственная и сказочная поверхность могла стать только чем-то банально поверхностным. Сер-вантесова творческая критика этой тривиальности вновь находит путь к историко-философским истокам такого формального типа; субъективно не воспринимаемое, объективно упроченное бытие идеи превратилось в другое бытие — субъективно ясное и фанатически последовательное, но лишенное объективных связей; Бог, который из-за своего несоответствия воспринимающей его материи мог проявить себя только как демон, и в самом деле превратился в демона, претендующего на то, чтобы играть роль божества в мире, покинутом Провидением и лишенном трансцендентальной ориентации. И мир, который он имеет в виду, — тот же самый, что прежде был превращен Богом в опасный, но чудесный волшебный сад, с той только разницей, что ныне этот мир, околдованный злыми демонами и ставший прозаичным, мечтает о возвращении к прежнему состоянию благодаря героизму, исполненному веры; то, чего в сказочном мире следовало остерегаться, чтобы не рассеять добрые чары, обратилось здесь в поступок позитивный, в борьбу за существующий и лишь ожидающий спасительного слова рай сказочной действительности.
И вот этот первый великий роман в мировой литературе появляется на пороге эпохи, когда христианский Бог начинает устраняться из мира; когда человек оказывается одиноким и может обрести смысл и субстанцию только в своей бездомной душе; когда мир, оторвавшись от парадоксальной связи с актуально присутствующим потусторонним миром, становится жертвой своей имманентной бессмысленности; когда мощь уже существующего, подкрепленная утопическими узами, деградировавшими до простой подделки, вырастает до неслыханных размеров и ведет бешеную, на вид бесцельную борьбу с поднимающимися силами, еще не постигнутыми, неспособными открыться самим себе и насквозь пронизать собою мир. Сервантес живет в период последнего расцвета великой и отчаянной мистики, фанатичной попытки самообновления теряющей силы религии, в период нового миропонимания, развивавшегося в мистических формах, в последний период по-настоящему переживаемых, но уже утративших цель, увлекательных и искушающих оккультных устремлений. Это был период выпущенного на свободу демонизма, период великой путаницы в ценностях при все еще существующей аксиологической системе. Сервантес, верующий христианин и простодушно-лояльный патриот, в своем творчестве дошел до самых глубин этой демонической проблематики, показав, как чистейший героизм неизбежно превращается в гротеск, а непоколебимая вера — в безумие, если стали непроходимыми дороги к трансцендентальной родине, как самой истинной и самой героической субъективной очевидности не может больше соответствовать действительность. Глубокая меланхолия исторического процесса, течения времени выражается в том, что вечные идеи и вечные позиции теряют смысл, когда бьет их час, что время может возобладать даже над вечным. Это первое великое сражение внутреннего мира с прозаической низостью внешней жизни, и единственное сражение, когда ему удалось не только выйти из борьбы незапятнанным, но даже могущественного противника окружить ореолом своей победоносной, хотя и самоироничной поэзии.
"Дон Кихот", как, впрочем, почти всякий великий роман, остался единственным значительным примером романа своего типа. Это переплетение поэзии и иронии, возвышенного и гротескного, божественности и одержимости было так связано с духовным состоянием своего времени, что в другие эпохи тот же тип духовной структуры мог проявиться лишь по-другому, никогда не будучи в силах обрести такую же эпическую значимость. Авантюрные романы, перенявшие только его форму, лишены идеи точно в такой же мере, как и рыцарские романы, его непосредственные предшественники. Они тоже потеряли единственно плодотворное трансцендентальное напряжение, либо заменив его чисто социальным, либо найдя единственный принцип действия в приключениях ради приключений. И в обоих случаях, несмотря на действительно большую одаренность некоторых из этих писателей, им все-таки в конечном счете не удавалось уйти от тривиальности, все более сближая настоящий роман с развлекательным чтением, вплоть до слияния с ним. С растущей прозаизацией мира, по мере ослабления деятельных демонов, все более уступающих поле боя неоформленной массе, глухо сопротивляющейся всякой внутренней жизни, перед демоническим сужением души встает дилемма: отказаться либо от всяких связей с комплексом "жизнь", либо от непосредственной укореннености в мире идей.
Первым путем пошла великая драма немецкого идеализма. Абстрактный идеализм утратил всякую, даже неадекватную, связь с жизнью; чтобы выбраться из своей субъективности, чтобы утвердить себя в борьбе и поражении, он нуждался в чисто сущностной, то есть драматической сфере: разрыв между внутренним миром и миром внешним усилился настолько, что для воссоздания в своей тотальности он требовал драматической действительности, как бы специально созданной для сочетания этих полюсов. Столь значительный в художественном отношении опыт Клейста как автора "Михаэля Кольхааса" 9 показывает, как необходимо было в тогдашней ситуации, чтобы психология героя стала чисто индивидуальной патологией, а эпическая форма — формой новеллистической. Здесь, как и во всяком драматическом образовании, должно исчезнуть глубокое взаимопроникновение возвышенного и гротескного, уступив место одному лишь возвышенному. Идеализм неизбежно выдыхается, теряет содержательность, все более сводится к "просто" идеализму; обострение мономании и усиление абстракции приводят к тому, что персонажи балансируют на грани невольного комизма, и малейшая попытка воспринимать их иронически, устраняя возвышенное, превращает их в досадно комические фигуры (Бранд, Стокман и Грегерс Верле20 — вот пугающие примеры такой возможности). Поэтому маркиз Поза, истинный потомок Дон Кихота, живет в совсем иной форме, чем его предок, а проблемы судеб этих столь глубоко родственных душ не имеют друг с другом ничего общего в художественном плане.
Но если сужение души носит чисто психологический характер, если душа утратила всякую взаимосвязь с миром идей, то тем самым она и упускает возможность стать центром и основой эпической тотальности; интенсивность несоответствий в отношениях между человеком и внешним миром возрастает, но к фактическим несоответствиям, являвшимся в "Дон Кихоте" лишь гротескной противоположностью соответствий, законно и постоянно требуемых в плане долженствования, присоединяется еще и несоответствие идейное: соприкосновение становится чисто периферийным, а человек — частным элементом, необходимым украшением тотальности, помогающим ее воссоздать, — но всегда только строительным материалом, никогда не центром. Художественная опасность такой ситуации состоит опять в том, что приходится искать центр как четкую и осмысленную ценность, но этот центр ни в коем случае не может быть трансцендентным по отношению к жизни.
Итак, художественным следствием в трансцендентальной установке является то, что у юмора теперь уже не возвышенно поэтический источник. Гротескно изображенные люди либо низведены до добродушного комизма, либо сужение их душ, их исключительная сосредоточенность на одной точке бытия, больше не имеющая ничего общего с миром идей, приводит их к пустому демонизму, превращая их — при всем юмористическом отношении к ним — в носителей принципа зла или просто безыдейности. Этот отрицательный характер важнейших в художественном отношении персонажей требует положительного противовеса, и, к великому несчастью современного юмористического романа, подобная "положительность" сводится к обывательской добропорядочности. Ибо истинная связь этой "положительности" с миром идей взорвала бы жизненную имманентность смысла, а вместе с тем и форму романа, — ведь и Сервантес (а из его преемников, пожалуй, Стерн) мог создать имманентность именно соединяя вместе возвышенное и юмористическое, сужение души и ее связь с трансцендентностью. Бесконечно богатые юмористическими персонажами романы Диккенса в конечном счете получают плоский и мещанский облик, а художественная причина этого в том, что своими героями писатель вынужден делать идеальные типы такого человечества, которое способно без внутренних конфликтов примириться с современным буржуазным обществом, вынужден ради их поэтической действенности наводить на требуемые от них качества сомнительный, чисто внешний или неадекватный им блеск. Поэтому и "Мертвые души" Гоголя остались незаконченными: было уже с самого начала невозможно найти "положительный" противовес столь удачной и в художественном отношении плодотворной, но "отрицательной" фигуре Чичикова, а для создания подлинной тотальности, которой требовал эпический замысел Гоголя, такой противовес был совершенно необходим; без него роман не мог бы достигнуть эпической объективности, эпической действительности, являя лишь субъективный аспект мира, оставаясь сатирой или памфлетом.
Внешний мир стал исключительно условным, и поэтому все начала — как утверждаемое, так и отрицаемое, как юмористическое, так и поэтическое — разыгрываются только в пределах одной сферы. Демонический юмор есть не что иное, как искажающее преувеличение известных условных черт; даже отрицая условность и борясь с нею, он остается имманентным ей, то есть опять-таки условным; и "положительность" — это всегда компромисс с условностью, видимость органического существования в точно установленных условных рамках. (С этой условностью современного юмористического романа, обусловленной его историко-философским материалом, не следует путать обусловленное формой, а потому и вневременное значение условности в драматической комедии. Для нее условные формы общественной жизни — лишь формально-символическое завершение интенсивно драматически выраженной сферы сущностей. Когда в концовке великих комедий все главные персонажи за исключением разоблаченных лицемеров и мошенников женятся между собой, то это столь же чисто символический церемониал, как смерть героев в финале трагедии: и то, и другое — четкое обозначение пределов, ясные контуры, которых требует скульптурная сущностность драматической формы. Примечательно, что чем большую силу приобретает условность в жизни и в эпике, тем менее условные концовки появляются в комедии. "Разбитый кувшин" ' и "Ревизор" могли воспользоваться еще прежним приемом разоблачения обманщика, тогда как "Парижанка" — не говоря уже, конечно, о комедиях Гауптмана и Шоу — лишена строгих контуров развязки как таковой, подобно современным трагедиям, обходящимся без смертельного исхода).
Бальзак избрал совсем иной путь к чисто эпической имманентности. Характеризующий его творчество субъективно-психологический демонизм — окончательная реальность, движущее начало всяких существенных действий человека, объективируемых в эпических поступках; неадекватность его отношения к объективному миру доведена до крайней интенсивности, но это нарастание наталкивается на имманентное ему же препятствие: действительно, внешний мир здесь — сугубо человеческий, и населен он людьми сходными по духовной структуре, хоть и разными по убеждениям и устремлениям. Поэтому здесь демоническая неадекватность, этот бесконечный ряд поступков, проявляющих разобщенность душ, становится сущностью действительности; в результате вырастает чудесный, грандиозно-необозримый лес переплетенных судеб и одиноких душ, который составляет неповторимую особенность этих романов. Парадоксальная однородность материала, возникшая из крайней разнородности его элементов, спасает имманентность смысла. Опасность абстрактной, дурной бесконечности преодолевается высокой концентрацией событий и достигаемой таким образом истинно эпической значимостью.
Такая окончательная победа завоевана, однако, для каждой отдельной повести, а не для "Человеческой комедии" в целом. Правда, для полной победы даны здесь предпосылки в виде грандиозного, всеобъемлющего сюжетного единства. Верно и то, что единство это не только осуществлено благодаря постоянному появлению и исчезновению одних и тех же персонажей в хаотическом мире этих повестей, но и нашло форму выражения, полностью отвечающую глубинной сути сюжета, — форму хаотической, демонической иррациональности; более того, по своему содержанию такое единство соответствует большой эпике — это тотальность мира. И все же в конечном счете это единство рождается не только из одной формы: целое по-настоящему делается тотальностью благодаря аффективному переживанию общей основы жизни всех людей и благодаря уверенности, что это переживание соответствует главной сути современной жизни. Эпическую структуру имеет только единичное, целое же лишь складывается из этих частностей; дурная бесконечность, преодоленная в каждой части, берет реванш на уровне целого, не давая ему обрести единую эпическую структуру; тотальность зиждется на принципах, трансцендентных по отношению к эпической форме, — таких, как атмосфера и знание, а не действие и герои, — и потому не может быть окончательно завершена в себе самой. С точки зрения целого, ни одна часть не обладает истинной, органической необходимостью бытия; она могла бы отсутствовать, но на целом это не отразилось бы, могли бы быть добавлены бесчисленные новые части, и они не оказались бы лишними для полноты целого. Эта тотальность означает ощущение жизненных взаимосвязей, которые широким лирическим фоном проступают за каждой отдельной повестью; они не проблематичны и не завоеваны в тяжких сражениях, как в великих романах, а — в силу своего лирического характера, трансцендентного эпике — наивно-беспроблемны; но то, что мешает им создать романную тотальность, тем более не позволяет им конституировать свой мир как эпопею.
Для всех этих произведений общим является статичность психологии; сужение души осталось неизменной, абстрактно заданной априорностью. Поэтому было вполне естественно, что роман девятнадцатого века со своей склонностью к психологической подвижности и к растворению единства психики все больше отходил от этого типа и в поисках причины несоответствия между душой и действительностью двигался в обратном направлении. Только один крупный роман, "Счастливчик Пер" Понтоппидана, представляет собою попытку поместить такую душевную структуру в центр повествования и изобразить ее в движении и развитии. Такая постановка проблемы создает совершенно новый тип композиции: исходная точка, где субъект прочно связан с трансцендентной Сущностью, стала конечной целью, а демоническое стремление души решительно отмежеваться от всего, что не соответствует этой априорности, — действенной тенденцией. В то время как в "Дон Кихоте" основой всех приключений было столкновение внутренней уверенности героя с неадекватным отношением мира к нему, так что на долю демонического начала выпала положительная, стимулирующая роль, — здесь единство причины и цели оказывается скрытым; несоответствие души и действительности становится загадочным и кажется полностью иррациональным, ибо демоническое сужение души сказывается лишь отрицательно, в необходимости отказа от всех завоеваний, потому что завоеванное — "не то", что нужно, оно более обширно, эмпирично и жизненно, чем то, на поиски чего отправилась душа. Если в первом случае завершением жизненного цикла было повторение на различный лад одного и того же приключения, превращающегося в центр тотальности, то во втором жизнь развивается в определенном, однозначном направлении: к истине окончательно пришедшей к себе души, сделавшей из своих приключений вывод, что только она сама, накрепко замкнувшись в самой себе, может соответствовать своему глубочайшему, всепокоряющему инстинкту; что каждая победа над действительностью оборачивается для души поражением, ибо победа эта заводит ее в гибельно чуждую ее сущности стихию, тогда как отказ от завоеванного куска действительности оказывается победой, шагом к завоеванию своего Я, освободившегося от иллюзий. Поэтому ирония Понтоппидана выражается в том, что его герой повсюду побеждает, но при этом демоническая сила вынуждает его считать все его завоевания тщетными и неподлинными, так что, едва добившись их, он их отбрасывает. И своеобразное внутреннее напряжение возникает в книге из-за того, что смысл этого отрицательного демонизма может раскрыться лишь в конце, уже после состоявшегося отречения героя, придавая всей его жизни ретроспективную ясность имманентного смысла. Ставшая столь явной трансцендентность такой концовки, ее предустановленная и отныне видимая гармония с душой бросают свет неизбежности на прежние блуждания героя; точнее, в перспективе этих блужданий решительно переосмысливается динамическое отношение души к миру: создается впечатление, будто герой все время оставался таким же, будто он спокойно, внутренне неподвижно взирал на вереницу событий, И будто все действие состояло в последовательном срывании скрывавших душу покрывал. Динамический характер психологии разоблачается — выясняется, что это лишь кажущаяся динамика, — но происходит это (и здесь сказывается большое мастерство Понтоппидана) уже после того, как такая иллюзорная динамика дала герою возможность пройти долгий путь через волнующе подвижную тотальность жизни. Отсюда — особое место, которое это произведение занимает в ряду современных романов: строгая размеренность действия в духе античного искусства, отказ от чистой психологии, глубокое отличие отречения, которым завершается этот роман, от романтической разочарованности других романов, созданных в ту же эпоху.
2. Романтизм разочарования
Проблема романтического разочарования и ее значение для романной формы. Попытка решения этой проблемы в романах Якобсена и Гончарова. "Воспитание чувств" и проблема времени в романе. Проблема времени в романе абстрактного идеализма.
Для романа девятнадцатого века стал важнее иной тип неизбежно неадекватных отношений между душой И действительностью: душа шире, обширнее тех судеб, которые открывает перед ней жизнь. Проистекающее из этого важнейшее различие состоит в том, что здесь перед нами не абстрактная априорность по отношению к жизни, стремящаяся реализовать себя в делах и создающая романную фабулу своими конфликтами с внешним миром, а более или менее завершенная, богатая содержанием чисто внутренняя действительность, которая вступает в соревнование с действительностью внешней, живет собственной богатой и кипучей жизнью, в наивной самоуверенности отождествляет себя с единственной истинной реальностью, сутью мира; ее неудача в попытке осуществить это тождество и представляет собою предмет повествования. Итак, здесь речь идет о конкретной, качественной и содержательной априорности по отношению к внешнему миру, о борьбе двух миров друг с другом, а не между действительностью и априорностью как таковой. Но разлад мира и душевной жизни от этого только усиливается. Образуя собой космос, душевная жизнь может покоиться в себе, быть самодостаточной; в то время как абстрактный идеализм ради одного только права на существование должен был проявить себя в действии, вступив в конфликт с внешним миром, здесь нельзя заранее исключить возможность избежать конфликта. Ибо жизнь, способная воспроизводить свое содержание из собственного опыта, может быть внутренне полной и завершенной, даже если она не соприкасается с внешней, чуждой действительностью. Таким образом, если для психической структуры абстрактного идеализма была характерна идущая изнутри чрезмерная, ничем не сдерживаемая активность, здесь скорее имеет место стремление к пассивности, стремление уклоняться от внешних конфликтов и сражений вместо того, чтобы идти им навстречу, стремление решать все, что касается души, не выходя за ее пределы.
Разумеется, именно в такой возможности и заложена собственная проблематика этой формы романа: утрата эпической символики, растворение формы в туманной и бесформенной череде настроений и размышлений о настроениях, замена событийной фабулы психологическим анализом. Проблематика эта приобретает особое значение благодаря тому, что приходящий в соприкосновение с душевной жизнью внешний мир, в силу характера их взаимоотношений, должен быть полностью атомизированным или аморфным, во всяком случае лишенным всякого смысла. Это мир, во всем подчиненный условности и олицетворяющий понятие второй природы, воплощение чуждых смыслу законов и правил, на основе которых не может быть найден путь к душе. Но тем самым любые объективации социальной жизни теряют значение для души. Даже свою парадоксальную функцию места действия и наглядного воплощения событий они не могут сохранить из-за своей внутренней несущностности. Профессия теряет всякое значение для внутренней судьбы индивида, брак, семья, класс — для взаимоотношений людей. Дон Кихот был бы немыслим без его принадлежности к рыцарскому сословию, а его любовь — без восходящего к трубадурам условного преклонения перед дамой; в "Человеческой комедии" демоническая одержимость людей сконцентрирована и объективирована в структурах общественной жизни, и даже если эти структуры в романе Понтоппидана разоблачаются как не имеющие сущностного значения для души, самая борьба с ними (осознание их несущностности и отрешение от них) образует жизненный процесс, дающий содержание романной интриге. Здесь же любые подобные отношения изначально устраняются. Ибо возведение внутренней жизни в ранг полностью самостоятельного мира — не просто факт психики, но решительное ценностное суждение о действительности; эта самодостаточность субъективности не что иное, как средство отчаянной самозащиты, отказ от всякой борьбы за самореализацию в мире, которая априори признается безнадежной и унизительной.
Позиция эта означает доведение лирического начала до той степени, когда она уже больше не может быть выражена чисто лирически. Ведь и лирическая субъективность черпает свои символы из внешнего мира; хотя этот внешний мир создан ею самой, он оказывается для нее единственно возможным; в качестве внутренней жизни она никогда полемически не противопоставляет себя этому соотнесенному с нею внешнему миру, никогда не уходит в себя, чтобы забыть о нем; напротив, она произвольно выхватывает отдельные куски из этого распавшегося на атомы хаоса и переплавляет их, заставляя забыть их происхождение, во вновь созданный лирический космос живой внутренней жизни. Напротив, в эпосе внутренняя жизнь всегда является плодом рефлексии, она реализует себя сознательно, с соблюдением дистанции, в отличие от наивной непосредственности подлинной лирики. Поэтому она пользуется вторичными выразительными средствами: душевными состояниями и рефлексией, то есть средствами, совершенно чуждыми, несмотря на кажущееся сходство, чистой лирике. Конечно, душевные состояния и рефлексия — это основополагающие структурные элементы романной формы, но их формальное значение определяется как раз тем, что в них обнаруживается и при их посредстве создается регламентирующая идейная система, лежащая в основе всей действительности, то есть тем, что они оказываются в положительном, хотя и проблематичном, парадоксальном отношении с внешним миром. Когда они становятся самоцелью, то их непоэтический характер выступает явственно, разлагая любую форму.
Однако в конечном счете эта эстетическая проблема является этической; поэтому в соответствии с формальными законами романа предпосылкой художественного разрешения данной проблемы является преодоление этической проблематики, вызвавшей ее к жизни. Отношения подчинения и главенства, в которых находятся внутренняя и внешняя действительность, оборачиваются этической проблемой утопии; это вопрос о том, в какой степени можно морально оправдать представление о лучшем мире; в какой степени, исходя из этого, можно выстроить такую жизнь, которая была бы завершена в себе и, по выражению Гамана[3], вместо завершения не провалилась бы в пустоту. В плане эпической формы проблему можно сформулировать следующим образом: способна ли эта завершающая корректировка действительности воплотиться в дела, которые, независимо от их внешнего успеха либо неудачи, доказали бы право индивида на такое самовластие и не скомпрометировали бы питающего их намерения? Чисто художественное воссоздание действительности, которая соответствует такому миру мечты или по крайней мере ближе к нему, чем та, что существует фактически, — это лишь иллюзорное решение. Ибо утопическое томление души только тогда истинно и только тогда достойно стать центром изображенного мира, когда оно абсолютно неосуществимо при современном состоянии духа или, что то же самое, в таком мире, который сейчас можно было бы представить себе или изобразить как прошлое или как миф. Если бы в некотором мире оно могло найти себе удовлетворение, то это доказало бы, что недовольство современностью было лишь эстетическим, лишь артистическими придирками к ее внешним формам, тоской по эпохам, когда можно было писать широкими мазками и яркими красками. Страсть эту можно, конечно, удовлетворить, но при этом обнаруживается внутренняя пустота, безыдейность, как происходит, например, в отлично построенных романах Вальтера Скотта. Бегство от современности ничего не дает для решения важнейшей проблемы; в монументально или декоративно дистанцированном изображении дает себя знать та же проблематика, зачастую вызывающая глубокие и эстетически неустранимые диссонансы между поведением и душой, между внешней судьбой и внутренней долей. Характерные тому примеры — "Саламбо" и новеллистически построенные романы Конрада Фердинанда Мейера. Поэтому эстетическая проблема: как превратить душевные состояния и рефлексию, лиризм и психологию в истинно эпические выразительные средства — сосредоточивается вокруг основного этического вопроса о необходимом и возможном деянии. Человеческий тип, обладающий такой душевной структурой, отличает скорее созерцательность, чем активизм; следовательно, при его эпическом изображении возникает вопрос о том, как этот уход в себя или нерешительность и непоследовательность все-таки выразить в поступках; как в процессе творчества обнаружить точку, где соприкоснулись бы, с одной стороны, необходимость существования и природы данного типа, а с другой стороны, его столь же неизбежное крушение.
Предопределенность крушения является другим, объективным препятствием, встающим на пути чисто эпической формы; принимается ли подобная судьба или отрицается, оплакивается или высмеивается, все равно опасность субъективно-лирического отношения к событиям вместо нормативно-эпического восприятия и воссоздания их всегда угрожает здесь в большей степени, чем в случае борьбы, исход которой не так внутренне предрешен. Создает и питает такой лиризм романтическая разочарованность — доведенная до крайности, гипертрофированная требовательность по отношению к жизни, отчаянное осознание безнадежности подобного стремления, изначально неискренний и уверенный в своем поражении утопизм. А решающим моментом в этой уверенности выступает ее неразрывная связь с моральной совестью, очевидность того, что крушение утопического замысла закономерно вытекает из его собственной внутренней структуры и что даже в лучшем своем содержании и величайшей ценности он обречен на гибель. Потому и позиция по отношению как к герою, так и к внешнему миру лирична: любовь и обвинение, печаль, сочувствие и издевка.
Внутренняя значимость индивида достигла исторической кульминационной точки: он теперь уже важен не в качестве носителя трансцендентных миров, как это происходит в абстрактном идеализме; свою ценность он заключает только в себе самом, и даже более того, сами ценности бытия теперь уже, кажется, находят для себя подтверждение исключительно в субъективных переживаниях, в своей значимости для души индивида.
Si l'arche est vide ou tu pensais trouver ta loi, Rien n'est reel que ta danse: Puisqu'elle n'a pas d'objet, elle est impe'rissable; Danse pour le de'sert et danse pour 1'espace. Henri Franck [4]Предпосылкой и ценой этого безмерного возвышения субъекта является, однако, отказ от всякой роли в оформлении внешнего мира. "Романтизм разочарования" следует за абстрактным идеализмом не только в историческом плане, он является его наследником и в плане философии истории, представляя собою очередную ступень априорного утопизма: там индивида, предъявлявшего утопические требования к действительности, подавляла ее грубая сила, здесь же это поражение является непосредственной предпосылкой субъективности. Там из субъективности вырастал героизм воинствующего душевного мира, здесь же человек, способный переживать и оформлять жизнь подобно тому, как это делают поэты, благодаря этому может стать и героем, центральной фигурой художественного произведения. Там пытались перестроить внешний мир в соответствии с идеалами, здесь же внутренний мир, находящий себе завершение в художественном творчестве, требует от мира внешнего, чтобы тот служил ему адекватным материалом для самооформления. В романтизме вполне осознается поэтический характер всякой априорности по отношению к действительности: отрезанное от трансцендентности Я осознает себя источником всякого долженствования и, как неизбежное следствие, единственным достойным материалом для его осуществления. Жизнь становится художественным творчеством, но тем самым и человек превращается в художника, в певца собственной жизни, и одновременно в созерцателя того произведения, в котором эта жизнь воплощена. Такую двойственность можно воссоздать лишь на путях лирики. Как только ее включают в единую тотальность, становится очевидной неизбежность крушения: романтизм становится скептичным, разочарованным и жестоким к себе и к миру; роман, исполненный романтического чувства к жизни, — это роман утраченных иллюзий. Душевный мир, которому заказан всякий путь к внешнему действию, концентрируется внутри и все же никак не может окончательно отказаться от навеки утраченного, ибо если бы даже он этого пожелал, жизнь все равно не позволила бы: она навязывает ему битвы, а с ними и неизбежные поражения, которые предвидел автор и предчувствовал герой.
Из этих условий проистекает романтическая безмерность во всех планах. Безмерно возвеличивается богатство чисто душевного начала, доведенного до уровня единственно возможной существенности, и с такой же безмерной неумолимостью вскрывается зависимость такого душевного состояния именно от данного состояния мира. Композиция тяготеет к максимальной непрерывности, ибо существование возможно только в ничем внешним не прерываемой субъективности, однако действительность распадается на абсолютно разнородные элементы, которые и в изолированном виде не обладают даже той чувственной самостоятельностью бытия, какой обладают приключения Дон Кихота. Все они живут только по милости душевного состояния, но последнее обнаруживает свою ничтожность и рефлексивность с точки зрения целого. Таким образом, все здесь должно быть подвергнуто отрицанию, ибо от любого утверждения разрушается неустойчивое равновесие сил: сказать миру "да" значит оправдать безыдейное филистерство, тупое примирение с действительностью; это вылилось бы в дешевую и плоскую сатиру. Если же однозначно сказать "да" романтическому душевному миру, то это неизбежно вылилось бы в бессмысленное упоение психологическим лиризмом, тщеславное и легкомысленное самолюбование. Но оба принципа формирования мира слишком чужды и враждебны друг другу, чтобы принять их одновременно, как это может происходить в романах, способных перерасти в эпопею; отрицание же обоих принципов, то есть единственный творческий путь, лишь обновляет и усиливает главную опасность такого типа романа — саморазложение формы, растворяющейся в безнадежном пессимизме. Неизбежное следствие психологии, ставшей главным выразительным средством, — это распад всех безусловных человеческих ценностей и раскрытие их полного ничтожества; столь же неизбежные последствия господства душевных состояний — это бессильная грусть по поводу внутренне несущностного мира, бесплодный и однообразный блеск разлагающегося поверхностного слоя; таковы чисто художественные аспекты этой ситуации.
Всякая форма, чтобы обрести субстанцию именно как форма, должна в чем-то быть положительной. Парадоксальность романа, его проблематичность сказывается в том, что то состояние мира и тот человеческий тип, которые больше всего соответствуют его формальным требованиям и которым он сам только один и в состоянии адекватно отвечать, ставят почти неразрешимые творческие задачи. Роман разочарования Якобсена[5], выражающий в чудесных лирических картинах грусть, вызванную тем, что "на свете так много бессмысленной тонкости", распадается на части, и автор, пытаясь найти нечто положительное в героическом и отчаянном атеизме Нильса Люне, мужественно приемлющего свое неизбежное одиночество, прибегает скорее к внешнему приему, который остается чужд самому произведению. Ибо эта жизнь, которая, вместо того чтобы превратиться в поэзию, стала лишь скверным фрагментом, в итоге творческого процесса оборачивается какой-то грудой осколков; жестокий отказ от иллюзии может только обесценить лирику душевных состояний, не придав людям и событиям субстанциальность и весомость бытия. Остается прекрасная, но призрачная смесь упоения и горечи, печали и издевки, но единства нет; даны картины и аспекты, а не тотальность жизни. Точно так же не могла не кончиться неудачей попытка Гончарова включить в тотальность великолепно, глубоко и верно увиденную фигуру Обломова, противопоставив ему положительного героя. Что пользы в том, что для воссоздания пассивности этого человеческого характера автор нашел такой сильный наглядный образ, как вечное безнадежное лежание Обломова. Рядом с глубоко трагической ситуацией этого человека, который все существенное непосредственно переживает в своей душе, но неизбежно терпит крушение при встрече с самыми мелкими проявлениями внешней действительности, победоносное счастье его сильного друга Штольца выглядит плоско и тривиально, хотя и сохраняя в себе достаточно силы и весомости, чтобы раскрыть судьбу Обломова во всем ее убожестве: жуткий комизм противоречий внутреннего и внешнего, исходящий от лежащего на диване Обломова, все заметнее теряет глубину и величие по мере того как развивается действие — воспитательная работа его друга и ее неудача — и все более выступает как безрадостная судьба заранее обреченного человека.
Разлад между идеей и действительностью больше всего выражается во времени, в его течении, в его длительности. Субъективность не выдерживает испытания, и самое жестокое и унизительное поражение она терпит не в тщетной борьбе против безыдейных социальных структур и их представителей: поражение заключается в невозможности выдержать медленное постепенное течение времени, в неудержимом сползании с трудно завоеванных вершин, и этот неуловимый, незаметный процесс отнимает у нее все, навязывая ей чужеродное содержание. Поэтому только роман, эта форма трансцендентальной бездомности идеи, включает реальное время, Бергсоново dure'e[6], в число своих основополагающих принципов.
То, что драма не знает понятия времени и что каждое драматическое произведение подвластно правилу (правильно понятому) трех единств, мне уже довелось отметить в другой связи[7]. А вот эпопея как будто бы знает, что такое временная длительность, достаточно вспомнить "Илиаду" и "Одиссею" с их десятилетними сроками. Но в этом времени, как в драматическом, очень мало реальности, подлинной длительности: ни людей, ни судьбы оно не затрагивает, в нем нет собственного движения, и его единственная функция — эффектно выразить величие какого-то предприятия или противоборства. Для того чтобы слушатель по-настоящему почувствовал, что такое Троянская война или странствования Одиссея, требуется их многолетняя продолжительность, точно так же как и полчища воинов и огромные пространства, которые приходится преодолевать. Но сами герои в рамках поэмы времени не переживают: оно не определяет в них ни перемен, ни постоянства, свой возраст они получили в придачу к характеру, и Нестор стар точно так же, как Елена прекрасна, а Агамемнон могуществен. Героям эпопеи, правда, доступно старение и умирание, как и всякое горестное познание, приносимое жизнью, — но именно лишь как познание; переживания же их, как по содержанию, так и по форме, являют собой блаженную божественную отрешенность от времени. Согласно Гете и Шиллеру, нормативная установка эпопеи — это ориентация на всецело минувшее прошлое; следовательно, время здесь стоит на месте, и его можно охватить одним взором. Автор и персонажи могут в этом времени свободно передвигаться в любом направлении; как всякая протяженность, такое время имеет много измерений, но не имеет никакого направления. И нормативное настоящее время драмы, также установленное Гете и Шиллером, опять-таки ведет, по словам Гурнеманца[8], к превращению времени в пространство, и лишь полная дезориентированность современной литературы поставила невыполнимую задачу изображать в драматических произведениях постепенное течение времени.
Время может лишь тогда получить основополагающее значение, когда прекращается связь с трансцендентальной родиной. Как экстаз переносит мистика в такую сферу, где прекращается всякая длительность и всякое течение времени и откуда он лишь в силу своей тварно-органической конечности вынужден спускаться назад во временной мир, — так любая форма внутренней связи с Сущностью создает космос, априори неподвластный этой необходимости. Только в романе, содержание которого составляют необходимость искать Сущность и неспособность ее найти, время слито с формой: время — это сопротивление, оказываемое жизненной органикой смыслу, стремление жизни не выходить за пределы собственной самозамкнутой имманентности. В эпопее жизненная имманентность смысла так сильна, что отменяет время: жизнь как таковая делается вечной, и органика берет себе из времени лишь расцвет, предавая забвению и преодолевая увядание и умирание. В романе отделяются друг от друга смысл и жизнь, а вместе с ними сущностное и временное; можно даже, пожалуй, сказать, что все внутреннее действие романа есть не что иное, как борьба с могуществом времени. В романтизме разочарования время служит упадку: поэзия, сущностное должны погибнуть, и именно время в конечном счете причина ее гибели. Поэтому все ценности здесь на стороне побежденного — того, что чахнет и тем самым приобретает характер отцветающей молодости; времени же приписываются грубость и безыдейная жестокость. И, как бы корректируя задним числом односторонне лирический характер этой борьбы с побеждающей силой, самоирония обращается против гибнущей Сущности, вновь, но теперь уже в отрицательном смысле делает ее атрибутом молодости; основополагающее значение идеал приобретает лишь для душевной незрелости. Но все здание романа покосится, если в этой борьбе положительное и отрицательное будут столь резко разобщены. В этом случае форма может по-настоящему отрицать жизненный принцип, только если она в состоянии априори исключить его из своей сферы; если же ей приходится вобрать его в себя, то он становится для нее положительным: теперь уже не только в сопротивлении, но и в собственном существовании он составляет обязательную предпосылку осуществления ценностей.
Ибо время выражает полноту жизни, даже если полнота времени означает самоуничтожение с нею и самого времени. И то позитивное, то утверждающее, что выражается романной формой независимо от горестной безотрадности содержания, — это не только смысл, бледно мерцающий сквозь гряду тщетных исканий, но прежде всего полнота жизни, дающая себя знать именно в тщетности поисков и борьбы. Роман — это форма зрелой мужественности: его песнь утешения звучит как предчувствие, что повсюду обнаружатся зачатки и следы утраченного смысла, что у врага общая потерянная родина с поборником Сущности; что смысл может стать вездесущим, лишь потеряв свою имманентность в жизни. Таким образом, время в романе становится носителем высокой эпической поэзии; оно неумолимо, и никто отныне не может плыть против однозначно направленного течения, которое невозможно ни предусмотреть, ни оградить плотинами априорности. Но продолжает жить смиренное чувство, что все это откуда-то пришло и куда-то идет, и если даже направление не обнаруживает в себе никакого смысла, оно все равно остается направлением. И из этого мужественно-смиренного чувства возникают рожденные деянием и сами побуждающие к деянию эпические переживания времени — надежда и воспоминание; переживания времени, означающие одновременно и его преодоление: целостное видение жизни как единства ante rem[9] и ее целостное восприятие post rem[10]. И если должно отказаться от наивно-блаженного переживания этой формы in ге[11], если эти переживания обречены оставаться субъективными и рефлектирующими, конструктивного чувства познания у них отнять нельзя; такие переживания создают величайшее приближение к Сущности, какое только возможно в покинутом Богом мире.
Такое переживание времени лежит в основе "Воспитания чувств" Флобера, а его отсутствие и односторонне отрицательный подход ко времени обусловили в конечном счете неудачу других широко задуманных романов разочарования. "Воспитание чувств" среди остальных крупных произведений такого типа кажется на первый взгляд наименее выстроенным: здесь полностью отсутствует попытка преодолеть с помощью какого-то унифицирующего процесса распадение внешней действительности на разнородные, рыхлые и друг с другом не связанные части или же заменить отсутствие связи и наглядной символики лирической гаммой душевных состояний: изолированные, как бы обрубленные, резко очерченные фрагменты действительности просто выстраиваются в один ряд. Отсутствует также стремление придать главному герою особую значительность, ограничивая количество персонажей и создавая строго центрическую композицию или ставя его над остальными персонажами из-за его личных качеств: внутренний мир героя столь же незначителен, как и его окружение, герой не обладает лирическим или насмешливым пафосом, который он мог бы противопоставить этой незначительности. И тем не менее только это произведение, наиболее типичное для всей романной проблематики девятнадцатого века, добилось со своею ничем не смягченной безотрадностью сюжета истинной эпической объективности, а с нею обрело и положительную, утверждающую энергию вполне завершенной формы.
Такая победа оказывается возможной именно благодаря времени. Его свободное, непрерывное течение — таков объединяющий принцип однородности, шлифующий все разнородные части и связующий их вместе — правда, иррационально и трудноуловимо. Именно это вносит порядок в хаотические отношения людей, придавая им видимость естественного, органического саморазвития, персонажи появляются и исчезают без видимого смысла, завязывают и вновь обрывают связи друг с другом. Но персонажи эти не просто включены в чуждый всякому смыслу процесс становления и умирания, который начался до появления людей и будет продолжаться после них. По ту сторону событий и психологии этот процесс определяет статус их бытия: как ни случайно с прагматической и психологической точки зрения появление того или иного персонажа, возникает он из существующей и пережитой непрерывности, и окружающая его атмосфера, слитая с несущим его единым и неповторимым жизненным потоком, устраняет случайность его переживаний и изолированность событий, в которых он фигурирует. Жизненная тотальность, на которую опираются персонажи, становится от этого чем-то динамичным и живым: продолжительное время, охватываемое этим романом, распределяющее людей по поколениям и соотносящее их действия с определенным историко-социальным комплексом, — это не абстрактное понятие, не искусственно сконструированное задним числом рациональное единство, как это происходит в целом в "Человеческой комедии", а существующая сама по себе действительность, конкретный и органичный континуум. Вместе с тем эта тотальность в той мере является верным слепком жизни, в какой по отношению к ней всякая система ценностей и идей сохраняет регулирующий характер и в какой имманентно присущая ей идея является идеей только ее собственного существования, идеей жизни вообще. Однако эта идея, еще ярче демонстрирующая отдаленность истинной системы идей, ставших для человека идеалами, делает неудачу всех его устремлений не столь бесплодной и безотрадной: все, что происходит, лишено смысла, непрочно и безотрадно, но оно всегда пронизано светом надежды или воспоминания. И надежда в данном случае — это не абстрактное, отрешенное от бытия искусственное создание, оскверняемое и обесцениваемое жизненной неудачей; она сама является частью жизни, сама принимает ее формы и пытается сделать ее краше, хотя жизнь всякий раз ее обманывает. В воспоминании же эта постоянная борьба преобразуется в интересный и непостижимый процесс, который, однако, неразрывными узами связан с переживаемым моментом. И этот момент так богат текущим к нему и от него временем — момент осознанного созерцания, концентрирующий в себе время, — что это богатство сообщается минувшему и утраченному; даже то, что когда-то прошло незамеченным, обретает благодаря ему ценность переживания. Странный, печальный парадокс: жизненная неудача становится источником ценности, осмыслением и переживанием того, в чем отказала жизнь: из этого источника как будто бы даже проистекает полнота жизни. Изображается полное отсутствие осуществленного смысла, зато это изображение поднимается до уровня богатой и завершенной полноты, до истинной тотальности жизни.
Таково важнейшее эпическое начало этой памяти. В драме (и в эпопее) прошлое не существует вовсе или же переживается как настоящее. Так как эти формы не знают течения времени, в них нет качественной разницы между переживанием прошлого и настоящего; время не обладает трансформирующей силой, оно не в состоянии ни углубить, ни ослабить значение чего-либо. Таков формальный смысл отмеченных Аристотелем типичных сцен разоблачения и узнавания: героям драмы открывается нечто, представляющее для них практический интерес, но скрытое от них до этой поры, и в изменившемся благодаря этому мире они должны теперь действовать не так, как предполагали. Но из-за отсутствия временной перспективы то, что они узнали, не теряет своей яркости и оказывается по своей природе и ценности в одном ряду с настоящим. И в эпопее течение времени тоже ничего не меняет: драматическую неспособность забывать, являющуюся предпосылкой мести Кримхильды и Хагена, Геббель без изменений заимствовал из "Песни о нибелунгах", а перед взором каждого персонажа "Божественной комедии" неизгладимые впечатления его земной жизни встают с такой же явственностью, как разговаривающий с ним Данте, как и то место наказания или блаженства, где он сейчас находится. Для лирического же переживания прошлого существенно лишь происшедшее с тех пор изменение. Лирика не знает объекта, оформленного как таковой, который помещался бы в безвоздушном пространстве вне-временности или в атмосфере течения времени: она изображает процесс воспоминания или забвения, и объект для нее служит лишь предпосылкой переживания.
Только в романе, а также в отдельных близких ему эпических формах встречается творческое воспоминание, касающееся непосредственно предмета и его преобразующее. Подлинно эпическое начало этой памяти — в утверждении самого процесса жизни. Двойственность внутреннего и внешнего миров может быть здесь устранена для субъекта, если он усматривает органическое единство всей своей жизни в том, что его нынешнее бытие — результат всей прожитой жизни, сконцентрированной в воспоминании. Преодоление двойственности, то есть встреча с объектом и приобщение к нему, — это событие становится элементом подлинно эпической формы. Псевдолиричность душевных состояний в романе разочарования сказывается прежде всего в том, что в переживании прошлого объект и субъект строго разделены: воспоминание отражает с позиции нынешней субъективности разлад между объектом, каким он был в действительности, и его чаемым идеальным прообразом. Всеми неудобствами и неприятными чертами это изображение обязано не столько безотрадности своего содержания, сколько сохранению диссонанса в форме, тому, что объект переживания строится по формальным законам драмы, тогда как участвующий в этом переживании субъект носит лирический характер. Но драма, лирика и эпика, какова бы ни была их иерархия, не соответствуют тезису, антитезису и синтезу в диалектическом процессе — каждая из этих трех сфер представляет собою способ изображения мира, качественно полностью отличающийся от двух других. Назначение каждой формы заключается, следовательно, в соблюдении ею собственных структурных законов; утверждение жизни, свойственное, казалось бы, этим формам, на самом деле есть не что иное, как разрешение диссонансов, требуемое формой, утверждение ее собственной субстанции, формою созданной. Объективная структура романного мира обнаруживает неоднородную тотальность, упорядоченную только направляющими идеями, тотальность, смысл которой лишь задан, но не дан. Поэтому брезжущее в воспоминании действительно пережитое единство личности и мира является в своей субъективно-основополагающей, объективно-отражающей сути самым действенным средством достигнуть тотальности, требуемой романной формой. Именно возвращение субъекта к самому себе раскрывается в этом переживании, так же как предчувствие этого возвращения и настойчивое стремление к нему лежат в основе переживаний, вызванных надеждами. Такое возвращение завершает затем действительно все, что было начато, прервано и брошено; в переживании этого возвращения преодолевается его лирический характер, поскольку оно ориентировано на внешний мир, на жизненную тотальность; и понимание этого единства преодолевает благодаря своей связи с объектом разрушительность анализа: оно становится бессознательно-интуитивным охватом недостижимого, а потому невыразимого жизненного смысла, ясно обозначившимся ядром всех дел и поступков.
Естественное следствие парадоксальности этого жанра — тяготение поистине великих романов к эпопее. "Воспитание чувств" представляет собою единственное действительное исключение из правила, отсюда вытекает его образцовое значение для романной формы. Отчетливее всего обнаруживается эта тенденция к самопреодолению в воссоздании течения времени и его отношения к художественному центру произведения в целом. "Счастливчик Пер" Понтоппидана, из всех романов девятнадцатого века, пожалуй, ближе всего стоящий к великому достижению Флобера, определяет слишком конкретно и оценочно цель, достижение которой обосновало и завершило бы жизненную тотальность, чтобы под конец могло возникнуть настоящее законченное эпическое единство. Правда, и для него движение означает нечто большее, чем неизбежное препятствие к достижению идеала: оно знаменует для него тот окольный путь, без которого цель осталась бы пустой и абстрактной и ее достижение потеряло бы смысл. Однако это движение ценно только в соотношении с данной целью, и ценность, которая таким образом возникает, заключается в достигнутой зрелости, а не в самом процессе ее достижения. Характер переживания времени здесь приближается к драматическому, к четкому разграничиванию того, что обладает ценностью, и того, что лишено смысла; в романе такое разграничивание, в свою очередь, преодолевается, хотя некоторые следы непреодолимой двойственности убрать невозможно.
Абстрактный идеализм и его тесная связь с вневременной трансцендентной родиной ведут к тому, что "Дон Кихот", самое великое произведение такого типа, должен благодаря своим формальным и историко-философским основам еще сильнее тяготеть к эпопее. События в "Дон Кихоте" происходят почти что вне времени, это ряд изолированных и вполне законченных приключений, а концовка хоть и завершает целое в том, что касается принципа и проблемы, но ею увенчивается именно целое, а не конкретная тотальность частей. И именно это и роднит "Дон Кихота" с эпосом, именно это и создает его удивительную четкость контуров и свободную от настроения ясность. Правда, при этом только непосредственно изображенное возвышается над течением времени, достигая более чистых сфер; жизненная же основа, на которой оно зиждется, не является мифически-вневременной — она возникла из течения времени и накладывает на каждую деталь печать своего происхождения. Другое дело, что сияние безумной демонической укорененности в несуществующей трансцендентной родине поглощает тени этого происхождения, очерчивая своим светом все контуры. Но забыть это нельзя, ибо единственному и неповторимому преодолению весомости времени произведение Сервантеса обязано неподражаемым смешением терпкого веселья и преодолимой меланхолии. Как и во всех остальных отношениях, преодолеть неведомые ему опасности избранной формы и достичь исключительного совершенства сумел не наивный писатель Сервантес, а ясновидец, интуитивно прозревший картину неповторимого историко-философского мгновения. Его видение возникло на грани двух эпох, познало и поняло их и возвело самую запутанную и безнадежную проблематику в залитую светом сферу трансцендентности, полностью проявившейся и обретшей форму. Рыцарский эпос и авантюрный роман, предшественники и наследники "Дон Кихота", свидетельствуют об опасности, таящейся в такой форме и проистекающей из тяготения к эпопее, из неспособности изображать duree, — это опасность тривиальности, опасность превратиться в заурядное развлекательное чтиво. Такова существенная проблематика этого типа романа, так же как распад и исчезновение формы из-за неумения справиться со слишком весомым, всепоглощающим временем составит опасность, грозящую другому типу — роману разочарования.
3. "Годы учения Вильгельма Мейстера" как попытка синтеза
Суть проблемы. Идея социальной общности и формы воплощения этой идеи. Мир романа воспитания и романтическая действительность. Новалис. Гетевское решение проблемы и переход романа в эпопею.
Как в эстетическом, так и в историко-философском плане "Вильгельм Мейстер" занимает место между обоими типами творчества: его темой является примирение проблематичного, ведомого непосредственно переживаемым идеалом индивида с конкретной общественной действительностью. Это примирение не должно и не может быть ни простым компромиссом, ни тем более предустановленной гармонией, что привело бы к уже охарактеризованному типу современного юмористического романа с той только разницей, что неизбежному там злу здесь пришлось бы играть главную роль. ("Приход и расход" Фрейтага[12] представляет собою классический пример такой объективизации антипоэтического и безыдейного принципа). Тип человека и структура действия здесь, следовательно, обусловлены формальной необходимостью, чтобы примирение внутреннего и внешнего миров было хотя и проблематично, но все-таки возможно, чтобы его приходилось искать в тяжелых боях и блужданиях, но в конце концов все-таки можно было найти. Поэтому тот внутренний мир, о котором здесь идет речь, сам располагается между обоими проанализированными выше типами: его связь с трансцендентной сферой идей непрочна, субъективно и объективно ослаблена, однако опирающаяся лишь сама на себя душа уже не превращает свой мир в действительность, которая либо уже завершена, либо должна быть завершена и которая выступает как постулат и как сила, соперничающая с внешним миром; душа таит в себе — как признак отдалившейся, но еще не порванной связи с трансцендентальной сферой — тоску по некоторой посюсторонней родине, отвечающей идеалу, туманному в своем положительном содержании и недвусмысленному в том, что им отрицается. Итак, этот душевный мир есть, с одной стороны, расширенный, а потому смягченный идеализм, ставший гибче и конкретнее, а с другой — такое расширение души, которое желает проявить себя в действии, оказывая влияние на действительность и не ограничиваясь созерцанием. Таким образом, этот душевный мир занимает промежуточное место между идеализмом и романтизмом, пытается то синтезировать их, то преодолевать, но отвергается обоими из-за своей компромиссной позиции.
Заданная этой темой возможность активно воздействовать на социальную действительность ведет к тому, что для человеческого типа, о котором здесь идет речь, решающее значение имеют членения внешнего мира — профессия, сословие, класс и т. п., - являющиеся субстратом общественной активности. Поэтому целью и содержанием идеала, живущего в сердцах людей и определяющего их поступки, становится стремление найти в общественных структурах связи и плодотворные пути, которые отвечали бы самой сокровенной сути души. Тем самым душа преодолевает, по крайней мере в принципе, свое одиночество. Предпосылкой такой активности является глубинная сущность людей, их взаимопонимание, их способность сотрудничать друг с другом в том, что для них наиболее существенно. Такая общность, однако, представляет собою не наивно-естественную укорененность в общественных структурах и возникающую на этой почве общинную солидарность (как в древнем эпосе), но и не мистическое переживание сопричастности — внезапное озарение, заставляющее забыть и преодолеть одинокую индивидуальность как что-то временное, застывшее и грешное. Скорее здесь имеет место взаимное привыкание одиноких прежде и своенравно сосредоточенных на себе личностей друг к другу, их взаимная притирка; все это — плоды богатой и обогащающей покорности, венец воспитания, добытая и завоеванная зрелость. Содержанием такой зрелости является идеал свободной человечности, которая рассматривает и приемлет все общественные структуры как необходимые формы человеческого сообщества, но в то же время видит в них всего-навсего повод для активного проявления сущностной субстанции жизни, то есть осваивает их не в застывшем государственно-правовом для-себя-бытии, а как орудия, необходимые для достижения превосходящих их целей. Героизм абстрактного идеализма и чисто внутренний мир романтизма тем самым допускаются как относительно оправданные тенденции, которые, однако, должны быть преодолены и включены в новый внутренне пережитый порядок; в себе и для себя они выглядят столь же предосудительными и обреченными на гибель, как и филистерское примирение с внешним бездуховным порядком, просто потому, что это установленный порядок.
Такая структура отношений между идеалом и душой делает относительным центральное положение героя; он случайно выхвачен из неограниченного числа людей, подобных ему по своим устремлениям, и поставлен в центр только потому, что именно его поиски и находки явственнее всего раскрывают тотальность мира. Но в Обществе башни, где фиксируются годы учения Вильгельма Мейстера, такая же доля среди многих других ожидает Ярно и Лотарио, как и прочих членов Союза, а другая параллель с их судьбами и их воспитанием подробно разработана во введенных в роман воспоминаниях канониссы. Правда, и роман разочарования тоже знает такую случайность центральной позиции главного персонажа (тогда как абстрактный идеализм имеет дело с героем, отмеченным своим одиночеством и поставленным в центр повествования), однако это лишь еще одно средство показать извращенность действительности: при неизбежности крушения внутренней жизни каждого человека его личная судьба — это только эпизод, а мир составляет бесчисленное количество таких одиноких, разнородных эпизодов, не имеющих ничего общего кроме этого крушения. Здесь, напротив, философской основой такой относительности служит способность усилий разных людей достичь общей цели; общность судьбы тесно связывает друг с другом отдельных персонажей, тогда как в романе разочарования параллельность жизненных путей должна была лишь еще больше усиливать одиночество людей.
Поэтому здесь идут поиски некоего среднего пути, проходящего между абстрактным идеализмом, всецело направленным на действие, и романтизмом, где оно становится чисто внутренним, превращаясь в созерцательность. Гуманность как мировоззренческая основа такого типа изображения требует равновесия между активностью и созерцательностью, между желанием воздействовать на мир и способностью подвергаться воздействию с его стороны. Такую форму назвали романом воспитания. С полным основанием, ибо в ней обязательно описывается сознательный и руководимый процесс, направленный на достижение определенной цели, на развитие таких человеческих качеств, какие без активного вмешательства людей и счастливых случайностей никогда бы не расцвели, — ведь то, что достигнуто таким образом, становится в свою очередь для других людей средством образования и поощрения, средством воспитания. Действие, этой целью определяемое, протекает довольно спокойно, поскольку ему сопутствуют известные гарантии. Но атмосферу надежности, безопасности создает не априорный покой скованного порядком мира, а твердая и целеустремленная воля к образованию; сам по себе этот мир от опасностей не свободен. Достаточно нам взглянуть на толпы людей, гибнущих из-за неумения приспособиться к обстоятельствам, или же на тех, кто те-ряет жизненные силы, преждевременно и безоговорочно капитулируя перед действительностью, — и мы сможем осознать опасность, которой подвергается каждый и избежать которой можно лишь на индивидуальных путях, ибо априорного пути спасения нет. Но индивидуальные пути существуют, и можно увидеть, как по ним победоносно движется целое сообщество людей, оказывающих друг другу помощь, невзирая на всевозможные ошибки и заблуждения. И то, что для многих стало действительностью, должно быть, по крайней мере как возможность, доступно всем.
Таким образом, ощущение мощи и силы, свойственное этому типу романа, проистекает из относительности центрального положения главного героя, что в свою очередь обусловлено верой в возможность общих судеб и образов жизни с другими. Как только эта вера исчезает — формально это можно выразить так: как только действие начинает строиться на судьбе одинокого человека, который лишь мимоходом соприкасается с различными сообществами, мнимыми или действительными, не разделяя их судьбы, — способ изображения неизбежно меняется существенным образом, приближаясь к типу романа разочарования. Ибо одиночество здесь не случайно, и оно не свидетельствует против индивида, а скорее означает, что воля к постижению сути уводит из мира социальных структур и сообществ и что всякое сообщество может возникнуть только на поверхности жизни и на почве компромисса. Если же в результате центральный персонаж становится проблематичным, то не из-за так называемых "ложных тенденций", а из-за самого желания реализовать в мире свои глубинные душевные возможности. Воспитательное начало, сохраняемое этой формой и резко отличающее ее от романа разочарования, проявляется в том, что приход героя в финале к смиренному одиночеству не означает его полного крушения или обесценивания идеалов, а лишь осознание разлада между внутренним и внешним миром и действенные выводы из осознания двойственности своей позиции: с одной стороны, примирение с обществом, покорное приятие его жизненных форм, с другой — стремление замкнуться в себе и сохранить свой внутренний мир, который только и может реализоваться в душевной жизни. Итог развития героя выражает современное состояние мира, не являясь при этом ни протестом против мира, ни его признанием, а лишь его переживанием и пониманием, стремящимся быть беспристрастным и усматривающим в неспособности души оказать воздействие на мир не только сущностность мира, но и внутреннюю слабость души. Правда, граница, отделяющая послегетевский тип романа воспитания от романа разочарования, оказывается в большинстве случаев зыбкой. Убедительнее всего это, пожалуй, подтверждает первая редакция "Зеленого Генриха", а окончательный вариант романа уверенно идет по такому определенному формой пути. Но уже сама возможность соскользнуть с такого пути — даже если этого можно избежать, — таит в себе серьезную опасность, угрожающую этой форме в ее историко-философской основе, — опасность субъективности, не ставшей образцом и символом и неизбежно взрывающей эпическую форму. Ибо в таких условиях герой и его судьба оказываются чисто частными, а целое приобретает характер рассказа о частном случае, вроде воспоминаний о том, как удалось данному человеку выйти целым из столкновения со своим окружением (роман разочарования уравновешивает возросшую субъективность героев подавляющей и уравнительной всеобщностью судьбы). И эту субъективность преодолеть труднее, чем субъективность тона повествования: всему, что изображено, даже если технически изображение полностью выдержано в объективной манере, она фатально придает незначительный и мелочный характер сугубо частной истории; остается лишь один аспект, который заставляет тем острее почувствовать отсутствие тотальности, что он постоянно притязает на ее воссоздание. Подавляющее большинство современных романов воспитания оказывается жертвой этой опасности.
Структура персонажей и судеб в "Вильгельме Мейстере" определяет строй окружающего мира. Здесь опять-таки имеет место промежуточное состояние: структуры общественной жизни не являются отражением прочного и надежного трансцендентного мира, как не воплощают они и замкнутого, четко расчисленного порядка, ставшего самоцелью, — в обоих случаях из такого мира были бы исключены поиски и возможность заблуждений. Но социальные структуры не образуют и аморфной массы — ведь тогда взыскующий порядка душевный мир оставался бы в их сфере всегда чужим, а достижение цели было бы для него немыслимо. Социальный мир должен поэтому стать миром условности, который, однако, отчасти проникнут живым смыслом.
Тем самым во внешний мир вводится новый принцип неоднородности, то есть иррациональная и не поддающаяся рациональному подходу иерархия социальных структур и их отдельных звеньев, определяемая их проницаемостью для смысла, который в данном случае не что-то объективное, а возможность для личности проявить себя в действии. Здесь получает решающее значение такой формообразующий фактор, как ирония, потому что, априорно говоря, ни одна социальная структура не может быть сама по себе наделена смыслом или же лишена его, — ведь ни то ни другое изначально не очевидно и может выясниться лишь при взаимодействии данных структур с индивидом; неизбежная двойственность усиливается еще и тем, что в каждом отдельном случае взаимодействия никак невозможно установить, является ли приспособленность или неприспособленность данной структуры к индивиду его победой или поражением, а может быть даже приговором этой структуре. Но ироническое признание действительности всего лишь промежуточная стадия, ибо отстраняющий взгляд озаряет светом даже то, что чуждо всякой идее; чтобы обрести завершение, воспитательный процесс не может не идеализировать и не романтизировать определенные части действительности, а другие части, лишенные смысла, оставлять на долю прозы. Но, с другой стороны, нельзя отказываться от иронического взгляда на это примирение с действительностью и на его средства, нельзя безоговорочно их утверждать. Ибо такие объективации жизни являются лишь предпосылкой для явной и плодотворной активизации чего-то такого, что выходит за их пределы; и предварительное ироническое выравнивание действительности, которому они и обязаны своей действительностью, своей сутью, непроницаемой для субъективных аспектов и тенденций, своим самостоятельным по отношению к ним существованием, — также не может быть здесь устранено, без ущерба для единства целого. Таким образом, достигнутый в итоге осмысленный и гармоничный мир столь же реален и обладает теми же признаками действительности, что и различные степени неосмысленности или ненадежной проницаемости для смысла, что встречались раньше по ходу действия.
В этом ироническом такте романтического оформления действительности таится другая серьезная опасность, грозящая этой форме романа, — опасность, которой сумел избежать лишь Гете, да и то не всегда. Это опасность романтизации действительности вплоть до ухода в области, лежащие далеко за пределами истинной жизни или — здесь опасность явственнее всего обнажается в художественном плане — по ту сторону всяких проблем, где больше нет вопросов и структурные формы романа оказываются недостаточными. Новалис, именно в этом пункте отвергавший творчество Гете как прозаичное и антипоэтичное, противопоставляет творческим принципам "Вильгельма Мейстера" трансцендентность, реализуемую в действительности, то есть сказку как цель и канон эпической поэзии. "Годы учения Вильгельма Мейстера", — пишет он, — в известном смысле слова насквозь прозаичны и современны. Романтическое начало там гибнет, как и поэзия природы, чудесное. Речь здесь идет только об обычных, человеческих вещах, природа и мистицизм полностью преданы забвению. Это бюргерская, домашняя история, но только опоэтизированная. Чудесное трактуется как поэзия и грезы. Художественный атеизм — вот дух, которым проникнута эта книга… Как ни поэтично в ней изображение… в основе своей она далека от поэзии". Напротив того, сам Новалис, движимый подобными тенденциями, не случайно, а по загадочному и все же рациональному сродству воззрений и материала, попытался вернуться назад, к рыцарской эпике. Как и она, он хочет (здесь, конечно, идет речь об априорной общности устремлений, а не о каком-то прямом или косвенном "влиянии") воссоздать посюсторонне завершенную тотальность, в которой раскрывается трансцендентность. Поэтому его стилистика, как и в рыцарском эпосе, закономерно тяготеет к сказке.
Но если средневековые эпические авторы со своими наивно-естественными эпическими воззрениями стремились непосредственно воссоздавать посюсторонний мир, а свет трансцендентности и сказочное преображение действительности они получали в дар от своей историко-философской ситуации, то для Новалиса эта сказочность, восстанавливающая нарушенное единство реальности и трансцендентности, становится сознательной целью творчества. Поэтому решительный полный синтез создан быть не может. Действительность слишком отягощена земным притяжением из-за своей безыдейности, а трансцендентный мир слишком воздушен и бессодержателен из-за своего происхождения непосредственно из сферы философских постулатов абстрактной всеобщности, эти два начала не могут органично соединиться, создав живую тотальность. Таким образом, художественная трещина, столь проницательно замеченная Новалисом у Гете, в его собственном творчестве увеличилась и стала непреодолимой: победа поэзии, ее преображающее и искупительное господство над вселенной не обладает основополагающей силой, способностью вести за собою в этот рай все прозаично-земное; романтизация действительности лишь набрасывает на нее лирический покров поэзии, бессильный превратить эту действительность в эпические события, так что попытка создания эпоса либо возвращает в обостренной форме к проблемам, стоявшим перед Гете, либо оборачивается лирическими размышлениями и образами душевных состояний. Поэтому стилистика носит у Новалиса чисто рефлективный характер, она лишь внешне прикрывает опасность, на самом деле увеличивая ее. Ибо лирическое, на уровне душевных состояний, романтизирование общественных структур никак не может соотноситься с существом внутренней жизни при отсутствии между ними предустановленной гармонии, характерном для нынешнего состояния духа; и поскольку Новалис отвергал путь Гете, который старался найти иронически подвижное равновесие, опираясь на субъект и по возможности не касаясь этих структур, то у него не оставалось иного пути, как только лирически поэтизировать последние в их объективном бытии, создавая таким образом гармоничный, замкнутый в себе, отрешенный от всяких связей мир, который лишь рефлективно, а не эпически связан как с окончательно реализовавшейся трансцендентностью, так и с проблематичным душевным миром, а потому не может превратиться в подлинную тотальность.
Преодоление такой опасности не проходит, однако, и у Гете без проблем. С какой бы силой ни подчеркивалось, что в финале социальная сфера проникается смыслом лишь потенциально и субъективно, все равно идея общности, на которой построено все здание, придает социальным структурам большую и более объективную субстанциальность, а значит и большую адекватность нормативным субъектам, чем это было в прежних, ныне преодоленных сферах. Но такое объективирующее разрешение основной проблематики не может не приближать роман к эпопее; а то, что начато как роман, нельзя завершить как эпопею, как нельзя и включить такое преодоление романа в новую ироническую структуру, сгладив тем самым его отличие от остальных частей романа. Поэтому поразительно единой театральной атмосфере, рожденной истинным духом романной формы, должен противостоять выходящий за ее рамки и потому хрупкий мир дворянства как символ активного овладения жизнью. Не станем отрицать: благодаря характеру браков, завершающих роман, перерастание сословности в категорию внутренней жизни изображено с большой чувственно-эпической силой; поэтому и объективное превосходство дворянского сословия сводится лишь к благоприятной возможности вести более свободную и более широкую жизнь, которая открыта, однако, и каждому, кто обладает к этому необходимыми внутренними предпосылками. Несмотря на такую оговорку, сословие это все-таки поднято на высоту субстанциальности, до какой оно внутренне не может дорасти; в пределах дворянского сословия, пусть и в узком кругу, необходим общий расцвет культуры, способный благополучно разрешить судьбу самых различных индивидов; таким образом, на мир, ограниченный и созданный дворянским сословием, должен упасть беспроблемный отблеск эпопеи. И такого последствия, имманентно вытекающего из заключительной ситуации романа, Гете не мог избежать, при всем своем художественном чутье поднимать и вводить в действие новые проблемы. В этом мире, лишь относительно адекватном сущностной жизни, такая стилизация не может найти себе опоры. Для этого понадобился многими порицаемый фантастический механизм последних книг: таинственная Башня, ее провиденциально всеведущие адепты и т. п. Здесь Гете прибегнул к изобразительным средствам эпопеи (романтической); и хотя эти средства, крайне необходимые ему для придания чувственной значимости и весомости развязке, он постарался использовать легко и иронически, без лишней таинственности, избавив их от сугубой эпичности и превратив в элементы романной формы, он не мог не потерпеть поражения. Его творческая ирония, повсюду наделявшая достаточной субстанцией все обычно не достойное оформления, может здесь только обесценить чудесное, раскрыв его игровой, произвольный, в конечном счете несущностный характер, но не может препятствовать тому, что оно разрушает своим диссонансом единую тональность целого; чудесное здесь — всего лишь игра в таинственное, лишенная глубокого сокровенного смысла, сюжетный ход, усиленно подчеркиваемый автором, но не обладающий подлинной значимостью, чисто игровое украшение, лишенное декоративного изящества. И все же это больше, чем уступка вкусу эпохи (как его порой пытаются оправдывать), и без столь неорганического "чудесного" совершенно невозможно представить себе "Вильгельма Мейстера". Обратиться к нему Гете заставила существенная формальная необходимость; и его применение только потому было обречено на неудачу, что в соответствии с мировоззрением автора данная тематика обращена к менее проблематичной форме, чем та, какую подразумевает ее субстрат, то есть изображаемая эпоха. И здесь тоже именно утопические взгляды писателя не позволяют ему остановиться на отображении современной проблематики и успокоиться на констатации и субъективном переживании нереализуемой идеи; эти же взгляды заставляют его интерпретировать чисто индивидуальное восприятие событий, которому можно лишь в качестве постулата придать всеобщее значение, как реально существующий и основополагающий смысл действительности. Но действительность не заставишь подняться на такой смысловой уровень, и, как и во всех решающих проблемах большой формы, никакому, даже самому великому и зрелому искусству не дано эту пропасть преодолеть.
4. Толстой и выход за пределы социальных форм жизни
Творческая полемика с миром условностей. Толстовское понимание природы и его проблематические последствия для романной формы. Двойственная позиция Толстого в историко-философском развитии эпических форм. Перспектива, открываемая Достоевским.
Так или иначе, но это перерастание романа в эпопею остается в пределах общественной жизни, разрушая имманентность формы лишь постольку, поскольку оно в некотором решающем пункте неправомерно приписывает воссоздаваемому миру субстанциальность, какую тот неспособен, даже в ослабленном виде, выдержать. Однако стремление преодолеть проблемность, тяготение к эпопее, направлено здесь лишь на утопический идеал, имманентный общественным формам и структурам; таким образом, оно трансцендентно не структурам вообще, а только заложенным в них конкретно-историческим возможностям, хотя и этого достаточно, чтобы разрушить имманентность формы. Такая позиция впервые возникает в романе разочарования, где несоответствие внутреннего мира и мира условностей с необходимостью ведет к полному отрицанию этого последнего. Но покуда такое отрицание остается лишь внутренним, в созданной форме сохраняется имманентность романа, а когда равновесие нарушено, то это скорее лирико-психологическое разложение формы, чем перерастание романа в эпопею. (Особая позиция Новалиса была проанализирована выше). Напротив того, перерастание неизбежно, если утопическое неприятие условного мира объективируется в чем-то действительно существующем и полемический отказ принимает таким образом творческую форму. Такая возможность не была дана западноевропейской традиции. Здесь утопические требования души направлены на достижение чего-то изначально невыполнимого — на внешний мир, который соответствовал бы душе, крайне дифференцированной и утонченной, превратившейся во внутренний мир. Отказ от условности направлен, однако, не против условности как таковой, а частью против ее отчужденности от души, частью против ее грубости; частью против ее связи не с культурой, а только с материальной цивилизацией, частью против ее сухой и жесткой бездуховности. Но если отвлечься от чисто анархистских, чуть ли не мистических тенденций, утопия всегда имеет в виду некую культуру, способную объективироваться в социальных структурах и соответствующую внутреннему миру. (Именно в этом с такой эволюцией соприкасается роман Гете, но только у него такая культура уже найдена, чем и определяется особый мир "Вильгельма Мейстера": ожидание постоянно оказывается превзойденным все более существенными социальными структурами, которых достигает герой по мере достижения зрелости, по мере отказа от абстрактного идеализма и утопического романтизма.) Потому эта критика может найти лишь лирическую форму выражения. Даже у Руссо, чье романтическое мировоззрение имеет содержанием отказ от всяких связанных с культурой социальных структур, полемика сама по себе лишь полемична, то есть риторична, лирична, рефлективна; западноевропейская культура так прочно коренится в созидающих ее социальных структурах, что ускользнуть от них и противостоять им она может только в полемике.
Чтобы эта полемика стала творческой, она должна стоять ближе к первичным, органически-естественным состояниям; так случилось в русской литературе девятнадцатого века, для которой такие состояния стали субстратами переживания и творчества. После Тургенева, "по-европейски" разочарованного, Толстой создал форму романа, активно перерастающего в эпопею. Его великое, истинно эпическое и далекое от любой формы романа творчество стремится изображать жизнь, основанную на общности чувств простых, тесно связанных с природой людей, общности, которая прислушивается к величественному ритму природы, движется соразмерно с ее чередованием рождения и смерти, отвергая в чуждых природе формах все мелочное и разъединяющее, разлагающее и косное. "Мужик умирает, — пишет он графине А. А. Толстой о своей новелле "Три смерти", — спокойно… его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза… Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, — потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет"[14].
Парадоксальность исторической позиции Толстого, доказывающей убедительнее всего, сколь закономерно роман составляет эпическую форму наших дней, — сказывается в том, что современный мир даже у этого писателя, не только устремленного к нему, но ясно видящего и изображающего его во всей конкретности и богатстве, не дает воплотить себя в движении, в действии и становится лишь элементом эпического творчества, а не самой эпической действительностью. Ибо естественно-органичный мир древней эпопеи все-таки был именно культурой, специфическое качество которой заключалось в ее органичности, тогда как у Толстого органичность полагается как идеал, переживается как реально существующее, воспринимается сущностно именно как природа и в качестве таковой противопоставляется культуре. А в неизбежности такого противопоставления и заключается неразрешимость проблематики романов Толстого. Не потому, что он не преодолел в себе по-настоящему культуру и не потому, что его отношение к пережитому и изображенному как природа остается чисто сентиментальным, — не по психологическим причинам его тяготение к эпопее неминуемо привело к проблематичной форме романа. Он пришел к ней, ведомый сутью этой формы, связанный с определенным историко-философским субстратом.
Тотальность людей и событий возможна лишь на почве культуры, как бы к ней ни относиться. Поэтому главное и решающее в эпических произведениях Толстого, и в общем их строе, и в конкретном содержании, относится именно к отвергаемому им миру культуры. Но так как и природа, пусть и неспособная окончательно оформиться в виде имманентно завершенной тотальности, сама представляет собою нечто объективно существующее, то в произведении возникают два слоя реальности, полностью чужеродных друг другу не только тем, какую они получают оценку, но и качеством своего бытия. И их отношение друг к другу, а только через него и строится тотальность произведения, может переживаться лишь как путь от одного к другому, а именно от культуры к природе, так как направление это задано уже самой их оценкой. И таковы парадоксальные последствия парадоксальных отношений между мировоззрением автора и его эпохой, что центром всего художественного построения становится опять-таки сентиментальное, романтическое переживание — неудовлетворенность внутренне значительных людей всем, что им может предложить окружающий мир культуры, и вытекающие из их отрицательной позиции поиски и обретение иной, более сущностной действительности природы. Парадоксальность этой темы возрастает еще и оттого, что толстовская "природа" не обладает той полнотой и завершенностью, какой обладает в конечном счете замкнутый, относительно более субстанциальный мир Гете, чтобы стать родиной, манящей и сулящей покой. Эта природа скорее лишь реальный залог того, что по ту сторону мира условностей есть сущностная жизнь — жизнь, которая хоть и может быть достигнута в переживаниях полной и подлинной самости, в самосознании души, однако возвращение в мир условностей оказывается неизбежным.
От таких неутешительных выводов, к которым Толстой, исходя из своего видения мира, приходит с героической последовательностью всемирно-исторической личности, ему не укрыться даже в любви и браке, занимающих особое место между природой и культурой, в равной мере родных и чуждых им. В ритме природного существования, в ритме рождения и смерти, принимаемых без патетики, как нечто естественное, любовь — это та точка, где силы, управляющие жизнью, проявляют себя наиболее конкретно и зримо. Но любовь как чисто природная сила, как страсть не принадлежит к толстовскому миру природы: для этого она слишком связана с личностными отношениями, а потому слишком обособляет людей, создает слишком много градаций и утонченностей, — она слишком культурна. Любовь, занимающая в этом мире поистине центральное место, — это любовь-брак, любовь-соединение (причем сам факт соединения важнее, чем личности вступающих в брак), любовь как средство продолжения рода, а брак и семья — как залог природной непрерывности жизни. То, что благодаря этому в данное построение вносится идейная двойственность, не имело бы с художественной точки зрения большого значения, если бы это колебание не создавало еще один слой действительности, отличный от других, который нельзя композиционно связать с обеими изначально разнородными сферами и который поэтому тем скорее превращается в противоположность задуманного, чем адекватнее он воссоздан. Торжество любви над культурой должно означать победу исконного начала над ложной утонченностью, но на деле оборачивается неутешительной ситуацией, когда все великое и высокое в человеке поглощается в нем природой, которая, однако, находит выражение — если только ей удается проявить себя по-настоящему в нашем мире культуры, — лишь приспосабливаясь к самой низменной, самой бездуховной и безыдейной условности. Поэтому душевное состояние, описанное в эпилоге "Войны и мира", умиротворенная атмосфера детской, знаменующая исчерпанность всех поисков, куда безотраднее, чем концовка самого проблематичного романа разочарования. Здесь не осталось ничего, что было прежде: как пески пустынь засыпают пирамиды, так естественно-животные силы уничтожают все духовное.
К этой невольной безотрадности заключительной части романа присоединяется еще и другая, преднамеренная, — описание условного мира. Оценочная позиция Толстого (одобрительная или осуждающая) достигает каждой детали описания. Отсутствие в этой жизни целенаправленности и субстанциальности находит выражение не только в объективной форме, то есть для читателя, видящего все это, и не только как переживание нарастающей разочарованности, но еще и как априорная и неизменная, хоть и суетливая, пустота, как беспокойная скука. Каждый разговор и каждое событие носят отпечаток приговора, который вынес им писатель.
Этим двум группам переживаний противостоит сущностное переживание природы. В очень редких значительных мгновениях, чаще всего в соседстве со смертью, перед человеком открывается такая действительность, в которой он при свете озарения видит и познает Сущность, царящую в нем и одновременно над ним, смысл его жизни. Все прежнее бытие перед лицом такого переживания обращается в ничто, все былые конфликты и причиненные ими страдания, муки, заблуждения кажутся мелкими и несущественными. Раскрылся смысл, и душе стали доступны пути, ведущие в живую жизнь. И опять Толстой с парадоксальной непреклонностью подлинного гения раскрывает здесь глубочайшую проблематику формы и основы этой жизни: высшая благодать нисходит на человека у порога смерти; таковы переживания смертельно раненного Андрея Болконского на поле боя Аустерлица или чувство единения, охватывающее Каренина и Вронского у смертного одра Анны; и настоящим блаженством было бы умереть сейчас, умереть так. Но Анна выздоравливает, Андрей тоже возвращается к жизни, и значительное мгновение исчезло без следа. Герои опять существуют в мире условностей, опять живут жизнью бесцельной и несущностной. С уходом значительного момента пути, предуказанные им, утратили направляющую субстанциальность и реальность; по ним нельзя идти, а если кажется, что идешь, то такая действительность на самом деле не более, чем горестная карикатура на то, что было пережито в миг откровения. (Переживание Бога у Левина и та настойчивость, с которой он в дальнейшем, несмотря на психологические отступления, идет по найденному пути, имеют своим источником не столько видение художника, сколько волю и теорию мыслителя. Они обладают программным смыслом, а не непосредственной очевидностью, свойственной другим значительным мгновениям.) Те немногие люди, кто способен жить жизнью, открывшейся им в переживании, — пожалуй, единственным таким персонажем является Платон Каратаев — могут служить только второстепенными персонажами: всякое событие проскальзывает мимо них, происшествия не затрагивают их существо, жизнь их не объективируется, она поддается воссозданию лишь намеком; в конкретно-художественном плане они выступают лишь по контрасту с другими персонажами; в плане эстетическом это предельные понятия, а не реальные люди.
Этим трем слоям действительности соответствуют три понятия о времени в мире Толстого, и их несовместимость убедительнее всего обнаруживает внутреннюю проблематику этих столь богатых и глубоких произведений. Условный мир, собственно говоря, находится вне времени: вечно повторяющееся, вечно возвращающееся однообразие катится по рельсам присущих ему, но чуждых смыслу законов; это нескончаемое движение без направления, без роста, без упадка. Меняются фигуры, но от этого ничего не происходит, потому что все они несущностны и на место каждой из них может быть поставлена любая другая. Появляется ли она или снова исчезает — это всегда всего лишь пустое, несущностное мельтешение. А подо всем этим шумит поток толстовской природы — постоянство и однообразие вечного ритма. Здесь все изменчивое тоже лишено сущности: индивидуальная судьба, вплетенная в общую картину, возникает и исчезает, не дав основы никакому смыслу, связанному через нее с целым, которое не реализует в себе, а уничтожает личность; индивидуальная судьба не играет никакой роли для мировой цели — именно как индивидуальная судьба, а не как элемент ритма наряду с бесчисленными другими однородными и равноценными судьбами. И значительные мгновения, внезапным предчувствием высвечивающие существенную жизнь, исполненный смысла поток, так и остаются мгновениями: они изолированы от обоих других миров, не имеют основополагающих связей с ними. Итак, не только эти три понятия о времени разнородны и несовместимы друг с другом, но к тому же ни одно из них не выражает подлинной длительности, действительного времени, этого жизненного элемента романа. Попытка преодолеть культуру только изгоняет ее, не заменив никакою более сущностной и надежной жизнью; преодоление романной формы делает ее еще проблематичнее (с чисто художественной точки зрения роман Толстого — это крайнее выражение романа разочарования, причудливое переложение флоберовской формы), и при этом к желанной цели, то есть к внепроблемной действительности эпопеи, в конкретном творчестве она приближается не больше других форм. Ибо увиденный в предчувствии мир природной субстанциальности так и остается предчувствием и внутренним переживанием, иными словами субъективным и с точки зрения воссоздаваемой действительности рефлективным; с чисто художественной точки зрения он подобен другим мирам, рожденным стремлением к более адекватной действительности.
Литературная эволюция не пошла дальше романа разочарования, и литература последних лет не обнаруживает творческих возможностей, способных создать новые типы романа; перед нами эклектическое эпигонство, повторяющее прежние типы творчества и, пожалуй, обладающее продуктивными силами только в таких формально несущественных сферах, как лирическая и психологическая.
Сам Толстой, правда, занимает двойственное положение. Если ограничиться чистой формой — но как раз в его случае такой подход неспособен коснуться главных сторон его мировоззрения и даже воссозданного им мира, — то его творчество следует понимать как завершение европейского романтизма. Однако в немногих истинно великих моментах его произведений, которые лишь формально, лишь в связи с изображаемым в произведении целым могли бы восприниматься как субъективно-рефлективные, — открывается четко дифференцируемый, конкретный и действительно существующий мир, который, будь он расширен до масштабов тотальности, оказался бы совершенно недоступен для формы романа и нуждался бы в новой форме изображения — в обновленной форме эпопеи.
Человек выступает как человек — а не как общественное существо и не как изолированный, единственный в своем роде, чистый, а потому и абстрактный внутренний мир — именно в сфере сугубо душевной действительности, и если она предстает как наивно переживаемая очевидность, как единственно подлинная действительность, то может возникнуть новая и завершенная тотальность всех возможных в ней субстанций и отношений, которая так же превзойдет нашу разорванную действительность, оставив за ней роль фона, как наш двойственный мир — социальный и "внутренний" — превзошел мир природы. Но само искусство не в силах осуществить такое преобразование: большая эпика — это форма, зависящая от конкретного исторического момента, и всякая попытка изображать утопическое как сущее может лишь разрушать эту форму, но не создавать новую действительность. Роман принадлежит, пользуясь выражением Фихте, эпохе абсолютной греховности, и покуда мир будет пребывать под знаком такого созвездия, эта форма останется главенствующей. У Толстого было заметно предчувствие прорыва в новую мировую эпоху, но лишь на уровне полемики, надежд и абстракции.
Только в произведениях Достоевского этот новый мир показан просто, без всякого противопоставления ныне существующему, как зримая действительность. Поэтому этот писатель, как и созданная им форма, выходит за пределы наших наблюдений: Достоевский не писал романов, и художественные установки, нашедшие выражение в его произведениях, не имеют ничего общего (ни одобряя ни опровергая его) с романтизмом девятнадцатого века, как и с разнообразными, также романтическими, формами реакции на это течение. Достоевский принадлежит новому миру. Стал ли он Гомером или Данте этого мира, или просто слагает песнопения, которые писатели более поздних времен вкупе с песнями других предтеч сплетут в великое единство; знаменует ли он начало или осуществление — все это сможет показать лишь анализ формы его произведений. И лишь тогда перед историко-философскими толкователями может встать задача определить, готовы ли мы выйти из состояния абсолютной греховности или только одушевлены надеждами на приход нового; предвестники ли это прихода нового — еще столь немощные, что они могут быть в любой момент легко задавлены бесплодными силами наличного бытия.
Перевод с немецкого Г. Бергельсона Вступительная заметка С. Зенкина
Примечания
1
Жена Д. Лукача в 1910-х годах, русская эмигрантка. — Здесь и далее, кроме одного особо оговоренного случая, примечания переводчика и редактора.
(обратно)2
(Зд.) духовного образа (греч.)
(обратно)3
Имеются в виду немецкий поэт Вольфрам фон Эшенбах, итальянский скульптор и архитектор Николо Пизано, Фома Аквинский и Франциск Ассизский.
(обратно)4
По греческому мифу, Филоктет во время похода на Трою был ужален змеей и оставлен товарищами страдать на острове Лемнос; был вывезен оттуда Одиссеем и исцелен сыном Эскулапа Махаоном (которого Лукач заменяет здесь святым духом — Параклетом).
(обратно)5
Принципе стилизации (лат.).
(обратно)6
Действующих лиц (лат.).
(обратно)7
Д. Лукач имеет в виду свою статью "Стремление и форма" о французском писателе Ш.-Л. Филиппе (вошла в его книгу "Душа и формы", 1911). Средневековым французским словом chantefable ("песносказ") он пользуется в ней вместо современного термина "лирический роман".
(обратно)8
Имеется в виду драматическая трилогия Ф. Геббеля "Нибелунги" (1855–1862) на сюжет средневековой "Песни о нибелунгах".
(обратно)9
Pro domo sua (лат.) — "за собственный дом", то есть в собственных интересах.
(обратно)10
Подразумевается стихотворный роман Байрона.
(обратно)11
Немецкий поэт Готфрид Страсбургский (XII–XIII вв.).
(обратно)12
Вставная повесть в романе Гете "Годы учения Вильгельма Мейстера".
(обратно)13
Имеется в виду роман немецкого драматурга и прозаика П. Эрнста "Узкая дорога к счастью" (1901, опубл. 1903).
(обратно)14
Роман датского писателя X. "Счастливчик Пер" (1898–1904). Понтоппидана
(обратно)15
Гете, "Поэзия и правда", перевод Н. Ман. (Собр. соч. в 10 тт. Т. 3. М., 1976. С. 650).
(обратно)16
Иду я душу испытать свою (англ.). Цитируется ранняя драма Роберта Браунинга "Парацельс" (1835).
(обратно)1
Новелла Генриха фон Клейста (1810).
2
Герои драм Г. Ибсена "Бранд" (1866), "Враг народа" (1882) и "Дикая утка" (1884).
3
Имеется в виду немецкий мыслитель, писатель, критик Иоганн Георг Гаман (1730–1788).
(обратно)4
Пусть и безлюден ковчег, где хотел ты закон свой найти, Пляска без устали — вот достоянье твое, Цели в ней нет никакой, но и конца ей не будет, Пляске пустынь и пляске просторов безбрежных. Анри Франк (Перевод с французского Г. Маринина) Анри Франк (1889–1912) — французский поэт, автор книги "Пляска перед ковчегом" (опубл. 1912).
(обратно)5
Роман датского писателя Йенса Петера Якобсена "Нильс Люне" (1880).
(обратно)6
Длительность (фр.).
(обратно)7
A modern drama fejlodesenek tortenete (История развития современной драмы), в двух томах. Будапешт, 1912. Вводная глава опубликована на немецком языке под заглавием "К вопросу о социологии современной драмы" (Zur Soziologie des modernen Dramas): "Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", XXXVII. S. 303f, 662f. — Примеч. автора.
(обратно)8
Персонаж поэмы Вольфрама фон Эшенбаха "Парцифаль" и одноименной оперы Р. Вагнера.
(обратно)9
До действия (лат.).
(обратно)10
После действия (лат.).
(обратно)11
В самом действии (лат.).
(обратно)12
Роман немецкого писателя Густава Фрейтага (1855).
(обратно)13
Роман Готфрида Келлера (первая редакция — 1855, вторая- 1880).
14
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949. С 265–266.
(обратно)

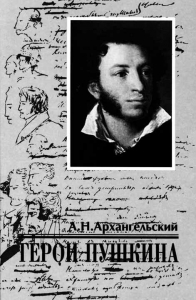

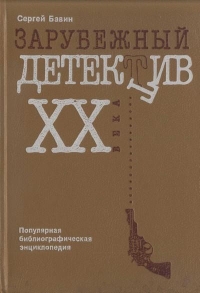
Комментарии к книге «Теория романа», Георг Лукач
Всего 0 комментариев