И. А. Рацкий
Проблема трагикомедии и последние пьесы Шекспира
“Театр”. - 1971. №2. С. 113.
“Перикл”, “Цимбелин”, “Зимняя сказка” и “Буря” - вот завершающий аккорд шекспировского творчества. К сожалению, эта интереснейшая страница драматургии сравнительно мало известна. Совсем незнаком советскому зрителю “Перикл”, вряд ли можно счесть удачными редкие постановки “Цимбелина” и “Зимней сказки”, а такой общепризнанный шедевр Шекспира, как “Буря”, которую многие называют венцом его драматургической деятельности, появился на советской сцене один только раз, в 1918 году. Может быть, поздние творения Шекспира чужды восприятию человека нашего столетия? Однако это предположение опровергается опытом мирового театра XX века.
Очевидно, непопулярность у нас этой части шекспировского наследия объясняется другими причинами. В какой-то мере здесь повинна и наша шекспировская критика. Советское шекспироведение много сделало для изучения и правильной интерпретации творчества Шекспира и тем немало помогло театральным деятелям, но последним его драмам уделяло значительно меньше внимания, чем они того заслуживают.
“Перикл”, “Цимбелин”, “Зимняя сказка” и “Буря” - едва ли не самые противоречивые и сложные явления шекспировской драматургии. Долгое время эти пьесы считались игрой утомленного ума, красивыми сказочками, которыми развлекался великий мастер на склоне лет. Теперь за “красивыми сказочками” признают и глубокий смысл, и выдающиеся художественные достоинства; на основе их толкования исследователи нередко строят концепции всего творчества Шекспира. И тем не менее некоторые коренные проблемы, без решения которых невозможно ни подлинное понимание этих произведений, ни верное сценическое их прочтение, остаются открытыми.
Одна из таких проблем - вопрос о жанре поздних шекспировских пьес. Ученые давно сошлись на том, что произведения эти близки друг другу не только временем написания, но и рядом сходных черт, свидетельствующих о внутреннем их единстве. При этом художественное их своеобразие столь велико, что позволяет говорить о ярко выраженном здесь новом драматургическом качестве. Определить это качество, пользуясь привычными жанровыми терминами, без натяжек нельзя, и, хотя финальные драмы именовались (со многими оговорками) и комедиями, и - реже - трагедиями, критики чаще предпочитают пользоваться нейтральным “последние пьесы”: слишком уж разительно отличаются “Перикл”, “Цимбелин”, “Зимняя сказка” и “Буря” и от комедий, и от трагедий Шекспира.
Дело, конечно, не в терминологических тонкостях. Вопрос о жанре последних пьес в сути своей и есть вопрос о природе нового качества шекспировской драматургии, то есть о совокупности художественных и идейных особенностей этих драм, о новом видении мира и его художественном воплощении в последний период творчества Шекспира.
Вместе с тем вопрос этот имеет не только “шекспироведческий” интерес. Он связан с большой теоретической проблемой, многие аспекты которой чрезвычайно актуальны. Ибо жанр, видоизменением которого являются последние пьесы Шекспира, жанр, казалось, умерший в XVII веке, с конца XIX века (на иной, конечно, основе и в иных формах и проявлениях) начинает играть заметную роль в мировой драматургии. Жанр этот - трагикомедия, для шекспировских финальных произведений - трагикомедия романтическая.
В основе трагикомедии, как и в основе комедии и трагедии, лежит определенное, эстетически оформленное восприятие действительности, определенное мироощущение, которое для краткости можно назвать трагикомическим, подобно тому как мы говорим о восприятии комическом или трагическом.
Трагикомическое мироощущение всегда связано с чувством относительности существующих критериев: моральных, социальных, политических, философских. Основы миропонимания, незыблемые в трагедии и комедии, в трагикомедии оказываются шаткими, неустойчивыми или полностью размытыми. Трагикомическое восприятие не признает абсолютного, субъективное здесь может видеться объективным, объективное - субъективным. Трагикомедия отказывается от нравственного абсолюта комедии и трагедии, от их четкого представления о норме, порядке, морали, принципах мироустройства и человеческого поведения.
Трагикомическое мироощущение в силу своей неуравновешенности включает в себя самые разнообразные и зачастую противоположные элементы. Чувство относительности может ограничиваться сомнением (как у Шекспира) или доходить до полного релятивизма (как у Бомонта и Флетчера); переоценка моральных устоев может сводиться к неуверенности в их всемогуществе или к полному отказу от твердой морали; неясное понимание действительности может вызвать к ней жгучий интерес или полное безразличие; туманное представление об общих закономерностях бытия может сказаться меньшей определенностью в художественном их постижении и отражении или равнодушием к этим закономерностям - вплоть до признания почти полной алогичности мира. Трагикомический писатель может склоняться к комическому или трагическому восприятию, хотя не переходит грань, отделяющую его от того и от другого.
Трагикомическое мироощущение начинает доминировать и отливается в определенные формы трагикомедии в первую очередь под влиянием кризиса идеологии, вызванного кризисом социальным. Идеологические сотрясения и сдвиги, социальное беспокойство, противоречивые идейные течения, словом, все те явления, которые характеризуют духовную атмосферу переломных моментов в истории общества, - вот благодатная почва для возникновения и творческого развития трагикомедии.
Поэтому первые образцы трагикомического искусства в драме можно заметить у Еврипида (“Алкестида”, “Ион”, сатировская драма “Киклоп”), творчество которого приходится на период, когда расшатывается стабильность греческого общества, падает вера в богов и в незыблемость правил поведения, завещанных предками, разрушается иллюзия “свободной демократии” Перикла. С новой силой трагикомический элемент начинает проявляться в драматургии на исходе Средневековья и постепенно усиливается в период Возрождения, а кризис гуманизма способствует кристаллизации трагикомического начала в самостоятельную форму.
Трагикомедия XVI-XVII веков в массе своей редко достигает подлинного трагикомического эффекта - это главный признак современной трагикомедии. Уникальность последних пьес Шекспира и близость их к современной драме, в частности, в том и состоит, что здесь трагикомический эффект определяет во многом тональность всего произведения, становится одной из главных составляющих всего образного строя. В трагикомедиях же других авторов этого периода трагикомический эффект, как правило, случаен и второстепенен. Здесь трагикомическое мироощущение выражается в первую очередь в жанровых признаках, столь же определенных, как и признаки, которые отличают трагедию и комедию классицизма (жанровые признаки, характеризующие трагикомедию XVI-XVII веков, присущи и шекспировским последним пьесам, поэтому можно сказать, что в известном смысле последние пьесы являются связующим звеном между трагикомедией ренессансно-барочной и современной).
Одновременно с кристаллизацией элементов трагикомедии в практике предшествующей драмы складывалось и определенное теоретическое представление о трагикомедии как о самостоятельном жанре.
В своих воззрениях на природу драмы гуманисты опирались на античную эстетику, которая, как известно, знала лишь два драматических вида - комедию и трагедию. Гуманисты прочно усвоили жанровые признаки комедии и трагедии в том виде, в каком они были изложены в трактатах Диомеда и Доната.
Когда гуманисты захотели освятить авторитетом древних практику современной смешанной драмы, они взяли у Плавта сам термин “трагикомедия” (в прологе к “Амфитриону” Меркурий так называет предстоящее представление - так как хоть это и комедия, но в ней будут действовать боги, которым полагалось действовать лишь в трагедии); отыскали у Горация в “Искусстве поэзии” отрывок, где он пишет, что трагедия иногда может говорить простым, а комедия - возвышенным языком; нашли в “Эстетике” Аристотеля место, где допускается возможность трагедии “двойной структуры” и трагедии с благополучным концом; ссылались, наконец, на смешение характеров у Софокла и Аристофана и практику Еврипида, то есть эстетикой и практикой античных писателей оправдывали именно те моменты, которые позднее будут усвоены трагикомедией. Однако к середине XVI века появляются более обстоятельные рассуждения в защиту суверенности нового жанра - трагикомедии. Ренессансная теория трагикомедии формируется в Италии.
Подлинным теоретиком нового жанра стал Гварини. Гварини, с одной стороны, подытожил опыт предшествующей смешанной драмы, с другой - предвосхитил многие существенные черты более поздней трагикомедии. С конца XVI - начала XVII века представление о трагикомедии как о самостоятельном жанре окончательно утверждается - и благодаря практике драматургии, и во многом благодаря усилиям теоретиков, в первую очередь Гварини.
Итак, комедия, трагедия и трагикомедия - три главных жанра Возрождения. Можно условно говорить о комическом, трагическом и трагикомическом этапах английского гуманизма конца XVI - начала XVII века. И так же можно говорить о комическом, трагическом и трагикомическом этапах шекспировского творчества. Ибо все эти три жанра представлены в творчестве Шекспира и они и здесь отражают эволюцию гуманистической мысли с момента ее расцвета через мучительные искания и до начала кризиса. И хотя на всем протяжении своей деятельности драматург обращался к разным жанрам одновременно, но самые характерные его мировосприятия как гуманиста запечатлены именно в комедиях, трагедиях и в том варианте трагикомедии, который мы видим в поздний период его творчества, в финальных его драмах.
Особенности интересующей нас третьей фазы обрисуются более отчетливо, если сопоставить ее с первыми двумя.
“Человек - общество - природа” - к этой триаде можно свести весь круг проблем человеческого существования и соответственно проблем, охваченных английской ренессансной драматургией и шекспировскими произведениями. Однако звенья этой триады не только по-разному освещаются на комическом, трагическом и трагикомическом этапах: в комедии, трагедии и трагикомедии они выступают на передний план попеременно, в разных сочетаниях и в различных взаимоотношениях.
Комедия по преимуществу интересуется человеком и природой. В комедии наиболее непосредственно сказывается то универсальное, всеобъемлющее и оптимистическое значение, которое придавали гуманисты природе, видя в ней всеблагую и всемогущую силу, первооснову мироздания и законов, управляющих вселенной, и потому обнимая этим понятием и человека, и общество. Отсюда и то неразрывное единство, даже слияние, в котором человек и природа предстают в комической фазе: человек - часть природы, природа живет в самом человеке. Отсюда и уникальный источник комического в комедии шекспировского типа: движение самой жизни как движение раскованной природы во всей ее полноте и изобилии. Конкретные социальные отношения не интересуют комедию: она упивается игрой свободного естества, она ощущает мир гармоничным и целостным, жизнь - радостным праздником, людей - в сути своей добрыми и благородными. Трагедия сосредотачивается главным образом на отношениях человека и общества. Общественные противоречия, которые в комической фазе представлялись легко устранимыми и не столь важными, теперь видятся с пронзительной ясностью и вырастают в неразрешимые конфликты, становятся источником грандиозных потрясений и гигантских катастроф, сотрясающих мир трагедий. В эти катаклизмы вовлечена и природа - но как фон, символизирующий дисгармонию общества и человеческой натуры, дисгармонию, которая является и основой трагического чувства, и главной темой трагедии.
И комедия в своем оптимизме, и трагедия в ее отчетливом понимании противоборствующих в обществе и человеке начал опираются на твердую систему ценностей: трагедия судит жизнь с позиций абсолюта, выработанного в комической фазе, с точки зрения тех идеалов человека и общества, которые сложились в комедии. И в комедии, и в трагедии существует строго фиксированная точка отсчета.
Этой нормы, этой точки отсчета, как мы говорили, недостает трагикомедии. Система моральных ценностей как система отсутствует: в лучшем случае остаются отдельные нравственные принципы, в большинстве же не-шекспировских трагикомедий даже эти принципы либо подвергаются сомнению, либо принимаются как нечто необязательное, либо отбрасываются вовсе. Понятия добра и зла становятся зыбкими или полностью относительными. Смещаются и колеблются все жизненные критерии. Словом, размывается фундамент, на котором зиждется гуманистическое мировоззрение; основы миропонимания, незыблемые в комедии и трагедии, в трагикомической фазе становятся шаткими, неустойчивыми или окончательно рушатся. Поэтому трагикомедия не способна сосредоточиться на глубинных процессах жизни, на тех ее аспектах, в которые углублялись комедия и трагедия.
Она не может, как комедия, рассматривать человека только во взаимоотношениях с природой и пренебрегать социальным, ибо не обладает наивной верой комедии в благую человеческую натуру и в свободу естественных начал как главное условие разрешения всех противоречий. Не правы те критики, которые отказываются видеть в трагикомедии социальный момент. Даже у Бомонта и Флетчера звучат социальные мотивы - вплоть до народных волнений в “Филастере”, - помогающие главному герою одержать победу над его врагами. Что касается последних пьес Шекспира, то здесь социальное слышится еще более явственно и в каждой пьесе: и в сопоставлении порочного царя Антиоха и доброго царя Симонида (“Перикл”), и в основной коллизии “Цимбелина”, построенной на неравенстве общественного положения Постума и Имогены, и в противопоставлении двора и простой деревенской жизни (пасторальные сцены “Цимбелина” и “Зимней сказки”), и в обрисовке “придворной партии”, и в судьбе самого Просперо в “Буре”.
Но трагикомедия не в состоянии, подобно трагедии, уделять социальным проблемам сугубое внимание: для этого ей недостает остроты социального видения, которую сообщает трагедии прочность ее исходных позиций и которая позволила бы трагикомедии разобраться в социальной путанице усложнившегося мира. Будучи не в силах достичь глубины в осмыслении жизни, трагикомедия пытается восполнить эту свою неспособность широтой: она стремится охватить все звенья триады “человек - общество - природа”. Таким образом, возникает видимость того, что трагикомедия более обобщенно изображает жизнь, нежели комедия и трагедия. Однако обобщенность эта скрывает утрату восприятия мира как единого целого - восприятия, свойственного и комедии, и трагедии.
Комедия видела вселенную в гармоническом взаимодействии всех ее частей. Трагедия - в непримиримом столкновении враждующих начал. Но и трагедия сохранила представление о существовании определенного миропорядка, в рамках которого эти начала противоборствуют: монолог Улисса в “Троиле и Крессиде” и тирада Глостера в “Короле Лире” в равной степени характеризуют трагическое мироощущение, выражают его двуединость: чувство упорядоченности вселенной и понимание дисгармонии, царящей в ней. Поэтому можно сказать, что если комедия воспринимала мир как гармоническое единство, то трагедия - как единство дисгармоническое, но все же единство.
Трагикомедия ощущает мир в дисгармонической отчужденности его составляющих или даже (например, в творчестве Бомонта и Флетчера) как механический конгломерат безразличных или враждебных элементов. Поэтому многообразные нити, которые в комедии и трагедии стягивали человека, общество и природу в единую цепь бытия, в трагикомедии слабеют, рвутся или исчезают вовсе. Происходит свойственная трагикомической фазе дифференциация ранее слитых в единстве понятий. Каждое из звеньев триады “человек - общество - природа” начинает все более эмансипироваться, становится все более автономным.
У Шекспира процесс этой автономизации только начинается - в его последних пьесах связи между человеком, обществом и природой иногда очень сильны, иногда ослабевают и расплываются, иногда теряются вовсе. Заметнее всего это проявляется во взаимоотношениях человека и природы.
Обособление природы и отчуждение ее от человека и общества в шекспировских финальных драмах иногда приобретает особо зримую форму - структурную. В “Зимней сказке” и в “Цимбелине” пасторальные сцены составляют самостоятельную сюжетную линию, “пьесу в пьесе”, они более изолированы от основного действия, чем аналогичные сцены в ранних шекспировских комедиях.
В “Перикле” природа олицетворяется образом моря, и море здесь выступает по отношению к человеку началом чуждым, непонятным и безразличным. Человек здесь чувствует себя не центром мироздания, но песчинкой вселенной, герой не в состоянии ни ощутить свое родство с природой, ни понять ее - он видит себя лишь игрушкой в руках слепой и могущественной природной силы. В “Буре” отношения человека и природы имеют другой характер. “Буря” - единственная из последних пьес, где герой овладевает силами природы, подчиняет их своей воле. Однако даже магия Просперо не способна полностью преодолеть разобщенность человека и природы: и Калибан, и даже Ариэль, которых в данном случае можно рассматривать как персонификацию противоположных естественных начал (не единственное и не главное значение этих образов), рвутся к независимости и чужды человеческому миру.
Отъединенность человека от природы сказывается в трагикомедиях Шекспира и в других их особенностях.
В ранних комедиях природа обладала магической силой: стоило человеку переступить черту, отделяющую общество от природы, как он не только оказывался в мире, живущем по другим законам, но под благотворным воздействием природы менялся сам. Злодей Оливер (“Как вам это понравится”) в Арденнском лесу превращается в любящего брата и нежного влюбленного, узурпатор Фредерик на границе леса без всяких причин отказывается от неправедно завоеванной власти и уходит в отшельники. И в “Сне в летнюю ночь”, и в “Как вам это понравится” природа улаживает все конфликты, исцеляет все душевные раны.
В последних пьесах общение героев с природой никогда не вызывает никаких изменений в их внутреннем мире и в их душевном состоянии. Клотен столь же кровожаден, глуп и подл на Уэльских холмах, как и во дворце Цимбелина. Антонио и Себастьян и в естественной обстановке острова Просперо замышляют предательский заговор и убийство. Имогена страдает у пещеры Белария не меньше, чем она страдала при дворе. Природа здесь никого не исправляет, никого не лечит - она автономна и индифферентна, люди покидают природу такими же, какими они были до встречи с ней.
Эмансипированность человека в его контактах с обществом проявляется в последних пьесах не столь явно. Пожалуй, только Перикл ощущается пременами как персонаж, полностью лишенный общественных связей. Однако и в других шекспировских трагикомедиях человек менее связан с обществом, чем в трагедиях.
Выражается это главным образом в характерах героев.
Во-первых, герои перестают чувствовать масштабность происходящего, грандиозность мира, теряют ощущение комичности событий (за исключением Просперо - все нижеследующее рассуждение к нему не относится). Для героев трагедий их личные беды были всегда каплей, в которой отражались бедствия общественные и всемирные; протагонисты великих шекспировских трагедий чувствовали пульс вселенной. Герои трагикомедий замыкаются, как правило, в своих личных горестях, кругозор их сужается, всеобщие потрясения их не волнуют, над устройством общества они в большинстве своем не задумываются. Даже те немногие из них, кого, подобно героям трагедий, собственные несчастья толкают к более широким обобщениям (например, Постум, Беларий, иногда Перикл), неизмеримо уже и мельче в своих рассуждениях, чем трагические герои, не способны охватить ход всей жизни и положение всего общества. Для Гамлета поспешный брак матери - одно из многих доказательств того, что “век вывихнул сустав”. Для Постума мнимая измена Имогены - свидетельство порочности и распущенности всех женщин. Пыл его филиппики против женщин явно не пропорционален скудости и банальности основной мысли, имеющей многовековую давность: все грехи и пороки - от женщин. Поэтому если герои трагедий ощущают свою ответственность перед обществом, держат на плечах, подобно Гамлету, весь мир, то трагикомическим персонажам это чувство незнакомо. Гамлет хочет “вправить” веку сустав - Постум собирается писать памфлеты против женщин. Оттого, в частности, герои трагикомедий гораздо быстрее и легче решаются на действия: легче, конечно, покарать неверную жену, чем искоренить зло в мире. Еще более ослабление связей между человеком и обществом, свойственное последним пьесам как трагикомедиям, обнаруживается в известной автономности характера героя от внешней среды, от ситуаций, в которые герой попадает.
Если рассматривать действующих лиц шекспировских трагикомедий с точки зрения того, как их поступки соотносятся с их характерами и в какой мере характер оказывается постоянным и последовательным, то можно всех персонажей распределить на три основные группы.
Первая. Поступки героев полностью или почти полностью соответствуют их внутренним качествам. Действия, которые они совершают на протяжении всей пьесы, не меняют того представления об их натуре, которое сложилось почти сразу - из слов других действующих лиц или при их собственном первом появлении. Характеры этого типа, как правило, резко контрастны друг другу: или воплощают лучшие качества человеческой натуры (Марина, частично Перикл, Имогена, Пизанио, Гвидерий и Арвираг, Гермиона, Фердинанд и Миранда, во многом Просперо), или, наоборот, олицетворяют самое низменное в человеке (Антиох, Клотен, Королева, Антонио и Себастьян).
Вторая. Герои совершают поступки столь непредвиденные и несовместимые с предыдущими, поведение их меняется настолько резко и неожиданно, что создается впечатление, будто перед нами совершенно другие люди (Дионисса, Цимбелин, Якимо, Леонт).
Третья. Общие очертания характера остаются неизменными, но определенность его смазывается беспорядочным чередованием света и тени, которое зависит от недостаточно последовательных и неуравновешенных действий героя (Постум и некоторые второстепенные действующие лица, например Лизимах в “Перикле”).
Характеры героев, выделенных нами в первую группу, наиболее независимы от внешней среды, от обстановки: они не меняются ни при каких обстоятельствах, сохраняют заданные с самого начала качества на протяжении всего действия и при любых условиях - над ними не властны ни природа, ни общество. Их, как легко заметить, большинство.
Однако и у героев, принадлежащих ко второй группе, внешние мотивы, которые должны бы оправдать резкую перемену поведения и характера, или далеко не пропорциональны самому изменению (Дионисса, Якимо, Цимбелин), или полностью отсутствуют (Леонт). Изменение в душе героя возникает в значительной или в полной мере спонтанно, при минимальном или нулевом воздействии внешних воздействий.
Ту же неадекватность реакций и поступков героя внешним обстоятельствам можно проследить и у Постума.
Известная внутренняя неподвижность или механистичность характера во многом объясняется тем, что в трагикомедии человек и общество воспринимаются в большей изоляции друг от друга, чем в комедии и трагедии. Проблема неизменяемости и недиалектичности трагикомического характера имеет и другой аспект - она связана также с соотношением в трагикомедии статических и динамических элементов. В комедии и трагедии господствует динамика. Для комедии динамика обусловлена законами вечно меняющейся прихотливой и подвижной природы. Трагедия рисует вздыбленный мир, близкий к хаосу, мир, находящийся в движении. И комедия и трагедия видят и изображают действительность в движении и в развитии - и это соответствует бурным процессам в самом обществе.
Трагикомедия как самостоятельный жанр появляется тогда, когда общество, не решив ни одного противоречия, а лишь углубив их, вступает в период временной стабилизации. Перспектив нет, мир еще более хаотичен, чем в трагической фазе. Но трагедия запечатлевает хаос движущийся, динамический, трагикомедия - хаос застывающий или близкий к статическому. Действительность для трагикомедии предстает в калейдоскопе статических и динамических элементов.
И динамика и статика мира проецируются сложным сочетанием динамического и статического в художественной ткани трагикомедии. Динамика не окончательно изжита, статика не окончательно осуществлена. Динамика как будто заметнее всего в сюжете, статика - в характере: сюжет прихотлив, изменчив, хитро запутан, перебрасывается от места к месту, от приключения к приключению; характер обладает большей частью неизменными качествами, не развивается, задан с самого начала. Однако статические моменты связаны и с сюжетом: динамика торжествует в отдельно взятом сюжете, статика - в группе сюжетов, в повторяемости приемов, ситуаций, общей структуры. С другой стороны, есть динамические элементы и в характере: описание переживаний, эмоций, резкая смена психологических состояний.
Таким образом, здесь, как и везде, трагикомедия проявляет внутреннюю свою неуравновешенность, которая связана с шаткостью ее исходных мировоззренческих позиций.
Эту шаткость трагикомедия стремится компенсировать разными путями.
В первую очередь обращением к идеальному.
К идеальному обращалась и комедия. Однако природа идеального, его освещение, отношение к нему у комедии и трагикомедии качественно иные.
Комедия давала идеализированное изображение жизни и человека. И тем не менее идеализация эта в комедии шекспировского типа почти не чувствуется. Представление о человеческой натуре в комедии было идеализированным, но самим гуманистам казалось реальным. Поэтому идеальное в комедии обладает такой полнокровностью и жизненностью, яркостью и красочностью, что позволяет говорить о реализме комедии в самом широком смысле этого слова. Лучшие потенции человеческой натуры в комической фазе были переданы верно.
Идеальное в трагикомедии утрачивает жизненную достоверность. Есть какая-то надсадность в том, как настоятельно подчеркивает трагикомедия идеальный момент в жизни и в людях. Трагикомедия не довольствуется тем, что хочет показать своих героев идеальными, - она считает необходимым постоянно напоминать об их идеальности устами других действующих лиц. О добродетелях Марины, о достоинствах Имогены, Постума, Гвидерия, Арвирага и остальных идеальных или идеализируемых героев неоднократно и настойчиво говорят прочие персонажи. Как будто писатель не доверяет тому, что его герои произведут желаемое впечатление сами по себе, без дополнительной оценки со стороны, без помощи окружающих.
Откуда в трагикомедии эта напряженность, этот надрыв в утверждении и показе идеального?
Дело в том, что идеал для трагикомедии - скорее воспоминание, чем живое впечатление, каким он был для комедии. Действительность в трагикомической фазе не дает никакой почвы для идеального. Трагикомедия не верит, что идеальное может реализоваться в жизни. В комедии идеал мыслится как возможный, но неосуществленный. В трагикомедии - как невозможный или почти невозможный и неосуществимый. По крайней мере в настоящем и в ближайшем будущем. В комедии идеал существует как иллюзия - воспринимается как возможная реальность. В трагикомедии идеал и существует, и воспринимается как иллюзия.
Идеальное по-разному преломляется в различных типах трагикомедий.
И здесь мы должны остановиться на принципиальном различии, которое существует между шекспировской трагикомедией и трагикомедией господствующего в начале XVII века типа, наиболее ярко представленного в Англии творчеством Бомонта и Флетчера.
Различие это предопределяется различием в мировоззрении. Одни и те же явления действительности служат и для Шекспира, и для Бомонта и Флетчера источником трагикомического мироощущения. Но у Бомонта и Флетчера мироощущение - это единственная основа их отношения к миру: они вступили на поприще драматургов тогда, когда гуманизм как система взглядов переживал жесточайший кризис. Шекспир же прошел гуманистическую школу, которой были лишены младшие его современники, он обладал прочным фундаментом гуманистического мировоззрения, сформировавшимся в пору расцвета гуманизма. И уникальность шекспировских трагикомедий объясняется своеобразным сочетанием в них гуманистических принципов, которым Шекспир остается верен, с сомнениями и колебаниями, свойственными трагикомической фазе: трагикомическое мироощущение, накладываясь на гуманистический фундамент, не в силах полностью его разрушить, а способно лишь частично расшатать.
Отсюда разные жизненные позиции Шекспира и Бомонта и Флетчера. Шекспир сомневается в том, что Бомонт и Флетчер отрицают или чем пренебрегают. Шекспир пытается найти какую-то жизненную основу - для Бомонта и Флетчера ее не существует. Шекспир стремится отыскать какие-то жизненные закономерности - Бомонт и Флетчер видят в жизни только цепь ярких случайностей и острых переживаний. Шекспир пристрастно и пытливо допрашивает жизнь - Бомонт и Флетчер не задают никаких вопросов, ибо уверены, что не получат никаких ответов. Шекспир испытывает мучительные колебания - Бомонт и Флетчер не сомневаются ни в чем, так как уверены, что в жизни нет ничего прочного. Шекспир по-прежнему заинтересован в реальной жизни - Бомонт и Флетчер ничего хорошего от нее не ждут и потому достаточно к ней равнодушны.
Различное отношение Шекспира и Бомонта и Флетчера к жизни сказывается в самых существенных особенностях их трагикомедий. Разобщенность мира Бомонт и Флетчер принимают как данное: они даже не пытаются пеструю мозаику замкнутых в себе явлений действительности объединить какой-то общей картиной и найти в ней некий внутренний смысл. Значительных проблем они поэтому не затрагивают и ни одну из тех, которых касаются, всерьез не принимают. И драматической целостности добиваются очень просто: туго стягивают вереницу не имеющих внутренней связи, но ярких событий искусно задуманной и блестяще выделанной интригой.
Шекспир и в последних пьесах стремится добраться до сути вещей. В его трагикомедиях сплавляются такие противоречивые тенденции, как свойственное трагикомической фазе ощущение разобщенности мира и отчужденности отдельных его частей - и стремление собрать распадающийся мир воедино, постичь и передать какой-то общий смысл бытия, поколебавшееся, но не утраченное чувство органической взаимосвязи разрозненных элементов действительности. В чисто структурном плане первая тенденция находит отражение в том, что действие разбивается на многочисленные эпизоды и расчленяется на несколько самостоятельных сюжетных линий. Однако организация пьесы в единое целое у Шекспира отнюдь не формальная и не искусственная, как у Бомонта и Флетчера. Правда, неясное представление о жизни не позволяет писателю дать в произведении картину, адекватную действительности. Он обращается к ассоциациям, аналогиям, сравнениям, стремится в сопоставлении различных явлений, в повторяемости сходных ситуаций нащупать и донести какие-то общие закономерности. При всей внешней разбросанности последних пьес единство их более органично, чем единство пьес Бомонта и Флетчера.
Видение действительности в сложных ассоциативных связях у Шекспира и механистичность восприятия действительности у Бомонта и Флетчера проявляются даже в стиле. У Бомонта и Флетчера одна метафора прикладывается к другой, образы нижутся как бусы на нитку и так же свободно рассыпаются. У Шекспира в последних пьесах всегда “гроздь” образов - срастающихся, переплетающихся, друг друга прослаивающих и друг от друга неотделимых. И в таком же сложном единстве существуют прочие художественные компоненты шекспировских трагикомедий: каждая сюжетная линия, каждый эпизод, каждый персонаж, иногда даже отдельные поступки героев и отдельные реплики живут и могут быть правильно поняты лишь в общем контексте всего произведения и зависят от соседних деталей, от тональности предшествующих и последующих сцен, от последовательности появления действующих лиц и т. д. и т. п. Не случайно некоторые критики называли последние пьесы разросшимися поэтическими метафорами. Именно эта особенность шекспировских трагикомедий позволяет говорить об их символичности. Трагикомическое мироощущение по самой своей природе дает богатую почву для оттенков, переходов, двойного освещения, полувыявленных значений, сложных тонов и в конечном итоге для символически поэтического языка. Однако к этому языку не обращается трагикомедия бомонто-флетчеровского типа, ибо ей этот язык недоступен и не нужен: потребность в нем возникает лишь тогда, когда писатель стремится ухватить суть жизненных явлений, но бесконечно усложнившееся и не вполне ясное представление о жизни не позволяет ему прибегнуть к более конкретному выражению своего миропонимания.
Разные позиции Шекспира и Бомонта и Флетчера по отношению к тому, что они изображают, проявляются и в другом, очень важном различии их трагикомедий. У Бомонта и Флетчера зритель до самого последнего момента никогда не знает, хорошо или плохо кончится пьеса. Трагедии и трагикомедии этих авторов нередко отличаются лишь финалом. Все, что является тайной для героев, тайна и для зрителя. Истинное лицо героев неизвестно почти до самой последней сцены. Как и вообще в трагикомедии, у Бомонта и Флетчера персонажи часто переодеваются и оказываются не теми, за кого их принимают. Зритель узнает, кто они такие на самом деле, не раньше, чем действующие лица, то есть, как правило, в конце пьесы. В “Филастере”, например, большую роль во всех перипетиях играет паж Белларио. И только в конце произведения вместе со всеми его персонажами мы узнаем, что это - переодетая девушка, влюбленная в Филастера. И так в любой пьесе Бомонта и Флетчера. У Шекспира, наоборот, зритель всегда знает то, что неизвестно героям (за одним только исключением: в “Зимней сказке” “восстание из мертвых” Гермионы столь же неожиданно для зрителя, как и для действующих лиц). Для Перикла его жена и дочь погибли - для зрителя они живы. Для Постума Имогена - воплощение женской порочности, для зрителя - несчастная жертва подлой клеветы и олицетворение верности. Постум уверен в гибели Имогены - зритель знает, что она невредима. Для Имогены безголовый труп, который она находит близ пещеры Белария, - это тело горячо любимого мужа, для зрителя - останки злобного Клотена. Для всех действующих лиц “Зимней сказки” Утрата - прекрасная пастушка, для зрителя - принцесса, дочь Леонта, и т. д. и т. п. Шекспир полностью использует для самых разнообразных целей те богатые возможности, которые предоставляет неравная осведомленность аудитории и действующих лиц. Важно отметить принципиальное значение этого момента у Шекспира. Это не просто структурная особенность, удачно найденный прием - здесь раскрывается суть своеобразия шекспировской трагикомедии, одно из коренных отличий ее от трагикомедии Бомонта и Флетчера.
У Бомонта и Флетчера зритель находится на одном уровне с героями, у Шекспира - на одном уровне с драматургом. Шекспир создает то отчуждение, ту дистанцию между действующими лицами и аудиторией, которой не существует у Бомонта и Флетчера. Что же происходит в итоге?
Во-первых, поскольку герой данного типа драмы - с ее сложными перипетиями, запутанными ситуациями, необычными происшествиями, хитрым переплетением судеб и случайностей - не способен понять “событий поразительную связь”, то не в состоянии сделать это и зритель Бомонта и Флетчера, который находится в равном положении с действующими лицами. Драматурги об этом и не заботятся: они, как сказано, сами не видят общих жизненных закономерностей и не очень ими интересуются.
Шекспир позволяет своему зрителю охватить все действие в целом, обозреть его с высоты, недоступной герою. Драматург обнаруживает скрытую от персонажей механику происходящего и тем намекает на то, что жизнь - не просто хаотичное сплетение обстоятельств, какой она представляется героям, что какие-то основы, пусть не очень прочные, какие-то законы, пусть не очень ясные, в ней все-таки существуют. И драматург дает возможность зрителю над всем этим задуматься. Ибо его зритель не сосредоточен, как у Бомонта и Флетчера, исключительно на сюрпризах и неожиданностях, на одном только желании узнать, что будет дальше. Хотя Шекспир также не пренебрегает эффектными и волнующими ситуациями, он умеряет их остроту и вместе с тем любопытство публики, поощряя ее любознательность. Он побуждает зрителя обратить внимание не только на интригу, но и на проблемы, которые ставит в своих произведениях. Аудитория шекспировских трагикомедий не горит нетерпением узнать, жива ли Марина, - знает, что жива. Не боится, убьет или не убьет Пизанио Имогену, - знает, что не убьет. Но зато она может внимательно следить за самими переживаниями Перикла во время его встречи с Мариной, за чувствами оскорбленной Имогены, не беспокоясь, останется ли та в живых; у нее есть время поразмыслить над общим ходом событий, изображаемых в пьесе, над тем, что думают и чувствуют герои, как себя ведут.
Драматург как бы подтягивает зрителя до себя, приобщает его к собственной позиции - этической, социальной, философской, житейской.
В свете этой позиции большую, чем у Бомонта и Флетчера, определенность приобретают и герои. “Протеевская изменчивость характера”, как определяют исследователи способность героев Бомонта и Флетчера к самым непредвиденным поступкам, свойственна, как мы видели, сравнительно небольшому числу шекспировских действующих лиц. Но и в отношении этих персонажей Шекспир, приподнимая над ними зрителя, дает ему гораздо большие возможности для четкой нравственной оценки, чем Бомонт и Флетчер в отношении большинства своих действующих лиц, ибо эти драматурги заставляют зрителя попеременно солидаризоваться с разными героями и различными их настроениями и оставляют публику, не знающую до самого конца причин поведения персонажей, в недоумении, что же хорошо и что плохо в их поступках и в жизни вообще. Шекспир придерживается твердых нравственных принципов - моральные критерии Бомонта и Флетчера более расплывчаты и относительны. Шекспир опирается на гуманистические идеалы, ищет поддержки и в народной морали - не случайно, как мы видели, в его последних пьесах столько фольклорных мотивов. (Заметим, кстати, что оригинальность сюжетов Бомонта и Флетчера - для большинства их пьес источники не найдены - не только свидетельство иного творческого склада драматургов, чем у Шекспира, и их способности самостоятельно придумывать интригу, но в данном случае способствует их аристократизму и обособленности от предшествующей, в первую очередь фольклорной, традиции.) Бомонт и Флетчер к идеалам относятся скорее как к бесполезному наследству - идеальность их героев существует часто только для того, чтобы создать видимость драматического конфликта, драматурги не очень-то верят в возможность и необходимость идеального начала и мало пекутся о том, чтобы в это поверил зритель. Когда отступает от идеала герой Бомонта и Флетчера, то отсутствие расстояния между героем и зрителем уравнивает их отношение к идеалу: зрителя приглашают считать это отступление таким же несущественным, каким считает его герой, и в конечном итоге обесценивается сам идеал. Когда же нарушает этическую норму герой Шекспира, то отдаление, созданное драматургом между героем и зрителем, помогает зрителю оценить поведение героя с позиций нарушенной нормы и не вызывает никакого сомнения в ценности самого нравственного принципа.
Таким образом, равное положение шекспировской публики с драматургом, а публики Бомонта и Флетчера - с героями выражает и разные этические позиции писателей.
Дистанция, которую сохраняет Шекспир между своими персонажами и публикой, связана и еще с одной, очень существенной и сугубо индивидуальной, особенностью последних пьес: это один из способов, с помощью которых Шекспир подчеркивает условность всего действия или отдельных его моментов. Условность играла большую роль и в комедии Шекспира. Но там она имела совсем другой характер. Она была составной частью той веселой игры, которую вели персонажи друг с другом и со зрителем. Она была призвана подтвердить давний афоризм “Весь мир - театр”, афоризм, который в атмосфере шекспировской комедии приобретал совершенно определенное значение: жизнь может быть таким же праздником, как наше представление. Условность в комедии помогала стирать грань между жизнью и сценой. Условность в трагикомедии подчеркивает резкую границу между театральным представлением и действительностью. Эта остраненность происходящего - составная часть всей образной структуры шекспировской трагикомедии, призванной дать не зеркальное изображение жизни, но представление о ней путем аналогии.
И более всего условность ощущается там, где в пьесе торжествует идеальное начало. Шекспир слишком серьезно относится к жизни и своему делу, чтобы иллюзии выдавать за правду. Бомонт и Флетчер будут добиваться “видимости реальности”, ибо для них реальность столь же туманна и в конечном итоге столь же безразлична, как и видимость. Шекспир настаивает на том, что видимость в его пьесах не соответствует реальности: идеалы прекрасны, добрые начала должны торжествовать, но пока это лишь мечта, утопия, почти сказка. Счастливые развязки Шекспира и более закономерны, и более условны, чем счастливые финалы Бомонта и Флетчера: закономерны потому, что Шекспир верит в необходимость торжества идеального начала, условны потому, что он не видит реальных возможностей для осуществления своей мечты, сомневается, будет ли когда-нибудь в жизни так, как в финалах его пьес, и не хочет утешать себя и свою аудиторию сладкими сказочками.
Последнее коренное отличие шекспировской трагикомедии также зависит от неравной осведомленности зрителя и персонажа. Когда зритель знает то, что неведомо герою, страдания последнего могут объективно представляться безосновательными и даже смешными, хотя для самого героя они вполне серьезны. Когда Имогена оплакивает труп ненавистного ей, безголового Клотена, принимая его за своего возлюбленного супруга Постума, которого Клотен только что собирался убить, то объективно ее хвалы убитому и проклятия убийце выглядят смешно (недаром это всегда одна из труднейших сцен для театра и для исполнительниц роли Имогены). Но для самой Имогены все это трагично. Зритель вынужден принимать во внимание и точку зрения Имогены, и объективное положение вещей одновременно. Так осуществляется у Шекспира собственно трагикомический эффект.
У Бомонта и Флетчера разные настроения в трагикомедии существуют всегда поочередно, почти никогда одновременно. Комических моментов их трагикомедии зачастую вообще лишены, или эти моменты выделяются в самостоятельную интригу, как в пьесе “Мсье Томас”. Трагикомическое видение в их произведениях выражается главным образом в общих жанровых признаках, но не в трагикомическом эффекте, который, как правило, отсутствует.
У Шекспира же приведенный пример трагикомического звучания - один из самых ярких, но далеко не единственный. Начиная с “Цимбелина”, Шекспир постоянно добивается целостного и полного трагикомического эффекта, то есть действительно симультанного звучания трагического и комического.


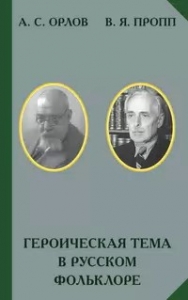

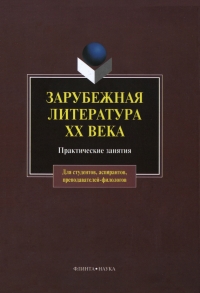
Комментарии к книге «Проблема трагикомедии и последние пьесы Шекспира», И. Рацкий
Всего 0 комментариев