Б. М. Эйхенбаум
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Исследования Статьи
Факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета
2009
УДК 82.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1 Э34
Составление, вступительная статья, общая редакция: проф. И. Н, Сухих
Комментарии: Л. Е. Конешкова, Я. Ю. Матвеева
Эйхенбаум, Б. М.
Э34 Лев Толстой : исследования. Статьи / Б. М. Эйхенбаум; сост., вступ. статья, общ. ред. проф. И. Н. Сухих; коммент. Jl. Е. Кочешковой, И. Ю. Матвеевой. — СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009.— 952 с.
ISBN 978-5-8465-0760-9
В сборник включены четыре книги и основные статьи Б. М. Эйхенбаума о Льве Толстом 1919—1959 гг., представляющие сорокалетний опыт научной работы ученого. В совокупности это одна из самых фундаментальных попыток постижения Толстого. Толстовские штудии позволяют понять эволюцию как самого Эйхенбаума, так и русского формализма классического периода.
Для всех интересующихся историей русской литературы.
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России»
Редактор В. С. Кизил о Корректор Е. П. Васильева Технический редактор С. В. Кузнецов Художественное оформление С. В. Лебединского
© Наследники Б. М. Эйхенбаума, 2009 © И. Н. Сухих, сост., вступ. статья, общ. ред., 2009 © Jl. Е. Кочешкова, И. Ю. Матвеева, коммент., 2009 © Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009 ISBN 978-5-8465-0760-9 © С. В. Лебединский, оформление, 2009
Лицензия ЛП № 000156 от 27.04.99. Подписано в печать 20.09.2008. Формат 70 х 1007i6. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 77,13. Заказ № 336 Факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
Отпечатано в типографии «Нестор-История». 197110, Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21, тел. (812) 622-01-23, e-mail: nestor_historia@list.ru
ТОЛСТОЙ ЭЙХЕНБАУМА: ЭНЕРГИЯ ПОСТИЖЕНИЯ (1919-1959)
Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие душевная подлость.
JI. Толстой — А. А. Толстой, 18-20 октября 1857г.
В жизни кроме труда и сна — ничего не осталось. Без Толстого я бы, вероятно, помер. Он у меня вроде любовницы.
Б. Эйхенбаум — В. Шкловскому, 25 апреля 1932 г.
Борис Михайлович Эйхенбаум (1886-1959) долго выбирал — призвание, профессию, метод, героя1.
Приехав в 1905 году после окончания гимназии из провинциального, но богатого культурными традициями Воронежа в Петербург, он первоначально пошел по семейной стезе (отец и мать были известными врачами). Однако вскоре из Военно- медицинской академии Эйхенбаум переходит на биологическое отделение Вольной высшей школы П. Лесгафта, одновременно посещает музыкальную школу Е. Рап- гофа.
«Я сделался скитальцем — как все неудачные любовники. Простившись с анатомией, я бросился к роялю, но здесь меня ожидали муки, сомнения и новые соблазны. <...> Моя жизнь наполнена безумием и упрямством.<...> Я представитель особой национальности, не встречающейся ни в Китае, ни в Европе. Я — русский юноша начала XX века, занятый вопросом, для чего построен человек, и ищущий своего призвания. Я — странник, занесенный ветром предреволюционной эпохи, эпохи русского символизма, из южных степей в петербургские мансарды».
Эпоха странствий окончилась вполне ожидаемо. «Литература в детстве не была задумана», — признавался Эйхенбаум. Однако, вспомнив хранившуюся дома поэму деда-литератора, он заключает: «Закон наследственности, о котором почему-то не думали мои родители (Лесгафт отрицал его категорически), привел меня в здание 12 коллегий — на историко-филологический факультет Петербургского университета»2.
Эйхенбаум поступил на славянско-русское отделение в 1907 году. Позанимавшись и на отделении романо-германском (новые свои колебания он позднее объяснял как выбор между славянофильством и западничеством), он «вернулся на родину», в Пушкинский семинарий С. А. Венгерова, где впервые увидел Ю. Тынянова, ставшего другом и соратником на всю жизнь. Ко времени окончания университета (1912) молодой филолог уже вполне освоился в культурном мире Петербурга: сочинял стихи (некоторые будут опубликованы в «Моем временнике»), написал статью «Пушкин и бунт 1825 года» (1907), послужил секретарем у своего двоюродного брата, историка М. К. Лемке, определил круг своих научных знакомых (Ю. Н. Тынянов, В. М. Жирмунский, рано умерший Ю. А. Никольский), посещал литературные вечера символистов и футуристов.
Для Эйхенбаума как человека рубежа веков оказались важны некоторые принципиальные установки времени. Выбор профессии был обусловлен не только его индивидуальными предпочтениями или прагматическими соображениями, но пафосом жизнестроения человека символистской эпохи. В письме отцу (22 сентября 1906 г. Эйхенбаум размышляет: «Моя душа требует не только разрешения проблем человеческой жизни, но и изображения их. Рождает вопросы, чувства, мысли и т. д. жизнь; изображает их с возможной яркостью и силой искусство, а решает, объясняет и т. д. наука. Тут неразрывная цепь, величайший союз и единство. И пока существует человек, до тех пор будет искусство как производная жизни». Несмотря на стихи, выбор был сделан в пользу объяснения. «Родные! Спешу порадовать вас еще неожиданной новостью; мне предлагают остаться при унив. <ерсит> ете. <...>0 научной работе я последнее время усиленно мечтаю — у меня и тема есть определенная, большая и для меня очень подходящая. Соединить работу журнальную с научной — мой идеал. Журнальная, по-видимому, пойдет хорошо» (29 октября 1913 г.)3.
Можно долго гадать, как сложилась бы судьба будущего профессора Санкт- Петербургского университета Бориса Михайловича Эйхенбаума. Но жить и работать ему пришлось уже в Петрограде-Ленинграде. История, от которой он до поры до времени пытался отмахнуться («На митингах, вместо того, чтобы быть судьей, я чувствовал себя подсудимым. Меня судили за то, что я не думаю о государстве, за то, что я близорук, что я — человек маленьких провинциальных масштабов. <...> На меня нападала тоска. Петербург — не город, а государство. Здесь нельзя жить, а нужно иметь программу, убеждения, врагов, нелегальную литературу, нужно произносить речи, слушать резолюции по пунктам, голосовать и т. д. Нужно, одним словом, иметь другое зрение, другой мозг. А я хочу просто жить. Не хочу ни вздрагивать, ни показывать кулак и кричать: "Ужо, строитель чудотворный!"»), переломила и эту судьбу.
О главном Эйхенбаум говорит пунктирно, заканчивая автобиографическую часть «Моего временника»:
«Война (за месяц до нее — смерть матери).
Революция (за месяц — смерть отца).
Октябрьский переворот.
Голод, холод, смерть сына.
Жизнь у оконной печки.
Мясо из Дома ученых, ковчег Дома литераторов.
Каюты и палубы ГИЗа, черный ледяной дом Института истории искусств.
Смерть Блока, гибель Гумилева.
Виктор Шкловский, остановивший меня на улице. Юрий Тынянов, запомнившийся еще в Пушкинском семинарии.
ОПОЯЗ.
Это все были исторические случайности и неожиданности.
Это были мышечные движения истории. Это была стихия.
Настало время тратить силы»4.
Первое советское десятилетие он предпочитает тратить силы под знаком ОПОЯЗа.
ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка) — одна из главных филологических легенд советской эпохи. При неясности хронологических границ его существования и размытости персонального состава всегда имел четко определимое ядро (один из современных критиков даже вспоминает о трех мушкетерах). «Опо- яз — это всегда трое», — напишет В. Шкловский Р. Якобсону (16 февраля 1929 г.)5, имея в виду себя, адресата и Юрия Тынянова. Но ведь мушкетеров, на самом деле, было четверо. Четвертым в этом кругу, и не последним по счету, был Эйхенбаум. Именно его статья «Как сделана "Шинель" Гоголя» (авторская дата: февраль 1919г.) стала манифестом и знаменем раннего ОПОЯЗа.
Однако место Эйхенбаума (чуть в стороне — четвертый, не попавший в заголовок) тоже было не случайным. Молодым мушкетерам было легче: дразня академическую науку, они начинали с формализма как безальтернативной реальности. За плечами тридцатитрехлетнего Эйхенбаума (он был на семь лет старше Шкловского, на восемь — Тынянова, на десять — Якобсона) было чтение немецких философов, увлечение романтиками, почти десятилетний опыт литературной работы в духе философско-психологической критики. Он откликнулся на призыв В. Шкловского в духе пушкинского героя: «Не бросил ли я все, что прежде знал, / Что так любил, чему так жарко верил, / И не пошел ли бодро вслед за ним / Безропотно, как тот, кто заблуждался / И встречным послан в сторону иную?»
Той стороной была философская интерпретация искусства и творчества: «В бытии Карамзин видел не предметы сами по себе, не материальность, не природу, но созерцающую их душу. <...> Между его философией и поэтикой — полное соответствие. <...> И можно прямо сказать, что мы еще не вчитались в Карамзина, потому что неправильно читали. Искали буквы, а не духа. А дух реет в нем, потому что он, "платя дань веку, творил и для вечности"»6.
Иной стороной стал провокативный лозунг Виктора Шкловского «Искусство как прием». «Содержание (душа сюда же) литературного произведения равно сумме его стилистических приемов»7.
Эта броская формулировка была фундаментально обоснована и проверена на гоголевской «Шинели», особенно наглядно и бескомпромиссно — в анализе знаменитого «гуманного места»: «У нас принято понимать это место буквально — художественный прием, превращающий комическую новеллу в гротеск и подготовляющий "фантастическую" концовку, принят за искреннее вмешательство "души" Если такой обман есть «торжество искусства», по выражению Карамзина, если наивность зрителя бывает мила, то для науки такая наивность — совсем не торжество, потому что обнаруживает ее беспомощность. Этим толкованием разрушается вся структура "Шинели", весь ее художественный замысел. Исходя из основного положения — что ни одна фраза художественного произведения не может быть сама по себе простым «отражением» личных чувств автора, а всегда есть построение и игра, мы не можем и не имеем никакого права видеть в подобном отрывке что-либо другое, кроме определенного художественного приема. Обычная манера отождествлять какое-либо отдельное суждение с психологическим содержанием авторской души есть ложный для науки путь. В этом смысле душа художника как человека, переживающего те или другие настроения, всегда остается и должна оставаться за пределами его создания. Художественное произведение есть всегда нечто сделанное, оформленное, придуманное — не только искусное, но и искусственное в хорошем смысле этого слова; и потому в нем нет и не может быть места отражению душевной эмпирики»8.
Кажется, что автор статьи не только спорит с наивным зрителем и шедшими у него на поводу прежними интерпретаторами, но и настойчивыми курсивами пытается убедить, загипнотизировать самого себя: «ни одна фраза... не может быть, мы не можем и не имеем никакого права, в нем нет и не может быть места отражению душевной эмпирики».
С другой стороны, обращение в формализм было подготовлено ранним, еще донаучным чтением. В письме родным (4 мая 1910 г.) есть подробный и восторженный отзыв о книге Андрея Белого «Символизм»: «На днях вышла необыкновенно интересная книга статей Андрея Белого — я купил ее и положительно поглощен ею. Главное содержание книги — анализ стихотворного ритма. <...> Это чуть ли не первая настоящая книга по теории слова на русском языке, и я не сомневаюсь, что она сделает эпоху. Все приемы прежней критики — исторической, публицистической, психологической, импрессионистической — должны отойти в сторону или бросить свой отвратительный дилетантизм и войти в состав других более общих наук. А настоящая критика быть эстетической, критикой формы, критикой того, как сделано»9.
Уже здесь присутствуют и модус долженствования, и протест против дилетантизма, и эстетическая доминанта, и словосочетание как сделано, которое через десятилетие станет знаменитым после статьи о «Шинели». Однако все эти свойства могли проявиться благодаря энергии Шкловского, его бескомпромиссной убежденности (объясняемой, помимо прочего, психологией научного дилетанта-изобретателя), что новая наука должна появиться на голом месте, здесь и сейчас.
«Борис Михайлович, пройдя много путей, к тому времени был уже сложившийся филолог, — вспомнит через много лет Виктор Шкловский. — У него впереди была светлая и внятная судьба. Я ему испортил жизнь, введя его в спор. Этот вежливый, спокойный, хорошо говорящий человек умел договаривать все до конца, был вежлив, но не уступал. Он был человеком вежливо-крайних убеждений»10.
В. М. Жирмунский, прочитав первоначальную редакцию воспоминаний трубадура формализма в книге «Жили-были» (1964), дополнил ее своими соображениями. «Глава об Эйхенбауме очень трогательна и душевна и написана почти "пастельными" тонами. Это — хороший памятник, лучшего, я думаю, не будет, хотя будут другие, более казенные и с подобающей научной полнотой. В частности, они скажут яснее и о том, сколь многим Б. М. обязан твоему идейному влиянию. <...> Я до сих пор ясно помню, как в конце лета 1918 г. Б. М. приехал ко мне в Саратов, совершенно взбудораженный и как бы взорванный изнутри обилием новых идей, исходящих от тебя, которые он в то время воспринял буквально как откровение. "Он был человеком вежливо-крайних убеждений" — это замечательно точно. Но то, о чем ты умалчиваешь, вероятно, сознательно, была особая женственная пассивность натуры Б. М., вследствие которой он становился фанатиком "крайних убеждений", зароненных в его сознание воздействием умственной активности духовно близкого ему человека. <...> Так было <...> при решающей для его идейного развития встрече с тобой, и еще раз при встрече с Ю. Н. Тыняновым.
Я всегда изумлялся тому, как сочеталась в творчестве Б. М. эта женская "пассивность" с чрезвычайной яркостью и содержательностью его собственных идей. Возможно, что его оригинальные замыслы были более обращены к конкретной "интерпретации" (как теперь принято говорить на Западе), а опору для этой интерпретации он брал из общих исходных положений, овладевавших его сознанием под влиянием его друзей, по складу ума "теоретиков", идей и общих положений, в которые он веровал фанатически — как в свои»11.
Позднее размышление Жирмунского подтверждается письмом к нему Эйхенбаума, где четко обозначен перелом в его методологических принципах и отмечена решающая роль в нем Виктора Шкловского: «О себе я говорю прямо: я понял, что значит формальный метод, только тогда, когда стал работать в Опо- язе. <...> Сблизившись с Опоязом, я иначе стал мыслить самое понятие "формы" Возникли совсем новые проблемы, новые понятия, новое их соотношение. <...> Я сам некоторое время сопротивлялся тезисам Опояза, но потом почувствовал их органическую силу. Моя статья о "Шинели" Гоголя — вот момент перелома. И только с этих пор я считаю начало работы по "формальному" методу. Ведь когда я писал о Державине <...>, я еще мечтал о построении метода на основе философии Лосского и Франка. Это был просто интерес к вопросам формы. Мне пришлось потом от многого отказаться, на многом поставить крест — это не так легко совершилось. И роль Шкловского здесь — огромная» (19 октября 1921 г.)12.
В этот кризисный период, когда происходит резкое обращение в новую формальную веру, на пути Эйхенбаума впервые появляется Лев Толстой как предмет научных занятий. Любопытно, что ранняя, еще донаучная встреча с ним была вызывающе полемической: «Вчера читал, между прочим, новое произведение Толстого. — 1.0 жизни. 2. Новое жизнепонимание. Боже, что он говорит в некоторых местах! Какая непреоборимая узость, ежеминутное наталкивание на стену, которая не дает ему широты; мысли, порожденные "шумом в собственных ушах", как выразился Михайловский. И манера, вроде того монолога Белинского — окружить себя идиотами и "разбивать" их на целом ряде страниц. Благодаря ему я только яснее, ярче кристаллизую свой взгляд на жизнь» (М. Я. Эйхенбауму, 17 февраля 1906 г.)13. Теперь точка зрения изменилась: от полемики с Толстым-моралистом Эйхенбаум переходит к пониманию Толстого-писателя.
В середине 1918 — начале 1919 года с огромным увлечением пишется большая статья, которая станет вступлением к автобиографической трилогии «Детство». «Отрочество». «Юность». В дневнике тщательно фиксируются использованные источники, ключевые идеи, поиски метода и стиля.
«Скоро надо приступать к статье — "страшно и хорошо". Для меня внутренне — нужно, чтобы эта статья была жизненным делом, а не просто движением пера» (26 июля).
«Важно писать научную работу без научных цитат: чтобы был чистый текст как результат, а вся литература, ссылки, подтверждения — всё в конце» (8 августа).
«Как бы избавиться от иконописания в статье о Толстом! Нужно хорошо сказать о приеме упрощения души и отстранении вещей» (12 августа).
«Сегодня узнал, что приехал Витя Жирмунский. Сейчас же пошел к нему, и сейчас же начались у нас нескончаемые литературные разговоры. <...> Я говорил ему о Толстом. Толковали о своей эволюции — от мистики и философии к поэтике. Дух поколения — он нами движет» (20 августа)14.
Книга Толстого со статьей Эйхенбаума появится в 1922 году. Автор, конечно, не знает, что эта работа свяжет его с Толстым на сорок лет. Как и того, что она останется единственной, где первоначальный замысел реализован полностью, биография великого старца рассказана до конца, до последней финальной точки: «Творчество как бы естественно завершилось. Оставалось разрешить проблему жизни. Она разрешилась уходом из дома и смертью на станции Астапово 7 ноября 1910 года». Другие попытки так и останутся незавершенными.
Из общего очерка вырос «Молодой Толстой» (1922), в котором Эйхенбаум уже не демонстрировал формальный метод, как в статье о «Шинели», а развернул его в концептуальное построение. «Мое счастье, что в ваши годы я попал в разгар революции и при светильне писал "Молодого Толстого"» — напишет Эйхенбаум Шкловскому накануне нового перелома (28 апреля 1928 г.)15.
Эта небольшая книжка оказалась чрезвычайно важной как для автора, так и для истории нашего литературоведения. Обратившись к конкретной и вроде бы достаточно узкой теме, Эйхенбаум попутно затронул множество проблем и предложил решения, которые, часто без ссылки на первооткрывателя, стали опорными в понимании Льва Толстого.
Композиционно книга строится на приеме, кажется, позаимствованном у героя исследования. Анализируя творчество раннего Толстого, постоянно держа в поле внимания его дневники («мелочность»), Эйхенбаум регулярно совершает броски в разные стороны, в отступлениях и попутных замечаниях предлагая как общую схему толстовского творчества, причем не только в структурном, но и в генетическом плане, так и пунктир развития русской литературы от Пушкина до Ремизова и Замятина («генерализация»).
О методе анализа (в предисловии Эйхенбаум предпочитает называть его не формальным, а морфологическим) автор четко заявляет в самом начале, фактически варьируя непримиримый тезис тотального несовпадения искусства и жизни (в данном случае психологической), уже провозглашенный в статье «Как сделана "Шинель" Гоголя»: «Исходя из убеждения в том, что словесное выражение не дает действительной картины душевной жизни, мы должны как бы не верить ни одному слову дневника и не поддаваться соблазнам психологического толкования, на которое не имеем права. <...> К таким документам надо относиться с особенной осторожностью, чтобы не впасть в простую психологическую интерпретацию того, что весьма далеко от чистой психологии. Смешение этих двух точек зрения ведет к серьезным ошибкам, упрощая явление и вместе с тем не приводя ни к каким плодотворным обобщениям»16.
В книге, наряду с общепринятой терминологией поэтики (сюжет, герой, портрет, пейзаж), используются уже разработанные к этому времени концепты формальной школы: остранение, смещение, мотивировка, канонизация, младшая линия. Однако наряду с исследованием поэтики Толстого, «системы его стилистических и композиционных приемов» уже в предисловии на первом месте упомянуто другое — «вопросы о художественных традициях Толстого».
Этот не структурный, а генетический вопрос решается вполне привычным способом: выявлением большого круга европейских и русских писателей — связанных, влиявших, усвоенных — и выведением из него (вполне в духе историко- культурного метода) разных аспектов толстовского творчества. «Толстой больше всего сближается с Карамзиным...»; «Толстой чувствует традицию английского "семейного" романа и, по-видимому, усваивает именно ее...ь\ «есть еще одна интересная черта в работе молодого Толстого, доказывающая, с одной стороны, связь его с сентиментальной школой (Руссо)...»; «здесь, по-видимому, можно видеть влияние "Записок охотника"...»
Аналогично обстоит дело и с анализом поэтики. Опираясь на суждения самого Толстого (точно найденные в его дневнике определения «генерализация» и «мелочность»), привлекая редкие суждения последующих исследователей, Эйхенбаум в анализе дневников, и особенно «Детства», приходит к выводам, которые жестко не связаны с первоначальной концептуальной установкой: дневник как «школа самонаблюдения и самоиспытания», лаборатория всей будущей прозы; композиционная структура «Детства», строящаяся на подробном изображении всего двух дней (и тем самым непосредственно продолжающая «Историю вчерашнего дня»); текучесть героя (называя Чернышевского «одним критиком», Эйхенбаум активно использует изобретенный им термин диалектика души, правда, все время в кавычках, вероятно, несколько дистанцируясь от него); постоянное сочетание точки зрения персонажа и завершающего авторского слова моралиста и проповедника; размывание сюжета потоком подробностей; новая техника пейзажа и портрета.
В итоговых сентенциях регулярно напоминается основной тезис формального (морфологического) метода: даже самые откровенные признания Толстого — лишь литература, а не отражение реального чувства. «Оставляя в стороне чисто психологическую сторону вопроса, формулируем еще раз. В нравственно-философских размышлениях Толстого интересует не столько содержание, сколько сама по себе последовательная строгая форма — он как будто любуется законченностью, стройностью и внешней непререкаемостью, которую приобретает мысль, пропущенная сквозь логический аппарат».
Но последовательно выдержать такую установку не удается. Психологическая, субъективная, личная сторона вопроса не ампутируется бесследно; «соблазн психологического толкования» регулярно напоминает о себе.
Бывает, что «формализм» и «психологизм» сталкиваются в пределах одного абзаца. Цитата из второй главы «Казаков» предваряется вполне беспринципной психологической проекцией: «Творчество вырастает на основе методов самонаблюдения — и в действующих лицах можно все время видеть, как использованы Толстым результаты его самоиспытывания», — а заключается и вовсе безответственным лирическим восклицанием: «Как это похоже на самого Толстого, каким он изображает себя в письмах к брату!» Но обозначенные в предисловии исследовательские вериги заставляют сразу же строго поставить себя на место: «Таких примеров — бесконечное количество, и дело здесь, конечно, не в том, что творчество Толстого есть "отражение" его реальной душевной жизни, а в тожестве метода, который применяется Толстым к самоанализу и к изображению душевной жизни в художественных произведениях».
Ключевое противоречие «Молодого Толстого» увидела — уже в концепции подготовившей его ранней статьи (переизданной в сборнике) — одна из лучших учениц Эйхенбаума, вместе с учителем прошедшая через искушение формальным методом: «В статье Б. М. "Лев Толстой" («Литература», 1927 год) много говорится о "душевном стиле" Толстого. Слово "стиль" поставлено не иначе как для того, чтобы кто-нибудь не подумал, что речь идет о душевном переживании как об источнике творческого воплощения.
Душевный стиль — это особая организация, вернее, искусственное осмысление внутренней жизни, свойственное людям умствующим и литературствующим. Но самое литературно оформленное переживание есть все-таки факт не литературы, а внутренней биографии. Если оказалось необходимым учесть психологические факты этого порядка, то почему не учесть и другие. Еще так недавно в теории имманентного развития открылась первая щель, а уже в эту щель на нас плывут и плывут запрещенные проблемы, а мы стоим, прижавшись к стенке, как княжна Тараканова в каземате...»17
Л. Я. Гинзбург зорко подметила и другое: на фоне интеллигентского цинизма, хвастовства гонорарами («Людей, зарабатывающих 120 р. в месяц, не уважают»), «профессионализма подменных профессий», «дурных привычек и подлых слабостей», среди литературных «имитаторов, спецов, халтурщиков и прихлебателей» — Эйхенбаум выглядел белой вороной. «Борис Михайлович, вероятно, сейчас единственный историк литературы, который с научной целью занимается наукой. Он до сих пор пишет о самом для себя главном; и это выглядит старомодно»18.
Сходное свойство личности Эйхенбаума — старомодную несгибаемость, честность в отстаивании убеждений — фиксирует почти десятилетием раньше, в общем, далекий от него, серьезно полемизировавший с его работами К. Чуковский (запись интересна и как бытовая картинка, столь редкая в мемуарах об ученых): «Был вчера у Эйхенбаума. Маленькая комнатушка, порядок, книги, стол письменный косо, сесть за стол — и ты в уголке, в уюте. Книги больше старинные, в кожаных переплетах — сафьянах. Из-за одного книжного шкафа, из-за стекла — портрет Шкловского, работы Анненкова и ниже — портрет Ахматовой. Он рассказывает о том, что вчера было заседание в институте, где приезжий из Москвы ревизор Карпов принимал от сотрудников и профессоров присягу социальному методу. Была вынесена резолюция, что учащие и учащиеся рады заниматься именно социальными подходами к литературе (эта резолюция нужна для спасения института), и вот когда все единогласно эту резолюция провели, один только Эйх<енбаум>. поднял руку — героически — против "социального метода".
Теперь он беспокоится: не повредил ли институту. Вообще впечатление большой душевной чистоты и влюбленности в свою тему. Намечает он пять, шесть работ и не знает, за которую взяться: за Лескова, за Толстого, за нравоописательные фельетоны 18 и 19 века»19.
Из подробной дневниковой записи самого Эйхенбаума, сделанной за полгода до этого разговора, видно, что уже в 1924 году написание многотомной монографии о Толстом выдвигается в число актуальных задач. «Начинает вырисовываться план будущей работы. Надо, действительно, вернуться к Толстому. Начать теперь же переговоры со Срезневским и пр. о допущении к черновикам и к дневникам (хотя бы в копии). Пользуясь этими материалами, расширить "Молодого Толстого" и довести его до 1862-3 г., листов на 15. Это будет первый том. Потом написать второй том — кончив "Исповедью" Остальное — третий том»20. Позднее планы Эйхенбаума простирались уже до пяти томов, что следует из позднего письма В. Шкловскому21.
Эта работа сопровождалась углубленными занятиями толстовской текстологией (в 1928-1930 гг. Эйхенбаум совместно с К. И. Халабаевым подготовит его пятнадцатитомное «Полное собрание художественных произведений») и начиналась на фоне двух кризисов — биографического и научного.
Для Эйхенбаума (и в этом он — человек эпохи символизма) всегда была необычайно важна мистика дат. Приближавшееся сорокалетие субъективно ощущалось им как очередной рубеж, начало конца. «...Я и в самом деле с трудом обедаю, с трудом живу и с ужасом думаю о будущем. Для меня пришло время, когда люди делают странные поступки — пауза. Мне скоро 39 лет. История утомила меня, а отдыхать я не хочу и не умею. У меня тоска по поступкам, по биографии. <...>
Никому сейчас не нужна не только история литературы, и не только история, но и сама "современная литература": сейчас нужна только личность. Нужно человека, который строил бы свою жизнь. Если слово, то — слово страшной иронии, как Гейне, или страшного гнева. Все прочее может пригодиться только для юбилея Академии наук — это знают даже издатели.
Я пишу тебе под страшный шум деревьев — над нами несется какой-то ураган. Вот такой шум у меня в душе» (В. Шкловскому)22.
Поднять руку — единственному — против социологического метода, демонстрируя верность уже беспощадно критикуемому и разоблачаемому формализму, — было поступком. Но таким же поступком оказался пересмотр прежних методологических убеждений
Уже с середины двадцатых годов Эйхенбаум жалуется на засилье эпигонов, на то, что больше не может «ни говорить, ни читать о "композиции"» и хочет «бежать в сторону от всех этих "морфологий"»23. Выходом из методологического тупика ему видится идея «литературного быта». Запланированная теоретическая книга так и осталась неосуществленной. Но ее первоначальным наброском, предварительным планом оказалась замечательная статья «Литературный быт» (первоначальное заглавие — «Литература и литературный быт», 1927).
Любопытно, что в этой работе нет ни прежних определений «формальный метод» или даже «морфологический метод», ни понятий, которые привычно связывались с формализмом и были систематизированы в статье «Теория формального метода» (1926): прием, функция, мотивировка, сюжет, сказ и др. Эйхенбаум предлагает относиться к прежней теории как «рабочей гипотезе» и, внешне не отказываясь от нее, выстраивает совершенно иную систему координат, апеллируя, как и раньше, к опыту современности. «Современное положение нашей литературы ставит новые вопросы и выдвигает новые факты».
Главная же проблема современности видится как едва ли не парафраз того конфликта, той ситуации личного кризиса, которая была обозначена в цитированном письме Шкловскому (причем и в статье он прямо связывается с десятилетним циклом литературных поколений). «Литературная эволюция, еще недавно так резко выступавшая в динамике форм и стилей, как бы прервалась, остановилась. Литературная борьба потеряла свой прежний специфический характер: не стало прежней, чисто литературной полемики, нет отчетливых журнальных объединений, нет резко выраженных литературных школ, нет, наконец, руководящей критики и нет устойчивого читателя. Каждый писатель пишет как будто за себя, а литературные группировки, если они и есть, образуются по каким-то "внелитературным" признакам, — по признакам, которые можно назвать литературно-бытовыми. Вместе с тем вопросы технологии явно уступили место другим, в центре которых стоит проблема самой литературной профессии, самого "дела литературы" Вопрос о том, "как писать", сменился или, по крайней мере, осложнился другим — "как быть писателем". Иначе говоря, проблема литературы как таковой заслонилась проблемой писателя»24.
«Верните мяч в игру», — будет взывать поздний Шкловский, критикуя «антироман» — «игру без цели», «теннис без мяча» — почему-то на примере фильмов Феллини, Пазолини и Антониони (из его «Фотоувеличения» позаимствован исходный образ).
«Пишутся стихи о том, как стихотворение пишется.
Роман о романе, сценарий о сценарии.
Играют в теннис без мяча, но путешествия и Гильгамеша, и Одиссея, и Пантагрюэля, и даже Чичикова — должны иметь цель.
Верните мяч в игру.
Верните в жизнь подвиг.
Верните смысл движению, а не смысл достижения рекорда»25.
Через «литературный быт» Эйхенбаум возвращает в теорию автора, а заодно и реабилитирует историю литературы («История литературы заново выдвигается — не просто как тема, а как научный принцип»), но не в прежнем ее виде, как конгломерат разнородных исторических, биографических, психологических фактов, нанизанных на линейку хронологии, но в ином, тоже конструктивном, структурном понимании.
Четко разделяя литературную эволюцию и генезис, Эйхенбаум считает центральным «вопрос о значении многообразных исторических связей и соотношений». Однако он отрицает два напрашивающихся и активно присутствующих в науке 1920-х годов варианта историко-литературного исследования: «анализ произведений с точки зрения классовой идеологии писателя (путь чисто психологический, для которого искусство — самый неподходящий, самый нехарактерный материал) и причинно-следственное выведение литературных форм и стилей из общих социально-экономических и хозяйственных форм эпохи (напр., поэзия Лермонтова и хлебный вывоз в 30-х годах), — путь, который неизбежно лишает литературную науку и самостоятельности, и конкретности и менее всего может быть назван "материалистическим"». (Здесь к месту оказывается столь редкая у Эйхенбаума двадцатых годов философская ссылка: рассуждения о диалектике из письма Энгельса.)
Литературный быт видится Эйхенбауму не обязательно объясняющим контекстом, а, скорее, исторически меняющимся проблемным полем, находящимся с писательским сознанием в отношениях взаимной координации. «Литература, как и любой другой специфический ряд явлений, не порождается фактами других рядов и потому не сводима на них. Отношения между фактами литературного ряда и фактами, лежащими вне его, не могут быть просто причинными, а могут быть только отношениями соответствия, взаимодействия, зависимости или обусловленности. Отношения эти меняются в связи с изменениями самого литературного факта (см. статью Ю. Тынянова "Литературный факт" в "Лефе", 1924, № 2), то вклиниваясь в эволюцию и активно определяя собою историко-литературный процесс (зависимость или обусловленность), то принимая более пассивный характер, при котором генетический ряд остается "внелитературным" и как таковой отходит в область общих историко-культурных факторов (соответствие или взаимодействие). Так, в одни эпохи журнал и самый редакционный быт имеют значение литературного факта, в другие такое же значение приобретают общества, кружки, салоны. Поэтому самый выбор литературно-бытового материала и принципы его включения должны определяться характером связей и соотношений, под знаком которых совершается литературная эволюция данного момента»26.
Солидарная ссылка на друга-опоязовца и соратника-формалиста не должна заслонять существенного различия в их новых теоретических поисках. «Литературный быт» в смысле Тынянова оставался феноменом внутрилитературным, он понимался как периферийная копилка форм и жанров, актуализирующихся в следующую эпоху. «Чем "тоньше", чем необычнее явление, тем яснее вырисовывается новый конструктивный принцип. Такие явления искусство находит в области быта. Быт кишит рудиментами разных интеллектуальных деятельностей. По составу быт — это рудиментарная наука, рудиментарное искусство и техника; он отличается от развитых науки, искусства и техники методом обращения с ними. "Художественный быт" поэтому, по функциональной роли в нем искусства, нечто отличное от искусства, но по форме явлений они соприкасаются»27. Далее приведены конкретные примеры: письмо из бытового документа превращается в литературный факт в пушкинскую эпоху; в «наши дни» «своеобразным литературным произведением, конструкцией» становятся газеты, журналы и альманахи.
У Эйхенбаума понятие «быт» смещается в область «культурно-бытового» материала: «журнал и самый редакционный быт» (то есть журнал — уже на жанр, а коммерческое предприятие или культурный институт), общества, кружки, салоны. И приводимые им «иллюстрации к понятию литературного быта» тоже принадлежат к другому ряду: переход Пушкина к журнальной прозе как симптом профессионализации писательского труда, успех книготорговли Смирдина, споры о «заказе» и «халтуре».
Замечено, что «с начала 1928 г. замысел книги Э<йхенбаума> о лит <ературном> быте все более и более втягивается в книгу о Толстом, пронизанную "литбытовой" проблематикой»28. Имя Толстого мимоходом упоминается и в «Литературном быте» как раз в связи с проблемой писательской профессионализации: «Отношение к вопросу о литературном профессионализме приобретает принципиальное значение и отделяет одни писательские группы от других. Характерным и значительным в литературном смысле оказывается теперь обратный процесс: выход из литературной профессии во "вторую профессию", как это было у Толстого, у Фета. Ясная Поляна, в которой замкнулся Толстой, противостояла тогда редакции "Современника", с кипевшей в ней литературной жизнью, как резкий бытовой контраст, как вызов писателя-помещика писателю-профессионалу, "литератору" (каким стал, например, Салтыков). Можно сказать, что роман "Война и мир" явился вызовом не только по отношению к журнальной беллетристике того времени, но и по отношению к "журнальному деспотизму", на который в 1874 г. И. Аксаков жалуется Н.Лескову: "Полагаю, что довольно только знакомить читателей, посредством журналов, с началом труда, а потом подавать его отдельно. Так сделал граф Лев Толстой с своим романом"»29.
Неожиданный план-конспект будущего исследования (включая так и не написанные последние тома) вдруг обнаруживается в первых двух абзацах статьи «Писательский облик М. Горького» (опубликована 30 декабря 1927 г.).
«Львом Толстым закончился не только целый период русской литературы, идущий от 40-х годов, но и нашел свое предельное выражение облик русского писателя XIX века. Ясная Поляна была последним убежищем этой могучей династии. Уход Толстого был не только семейным, но и социальным актом — отречением от своей власти в предчувствии новой эпохи.
Уже с 70-х годов русская литература стала терять свое прежнее исключительно высокое положение. Толстой сохранял свою власть тем, что ушел от журналов с их редакционной суетой и полемикой, и сделал свою Ясную Поляну неприступной литературной крепостью, а себя — литературным магнатом, не зависящим от редакторов, издателей, книжного рынка и др. Это было последнее усилие русского писателя сохранить свое значение — значение «властителя дум»30.
Но на пути от «Литературного быта» к Толстому происходит еще один важный теоретический сдвиг. В предисловии к первому тому появляется обобщающая категория, резко меняющая перспективу: «"Литературный быт" частично привел меня к изучению биографического материала, но под знаком не "жизни" вообще ("жизнь и творчество"), а исторической судьбы, исторического поведения. Таким образом, биографический "уклон" явился как борьба с беспринципным и безразличным биографизмом, не разрешающим исторических проблем. <...> От этих проблем и работ я и вернулся к мысли — написать книгу о Толстом с новым материалом в руках. Литературная позиция и самая судьба Толстого, всю жизнь боровшегося с литературно-бытовым укладом своего времени, должна предстать в новом свете, если использовать биографический материал для разрешения определенных проблем (например, история писания "Казаков" на фоне литературного соперничества с братом Николаем)».
Ключевыми в этом пассаже являются не ссылки на литературно-бытовой уклад и литературное соперничество (это как раз продолжение «примеров» из «Литературного быта»), а объемлющее их понятие исторического поведения, исторической судьбы. «Быт», таким образом, подвергается обобщению и превращается в Историю. В россыпи «беспринципных» биографических фактов (жизнь и творчество) исследователь должен обнаружить знаки судьбы. А историческое поведение, формы реакции писателя на историю оказывается искомым сюжетом историко-литературного построения.
Морфология литературы (с нее начинался формализм) превращалась таким образом в морфологию культуры, центром которой оказывался писатель, пропускающий через себя, как кит планктон, семейные конфликты, социальные проблемы, прочитанные книги, превращающий их в семантическую парадигму произведения.
Из писателей XIX века для проверки подобной концепции-гипотезы идеально подходил лишь Лев Толстой (и отчасти Лермонтов — другой любимый объект исследований Эйхенбаума).
Толстой прошел почти через весь XIX век, через все его эпохи (кроме пушкинской), потому именно в его биографии можно было увидеть самые разные исторические наслоения, сломы, формы исторического поведения.
Толстой активно строил свою жизнь, причем этапы его «литературной карьеры», сопровождались регулярными побегами в разные сферы быта, обращением ко «второй профессии» — то военного, то русского помещика, то учителя, то моралиста-проповедника.
Толстой много размышлял об истории и сам превратил историю в роман, следовательно, здесь особенно наглядным становится механизм этой трансформации.
Толстой в конце концов вышел победителем из борьбы с историей, поэтому его путь, его историческое поведение оказывались важным уроком современности, существенным (пусть и прямо не формулируемым) личным, биографическим стимулом.
Обращение к «литературному быту» под интегралом истории было разрешением одного фундаментального противоречия, которое Эйхенбаум и его главные соратники, мушкетеры формализма, кажется, до поры до времени не осознавали.
Вернемся ненадолго назад, в эпоху «бури и натиска», когда формализм уже не только определился в своих принципиальных установках, но и приобрел ревностных сторонников и последователей. К. Чуковский рассказывает об одном диспуте после (как говорили через полвека) «квартирника», научного доклада на квартире какого-то доктора. Рассказ предваряют колоритные детали зимы девятнадцатого года: Гумилев привозит своей второй жене из Бежецка полфунта крупы в подарок, а Чуковский дает ему взаймы 36 поленьев; приходит Мережковский в изумительной шубе и собольей шапке, жалуется, хочет уехать из Питера; вместе они идут на доклад Блока о музыкальности и цивилизации; поэт в фуфайке, «при всяком слове у него изо рта — пар», читает, а «несчастные обглоданные люди — слушают о том, что у нас было слишком много цивилизации, что мы погибли от цивилизации».
После этого доклада-пророчества автор дневника оказывается на другом заседании. «Там Жирмунский читал свой доклад о "Поэтике" Шкловского. Были: Эйхенбаум в шарфе до полу, Шкловский (в обмотках ноги), — Сергей Бонди, артист Бахта, Векслер, Чудовский, Гумилев, Полонская с братом и др. Жирмунский произвел впечатление умного, образованного, но тривиального человека, который ни с чем не спорит, все понимает, все одобряет — и доводит свои мысли до тусклости. Шкловский возражал — угловато, задорно и очень талантливо. Векслер (слушательница литературных курсов. — И. С.) заподозрила Жирмунского, что он где-то упомянул душу писателя — и сделала ему за это нагоняй. Какая же у писателя душа? К чему нам душа писателя? Нам нужна композиционная основа, а не душа. — Теперь все эти девочки, натасканные Шкловским, больше всего боятся, чтобы, не дай Бог, не сказалась душа»31.
Парадокс раннего формализма в том, что на этой стадии литература и наука как бы поменялись местами. «Натаскивали» на формализм, сводили «душу» к «сумме стилистических приемов» люди с обостренным чувством авторства, все время обнаруживающие личную, интимную связь с материалом, совсем не обязательную и не характерную для академического научного исследования.
«Он существует не только как автор, а скорее как литературный персонаж, как герой какого-то ненаписанного романа — и романа проблемного. В том-то и дело, что Шкловский — не только писатель, но и особая фигура писателя. <...> В другое время он был бы петербургским вольнодумцем, декабристом и вместе с Пушкиным скитался бы по югу и дрался бы на дуэлях; как человек нашего времени — он живет, конечно, в Москве и пишет о своей жизни, хотя, по Данте, едва дошел до середины»32, — эффектно поставит Эйхенбаум соратника и друга в лестный исторический ряд больших людей и настоящих писателей.
Но почти одновременно в конспекте речи о Мандельштаме (1933) появляется совершенно «морфологическая» формулировка: «Смерть Маяковского и Есенина была смертью систем с их главными жанрами — одой и элегией»33.
Это почти буквальный повтор основной мысли тыняновской заметки-некролога «О Маяковском. Памяти поэта» (1930): «Он вел борьбу с элегией за гражданский строй поэзии, не только внешнюю, но и глухую, внутри своего стиха, "наступая на горло собственной песне"»34.
Чернышевский когда-то убеждал Некрасова, что люди стреляются и вешаются не от мировых вопросов, а по причинам более конкретным и личным. Принудительная логика формального метода («не можем и не имеем права») отказывала Гоголю или Маяковскому в том, что фактически узурпировали Шкловский или Эйхенбаум. Литературовед-исследователь превращался в литературного героя с биографией и психологией, одновременно утверждая, что наука должна признать своим единственным «героем» — «прием» (Р. Якобсон).
Совсем в другую эпоху, как раз в год, когда была окончена третья книга «Льва Толстого», Шкловский написал Эйхенбауму: «Итак, дружны мы с тобой, и даже ссорились лет 25. Шло время, построили мы науку, временами о ней забывали, ее заносило песком. Ученики наших учеников, ученики людей, которые с нами спорят, откроют нас. Когда будут промывать библиотеки, окажется, что книги наши тяжелы, и они лягут, книги, золотыми, надеюсь, блестками, и сольются вместе, и нам перед великой русской литературой, насколько я понимаю дело, не стыдно»35.
Если бы это стихотворение в прозе прочел человек, в шестнадцатом году открывший формализм брошюрой «Искусство как прием», а в девятнадцатом выступавший в дискуссии и слушавший отповедь курсистки Жирмунскому, он, наверное, съехидничал бы. Сколько пышных фраз, какое риторическое банальное гуманное общее место! Этот текст сделан на развернутой метафоре золотодобычи, осложненной строительной метафорой и использованием абстрактных определений. Вы появились, чтобы заменить цензуру на цезуру (шутка Томашевского) — только и всего. Старшая линия уходила гулять под паром, требовалась смена языка описания, выполнить эту назревшую задачу должен был — какая разница — хоть Шкловский, хоть Орловский!
Смысл «энергии заблуждения» Эйхенбаума и его теоретических поисков второй половины двадцатых годов, кажется, лучше всего поняла и описала Л. Я. Гинзбург.
«Старые опоязовцы умели ошибаться. Как все новаторские движения, формализм был жив предвзятостью и нетерпимостью. Имеет ли смысл сейчас методологическое злорадство: ага, они отрекаются от старых ошибок, от ошибок, на которые я (такой-то) указывал еще в таком-то году. Так вот, в таком-то году (например, в 1916-м) ошибки, будучи ошибками, еще были экспериментом. Наряду с понятием рабочей гипотезы следовало бы ввести понятие рабочей ошибки. <...> Борис Михайлович еще недавно отстаивал пресловутую теорию имманентного развития литературы не потому, что он был неспособен понять выдвигаемую против нее аргументацию, а потому, что хотел беречь свою слепоту, пока она охраняла поиски специфического в литературе. <...> Сейчас несостоятельность имманентного развития литературы лежит на ладони, ее нельзя не заметить. Если этого не замечали раньше, то потому, что литературные теории не рождаются из разумного рассуждения. Казалось бы, под влиянием правильно построенной аргументации противника методы исследования могут замещаться другими. Так не бывает — литературная методология только оформляется логикой, порождается же она личной психологией в сочетании с чувством истории. Ее, как любовь, убивают не аргументацией, а временем и необходимостью конца. Так пришел конец имманентности»36.
Через несколько десятилетий Гинзбург делает важное наблюдение-догадку: «Историко-литературные работы удаются, когда в них есть второй, интимный смысл. Иначе они могут вовсе лишиться смысла»37. Она становится ключом к объяснению эволюции Эйхенбаума и его толстовского цикла в позднем итоговом эссе «Проблема поведения. Б. М. Эйхенбаум» (1989): «Для Эйхенбаума на одном полюсе историзма — поведение героев его научных книг. <...> На другом полюсе — поступки самого ученого, литератора, личности.
Историко-литературным работам особую динамичность придает их подспудное личное значение, скрытое отношение к жизненным задачам писавшего. У больших научных трудов Бориса Михайловича Эйхенбаума был свой интимный смысл — проблема исторического поведения личности»38.
То, что даже соратникам казалось компромиссом, отступлением, уступкой обстоятельствам, на самом деле было попыткой привести в соответствие личное самоощущение и научные принципы, понять собственную жизнь и объект исследования, писательскую биографию в одной системе координат, под знаком отношений с историей. «Все мучаюсь над вопросом о том, как написать мне книгу о Толстом, чтобы для меня она имела значение. <...> Единственное — построить всю книгу на одной проблеме, которую проследить на Толстом. И проблему эту я чувствую — это, конечно, вопрос об эволюции, о поколениях, об историческом Толстом (с литературным бытом и пр.)...»39
Новой идеей-гипотезой, объясняющей эволюцию Толстого, стала борьба с современностью с позиций чудака-архаиста (в самых поздних работах — наследника декабристских и социально-утопических идей). Она декларирована на первой же странице первой книги: «Толстой — воинствующий архаист, отстаивавший в середине XIX века принципы и традиции уходящей и частью ушедшей культуры XVIII века. Это — глубоко-историческое и знаменательное явление. "Ясная Поляна" — не только поместье, но и место хранения традиций, противопоставляемых новой петербургской "цивилизации", опытное поле для культивирования этих традиций и навыков, идеологическая крепость, за стенами которой живет особо организованный на соединении самых разнообразных принципов, причудливый в своей противоречивости, архаистический в своей основе мир, созданный отчасти воображением, отчасти упорством Льва Толстого. Это — не столько "дворянское гнездо", сколько восстановленная его модель, только издалека кажущаяся точной копией. И сам Толстой — не столько идеолог, сколько мемуарист, полемически настроенный к чуждой ему "современности", но в то же время понимающий ее историческую неизбежность и силу. Самое искусство для него — замена чего-то другого, уже невозможного: не профессия, не "артистическая" специальность, а одно из дел, явившееся взамен других и наряду с другими. В другом веке, в другой эпохе Толстой был бы, конечно, не писателем. В этом — особая его власть, особая сила, выделяющая его среди всех других явлений русской литературы второй половины XIX века».
Метафоры войны, сражения постоянно возвращаются, создавая сквозной пунктирный «сюжет», подтверждая самонаблюдение Эйхенбаума в процессе работы над первым томом: «Пишу странно — совсем не так, как раньше: в стиле полубеллетристики или мемуара»40.
Иногда автор переходит к внутренней точке зрения, превращая текст почти в чистую беллетристику: «В редакции "Современника" — событие. Среди писателей- интеллигентов, уже давно изучивших друг друга и успевших друг другу порядочно надоесть и много раз поссориться и помириться, появилось новое лицо — молодой офицер и граф, двадцатисемилетний Лев Толстой. Герой Севастопольской обороны, граф Толстой делает смотр русской литературе. <...> В редакции "Современника" закипает настоящая, хотя и в миниатюрном виде, гражданская война. Толстой, еще не сбросивший с себя военной формы, попадает с одного фронта на другой. Он ведет себя тут таким же "баши-бузуком" — и бой, при его участии, принимает серьезный, артиллерийский характер».
Однако такие беллетристические вкрапления сравнительно немногочисленны. В книгах преобладает научный дискурс, демонстрация материала: сопоставление источников, поиск влияний, разбор критических статей (некоторые, малоизвестные, приводятся полностью). Причем гипотеза «борьбы с историей» ведет к непривычным биографическим и аналитическим пропорциям: о князе Урусове в книге говорится больше, чем о С. А. Толстой, а эпиграф к «Анне Карениной» анализируется подробнее, чем остальной текст.
Аналитические фрагменты занимают в книге довольно скромное место (причем в третьем томе таких анализов больше). Они, как правило, возникают в начале или в конце «бытовых» разделов и как будто представляют конспект будущих «специ- фикаторских» глав о «Казаках», «Войне и мире» или «Анне Карениной». Но этот конспект так четок по мысли, так насыщен, что по нему легко восстановить, кажется, опущенные, а на самом деле — еще не существующие звенья.
В начале разговора об «Анне Карениной» используется характерная для Эйхенбаума двадцатых годов терминология (сделано, влияние, преодоление, борьба), но завершается пассаж напоминанием об авторе-демиурге, создателе сделанной вещи, субъекте борьбы и влияний. «Роман поначалу кажется сделанным по европейскому образцу, чем-то вроде сочетания традиций английского семейного романа и французского "адюльтерного" <...> Французские критики, в известном смысле, правы, когда они видят в "Анне Карениной" следы изучения Толстым французской литературы — Стендаля, Флобера; но, увлекаясь патриотизмом, они не видят главного — того, что "Анна Каренина" (не говоря о русских традициях, восходящих к Пушкину, о чем речь впереди) представляет собой не столько следование европейским традициям, сколько их завершение и преодоление. Однако это получилось не сразу. История создания "Анны Карениной" есть история напряженной борьбы с традицией любовного романа — поисков выхода из него в широкую область человеческих отношений. Роман скрывает в себе большое внутреннее движение: это не простое единство, а единство диалектическое, явившееся результатом сложных умственных процессов, пережитых самим автором».
Позднее сформулирована исследовательская доминанта — как проекция главной гипотезы монографии: «Центральная проблема романа — проблема отношения к жизни, к действительности, проблема поведения и связанная с нею проблема "дурного", проблема виновности, волновавшая Толстого до конца жизни ("Нет в мире виноватых")».
В итоговом пассаже интерпретация эпиграфа перерастает в формулировку общего смысла книги, причем в стиле свободного размышления, почти без всякого использования специальной терминологии (упоминание М. Алданова объясняется ранее цитированной его книгой «Толстой и Роллан»). «Итак, эпиграф относится к судьбе Анны и Вронского. "А как же Бетси Тверская и Степан Аркадьевич? — спросит читатель, прочитавший книгу М. Алданова. — Почему же они продолжают жить припеваючи?" Это вопрос человека, обсуждающего роман Толстого с юридической точки зрения, а не по существу. Толстой не был юристом и писал свой роман не для юридической науки. Тут нет "состава преступления", — и ни прокурорам, ни защитникам делать с этим романом нечего. Тут — проблема высшей этики. Бетси Тверская и Степан Аркадьевич, как и все светское общество, живут вне всякой этики или морали и потому стоят вне этой проблемы. Анна и Вронский стали подлежать собственному моральному суду ("вечному правосудию") только потому, что они, захваченные подлинной страстью, поднялись над этим миром сплошного лицемерия, лжи и пустоты и вступили в область человеческих чувств. Там, где есть
Левин, Анна и Вронский, Толстому и его богу незачем возиться с Бетси Тверской и прочими "профессиональными грешниками": они существуют в романе как реальное социальное зло, которое подлежит суду история. Толстой, как настоящий реалист, написал не нравоучительный роман на тему "о высшей справедливости", а нечто совсем иное, и его эпиграф нельзя понимать ни как проповедь мещанской морали, ни как речь спутавшегося юриста, начавшего с обвинения, а кончившего защитой».
Первые две книги о Толстом (третью читали уже совсем другие современники, если мерить эйхенбаумовскими десятилетними циклами — люди третьего поколения, внуки) вызвали не только привычную критику со стороны, но и скептические отзывы соратников-опоязовцев41. Их общий знаменатель: беллетризация, слишком хорошо написано («Боре нужно написать роман про Толстого. Для этого из его статей нужно выскоблить кавычки»; Шкловский — Тынянову) и методологический эклектизм, уход от «прекрасной ясности» раннего формализма («Борис Михайлович в последних работах разложился до эклектизма. Его лит. быт — вульгарнейший марксизм»; Шкловский — Якобсону).
Интегрированный по аргументам (по тону же — доброжелательно-иронический) отклик о труде Эйхенбаума остался в методической работе Г. А. Гуковского (совсем скоро он вместе с Эйхенбаумом будет изгнан из университета и погибнет). «Вот два тома труда Б. М. Эйхенбаума "Лев Толстой": в этой книге идет речь о Льве Толстом (как говорит и ее название), но не о произведениях Льва Толстого, а об идеях Льва Толстого, выраженных в любом проявлении его мысли, кроме как в художественных образах.
Это — биография, глубокая, тонкая, блестяще написанная, но — биография, а не исследование творчества. Как-то сам Б. М. Эйхенбаум со свойственным ему тонким остроумием говорил о том, что Левин в "Анне Карениной" все-таки не Толстой, — между ними одно различие, всего одно, но какое! Левин делает и думает совсем то же, что делал и думал Толстой, кроме одного: он не написал "Войны и мира". В труде Б. М. Эйхенбаума Толстой написал "Войну и мир". Но это не та "Война и мир", которую мы все знаем. Это — не роман, а рассуждение об истории, не подымающееся над уровнем идей Урусова. Б. М. Эйхенбаум рассказал нам о Левине, а не о Льве Толстом, об Урусове, но не о Толстом; о человеке-чудаке, а не о гении-писателе. Это почти роман, но не книга по истории литературы»42.
Совсем скоро обнаружилось, что в этом историческом споре прав был, скорее, автор «Льва Толстого», а не его оппоненты. Дело даже не в том, что вскоре Виктор Борисович Шкловский поставит «Памятник научной ошибке» (Эйхенбаум публично никогда не каялся в своих формальных «заблуждениях»). Написанная одновременно с первыми томами «Льва Толстого» книга Шкловского «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого "Война и мир"» (1928) в гораздо большей степени заслуживала упреков в вульгарнейшем марксизме и эклектизме. Критики сразу же поймали автора на неумении держать «марксистскую ложку», потому что «его держит за фалды старый Опояз». Совмещение несовместимого, затушеванное личным тоном, «атакой стилем» стало характерной чертой поздних работ Шкловского. «Его мышление как бы распадалось на две несовместимые (у него) сферы — одну "формальную", другую — нет. <...> Раздвоенность стала привычной»43.
Тынянов вроде бы выходит из формальной эпохи тем путем, который рекомендовал Эйхенбауму Шкловский: разделением науки и беллетристики, скачком от документа, исследования к роману. Как исторический романист он находит свою манеру, быстро приобретает авторитет и высокий социальный статус. В тридцатые годы в ленинградском Союзе писателей он вместе с Чуковским, Зощенко, Маршаком получает гонорары по высшей, седьмой, категории. «Юрия Николаевича я давно не видал: мы с ним "разошлись". Он обиделся на меня за то, что я не порвал деловых отношений с одним литературоведом, с которым у него была квартирная ссора. Это — повод, а причина, конечно, глубже. Он стал "литературным аристократом", а я остался чернорабочим. Мы как-то оказались в разных "классах" Ничего не поделаешь!»44 — вздохнет Эйхенбаум в письме знакомому редактору.
Однако возвращение Тынянова к научной работе тоже оказалось методологически неотрефлексированным. Статьи о Кюхельбекере и «Безыменная любовь» трудноотличимы от беспринципного биографизма академического литературоведения, скорректировать который была призвана теория литературного быта.
В книгах о Толстом, отталкиваясь от теории литературного быта и сублимируя опоязовский панэстетизм, Эйхенбаум пробовал создать новый научный жанр, предлагая в качестве рабочей гипотезы мысль о Толстом как художнике собственной жизни, главным мотивом которой была борьба с историей с позиций принципиального архаиста.
«Эйхенбаум исследует толстовское творчество и поведение в единстве их методологии. Отсюда, вопреки установкам раннего ОПОЯЗа, интерес к биографии автора, понимаемой как "личная жизнь в истории" (формулировка Г. Винокура в его книге «Биография и культура»). Позднейший монументальный труд Эйхенбаума о Толстом — это своего рода творческая биография, изображение и исследование всего того, внешнего и внутреннего, что служило материалом творчеству. И это уже на самом широком социально-историческом фоне»45, — описывает специфику этого жанра JI. Я. Гинзбург.
Традиционным методологически неопределенным жанрам историко-литературного исследования и эмпирической биографии, биографии-хроники (в пределе — летописи жизни и творчества), которые привычно складывались в критико-биогра- фический очерк, монографию о «жизни и творчестве», была противопоставлена конструктивная биография у биография-гипотеза, биография с идеей, пределом которой мог бы стать (но не становится) биографический роман.
Конечно, в этих работах видны и «следы инструмента», в отсутствии которых упрекал автора Шкловский, и сопротивление материала. Проблематичными остаются как соотношение ингредиентов (собственно биография, творческая история, критика, анализ текста), так и конкретные утверждения Эйхенбаума (роль того же князя Урусова или степень зависимости толстовской эпопеи от трактата Прудона «Война и мир»). Но принципиальна сама гипотеза, идеальный образ жанра, жанровая модель: в центре творческой (конструктивной) биографии оказывается писатель-творец, создающий из своей жизни судьбу («жизнестроение»), а разноплановый, бомбардирующий его сознание «литературный быт» превращающий в особую эстетическую версию бытия (художественный мир).
Предвестием, структурным аналогом этого жанра можно, пожалуй, назвать монографию А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения» (1904), где рабочая гипотеза единства жизни и творчества поэта — тоже принципиального архаиста, но на совершенно иной основе — формулируется уже во введении: «Годы проходили мимо него, как столетия мчались мимо
Странствующего Жида: пролетела пушкинская пора, байронизм, реализм и то, что называется русским романтизмом: все это скользнуло по нем, а он все тот же. Менялись предметы его привязанностей, не менялось чувство в сознании испытанной любви и дружбы, облагородившей его душу. Прошлое овладело настоящим: царило воспоминание. <...> Будущий биограф поэта будет без сомнения богаче меня фактами, либо неоткрытыми доселе, либо не подсмотренными мною. Последней возможности я не отрицаю, но для меня всего важнее вопрос: угадал ли я общее настроение, ответил ли требованиям объективности беспристрастным выбором материала, представляющим читателю выводы и оценки? К этой объективности я стремился. Сознаю, что всецело она недостижима. Я старался направить анализ не столько на личность, сколько на общественно-психологический тип, к которому можно отнестись отвлеченно, вне сочувствий или отвержений, которые так легко заподозрить в лицеприятии»46. Как рабочая гипотеза исследования (угадываемая), так и противопоставление его традиционной биографии (направить анализ на общественно-психологический тип) четко фиксируются Веселовским.
Продолжением этой традиции можно считать «Сотворение Карамзина» и (в меньшей степени из-за ее учебного характера) «А. С. Пушкин. Биография писателя» Ю. М. Лотмана. Лотман называет свою книгу о Карамзине романом-реконструкцией и ожидаемо вспоминает Тынянова. Но в ней нет ничего романного (хронотоп с персонажами, сюжет с неожиданными поворотами, персонажи с портретами и диалогами). В предисловии этот искомый жанр сразу же противопоставлен роману биографическому, хотя было бы лучше вовсе не вспоминать о романе. Книга развертывается как исследовательский логический дискурс, представляющий, однако, не хронологическую цепочку биографических фактов и деталей, а проверку, развитие, доказательство заявленной гипотезы. «Жизнь Карамзина — непрерывное самовоспитание. Духовное "делание" и историческое творчество, сотворение своего "я" и сотворение человека своей эпохи сливаются здесь воедино. Карамзин всю жизнь "творил себя". Этому и будет посвящен наш рассказ. Внешние же обстоятельства его биографии потребуются нам лишь как описание мастерской, в стенах которой это творчество совершалось»47. «Сотворение Карамзина» — еще одна попытка творческой биографии, биографии с идеей, так что с большим основанием Ю. М. Лотман мог в данном случае вспомнить не романы Ю. Тынянова, а «Льва Толстого» Эйхенбаума.
Веселовскому и Лотману повезло. Их книги были завершены (и время оказалось иным, и замыслы были не столь масштабны, амбициозны). В эйхенбаумовские поиски жанра не раз грубо вмешивалась история.
Первые два тома были написаны и опубликованы быстро (1929, 1931). Третья книга была окончена в лишь в 1940 году, но застряла в издательстве. «Зима будет, очевидно, трудная. А хочется каких-нибудь радостей. Смотрю с горестью на сверстанный экземпляр III тома о Толстом — лежит в Госиздате без движения и стареет быстрее меня. А я, между прочим, старею»48, — одна из редких жалоб Эйхенбаума.
Кто мог тогда представить, что зима окажется настолько трудной и долгой?
Третий том, «Лев Толстой. Семидесятые годы», появится лишь в 1960 году, уже после смерти автора.
Материалы четвертого тома (большой портфель) пропали на Ладоге во время эвакуации из блокадного Ленинграда. Эйхенбаум решил его не восстанавливать.
Вскоре после возвращения в город в Ленинградском университете началось свое «дело космополитов», в результате которого Эйхенбаум после инфаркта надолго оказался в больнице и в это же время был изгнан отовсюду — из Института русской литературы («по болезни») и университета (как «не справившийся с работой», хотя его стаж составлял 34 года). Сообщить «бывшему профессору» эту «новость» пришлось Г. А. Вялому, одному из его ближайших друзей последних лет. После возвращения из больницы Эйхенбаум начал советоваться с ним, где остаться на службе: две работы ему уже не осилить. И получил утешающий ответ: «Борис Михайлович, не беспокойтесь вы, ради бога, вы совершенно свободный человек, вы нигде не работаете. Ни в Пушкинском Доме, ни в Университете. Можете спокойно отдыхать дома»49.
В это время вынужденного непечатания в очередной раз передумывается толстовский замысел. «Я стал работать. Пишу новую книгу обо всем Толстом — на старой затее (5 томов) поставил крест после того, как III том застрял и устарел, а IV пропал на Ладожском озере. Многое у меня теперь иначе, начиная с Казанского периода, который я на днях закончил»50.
Планы ветвятся и множатся. Толстой постоянно находится в центре интересов, но Эйхенбаума лишают всякой возможности публикаций. «У меня пока нет никакой оплачиваемой работы — выключен совершенно. Лежат готовые работы — "Толстой — студент", "Наследие Белинского и J1. Толстой", "Легенда о зеленой палочке"; не могу напечатать — после статей в "Звезде". В "Лит. наследстве" еще нет решения, но думаю, что не посмеют напечатать. "Годить надо", как советовал Щедрин.
Итак, я — веселый нищий. Веселый — потому что сижу спокойно дома, не бываю на заседаниях, не вижу подлецов, не устаю и пишу. Будет книга, а то и две — обе о Толстом; одна из очерков (начиная с "Легенды о зеленой палочке") для широкого читателя, другая сплошная, в ученом жанре». Но и в такой ситуации «веселый нищий» сохраняет способность шутить: «Новая поговорка: "Земля наша велика, а заработка в ней нет"». Дальше, в связи с кражей пальто (ну, совсем гоголевская «Шинель») следует еще одна, остроумная, но малоприличная пословица51.
Замечательный психологический портрет позднего Эйхенбаума возникает в дневниках Евгения Шварца. Привычно сопоставляя своего соседа по писательскому дому на канале Грибоедова с его другом-антиподом («Шкловский... много ближе к многогрешным писателям, а Эйхенбаум — к мыслителям, иной раз излишне чистым»), взвешивая плюсы и минусы («непрерывная работа мысли», бытовая беспомощность, страстная любовь к музыке, ровное отношение к ученикам, которое они оценивают как «холодность и безразличие к ним»), драматург выделяет главную черту в характере героя — очевидную и загадочную энергию постижения: «Он, как это бывает с существами высокой породы, все рос и рос, не останавливался. И за слабостью вдруг определилась настоящая сила, которая дорогого стоит. Первая и главная — это добросовестность. Его били смертным боем, а он не раздробился, а выковался в настоящего ученого. Как настоящий монах не согрешит потихоньку, так и Эйхенбаум не солжет, не приврет в работе. И если монаха останавливает страх божий, то в Борисе Михайловиче говорит сила неосознанная, но могучая. С утра сидит, согнувшись, над столом и, словно по обету, мучается над ничтожным иной раз примечанием. Во имя чего? Цена одна. Что заставляет его доводить свою работу до драгоценной точности? По-прежнему он благожелателен и ясен»52.
Вынужденный «отдых» от печатания продлился почти десятилетие. Только в начале пятидесятых Эйхенбаум снова начал получать издательские предложения. Он подготовил для Большой серии «Библиотеки поэта» том Я. П. Полонского (1954), прокомментировал для серии «Литературные памятники» «Записки современника» С. П. Жихарева (1955), принял участие в издании одиннадцатитомного собрания Лескова (1956-1958). Несколько опубликованных старых статей о Толстом он еще успел увидеть.
Но ни один из больших толстовских замыслов так и не дошел до конца: ни «сплошная» книга «обо всем Толстом», ни «Юность Толстого», ни сборник очерков для широкого читателя. Однако дневниковые методологические размышления отчетливо свидетельствуют, что эти работы строились на постоянном учете и предельном расширении исторического контекста, центром которого неизменно оставался писатель-создатель. «...Многое уяснилось для начала — и очень важное. Гений является в результате накопления исторических сил — поэтому сознание истории в нем органично и обязательно»53.
«Хорошо бы написать статью (как основу для моих дальнейших работ по Лермонтову и Толстому) — "Изучение и истолкование". Для изучения (анализа) художественного произведения прошлого надо держать фоном всю систему философских (философско-исторических), религиозно-нравственных, общественных (утопических) и научных теорий, представлений эпохи — только на таком фоне могут выступить подлинные исторические смыслы художественных произведений этого времени»54. Может показаться, что Эйхенбаум возвращается к эмпиризму культурно-исторической школы, разрыв с которой декларировал ранний формализм. Однако важной границей, точкой расхождения по-прежнему остается ведущая конструктивная идея, когда-то выросшая из теории литературного быта: «Поскольку я хочу написать не биографию вообще (как рассказ о жизни) а историческую биографию, то мне надо говорить только о том, что исторически важно, а не болтать обо всем, что я знаю»55. («Биографию вообще» для серии «Жизнь замечательных людей» напишет через несколько лет после смерти Эйхенбаума Шкловский).
Он был полон планов и рассчитывал еще на несколько лет продуктивной работы. «Вот бы сделать так: — написать три книги: 1) Лев Толстой. Очерки и исследования. 2) Лермонтов. Основные проблемы. 3) Основы текстологии — для этого надо прожить и чувствовать себя здоровым еще 6—7 лет, до 1965 года, до 80 лет»56. Его до конца не покидала энергия постижения. За день до последнего дня рождения он признается В. Шкловскому: «Меня всяческая работа (а больше всего вопросы, из нее встающие) так обступила, что я сам не свой. Что за черт! Работал-работал 73 года, а теперь хочется все заново делать. Это — болезнь старости или, наоборот, ее здоровье. И чем больше я работаю, тем больше новых вопросов и тем»57.
Судьба или случайность рассудили иначе. Борис Михайлович Эйхенбаум умер 24 ноября 1959 года, через несколько недель после семидесятитрехлетия.
В Доме писателя, том самом, где громили Зощенко и Ахматову, был вечер эстрадных миниатюр бывшего шумного имажиниста, затем скромного драматурга и либреттиста Анатолия Мариенгофа. Эйхенбаума уговорили произнести вступительное слово. Его слушали невнимательно, публика ожидала популярного актера, который не успел вернуться с гастролей.
Последние слова, произнесенные Эйхенбаумом, запомнились свидетелям и дошли до мемуаристов в нескольких вариантах.
Присутствовавшая на вечере О. Б. Эйхенбаум услышала их так: «Надо вовремя закончить. Я все сказал»58.
До Р. Якобсона реплика дошла в несколько ином варианте: «Самое главное для докладчика — вовремя кончить; на этом я умолкаю»59.
Автор этого очерка слышал от Г. А. Вялого еще одну версию: «Каждый человек должен знать, когда ему уходить. И я ухожу».
Он умер через несколько минут после того, как покинул сцену. «Какой глупый провал!»60 — произнес он еще, согласно мемуарам не присутствовавшего на вечере Шкловского (в воспоминаниях дочери эта реплика отсутствует).
Некрологический пафос переживших Эйхенбаума друзей научной молодости тоже оказался существенно различным.
Роман Якобсон был резок, публицистичен, безжалостно-ироничен: «В дни ОПОЯЗа он нередко задумывался над кульминационным пунктом, климаксом, апофеозом, над ролью конца в строе новеллы и писал о "сознании особой важности финального ударения"
В Пушкинском Доме над телом усопшего, наискосок, еще висела вчерашняя стенгазета, а в ней прощальный донос на покойника, сочиненный запоздалым подражателем Папковского — "развернутый в финале анекдот", согласно терминологии молодого Эйхенбаума. Кто-то брезгливо прочел и, тряхнувши стариной, обмолвился словом о полку Игореве: "...а звери кровь полизаша". Нескончаемые вереницы ученых, учеников, читателей шли проститься с утраченным другом»61.
Размышления Юлиана Оксмана элегичны и в то же время деловиты, направлены на очищение атмосферы советского литературоведения (дело, которому в последние годы он придавал огромное значение): «В воскресенье возвратился с похорон Б. М. Эйхенбаума, где двое суток были все мы под знаком этой бессмысленной смерти замечательного человека, большого ученого, личного моего старого друга, а через два следующих дня как ни в чем ни бывало зажили по-прежнему, как будто бы ничего и не произошло! Но на самом деле произошло много нового, хотя бы в порядке сплочения рядов передового литературоведения, дальнейшего размежевания, увековечивания памяти Б. М., подготовки издания его трудов, как новых, так и старых. Было сказано у могилы много хороших слов, постараемся их реализовать и в жизни.
А все-таки все это очень грустно!»62
Виктор Шкловский заканчивает очерк об Эйхенбауме как стихотворение в прозе — о смерти, юности, памяти и работе (в нем тоже мелькает реминисценция из «Слова о полку Игореве»).
«На гражданской панихиде говорили о заслугах покойного.
Хоронили на новом кладбище Выборгской стороны.
Вороны сидели на голых ноябрьских березах.
Желтый гроб блестел лаком у глины серой могилы.
Нас осталось мало, да и тех нет, — как печально говорил Пушкин.
Шли люди вместе — разбрелись.
Был спор и бой, как свадьба.
Были работы, как бой, как пир.
Но кровавого вина недостало.
Смерть не умеет извиняться.
Вот и старость пришла. Вороны крыльями покрывают бой.
Смерть сменяет ряды людей, она готовит новое издание, обновляет жизнь.
Сохраним память о работе»63.
Студенты и аспиранты, появившиеся на ленинградском филфаке в начале пятидесятых годов, даже не знали его имени. Было время, когда вспоминать было опасно. Потом вспоминать стало некогда. Потом — скучно. Потом на место живого ощущения эпохи пришло изучение, когда даже для младших современников Эйхенбаума его трудный путь, собственная энергия заблуждения, превратились в «адаптацию» и «интериоризацию».
Для студентов двадцатых годов он был БУМ (иногда даже Бумтрест). Шкловский называл его Маркизом. В обоих прозвищах — любовь, улыбка, расположение, имеющие, однако, противоположный вектор и смысл. Первое вписывает обладателя в современность, делает его соразмерным эпохе аббревиатур (ведь он служил в ГИИИ, ИРЛИ и ЛГУ). Второе отодвигает далеко в прошлое, в другую страну и эпоху.
Граф Толстой стал для Маркиза БУМа не просто предметом текстологической работы, многочисленных изданий и публикаций, но — историческим зеркалом и многолетним собеседником. Делом жизни, которое, увы, так и не было завершено.
В кабинете русской литературы, на факультете, где он проработал больше тридцати лет, откуда был изгнан и куда уже не вернулся, стоит та же самая деревянная, покрытая новым лаком кафедра; с нее обличали и каялись в конце сороковых. На стене — портрет профессора в длинном ряду коллег-соратников и некоторых гонителей тоже (кое-кто из стоявших на кафедре-трибуне разоблачителей космополитов мирно проработал на кафедре-учреждении еще десятилетия).
За окном — Нева. В хорошую погоду за ней можно разглядеть Медного Всадника — памятник Пушкину работы Фальконе.
Учреждение, в котором БУМ преподавал, называется теперь Факультет филологии и искусств. ЛГУ им А. А. Жданова еще раньше превратился в СПбГУ и потерял имя одного из организаторов идеологических кампаний сороковых годов.
Неоконченная работа Б. М. Эйхенбаума, научная эпопея о Толстом, стала книгой его жизни. Ее можно прочесть как увлекательное, правда, оборванное на полуслове исследование о великом писателе. Но одновременно — как драматическую метафору судьбы замечательного ученого.
Игорь Сухих 24 ноября 2009 г.
Примечания
1 В последние десятилетия появились многочисленные публикации и исследования о разных аспектах биографии и научной деятельности Б. М. Эйхенбаума, на которые опирается наш очерк: Орлов Вл. Б. М. Эйхенбаум// Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969. С. 5-20; Бялый Г. 1) Б. М. Эйхенбаум — историк литературы // Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л., 1969. С. 5-20; 2) Движение замысла // Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 3—5; Шкловский В. Борис Эйхенбаум // Шкловский В. Тетива. О несходстве сходного. М., 1970. С. 13—46; «Мучительно работаю над статьей о Толстом...» / Публ. О. Б. Эйхенбаум; сост., вступ. заметка и примеч. Т. Бек// Вопросы литературы. 1978. № 3. С. 308-314; Работа над Толстым. Б. М. Эйхенбаум: Из дневников 1926—1959 гг. / Публ. С. А. Митрохиной // Кон- текст-1981. М., 1982. С. 263-302 (Далее: Контекст); Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вступ. заметка, публ. и коммент. О. Панченко // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 185-218; «Цель человеческой жизни — творчество» (Письма Б. М. Эйхенбаума к родным) / Публ. Г. Д. Эндзиной // Встречи с прошлым. Вып. 5. М., 1984. С. 117-138; Чудакова М. О. Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова//Тыняновский сборник. Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 103— 131 (Далее: ВТЧ); Чудакова Л/., Тоддес Е. 1) Страницы научной биографии Б. М. Эйхенбаума// Вопросы литературы. 1987. № 1. С. 128—162; 2) Наследие и путь Б. Эйхенбаума// Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 3-32; Из писем к В. Б. Шкловскому / Публ. О. Б. Эйхенбаум. Вступ. заметка и коммент. М. О. Чу- даковой // Нева. 1987. № 5. С. 156-164; Переписка Б. М. Эйхенбаума и В. М. Жирмунского/ Публ. Н. А Жирмунской, О. Б. Эйхенбаум, вступит, статья Е. А. Тод- деса, примеч. Н. А. Жирмунской, Е. А. Тоддеса // Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 256—329; Каверин В. А. Б. М. Эйхенбаум// Каверин В. А. Литератор. Дневники и письма. М., 1988. С. 124-133; Гинзбург JI. Я. Проблема поведения (Б. М. Эйхенбаум) // Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 352—357; Из писем Б. М. Эйхенбаума к Г. Л. Эйхлеру / Публ.
В. Эйдиновой, Б. С. Вайсберга, вступ. статья В. В. Эйдиновой, примеч. В. В. Эй- диновой, Е. А. Рябоконя // Пятые Тыняновские чтения. Тезисы докл. и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 250-274; Дневник 1917-1918 гг. / Публ. и подготовка текста О. Б. Эйхенбаум., примеч. В. В. Нехотина // De visu. 1993. N 1. С. 1127; Дневник 1946 года// Петербургский журнал. 1993. № 1/2. С. 183-202; «Я иду с туза»: Из переписки Виктора Шкловского с Борисом Эйхенбаумом / Вступ. заметка, публ. и примеч. О. Панченко // НЛО. 1994. № 6. С. 241-249; Письма Б. М. Эйхенбаума к А. С. Долинину / Подг. текста, вступ. заметка и примеч. А. А. Долининой // Звезда. 1996. № 5. С. 176—189; ЭрлихВ. Русский формализм: история и теория. СПб., 1996 (английское издание — 1955); Бережнова Ю. А. Из разговоров с Б. М. Эйхенбаумом; Письма Б. М. Эйхенбаума к Ю. А. Бережновой (1949-1959 гг.) //Звезда. 1997. № 10. С. 152-167; Страницы дневника: Материалы к биографии Б. М. Эйхенбаума. Дневник 1923—1924 гг. / Предисл., публ., примеч. А. С. Крюкова//Филологические записки. Вып. 8. Воронеж, 1997. С. 230—251; Вып. 10. Воронеж, 1998.
207-224; Вып. И. Воронеж, 1998. С. 207-220; Тоддес Е. А. Б. М. Эйхенбаум в 30—50-е годы (К истории советского литературоведения и советской гуманитарной интеллигенции) // Тыняновский сборник. Девятые Тыняновские чтения. М., 2002. С. 563—691; Шубинский В. Железный кузнечик (О жизни и сочинениях аббата Д'Эрбле) // Эйхенбаум Б. М. Мой временник. М., 2001. С. 5-24; Эйхенбаум О. Б. Из воспоминаний //Там же. С. 612-645; КертисДж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб., 2004 (Далее: Кертис). В приложении (с. 243-342) публикуются письма Эйхенбаума родителям (1905—1916) и В. Шкловскому (19291959).
Эйхенбаум Б. М. Мой временник. С. 43, 44, 50.
Цит. по: Кертис. С. 258, 292.
Эйхенбаум Б. М. Мой временник. С. 39, 59-60.
Цит. по: Тынянов Ю. Я. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 533. (Далее: ПИЛК)
Эйхенбаум Б. М. О прозе. С. 212-213 («Карамзин», 1916).
Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М., 1990. С. 121 («Розанов», 1921).
Эйхенбаум Б. М. О прозе. С. 320-321.
Цит по: Кертис. С. 285-286.
Шкловский В. Борис Эйхенбаум. С. 15.
Переписка Б. М. Эйхенбаума и В. М. Жирмунского. С. 319.
Там же. С. 313-314.
Цит по: Кертис. С. 253.
«Мучительно работаю над статьей о Толстом...» С. 209-214.
Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. С. 201.
Ссылки на тексты, вошедшие в настоящий том, даются без указания страниц.
Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 48 (запись 1927 г.).
Там же. С. 108 (запись 1932 г.).
Чуковский К Дневник. 1901-1929. М., 1991. С. 297 (запись 19 декабря 1924 г.).
Эйхенбаум Б. М. Дневник. 1924//Филологическиезаписки. Вып. И. Воронеж, 1998. С. 210.
См.: Кертис. С. 334 (письмо 18 марта 1947 г., оно будет процитировано позднее).
Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. С. 189 (25 июня 1925 г., Сиверская).
Цит. по: ВТЧ. С. ИЗ (фрагменты писем В. Шкловскому от 16 февраля и 22 марта 1927 г.). Публикацию второго письма см. также: Кертис. С.302—304.
Эйхенбаум Б. М. О литературе. С. 429-430.
Шкловский В. Тетива. С. 369.
Эйхенбаум Б. М. О литературе. С. 433-434.
ПИЛК. С. 264.
Эйхенбаум Б. М. О литературе. С. 524 (комментарий М. О. Чудаковой).
Там же. С. 435.
Там же. С. 437.
Чуковский К. Дневник. С. 125 (запись 17 ноября 1919 г.).
Эйхенбаум Б. М. О литературе. С. 444 (в «Моем временнике», 1929, этюд «О Викторе Шкловском» попал раздел «Смесь»).
Там же. С. 446-447
ПИЛК. С. 196.
Цит. по: ПИЛК. С. 571 (письмо 21 февраля 1940).
Гинзбург J1. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 37 (запись 1927 г.).
Там же. С. 302 (запись 1970-х гг.)
Там же. С. 445.
Контекст. С. 267 (1 марта 1928 г.)
Там же. С. 269 (7 марта 1928 г.).
Их воспроизводит и подробно разбирает М. О. Чудакова. См.: ВТЧ. С. 114—124.
Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М.; Л., 1965.
С. 62—63 (книга окончена в 1947 г.). Кстати, пафос и путь Г. А. Гуковского сопоставимы с эволюцией Эйхенбаума. Оба прошли через формализм, позднее (на разном материале) задумали фундаментальные историко-литературные исследования, много лет, меняясь сами, упорно над ними работали. Оба — по драматическим причинам — не довели замысел до конца. В книге Гуковского «Реализм Гоголя» лишь начат анализ «Мертвых душ». Последняя фраза: «Чей суд возьмет...» — сопровождается редакторским примечанием: «На этом рукопись обрывается» (Гуковский Г\ А. Реализм Гоголя. М.; JI., 1959. С. 530).
Чудаков А. П. Виктор Шкловский; два первых десятилетия // Чудаков А. П. Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики русских классиков. М., 1992. С. 212.
Из писем Б. М. Эйхенбаума к Г. JI. Эйхлеру. С. 267 (7 марта 1938 г.)
Гинзбург JI. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 443.
Веселовский А. Н. Поэзия чувства и сердечного воображения. М., 1999. С. 14, 16.
Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 18-17.
Из писем Б. М. Эйхенбаума к Г. JI. Эйхлеру. С. 270 ( 26 августа 1940 г.).
Эйхенбаум О. Б. Из воспоминаний. С. 638.
См.: Кертис. С. 334 (Шкловскому, 18 марта 1947 г.).
Там же. С. 335 (Шкловскому, 23 июня 1949).
Шварц Е. Живу беспокойно. Из дневников. JL, 1990. С. 406, 606-608 (записи 9 августа 1954 г. и 12-13 августа 1956 г.).
Контекст. С. 293 (запись 26 марта 1952 г.).
Там же. С. 201 (запись 15 сентября 1957).
Там же. С. 294-295 (запись 17 апреля 1952 г.)
Там же. С. 302 (запись 4 июня 1958 г.).
Из писем к В. Б. Шкловскому. С. 163.
Эйхенбаум О. Б. Из воспоминаний. С. 642.
Эйхенбаум Б. М. Мой временник. С. 604.
Шкловский В. Борис Эйхенбаум. С. 45.
Эйхенбаум Б. М. Мой временник. С.604—605. Републикатор некролога Ю. Бе- режнова уточняет: панихида была не в Пушкинском Доме, а в том же Доме писателей, где Эйхенбаум умер; цитату из «Слова...» прокричал на кладбище В. Шкловский (там же). Об этом вспоминал и сам Шкловский (См.: Шкловский В. О теории прозы. М., 1983. С. 290).
Юлиан Григорьевич Оксман в Саратове. Саратов, 1999. С. 135 (письмо С. М. Касовичу, 2 декабря 1959 г.).
Шкловский В. Борис Эйхенбаум. С. 46.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Толстой всегда был художником и никогда не переставал им быть — менее всего тогда, когда отрекался от своего художества и писал религиозно-нравственные статьи. Внешне это выражается в том, что 1910 г. (т. е. годом смерти) помечена его пьеса «От ней все качества», внутренне это подтверждается тем, что кризис, пережитый им в 80-х годах, подготовлен, как видно будет ниже, особенностями его художественного сознания — не внедрился в творчество со стороны и потому вовсе не разрушил его. Этот кризис, как и все «остановки» Толстого, не просто душевное явление, обусловленное натурой или обстоятельствами жизни, а определенный творческий акт, момент освобождения, эволюции. «Двойственность» Толстого, о которой принято говорить как о душевной его особенности, есть для нас не пассивное проявление его натуры, но акт сознания, выработанного в поисках нового творческого начала. Осложнение творчества элементами этого сознания и заново возникшая отсюда проблема отношения между искусством и жизнью есть особенность того художественного поколения, к которому принадлежал Толстой, — она уже тревожила Гоголя и Тургенева, мучила Некрасова и с новой силой, но по-разному, решалась Толстым и Достоевским.
Художественная деятельность Толстого развилась в те годы, когда европейское искусство, пережив эпоху романтического синтеза, искало новых путей и новых традиций. На русской почве это искание осложнялось целым рядом культурных особенностей, создавших и особый тип русского искусства 50-70-х годов. Элементы сознания не поглощаются искусством, не сливаются в сплошной поток «бессознательного» вдохновения, но выступают наружу. События личной душевной жизни не тонуг в порывах творческого изображения и не поднимаются до степени исключительных переживаний, а вводятся в самое творчество, сообщая ему часто характер автобиографии или исповеди. Жизнь становится как бы мерилом искусства — вот почему мы столько знаем о личной жизни Толстого. Творческий акт осложняется ощущением себя как средоточия, нравственно ответственного за все поколение, за всю культуру. До предела доводится самонаблюдение, и результаты его выставляются на общий суд. Толстой ярко выражает это чувство в письме к А. А. Толстой 1874 г. — как раз в эпоху приближавшегося кризиса: «Вы говорите, что мы, как белка в колесе. Разумеется. Но этого не надо говорить и думать. Я, по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что du haut de ces pyramides 40 sifccles me contemplent и что весь мир погибнет, если я остановлюсь. Правда, там сидит бесенок, который подмигивает и говорит, что все это толчение воды, но я ему не даю, и вы не давайте, ходу».
I
О своих детских и отроческих годах (1828-1842 гг.) Толстой много писал сам. Но это — либо воспоминания, либо творческая переработка. И то и другое характерно для Толстого вообще, но не может служить материалом для изучения его действительного детства. Однако нам и не нужно изучать его так, как это было бы нужно психологу, которого интересует формирование характера, — душевный, а не творческий тип. Для нас начальным материалом служат дневники Толстого, за которые он принимается в 1847 г., во время обучения в Казанском университете. Чисто психологическое их изучение оставим в стороне — наша задача иная.
Дневники и письма имеют свою литературную историю. Душевная жизнь известным образом стилизуется, переходя от непосредственного своего выражения к словесной записи — фиксируются только некоторые ее стороны и при этом принимают определенную форму, вовсе не тождественную реальному ее содержанию. Поэтому нельзя прямо переходить от фактического материала дневников к восстановлению реальной душевной жизни, реального душевного типа — такая психологическая задача потребовала бы особых методов для снятия той традиционно-стилистической оболочки, которой окутаны душевные переживания, и для построения душевной жизни во всей ее полноте. Нам важна именно эта стилистическая оболочка, важен душевный стиль дневника — не то, каким Толстой был на самом деле, а то, каким он себя мыслил или воображал. Отсюда — естественный переход к душевному стилю создаваемых им лиц. Дневники молодости откроют нам зарождающееся творчество и наметят его тип.
Уже самый факт ведения дневников характерен как показатель определенного душевного стиля — внимание сосредоточено на самонаблюдении и его формулировке. Еще характернее тип дневника — чтб именно из области многообразной и трудно уловимой душевной жизни попадает в поле внимания. Дневники молодого Толстого сразу поражают одной особенностью — упорным стремлением к нравственной регламентации, желанием сковать себя в строгие формы, установить для всего правила, определить план действий, составить расписание. В связи с этим внимание обращено на моральную оценку каждого своего поступка. Иногда в основе этих правил и расписаний чувствуется желание стать дельным, практически разумным человеком и избавиться от репутации «пустяшного малого»; в других случаях появляется более общая, отвлеченно-нравственная основа, предписывающая то или другое правило. Во всяком случае — нет стремления зафиксировать всю полноту переживаний, дать их в слитном виде; наоборот, каждое переживание разлагается на части, точно формулируется как отдельное от других, и на него направляется сила сознания. При этом совершенно отсутствуют записи, не связанные со своим «я», нет внешнего мира, других людей. Резкие переходы от самоиспытаний и самобичеваний к увлечениям и срывам, за которыми опять следует регламентация — из этих противоборствующих и сменяющих друг друга движений слагается душевный стиль Толстого в его ранних дневниках и письмах.
Непрерывное самонаблюдение, постоянно приводящее к недовольству собой и к желанию оправдаться, делает тон его дневников часто суровым, а тон писем — чувствительным. Молодые его письма к тетушке Т. А. Ергольской окутаны своеобразной старинной сентиментальностью — он сам пишет ей в 1852 г.: «Вы знаете, что, быть может, единственное мое доброе качество — это чувствительность». От общих правил — вроде «исполняй все то, что ты определил быть исполнену» — Толстой переходит к заботам о том, как приучить себя к практической жизни. В письмах к брату Сергею он изображает себя всегда смущенным, оправдывается и утверждает, что совсем переменился: «Я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменился, скажешь: "Это уж в двадцатый раз, и все пути из тебя нет", "самый пустяшный малый", — нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся; прежде я скажу себе: "дай-ка я переменюсь", а теперь я вижу, что я переменился, и говорю: "я переменился". Главное то, что я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, т. е. быть практическим человеком. Это большой шаг и большая перемена, еще этого со мной ни разу не было». Нам особенно важно, что душевная жизнь представляется Толстому в каждый момент совершенно ясной — он точно формулирует ее состояние. В связи с этим — убеждение в том, что, поставивши себе определенную цель, можно регламентировать каждое свое движение, каждую свою мысль: «Хотелось бы, — записывает он в 1850 г., — привыкнуть определять свой образ жизни вперед, не на один день, а на год, на несколько лет, на всю жизнь даже». Регламентация эта доходит до курьезов, невольно вызывающих улыбку: «Правила для игры в Москве, до 1 января. 1) Деньги свои, которые я буду иметь в кармане, я могу рисковать на один или на несколько вечеров. 2) Играть только с людьми состоятельными, у которых больше моего. 3) Играть одному, но не придерживать. 4) Сумму, которую положу себе проиграть, считать выигрышем, когда будет сверх оной в 2 раза, т. е. ежели положить себе проиграть 100 р., ежели выигрыш 300, то 100 считать выигрышем и не давать отыгрывать, ежели же повезет дальше, то выигрышем считать также такую же сумму, которую намерен был проиграть, только тогда, когда выиграешь втрое больше; и так до бесконечности». Такого же типа — другая запись: «Правила для общества. Избирать положения трудные, стараться владеть всегда разговором, говорить громко, тихо и отчетливо, стараться самому начать и самому кончать разговор. Искать общества с людьми, стоящими в свете выше, чем сам, — с такого рода людьми, прежде чем видишь их, приготовь себя, в каких с ними быть отношениях... На бале приглашать танцевать дам самых важных... Ни малейшей неприятности или колкости не пропускать никому, не отплативши вдвое».
На смену этим правилам «практической» жизни является новая система, преследующая иные, высшие цели — Франклинов журнал для записи слабостей. Дурные наклонности перечисляются в виде таблицы, а затем идут указания того, которая из этих наклонностей была виной ошибки или нехорошего поступка: необдуманно и торопливо, обман себя, ложный стыд, желание выказаться, рассеянность, непостоянство, трусость, тщеславие, самонадеянность и аффектация, лень, дурное расположение духа и т. д. Дневник превращается в журнал поведения. В связи с общим моральным уклоном — попытка сочинять проповеди: «Написал проповедь лениво, вяло и трусливо». Растет сфера самонаблюдения, а вместе с ним растет и пафос самобичевания — стиль записей становится все более напряженным, душевная жизнь подвергается все большему анализу, превращаясь в смену отдельных, отвлеченно формулируемых наклонностей: «После обеда и весь вечер шлялся и имел сладострастные вожделения... Мучает меня сладострастие». Непосредственно с этим общим напряжением нравственного анализа являются записи религиозных размышлений и молитв. Религиозное чувство подвергается такому же разложению, как и вся душевная жизнь. Тут уже налицо те элементы, из которых слагаются автобиографические образы его романов — Пьер и Левин, а с другой стороны — здесь же зародыши его «Исповеди» и религиозных учений. Сила сознания, разлагающая слитность душевной жизни, раз направленная в область религиозных чувств, приводит его уже в 1855 г. к «великой, громадной мысли», осуществлению которой он готов посвятить жизнь: «Мысль эта — основание религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».
Каковы же традиции этого душевного стиля? Главное чтение Толстого в этот период — Стерн и Руссо. Стерном он восхищается и даже переводит его, Руссо читает по целым дням. С другой стороны, главные боги предшествующего Толстому поколения — Шекспир, Гёте, немецкие романтики — нигде не упоминаются. Невольно является мысль, что молодой Толстой больше связан со своими литературными дедами, чем с отцами, как это часто замечается при смене поколений. Корни его душевного стиля, выраженного в дневниках молодости, уходят в сентиментальную эпоху — недаром так по-старинному «чувствительны» его ранние письма к Т. А. Ергольской, недаром он, минуя романтиков, возвращается к духовным вождям эпохи Карамзина и молодого Жуковского — Стерну и Руссо. Действительно, даже общий тип его дневников сходен с дневниками Жуковского в смысле выработки нравственных правил, стремления установить план жизни и т. д. Может быть, здесь отчасти скрываются причины его увлечения именно этой эпохой, еще до «Войны и мира» сказавшегося в повести «Два гусара»; отсюда же страницы, посвященные масонам, и образ княжны Марьи. Дело тут не в чувствительности самой по себе, а в сосредоточенности на самонаблюдении, имеющем своей целью разложение душевной жизни на состояния и наклонности и нравственную регламентацию. Опираясь на эту основу, Толстой увеличивает действие сознания, а тем самым и силу разложения. Получается новое творческое начало, новый творческий тип, выступающий на смену слитному и потому абстрактному романтическому стилю.
II
Бросивши Казанский университет и прожив некоторое время в Петербурге и в деревне, Толстой весной 1851 г. уезжает на Кавказ. Начинается военный период его жизни, вместе с тем начинается и творчество. Дневники 1851-1852 гг. свидетельствуют об упорной систематической работе. Возникают специальные технические вопросы, являются «муки слова», рождаются тревога, сомнение в своих силах. Намечаются общие основы поэтики Толстого — материал чрезвычайно важный. Еще в 1850 г. задумана была повесть из цыганского быта; потом явился другой замысел, связанный с чтением Стерна — повесть описательная, с естественной композицией, слагающейся из ряда наблюдений: повесть «из окна». В 1851 г. написана характерная «История вчерашнего дня», близко связанная с материалом дневников (Франклинов журнал и рассуждения об этом) и вместе с тем намечающая основные художественные приемы Толстого. Первые ее строки имеют программный смысл: «Пишу я историю вчерашнего дня, не потому, чтобы вчерашний день был чем- нибудь замечателен, скорее, мог назваться замечательным, а потому, что давно хотелось мне рассказать задушевную сторону жизни одного дня. — Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления, хотя темных, неясных, но не менее понятных душе нашей, проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что не достало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать». Кроме Стерна продолжается чтение Руссо, к которому прибавляются Диккенс («Какая прелесть Давид Копперфильд!»), Бернар- денде Сен-Пьер (Paul et Virginie). Кроме того, Толстой увлекается повестью Рудольфа Тёпфера, женевского художника и беллетриста — его «Bibliothfcque de mon oncle» была довольно популярной у нас в 40-х годах[1]. Толстой в своей автобиографии сам указывает на нее: «Во время писания этого ("Детства") я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей: Stern'a (его Sentimental journey) и Topfer'a (Bibliothfcque de mon oncle)». Интерес к Тёпферу не идет вразрез с литературными склонностями Толстого; стиль Тёпфера через Ксавье де Местра восходит к традициям сентиментальной поэтики — больше всего к Руссо. Таковы учителя молодого Толстого.
В соответствии с основами литературной школы, воспитанником которой чувствует себя Толстой, его первоначальные замыслы имеют характер описаний, а не рассказов, не новелл. Опыт «светской» любовной новеллы («Как гибнет любовь», 1853) явно не удался и не удовлетворил самого Толстого. На первом плане — проблема не фабулы и сюжета, а описания и «слога». Вслед за изображением кавказской ночи следуют характерные размышления: «Я думал: пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это? Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составляют слова, слова — фразы; но разве можно передать чувство? Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описание недостаточно». К этому прибавляется еще одно наблюдение: «Людям, которые смотрят на вещи с целью записывать, вещи представляются в превратном виде». Из сопоставления такого рода фраз можно видеть, в каком смысле Толстой не просто подражает своим любимым писателям, а только опирается на них: он озабочен вопросом не только о том, как во всей непосредственности передать другому свое чувство, но и о том, как дать настоящее впечатление вещи — это уже нечто новое по сравнению с принципами сентиментальной школы. С другой стороны, нет и романтического представления об искусстве: «Где границы между прозой и поэзией, я никогда не пойму; хотя есть вопрос об этом предмете в словесности, но ответ нельзя понять». Больше всего его беспокоит несовпадение между замыслом и тем, что выходит — отсюда недовольство собой, сомнения и упорная работа над слогом: «Писал лениво, и хотя не слишком скверно, но насколько хуже того, как я думал! Нет сходства. Надо писать и писать. Одно средство выработать манеру и слог... читал и писал стихи. Идет довольно легко. Я думаю, что это мне будет очень полезно для образования слога... писал "Детство", оно мне опротивело до крайности, но буду продолжать... Был у меня писарь, отдал и прочел ему I главу. Она решительно никуда не годится... Есть ли у меня талант сравнительно с новыми русскими литераторами? Положительно нету... Хотя в "Детстве" будут огромные ошибки, оно еще будет сносно. Все, что я про него думаю, это то, что есть повести хуже; однако, я еще не убежден, что у меня нет таланта. У меня, мне кажется, нет терпения, навыка и отчетливости, тоже нет ничего великого ни в слоге, ни в чувствах, ни в мыслях».
Наконец, еще одна черта, тоже отличающая Толстого от писателей предшествующего поколения. Вместе с утратой романтического представления об искусстве, вместе с падением метафизической эстетики падает и возвышенный образ поэта, утрачивается возвышенное представление об его призвании. Жизнь внедряется в искусство и зовет к себе художника. Он или становится ремесленником, профессионалом, «литератором» — или уходит в гущу жизни, не желая быть ни жрецом ни ремесленником. Вопрос этот тревожит Толстого уже в период дневников 1851 — 1852 гг. Приведенная выше запись о невозможности передать чувство имеет характерное продолжение: «Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить ? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой, или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?».
Позже Толстой обдумывает роман, и вдруг выплывает неожиданная, грандиозная задача: «В романе своем я изложу зло правления русского и ежели найду его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического избирательного соединения с монархическим правлением на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни. Благодарю тебя, господи, дай мне силы». В другом месте, вслед за упоминанием о стихах, в которых Толстой упражняется для образования слога: «Я не могу не работать. Слава богу; но литература пустяки, но мне хотелось бы писать здесь устав и план хозяйства... Составить истинную правдивую историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь». Толстой сам сознавал эту разницу между собой и писателями-литераторами; в 1883 г. он сказал в беседе на эту тему: «Тургенев — литератор... Пушкин был тоже им, Гончаров — еще больше литератор, чем Тургенев; Лермонтов и я — не литераторы». В процессе самой литературной работы выдвигаются более специальные вопросы. Отметим особенно два, существенных для понимания молодого Толстого. Во-первых, стремление избегать сатирического тона — черта, очевидно усвоенная Толстым из его любимых писателей: Стерн, Тёпфер, Диккенс отличаются мягким, улыбчивым юмором и совершенно лишены сарказма. Толстой следует им: «Писал целый день описание войны. Все сатирическое не нравится мне; а так как все было в сатирическом духе, то все надо перед ел ывать... Писал много. Кажется, будет хорошо и без сатиры. Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сатиры. Мне даже неприятно описывать дурные стороны целого класса людей, не только личности». Романтическая ирония, возникшая на основе прежней эстетики, уже чужда Толстому — подтверждается отсутствие родства с ближайшим литературным поколением, в том числе — с Гоголем и с Тургеневым. Второй вопрос — как соединить прием лирических и философских отступлений с приемом описательной детализации, с миниатюризмом. Для поэтики Толстого этот вопрос — основной. И тут опять можно видеть, как Толстой не просто подражает своим учителям, а только усваивает у них те приемы, которые ему нужны. Поэтика сентиментальной школы отличается богатством лирических отступлений и детальных описаний, но и то и другое подчиняется общей душевности и естественно сливается в один поток настроенности. В сознании Толстого эти элементы выступают уже раздельно, причем на смену лирическим отступлениям понемногу являются обобщения, классификации, рубрики и т. д., а детализация имеет целью дать впечатление живости и потому не связывается с эмоцией. У Толстого и своя характерная терминология для этих понятий: прием обобщений он называет «генерализацией», а миниатюризм — «мелочностью»: «Увлекался сначала в генерализации, потом в мелочности, теперь, ежели не нашел середины, по крайней мере понимаю ее необходимость и желаю найти ее». Рассудок выступает на смену сентиментальной настроенности и романтического вдохновения — идет борьба и с лирическими отступлениями и с эстетической утонченностью вдохновенного стиля. Первое подтверждается следующей записью: «Я замечаю, что у меня дурная привычка к отступлениям, и именно, что эта привычка, а не обильность мыслей, как я прежде думал, часто мешает мне писать и заставляет меня встать от письменного стола и задуматься совсем о другом, чем то, что я писал. Пагубная привычка. Несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего любимого писателя Стерна, отступления тяжелы даже у него». Иллюстрацией второго — стремления вернуться к простым общим вопросам и осветить их новым сознанием — может служить характерная французская фраза, записанная в дневнике: «Pourquoi dire des subtilitds, quand il у a encore tant de grosses v6rit6s к dire».
В связи с этим общим уклоном поэтики Толстого к новому опрощению стиля, которое в историко-литературном смысле есть осложнение, так как выступает на смену уже ставшего банальным и потому автоматично-воспринимаемого романтического стиля, является стремление уничтожить аффектацию в описаниях и изображениях. Уже владея всеми шаблонами старой литературной школы и не желая их повторять, Толстой записывает в дневнике 1851 г.: «Не знаю, как мечтают другие, сколько я ни слыхал и ни читал, то совсем не так, как я. Говорят, что, смотря на красивую природу, приходят мысли о величии бога и ничтожности человека; влюбленные видят в воде образ возлюбленной, другие говорят, что горы, казалось, говорили то-то, а листочки то-то, а деревья звали туда-то. Как может прийти такая мысль! Надо стараться, чтобы вбить в голову такую нелепицу. Чем больше я живу, тем более мирюсь с различными натянутостями (affectation) в жизни, разговоре и т. д.; но к этой натянутости, несмотря на все мои разговоры — не могу». Этим приемом опрощения Толстой часто пользуется в своих сочинениях, вызывая ощущение особой живости и свежести. Типичен пример в «Рубке леса» (1854-1855), где уничтожается романтический образ Кавказа, ставший совершенно банальным после Пушкина, Лермонтова и Марлинского. Именно их имеет в виду Толстой, когда пишет: «Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными лесами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками, — все это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных лесах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д.».
Так постепенно выясняются основы поэтики Толстого. Подтверждается общее положение, выставленное нами в первой главе: Толстой ищет опоры для своего творчества и находит ее не в романтическом поколении отцов, а в более ранней эпохе, отдавая особенное предпочтение английской литературе. Повторим еще раз, что дело здесь не в подражании и не в заимствовании, а именно в усвоении.
Все новое в искусстве выступает, как таковое, не на фоне жизни, а на фоне действующего в данное время художественного канона и, отступая от него, опирается на что-нибудь в прошлом. Поэтому, когда речь идет о влиянии или, вернее, об усвоении, отличия манеры так же существенны, как и сходства, и не противоречат, а наоборот — подтверждают. Таков «байронизм» Пушкина, так у Достоевского по-своему усвоены приемы Бальзака, так у Толстого возрождаются в новой форме и на основе новой поэтики приемы сентиментального романа — Руссо, Стерн, Тёпфер. Характерно еще, что при таком усвоении часто опорой служит вовсе не первоклассный писатель, обладающий самостоятельной художественной индивидуальностью, а второстепенный, как Тёпфер, у которого определеннее и чище выступают приемы школы.
От анализа душевного стиля и установки общего направления, по которому движется художественное сознание молодого Толстого, перейдем к самому творчеству. Прежде всего, будем иметь в виду период ранних рассказов, очерков и повестей, естественным образом отделяющийся от последующего периода больших романов — недаром между ними лежит промежуточный 1862-й год, всецело отданный педагогической работе в деревне. Первое десятилетие творчества (1852— 1862) можно рассматривать особо не только по соображениям внешнего удобства, но и по внутреннему отличию этого периода от следующего. Правда, в пределах этого десятилетия тоже есть значительные переходы, но о них мы скажем попутно.
Работа идет сразу в нескольких направлениях: «Детство», за которым следует «Отрочество», «Роман русского помещика», оставшийся незаконченным («Утро помещика»), «Записки маркера», «Кавказские очерки», из которых складывается повесть «Казаки», и военные очерки. Здесь сплетаются разные линии, но все объединяется, прежде всего, одним признаком: Толстой не озабочен вопросом о фабуле, его вещи создаются не по типу новелл.
У него совсем не то представление о романе, какое было развито романтиками: нет героя, нет типологии, к которой, например, так стремился Тургенев, нет фабулы. Зато, с одной стороны, отвлеченно-нравственные идеи, с другой — психологическая детализация, сообщающая фигурам особую «живость (но не типичность!). Душевный стиль, зафиксированный в дневнике, действует и в творчестве — на моральной основе разрабатываются отдельные движения души. Роман должен быть поучительным, иметь «основание». В связи с «Детством» записано: «4 эпохи жизни составят мой роман до Тифлиса. Я могу писать про него, потому что он далек от меня. И как роман человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен». Записывается и основание для другого романа: «Герой ищет осуществления идеала счастия и справедливости в деревенском быту. Не находя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его наводит его на мысль, что счастье состоит не в идеале, а в постоянном жизненном труде, имеющем целью — счастье других».
Мы уже видели, на основе каких образцов возникало «Детство». Тут Толстой еще очень близок к сентиментальной поэтике — его привлекает интимный тон воспоминаний с лирическими отступлениями в духе Тёпфера, он избегает сатиры и предпочитает мягкий юмор в духе Стерна. Материал сам собой, «естественно», располагается в некоторой последовательности, освобождая художника от забот о плане и открывая простор для исчерпывающего анализа отдельных моментов. Такой «роман», состоящий из описания четырех эпох жизни, представлял много удобств для реализации художественных намерений молодого Толстого. Тёпферу он следует в общем лирически-интимном тоне — достаточно сравнить хотя бы XV главу «Детства» с такими восклицаниями Тёпфера: «Свежее майское утро, лазурное небо, зеркальное озеро, я вас вижу и теперь, но... скажите мне, куда девались ваш блеск, ваша чистота, та прелесть бесконечной радости, таинственности, надежды, какие вы возбуждали во мне?.. Ребяческая любовь, которой первые искры раздуваются потом в неугасимое, неукротимое пламя! Но сколько прелести, сколько чистого блеска в этих начатках чувства, обильного бурями!.. Как верно, нежно и искренно сердце, пока оно чисто и молодо!». Кое-где, действительно, близки даже формы выражения, как указывает сам Толстой. После сцены с Илинькой Грапом есть, например, фраза, объясняющая детскую жестокость: «Особенность детского характера состоит в стремлении генерализировать все понятия, приводить их к одному общему началу, — стремление, происходящее от недостатка развития умственных способностей. Дитя никак не может себе представить, чтобы могла быть вещь, хорошая с одной стороны и дурная с другой»2. Такого же рода комментарий дает Тёпфер: «Рассудок детей самовластен (absolu) именно потому, что ограничен. Все вопросы имеют для них одну только сторону и потому кажутся весьма простыми; разрешение их кажется столь же легким, как очевидным их рассудку, более прямому, чем просвещенному. Поэтому-то многие весьма тихие и кроткие из них дают иногда слишком жестокие отзывы, — самые человеколюбивые — наиболее жестокие».
Душевная жизнь ребенка изображается не как фантастический мир особых неразложимых ощущений и сказочных грёз, а наоборот, она разоблачается, становится ясной, ощутимой и понятной в каждом отдельном движении. Центром художественного задания все время пребывает анализ, действующий на основе самонаблюдения. Художественная манера, намеченная Толстым в «Детстве», окончательно оформилась в «Отрочестве» и перестала увлекать его самого — «Юность» пишется медленно, с трудом, и на этом «роман» останавливается. Остается незаконченным и «Роман русского помещика» — по-видимому, потому, что намеченное «основание» теряется в художественной «мелочности» отдельных бытовых сцен, увлекающих Толстого независимо от моральной программы романа. Только гораздо позже, в «Анне Карениной» (Левин) и в «Воскресеньи» (Нехлюдов), эта программа осуществляется, — т. е. тогда, когда Толстой окончательно развивает прием сочетания «генерализации» с «мелочностью». Та же участь незаконченности постигла и «Казаков» — и приблизительно по той же причине. По началу можно думать, что центром повести будет душевная жизнь Оленина: его отъезд и дорожные размышления дают право на это ожидание. Но после третьей главы его личность отходит на второй план и совершенно заслоняется фигурами Лукашки, Ерошки и Марьянки. Недаром «Казаки» были задуманы как кавказские очерки по следующей программе: «Очерки Кавказа: 1) Рассказы Япишки: а) об охоте; Ь) о старом житье казаков; с) о его положении в горах». Оленин присоединился после, как «основание», и, разбив план очерков, не удался как герой повести[2]. По этим «неудачам» видно, как Толстой ищет выхода за пределы «Детства», хочет найти иные формы, хочет написать «догматический» роман, но каждый раз бросает начатое. Наконец, он останавливается на новом материале — идет серия военных очерков 1852— 1855 гг.
Тут Толстому, помимо всего, есть против чего бороться, есть повод для приема «опрощения». Романтики разработали свою батальную поэтику — Марлинский считался образцом в области этих картин. Война изображалась в тонах пышных, ярких, как зрелище удальства, как мир фантастических приключений, исключительных чувств и т. д. Этому приподнятому изображению войны Толстой противопоставляет свое, подчеркивая ее будничную и нисколько не «интересную», не захватывающую воображение сторону. Прием «опрощения» становится центром его работы над военными очерками и объединяет собой отдельные сцены и рассуждения. Опять нет нужды в особой композиции — это не рассказы и не повести, а очерки, т. е. то, к чему и стремился Толстой, отходя от «Детства». Находит себе место и «генерализация», причем она теперь выступает не в виде лирических отступлений, а самостоятельно внедряется в самый рассказ в виде рассуждений, классификаций и пр. «Набег», первый военный опыт Толстого, рождается из характерного рассуждения о храбрости, записанного в дневнике 1851 г.: «Разговоры офицеров о храбрости. Как заговорят о ком-нибудь, — храбр он? Да, так. Все храбры. — Такого рода понятия о храбрости можно объяснить вот как. Храбрость есть такое состояние духа, при котором силы душевные действуют одинаково, при каких бы то ни было обстоятельствах, или напряжение деятельности, лишающее сознание опасностей. Или есть два рода храбрости: моральная и физическая. Моральная храбрость, которая происходит от сознания долга и вообще от моральных влечений и не от сознания опасности. Физическая та, которая происходит от физической необходимости, не лишая сознания опасности, и та, которая лишает этого сознания». Легко видеть близость этой записи к рассуждениям о храбрости в «Набеге». «Что такое храбрость, это качество, уважаемое во всех веках и во всех народах?» и т. д. Несомненна также связь между различием двух родов храбрости и главными фигурами «Набега»: капитан Хлопов, родоначальник будущих истинных храбрецов Толстого вроде Тушина, называющий храбрым того, «который ведет себя как следует» (моральная храбрость), и поручик Розенкранц, образовавшийся по Марлинскому и Лермонтову. Удар Толстого направлен в самый центр романтической поэтики войны — в изображение героя, удальца. Храбрым оказывается спокойный и даже вялый капитан Хлопов. Методу опрощения подчинено все. Вместо веселого зрелища с подвигами силы и отваги — «непонятное явление»: в обстановку военного лагеря, на фоне ужаса и смерти, все время врываются черточки самой обыкновенной, «нормальной» бытовой жизни — офицеры и солдаты играют, пьют, шутят, смеются, генералы любезничают с дамами. Недаром Толстой делает рассказчика «волонтером», причем, как показывает дневник, это было сделано сознательно — после того, как кое-что было уже написано: «Завтра начинаю переделывать "Письмо с Кавказа", я себя заменю волонтером». Этим Толстой облегчает себе прием опрощения и «остранения» батальной темы: волонтер — лицо свежее, новое, наблюдатель, еще не захваченный в общий круг военной жизни, ставшей для других привычной. Он имеет право удивляться, а Толстому нужен именно этот эффект: «Понятия мои о храбрости окончательно перепутались... Я совершенно ничего не понимал... Война? Какое непонятное явление! Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения — справедливым». Рассудок введен как новое творческое начало, благодаря действию которого явление разлагается на составные части, из которых каждая начинает жить своей особой жизнью. Романтическая слитность чувств, чуждавшаяся вмешательства рассудка, разбита этим приемом. Намеченный в «Набеге» прием этот развивается в остальных военных очерках. Метод самонаблюдения, в котором Толстой так совершенствовался с юных лет, дает богатый материал. Как «Детство» само по себе давало ему право на возможность входить в мельчайшие детали, так военные очерки доставляют ему множество поводов для постановки общих нравственных вопросов и для разнообразного психологического анализа. Каждый раз берется то или другое душевное состояние и разрабатывается по методу опрощения. Первый севастопольский рассказ формулирует общее понимание войны — укрепляется то, что было уже в «Набеге»: «Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, — ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя... Вы увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении, — в крови, в страданиях, в смерти»... В следующих очерках разработаны чувства тщеславия, страха и т.д. При этом намечается особый прием, который утверждается и в романах — прием, названный Чернышевским «изображением внутреннего монолога»: передается все то, что пробегает в мыслях героя, так что читатель присутствует при самом процессе душевной жизни во всех ее переменах и переходах. Психологический анализ доходит до предела — человеческая душа разоблачается до оснований, так что художник ставит себя в положение полного ее властителя. Прием этот совершенствуется в том направлении, что параллельно с «внутренним монологом» передаются и внешние слова человека, и его движения. Уже в «Рубке леса» есть такое параллельное изображение: «Вы где брали вино? — лениво спросил я Волхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один — господи, приими дух мой с миром, другой — надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро». Во втором севастопольском рассказе есть еще эпизод, характерный для батальных приемов Толстого и служащий как бы этюдом к военным эпизодам «Войны и мира» — встреча Песта с французом: методом разложения душевной жизни Толстой достигает того, что «подвиг» становится бессмыслицей.
Итак, художественное внимание Толстого сосредоточено на методах разложения, опрощения и разоблачения душевной жизни в противовес прежнему изображению слитного потока чувств. Ряд романтических шаблонов, как война, Кавказ и т. д., подвергается тому же действию. После военных очерков особенности художественной манеры Толстого настолько определяются, что улавливаются критиками. А. В. Дружинин пишет в это время Толстому: «Есть у вас поползновение к чрезмерной тонкости анализа, которое может разрастись в большой недостаток. Иногда вы готовы сказать: у такого-то ляжка показывала, что он желает путешествовать по Индии». Очень верно определил приемы психологического анализа Толстого Чернышевский, написавший в «Современнике» 1856 г. статью по поводу вышедших тогда отдельными изданиями «Детства» и «Отрочества» и «Военных рассказов». «Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином... Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других... обыкновенно нам представляются только... начало и конец психического процесса... Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс, — и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым». Эту особенность Чернышевский объясняет самоуглублением Толстого, его неутомимым наблюдением над самим собою.
Действительно, самоуглубление продолжается и растет вместе с творчеством — одно питается другим. Постепенно подготовляется то, что принято называть кризисом. Самоуглубление это характерно тем же опрощением — Толстой не щадит и свою душу, искажая свою собственную душевную жизнь. Вот как он изображает себя в дневнике этого времени: «Что я такое? Один из 4-х сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17 лет; без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил, человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни; наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов и, главное — привычек, а оттуда, придравшийся к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунаевскую армию 26 лет прапорщиком почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без уменья жить в свете, без знания службы, без практических способностей, но — с огромным самолюбием. Да, вот мое общественное положение». Таким же «чисткам» или «внутренним переборкам» будут подвергать себя и герои Толстого — Вронский, Левин, Нехлюдов. По отношению к людям Толстой в эту эпоху становится нетерпимым, задорным, едким. Налет душевной «чувствительности» пропадает — является потребность в сатирическом тоне. Фет, в это время познакомившийся с Толстым, сразу заметил в нем «невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений». Тургенев — постоянная его жертва. Петербургские литераторы раздражают его — их преклонение перед Шекспиром и Жорж-Занд заставляют его высказаться против этих «богов». Традиции романтического поколения систематически уничтожаются им — больше всего чувствует на себе это Тургенев. Недаром в 1856 г. он пишет Толстому: «Что касается до моего "Фауста", — не думаю, чтоб он вам очень понравился. — Мои вещи могли вам нравиться — и, может-быть, имели некоторое влияние на вас только до тех пор, пока вы сами сделались самостоятельны. Теперь вам меня изучать нечего, вы видите только разность манеры, видите промахи и недомолвки; вам остается изучать человека, свое сердце и — действительно великих писателей. А я писатель переходного времени — и гожусь только для людей, находящихся в переходном состоянии».
Однако творчество Толстого находится в это время тоже в переходном состоянии, как и жизнь. Рассказы 1856 года — странные упражнения в новом роде. Общение с петербургскими литераторами раздражает, но и влияет на него — являются попытки не свойственных Толстому новелл: «Метель», «Два гусара»[3]. Толстому тесно в таких рамках, голос его слишком громок — получается опять незаконченность, несоответствие. «Два гусара» открываются грандиозным периодом, годным для вступления к большому роману — после него следует бытовой рассказ, ничего общего с этим размахнувшимся и странным жестом не имеющий. Нет-нет, да и вырвется фраза большого стиля — вроде начала IX главы: «Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарилось, еще более родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дурного старого погибло, много прекрасного молодого выросло и еще больше недоросшего, уродливого молодого появилось на свет божий». Странным кажется и прикрепление рассказа к определенной эпохе (1800-м годам) — это остается внешним придатком. Но эти странности и несоответствия объясняются, если иметь в виду постепенное приближение Толстого к большим романам. За границей (1857 г.) Толстой пишет мало — творчество его неспокойно, полно раздражения. «Альберт» и «Люцерн» не имеют успеха — в связи с этим является новое беспокойство. В дневнике 1857 г. записано: «Петербург сначала огорчил, а потом совсем оправил меня. Репутация моя пала или чуть скрипит, и я внутренно сильно огорчился; но теперь я спокоен, я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно; а там что хочет говори публика. Но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда... Пусть плюет на алтарь». Но наделе работа все-таки не ладится: «догматическая» повесть «Три смерти», проба нового романа — «Семейное счастье» (от которого он сам приходит в ужас и хочет бросить литературу), «Поликушка» — все это не то большое, к чему стремится Толстой. Недаром он все больше отъединяется от «литературы», как бы охладевая к ней вместе с публикой, которая охладела к нему. Дружинину приходится убеждать его: «На всякого писателя набегают минуты сомнения и недовольства собою, и, как ни сильно и ни законно это чувство, никто еще из-за него не прекращал своей связи с литературой, а всякий писал до конца. Но у вас все стремления, добрые и недобрые, держатся с особенным упорством... Вы частью по талантам, частью по светским качествам, а частью просто по стечению счастливых обстоятельств стали в такое благоприятное отношение к публике. Стало быть, тут уходить и прятаться нельзя, а надо работать, хотя бы до истощения сил и средств». Тогда же в письме к Фету Дружинин прибавляет: «В решительности вашей и Толстого, если я не ошибаюсь, нехорошо только то, что она создалась под влиянием какого-то раздражения на литературу и публику». Раздражение это, действительно, было и имело реальные основания — это подтверждается хотя бы характерной фразой А. Григорьева в письме 1861 г. к Н. Страхову: «Статья о Толстом пишется, но очень медленно. Руки отнимаются. Кому теперь нужда до Толстого? Он и сам-то как будто убоялся высоты того тона, который так искусно забрал было в "Люцерне", "Альберте", "Трех смертях", "Семейном счастии"! Не разобщаются люди с современностью безнаказанно, как бы ни было искренно разобщение».
IV
Период очерков и этюдов закончен — Толстой на пороге больших работ. Мы видели, что к концу 50-х годов вещи Толстого приобретают странный вид незавершенности, несоответствия; публика увидела в этом признаки падения — на самом деле это означало переход к новому периоду творчества. Все написанное между 1852 и 1862 гг. можно рассматривать как подготовительную разработку отдельных тем и приемов — как наброски к будущим большим вещам. От «Детства», «Отрочества» и «Юности» через «Семейное счастие» идут нити к семейным главам «Войны и мира» и к самому замыслу «Анны Карениной»; батальная поэтика разработана в военных очерках; «Утро помещика», «Казаки», «Поликушка», «Тихон и Маланья» связаны между собою общей тенденцией к изображению «народа» с преобладанием то бытового, то идейного материала и с характерным противопоставлением рефлексирующего и непосредственного сознания (Оленин — Брошка) — так подготовляются фигуры Пьера, Левина и вообще «помещичьи» главы «Анны Карениной». Через все эти очерки проходит толстовский метод опрощения и анализа («диалектика души») с характерными приемами «мелочности». Разработана и «генерализация», вначале еще робкая и имеющая лирический оттенок, а затем все более приобретающая характер «догмы» и нередко окрашенная сатирическим духом. «Люцерн» — вещь уже не только догматическая, но и сатирическая, задуманная как парадокс и насыщенная афоризмами; отсюда — прямая линия к социальным и историческим парадоксам «Войны и мира»: «Что англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китайцы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую монету; что французы убили еще тысячу кабилов за то, что хлеб хорошо родится в Африке и что постоянная война полезна для формирования войск; что турецкий посланник в Неаполе не может быть жид, и что император Наполеон гуляет пешком в Plombifcres и печатно уверяет народ, "что он царствует только по воле всего народа"» и т. д. — это уже характерный для зрелого Толстого язык и синтаксис. «Три смерти» — тоже скорее притча, чем рассказ, о чем свидетельствует и самая композиция, сложение по методу случайного скрещения независимых явлений: умирает барыня и умирает мужик — вот события, нужные Толстому; по внутренней связи, настоящего узла между этими фактами нет — поэтому изобретается внешняя связь в виде ямщика. Весь рассказ держится на временнбм совпадении и потому совершенно статичен, что вообще характерно для художественных построений Толстого.
Итак, все готово для большой работы. Манера определилась, но маленькие формы очерков и повестей явно не вмещают и не выдерживают всего, что нужно сказать Толстому. Внутреннее несоответствие становится заметным для современников вместе с особенностями художественной манеры. Тургенев находит, что в «Поликушке» — «материалу уж больно много потрачено»; А. Григорьев в письме к Фету дает общую характеристику: «Толстой... поставил себе задачею даже с некоторым насилием гнать музыкально-неуловимое в жизни, нравственном мире, художестве. В этом пока его сила, в этом его и слабость». Необходим переход к иным формам. Равнодушие публики огорчает и раздражает Толстого, но он сам сознает, что наступает серьезный момент: «надо работать добросовестно, положить все свои силы».
Дружинину казалось, что Толстой отходит от литературы. Действительно, он пишет мало, а в 1862 г. берется за организацию народной школы в своей деревне и как будто совсем бросает сочинительство. На самом деле он отходит только от литераторов, кружков и журналов. В уединении и в новом соприкосновении с жизнью, с деревней должны созреть новые силы. До сих пор творчество шло более или менее стихийно, пробиваясь сквозь толщу всяких дел, литературно-журнальных отношений и практических забот. Теперь, в соответствии с общим направлением Толстого, творчество должно быть осмыслено, упорядочено. И вот характерно, что сама педагогическая работа оказывается материалом для размышлений и наблюдений над искусством, над природой и смыслом художественного творчества. Именно в этот период «молчания» создаются основы его эстетики, утвержденной позже в книге «Что такое искусство». Толстой в школе остается художником — она для него «поэтическое, прелестное дело, от которого нельзя оторваться». Прекрасное свидетельство об этом его замечательная статья: «Кому у кого учиться: крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?» (1862). Как бы неожиданно для самого себя Толстой превращается из учителя в экспериментатора, а статья его из педагогического трактата превратилась в литературный памфлет, направленный против той петербургской «литературы», от которой Толстой убежал в деревню. Здесь он разрабатывает те самые проблемы, на которых сосредоточено его собственное внимание.
При переходе к большим работам необходимо было решить вопрос не только о способах сочетания мелочности с генерализацией, но и более общий — о способах подчинения различных психологических и физических подробностей общей постройке и о приемах этой постройки. Недаром за границей в 1861 г. он увлекается романами Дюма как истинный профессионал: «Интриги у него чудесные, не говоря об отделке: я могу его читать и перечитывать, но завязки и интриги составляют его главную цель». Бесформенность, дробность и отсутствие отделки в последних очерках Толстого должны были беспокоить его самого. Метод опрощения и разложения настолько увлекал его, что до сих пор еще ни разу он не ставил себе чисто композиционных задач; теперь именно эти задачи стояли на очереди. На уроках в школе Толстой стал невольно экспериментировать в этом направлении и выделил двух мальчиков, обнаруживавших художественные наклонности — Семку и Федьку. Эти два мальчика представляли собой два разных художественных типа — как раз те, между которыми колеблется в это время творчество самого Толстого. В них он как бы видит себя и потому пристально, с волнением и с восторгом, наблюдает самую психологию их творчества. Семка отличался резкой художественностью описания (т. е. именно тем, к чему Толстой стремился в самом начале, заботясь о полном сходстве и живости), Федька — верностью поэтических представлений и в особенности пылкостью и поспешностью воображения. У Семки — «подробности самые верные сыпались одна задругою. Единственный упрек, который можно было ему сделать, тот, что подробности эти обрисовывали только минуту настоящего без связи к общему чувству повести». Но ведь это — главная особенность манеры самого Толстого: та самая «мелочность», за которую его не раз упрекали. Ведь именно об этом говорит, например, В. П. Боткин в письме к Фету во время печатания «Войны и мира»: «Как тонко подмечает он разные внутренние движения, — просто поразительно! Но несмотря на то что я прочел больше половины, нить романа нисколько не начинает уясняться, так что до сих пор подробности одни преобладают... Как ни превосходна обработка малейших подробностей, а нельзя не сказать, что этот фон занимает слишком большое место». О том же с возмущением говорит Тургенев, находя, что это «своего рода шарлатанство: публика, которой с таким эффектом подносятся эти "острые носки Александровских сапогов" и т. п., невольно должна подумать, что автору самые личности должны быть — у! как хорошо известны, коли он даже мелочи такие знает, а автору, вероятно, только мелочи эти и знакомы». Общее мнение, — что Толстой «разбросался в мелочах и деталях, не связанных никакою общею идеей». Сравним с этим то, что Толстой говорит о художественной манере Семки: «Семка, казалось, видел и описывал находящееся перед его глазами: закоченелые, замерзлые лапти и грязь, которая стекла с них, когда они растаяли, и сухари, в которые они превратились, когда баба бросила их в печку... Семке нужны были преимущественно объективные образы, лапти, шине- лишка, старик, баба, почти без связи между собой». Объективная манера Семки, это чистый натурализм, «описательство», столь близкое манере самого Толстого, но вместе с тем не вполне его удовлетворяющее. Федька — олицетворение другой, «субъективной» манеры, которая нравилась Толстому в Стерне и Тёпфере: «он видел только те подробности, которые вызывали в нем то чувство, с которым он смотрел на известное лицо... Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут». Отсюда — особенности его стиля, которых нет у Семки: ему хотелось «не говорить, как рассказывают, как пишут, т. е. художественно запечатлевать словом образы, чувства; он не позволял, например, перестанавливать слов, скажет: у меня на ногах раны, то уж не позволяет сказать: у меня раны на ногах. Размягченная и раздраженная его в это время душа чувством жалости, т. е. любви, облекала всякий образ в художественную форму и отрицала все, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Семка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей о ягнятах в коннике и т. п., Федька сердился и говорил: "ну тебя, уж наладил!" Не ясно ли, что в этих двух мальчиках Толстой видит свое творчество с его двумя уклонами — натуралистическим и сентиментальным? И недаром Федька волнует его больше — его окрик отдается в душе самого Толстого как предостережение: «Чувство меры было в нем так сильно, как ни у одного из известных мне писателей, — то самое чувство меры, которое огромным трудом и изучением приобретают редкие художники, во всей его первобытной силе жило в его неиспорченной детской душе». Здесь уже намечен будущий переход Толстого к примитиву. Вместо сюжетов Толстой дает ученикам пословицы, которые служат как бы канвой для плетения узора, для сцепления подробностей в простой и ясный орнамент. В это время Толстой сам уже мечтает о таких примитивах: «В числе неосуществимых мечтаний мне всегда представляется ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы».
Итак, задача Толстого — проследить зарождение и процесс художественного творчества в его самых основных, первобытных и потому искренних формах. Он поражен и глубоко взволнован результатами своих наблюдений: «Мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии... Я оставил урок, потому что был слишком взволнован... Действительно, я два-три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного... Я долго не мог дать себе отчета в том впечатлении, которое я испытывал, хотя и чувствовал, что это впечатление было из тех, которые в зрелых летах воспитывают, возводят на новую ступень жизни и заставляют отрекаться от старого и вполне предаваться новому». Этот патетический тон может показаться странным, но надо помнить, что впечатления эти явились в дни сомнений и разочарований и послужили толчком к пробуждению художественной энергии. Наступает новый период жизненного и творческого подъема. Толстой женится, наслаждается покоем и работой. Осенью 1863 г. он пишет письмо А. А. Толстой: «Я муж и отец, довольный вполне своим положением и привыкнувший к нему так, что для того, чтобы почувствовать свое счастье, мне надо подумать о том, что бы было без него. Я не копаюсь в своем положении (grtibeln — оставлено) и в своих чувствах и только чувствую, а не думаю, в своих семейных отношениях. Это состояние дает мне ужасно много умственного простора. Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810 и 1820-х годов, который занимает меня вполне с осени... Детей и педагогику я люблю, но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад. Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет. Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал». Ясно, что наступил, действительно, новый период — сосредоточенной, крупной работы.
Долго Толстой работает над собранием материалов и обдумывает состав романа. В 1864 г. он пишет Фету: «Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них ооо ооо ужасно трудно». Характерно, что Толстого заботит не сюжет, не построение, не личность героя, а именно «сочетания» отдельных моментов, стоящих в его воображении. В русской литературе для Толстого не было традиции — русский роман только впервые нарождался в эти годы. Тургенев не мог быть для него опорой — слишком чужда была его художественному методу лирическая композиция тургеневских романов, сосредоточенных всегда около одной центральной фигуры, душевным своим строем близкой автору, и потому интимных по духу. Недаром он с раздражением и насмешкой говорит в письмах к Фету о «Дворянском гнезде», о «Накануне», о «Довольно»: «прочел я "Накануне". Вот мое мнение: писать повести вообще напрасно, а еще более таким людям, которым грустно и которые не знают хорошенько, чего они хотят от жизни. Впрочем, Накануне" много лучше "Дворянского гнезда "... Девица из рук вон плоха: Ах, как я тебя люблю... у нее ресницы были длинные. Вообще меня всегда удивляет в Тургеневе, как он со своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности даже до приемов... "Довольно" мне не нравится. Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненного страдания».
Уже указывалось на родство Толстого с английским романом — и именно с той его разновидностью, которая носит название «семейного» романа[4]. Действительно, эта форма романа должна была быть ближе всего художественному методу Толстого, тогда как романтические традиции казались ему банальными. Тут — и свойственная Толстому «мелочность» разработки, и отсутствие исключительных страстей, и нравственная «генерализация», и общая простота изображаемой жизни. Вместо лирической напряженности и обобщенной, символической передачи чувств — спокойный, эпический, несколько рассудочный тон и мелкая разработка деталей. Вместо изображения личности, трагически переживающей борьбу страстей, повседневные факты человеческого бытия: рождение, брак, семейная жизнь, смерть и т. д. Нет героев, есть общая человеческая жизнь, носителями которой являются отдельные личности. Это — романы «без героев», как назвал Теккерей свою «Ярмарку тщеславия»[5], точно подчеркивая этим отличие своего романа от установившегося у романтиков типа. «Война и мир» воспринималась современниками тоже как нечто непохожее на прежний тип романа. В этом смысле характерны, например, суждения Р. Дистерло[6] о «Войне и мире»: «Во всем романе вы не найдете блестящих и грандиозных идеалов, поражающих воображение, не найдете рыцарей без страха и упрека, страстей пламенных и неудержимых, не найдете блаженства неземного, страданий сверхчеловеческих и тому подобных иллюзий, которыми питалась поэзия романтическая».
Толстому совсем не нужна личность сама по себе. Его романы слагаются не как история отдельной души, а скорее как энциклопедия человеческого бытия — центром служит не индивидуальная психология, а диалектика души вообще. Ничто не остается таинственным, как у Тургенева, все подвергается анализу до тех пор, пока становится точным и ясным. Он сам неизменно занимает позицию зоркого наблюдателя, не сливаясь ни с одним лицом. Поэтому, несмотря на детали, интимная жизнь личности остается вне изображения. Люди Толстого как бы чувствуют себя во власти сурового властителя, управляющего их действием. Они возникают в воображении Толстого сами по себе, не как самостоятельные единицы, но неизменно в сочетаниях с определенными событиями жизни. Эти сочетания моментов и заботили Толстого во время предварительной работы. Для психологии его творчества очень характерно маленькое письмо к княгине В. (1865 г.), в котором он объясняет ей Андрея Болконского: «В Аустерлицком сражении, которое будет описано, но с которого я начал роман, мне нужно было, чтобы был убит блестящий молодой человек, в дальнейшем ходе самого романа мне нужно было только старика Болконского с дочерью, но, так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо, я решил сделать блестящего молодого человека сыном старого Болконского. Потом он меня заинтересовал, для него представилась роль в дальнейшем ходе романа, и я его помиловал, только сильно ранил вместо смерти. Так вот мое, княгиня, совершенно правдивое и хотя от этого самого и неясное объяснение того, кто такой Болконский».
Основа художественного метода осталась у Толстого той же, какой была вначале: ему важны состояния, положения, моменты, а все остальное служит только связью, сочетанием. Он сам записал в дневнике 1861 г.: «Можно ли целью одной иметь положенья, а не характеры? Кажется можно, я то и делал, в чем имел успех. Только это не всеобщая задача, а моя». Колоссальные размеры «Войны и мира» открыли ему простор для такого метода, тогда как маленькие формы рассказов стесняли. Если извлечь из «Войны и мира» всю генерализацию, то останутся яркие изображения отдельных состояний человеческой души. Не без основания поэтому удивлялись современники конструкции этого романа, находя, что «подробности одни преобладают». Это наблюдение повторено и в статье Андрея Белого[7], который утверждает, что «мы видим ряд друг друга сменяющих законченных сцен, переданных в поистине гениальной форме. В изображении тончайших движений души Пьера Безухова, князя Андрея видим мы изумительную обработку отдельных деталей общего содержания "Войны и мира" Видимо, индивидуальнейшая психология всех действующих лиц романа слагалась в Толстом в одно колоссальное здание человеческой души». Отдельные сцены — это «атомы одной формы: из всех атомов форм по плану Толстого должна сложиться нераздельная цельность "Войны и мира". Вся эта сумма моментов составляет цельный рельеф ищущей смысла души на фоне переживаемых Россией событий. И однако такой цельный рельеф отсутствует в "Войне и мире". Нам показываются точно детские кубики, из которых должна сложиться картина... Мы знаем, что все те моменты — сцены суть моменты единой сцены, которой имя "Война и мир". Но где цельность той гениально задуманной сцены, гениально выполненной в тысячах мелочах: все здание "Войны и мира" стоит перед нами все еще в творческих лесах. Коллективная душа русского народа, раздробленная Толстым в сумме его борющихся и страдающих героев, не сложилась в "Войне и мире". Нет здесь естественной точки архитектонического единства, и в этом смысле нет композиции». Это совпадение отзывов не случайно. Если оставить в стороне оценочную точку зрения (т. е. — хорошо это или плохо), а только стремиться к определению особенностей толстовского романа, то надо признать прежде всего эту «атомность» композиции. Роман совершенно статичен: сцены именно сменяют друг друга, чередуясь, а не текут сплошным потоком; каждая сцена как бы замкнута своими пределами, художественно насыщена и может быть воспринята вне всего остального. Движение романа достигается скачками от одной завершенности к другой. Непрерывной линии, единого стержня нет. Иллюзия необычайной «живости», натуральности достигается необычайным разложением отдельных состояний. Характерно в этом смысле все построение — на двух плоскостях, расположенных независимо и не соприкасающихся: исторические события и семейная жизнь. В одной плоскости идет «генерализация», в другой — «мелочность». То, что прежде смешивалось, переплеталось и мешало друг другу, теперь обособлено. Получилось своеобразное сочетание противоречивых элементов: отвлеченной идеи с конкретностями «индивидуальнейшей» психологии. Роман выглядит парадоксом, и именно это характерно для Толстого, борющегося с собственным художественным инстинктом и с молодых лет насторожившегося по отношению к искусству, как к чему-то ложному или жуткому. Тут интереснейшая антиномия: чистого эстетизма и утилитаризма. Борьба с нею проходит через всю деятельность Толстого, тут личное (натура) совершенно сливается с общим: «душа» Толстого с кризисом метафизической эстетики и романтического искусства.
Характерен для Толстого выбор тех душевных состояний, которые он подвергает художественному разложению. Это не те состояния, в которых личность владеет собой и проявляет особенности своего характера, а чаще всего и постояннее всего — иные: когда привычные скрепы душевной жизни распадаются, душа разлагается на свои элементы и, не владея ими, соединяет их в беспорядке или в необычном, странном, помимо воли возникающем порядке. Тут — простор для «химического» метода Толстого, и он широко использован в «Войне и мире». Дремотные состояния, лихорадочный бред, предсмертные думы, самая смерть и отношение к ней окружающих или, наконец, просто периодические припадки душевного хаоса, распада, «остановок» и «чисток» — вот излюбленные Толстым моменты, на которых он останавливается с особенным тщанием. Сюда же относятся и состояния военного экстаза, «пыл сражения»: душа тоже в смятении, мысли идут в беспорядке, человек «вне себя». Сменой этих состояний душевного распада и разложения определяется построение его романов — так связываются явления. Тут художник — полный властитель над материалом: он не связан требованиями «естественности», потому что самые положения неестественны, необычны. И если при чтении Толстого кажется, что все люди переживают эти состояния именно так и только так, то это торжество его искусства, художественный обман. Толстому нужно властвовать над своими лицами, и вот он лишает их собственной воли, сознания индивидуальности, погружает их в состояние сна, болезни или душевного кризиса и делает их рабами своей художественной воли. Он изображает их мысли и чувства, и мы тоже его рабы, потому что невольно верим ему. Таковы сцены болезни и смерти князя Андрея, сон Николеньки, сон Пьера, таковы сцены сражений. Характерно, что в описании сражений Толстой следовал примеру Стендаля, как сам потом указывал: «Я больше, чем кто-либо другой, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Перечтите в "Chartreuse de Parme" рассказ о битве при Ватерлоо. Кто до него описал войну такою, т. е. такою, какова она на самом деле? Помните Фабриция, переезжающего поле сражения и "ничего" не понимающего... все, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля»[8]. Действительно, уже в «Севастопольских рассказах» мы обращали внимание на то, что война сделана Толстым странной, непонятной[9]. Так же изображены схватки Николая Ростова с французами. Близость с методом Стендаля несомненна — стоит только прочитать III и IV главы «Chartreuse de Parme»: Фабриций все ищет, где сражение, и все надеется: «Наконец-то я буду сражаться по-настоящему... Убью врага»[10], а на самом деле видит смену бестолковых и непонятных ему сцен. Выбор именно Стендаля очень типичен для Толстого, особенно в сочетании с неизменным его почитанием Руссо и презрением к Жорж-Занд. Стендаль занимает по отношению к романтикам аналогичную Толстому позицию. Г. Лансон так характеризует его манеру: «Стендаль — ученик XVIII века, ученик Кондильяка, Кабаниса, энциклопедистов, идеологов... Метод его — анализ. Он разлагает действия своих героев на составные части, на идеи и на чувства... Он роется в скрытых причинах того или другого поступка, подробно и до мелочности точно разбирает оттенки чувств». Сходство художественных методов ясное, и снова подтверждается родство Толстого с XVIII веком. Стендаль и Руссо — мелочность и генерализация, «объективный» Семка и «субъективный» Федька, натуралистический анализ и сентиментальная (в первоначальном, как у Стерна, смысле слова) рассудочность. А вот Жорж-Занд, которой так поклонялся Тургенев, возмущала Толстого; в 1865 г., т. е. именно во время работы над «Войной и миром», он записывает в дневнике: «читал "Con-suelo" (Жорж-Занд). Что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства и морали — пирог с затхлым тестом и на гнилом масле с трюфелями, стерлядями и ананасами!»
Стремление к парадоксальности и к полемике против романтических банальностей отразилось на составе действующих лиц. Толстовский Наполеон, конечно, казался кощунством на фоне традиционного представления о нем как о гении, после Пушкина и Лермонтова. Так же развенчан был Кавказ. И, конечно, художественным парадоксом, вдохновляющим Толстого именно своей парадоксальностью, было противопоставление Наполеону Кутузова, образ которого уже подготовлен был в сознании Толстого, когда он в 1854 г. описывал тетушке Ергольской князя Меньшикова: «Я видел его под огнем в первый раз это утро. Надо было видеть эту немного комичную фигуру высокого роста, руки за спиной, фуражка на затылке, в очках, с говором, напоминающим индюка. Видно, что он так занят общим ходом дел, что пули и ядра не существуют для него; он выставляет себя на опасность с такой простотой, что можно подумать, что он и не знает о ней, и невольно боишься за него больше, чем за себя». Так перебрасывается мост от эпохи севастопольских рассказов к «Войне и миру». Традиционно-величавое сделано жалким и смешным, а малое и смиренное, «немного комичное» — великим. Прием сатирический, которого вначале Толстой избегал, но после, уже в «Люцерне», стал применять. Самый стиль «Войны и мира» изобилует парадоксально-сатирическими фразами, которые иногда имеют вид каламбура. Таково, например, начало XXI главы первого тома: «В то время, как у Ростовых танцовали в зале шестой англез..., с графом Безуховым сделался шестой удар».
В той системе вопросов, которой мы ограничиваемся в этом очерке, интересен еще один: насколько можно «Войну и мир» рассматривать как исторический роман, какой смысл имеет в нем выбранная эпоха? В русской критической литературе утвердилось мнение, что «Война и мир» — историческая эпопея, воспроизводящая дух той эпохи. Вопрос очень существенный потому, что создание настоящего исторического романа, с сохранением национального духа определенной эпохи, принадлежит романтикам. Что представляет собой в этом смысле «Война и мир», какое место занимает в нем 1812 год? Вопреки установившемуся мнению, кажется, только смелый К. Леонтьев в своей блестящей работе о романах Толстого[11] задавал вопрос: «Не слишком ли этот стиль во многих случаях похож на психический стиль самого гр. Толстого, нашего чуть не до уродливости индивидуального и гениального, т. е. исключительного, современника? Не знаю, прав ли я в моем инстинктивном сомнении. Но знаю одно, что и при первом чтении в 68 году я это невеяние вообще 12-м годом почувствовал, и даже тогда почувствовал так сильно, что в первое время был очень недоволен "Войной и миром" за многое и, между прочим, за излишество психического анализа». Дальше Леонтьев представляет себе, как написал бы Пушкин роман о 12-м годе: «Роман Пушкина был бы, вероятно, не так оригинален, не так субъективен, не так обременен и даже не так содержателен, пожалуй, как " Война и мир", но зато ненужных мух на лицах и шишек "претыкания" в языке не было бы вовсе; анализ психический был бы не так "червоточив", придирчив — в одних случаях, не так великолепен в других; фантазия всех этих снов и полуснов, мечтаний наяву, умираний и полуумираний не была бы так индивидуальна, как у Толстого... У Пушкина религиозное освещение было бы ближе к общенациональному; может быть и весьма субъективное по искренности, оно было бы менее индивидуальным по манере и менее космополитическим по духу, чем у Толстого. И герои Пушкина, и в особенности он сам от себя, где нужно, говорили бы почти тем языком, каким говорили тогда, т. е. более простым, прозрачным и легким, не густым, не обремененным, не слишком так или сяк раскрашенным, то слишком грубо и черно, то слишком тонко и "червлено", как у Толстого. И от этого именно "общее веяние", обще-психическая музыка времени и места были бы у Пушкина точнее, вернее; его творение внушало бы больше исторического доверия и вместе с тем доставляло бы нам более полную художественную иллюзию, чем "Война и мир". Пушкин о 12-м годе писал бы вроде того, как написаны у него "Дубровский", "Капитанская дочка" и "Арап Петра Великого" <...> В "Войне и мире" лица вполне верны и правдоподобны только самим себе, психологически, — и даже я скажу больше: точность, подробность и правда их общепсихической обработки так глубока, что до этого совершенства, конечно, не дошел бы и сам Пушкин».
Позволительно считать, что Леонтьев в своем инстинктивном чувстве гораздо более прав, чем априорные и безразлично-восторженные суждения историков литературы. Это подтверждается даже записью самого Толстого в дневнике (19 марта 1865 г.); начало романа было уже сдано в печать, когда вдруг явилась мысль о сопоставлении Александра и Наполеона: «Я зачитался историей Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль — написать психологическую историю: роман Александра и Наполеона». Дальше идет программа, направляемая именно психологической темой, а не исторической — своеобразием психических сочетаний, а не национально-историческим синтезом. Неудивительно, что задуманные после «Войны и мира» исторические романы (сначала из эпохи Петра Великого, потом — «Мирович») не удались, и вместо них — почти неожиданно для самого Толстого возник роман «бытовой», или, вернее — семейный. Недаром историческая часть «Войны и мира» сложилась в виде научного сочинения с деловым перечислением фактов и их философским освещением. В этом смысле «Война и мир» есть тоже парадокс по отношению к установившейся у романтиков форме действительно исторического романа. Научная часть, встреченная недоумением современников, была боевым художественным приемом, направленным против романтического раскрашивания исторических эпох. Но зато она и осталась вне художественного восприятия — в этом отношении семейно-психологическая часть настолько преобладает, что заслоняет собой эпоху, и образы Наташи или Пьера остаются в воображении совершенно вне атмосферы 12-го года, вне Наполеона, Александра и Кутузова.
Такое понимание «Войны и мира» подтверждается еще и характером подготовительных записей для задуманного романа из эпохи Петра Великого. Записи эти состоят из набросков пейзажей и бытовых сцен, решительно ничем не связанных с какой-либо исторической эпохой: «Вечер. Низкие, темные сплошные, разорванные на заре тучи. Тихо, глухо, сыро, темно, пахуче, лиловатый оттенок... Скотина лохматая, из-под зимних лохмотьев светятся полянки перелинявших мест... На острых травках, на кончиках, радуги в росе. Пашут под гречу. Черно, странно. Бабы тренькают пеньку и стелют серые холсты...» и т. д. Понятно теперь возмущение Тургенева «острыми носками Александровских сапогов» — он чувствовал, что этим приемом уничтожается традиция исторического романа как синтеза эпохи. В радуге, которая блестит на кончиках травок, так же должна была потонуть и стать художественно-безразличной Петровская эпоха. Вышло бы повторение «Войны и мира» — понятно, что Толстой разочаровался в этих планах и отошел от мысли о новом историческом романе: «Сам он не знает, что будет из его работы, — пишет в письме С. А. Толстая, — но мне кажется, что он напишет опять подобную "Войне и миру" поэму в прозе, но из времен Петра Великого». Между тем сам Толстой писал в это же время (1872 г.) Страхову: «Обложился книгами о Петре I и его времени, читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу... Мне даже кажется, что ничего не выйдет из моих приготовлений. Слишком уж долго я примериваюсь и слишком волнуюсь». В начале 1873 г. все лица, как опять пишет С. А., «готовы, одеты, наряжены, посажены на своих местах, но еще не дышат. Я это ему еще вчера сказала, и он согласился, что правда. Может быть, и они задвигаются и начнут жить, но еще не теперь». Толстой был прав — они не задвигались и уступили свои места неожиданно пришедшим фигурам Анны, Вронского и Левина.
v
После «Войны и мира» Толстой опять чувствует потребность отойти от писательства и погрузиться в жизнь — типичное для него периодически возникающее состояние тревоги, очередная «остановка». Опять является педагогика — работа над азбукой и арифметикой, статьи о народном образовании и т. д. Как всегда у Толстого, эта внешняя деятельность совершается на фоне отвлеченных вопросов: тогда он был занят размышлениями об искусстве, теперь его тревожат общие философские вопросы. Летом 1869 г. он погружен в чтение Шопенгауэра: «Знаете ли,—пишет он Фету,—что было для меня нынешнее лето? Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочел и Канта). И верно, ни один студент в свой курс не учился так много и столь многого не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр гениальнейший из людей. Вы говорили, что он так себе кое-что писал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении. Я начал переводить его. Не возьметесь ли и вы за перевод его? Мы бы издали вместе». С этого времени Толстой начинает интересоваться вопросами чистой философии и гносеологии. Увлечение именно Шопенгауэром может показаться неожиданным, если иметь в виду родство философии Шопенгауэра с эстетической культурой немецкого романтизма. Но Шопенгауэр — человек эпохи упадка и разложения этой культуры, вложивший в спокойную гносеологическую схему Канта пафос пессимизма и сообщивший ей характер трагической эмоции. Для душевного стиля Толстого совершенно естественно тяготение к гносеологическому скептицизму — Юм должен был быть гораздо ближе ему, чем Платон или Шеллинг. Идеалистическая система Канта, прошедшая через скорбный темперамент Шопенгауэра, оказалась родственной Толстому тем, что замыкала мир в пределы человеческого восприятия, делая его только «волей и представлением». В поздних дневниках и беседах Толстой часто повторяет это основное положение, придавая ему характер конкретного переживания. Это для него не простая отвлеченность, но определенное душевное состояние, гармонирующее со всем его душевным миром: «Я шел дорогой и думал, глядя на лес, на землю, на траву, какое смешное заблуждение думать, что мир такой, каким он представляется мне. Думать, что мир такой, каким он представляется мне, значит думать, что не может быть другого познающего существа, кроме меня с моими 6-ю чувствами... Мир таков, каким мы его видим, только в том случае, если не существует иначе устроенных, одаренных иными чувствами, чем наши, существ. Если же мы видим не только возможность, но необходимость существования существ иных, одаренных иными, чем наши, чувствами, то мир ни в каком случае не таков только, каким мы его видим». Или в еще более резкой форме, близкой к Юму: «Люди никак не могут согласиться с нереальностью всего материального. "Все-таки стол есть, и всегда, и уйду из комнаты — он есть, и для всех он есть, такой же, какой и для меня" — говорят обыкновенно. Ну, а когда закрутишь два пальца и катаешь один шарик, чувствуешь несомненно два? Ведь точно так же всякий раз, как я так возьму шарик, будет два, а между тем двух шариков нет. Точно так же и стол только для закрученных пальцев моих чувств — стол, а он, может быть, полстола, одна тысячная стола, совсем даже не часть стола, а нечто совсем другое. Так что реально только мое всегда повторяющееся впечатление, подтверждаемое впечатлениями других людей»[12].
В форме философских силлогизмов эти рассуждения имеют неуклюжий и наивный вид (что чувствует и сам Толстой, когда ставит в скобках: «Не совсем ясно для других, но для меня — очень») — Толстой не владел философским языком и не любил его, но иные записи показывают, что такая гносеология нужна ему, что он проникся ею не бескорыстно, как философ, а только опирается на нее как на нечто готовое, утвержденное и незыблемое, подтверждающее что-то в его собственном душевном мире. Поэтому такие записи иногда неразрывно связаны с изображением своей психики: «Под ногами морозная, твердая земля, кругом огромные деревья, над головой пасмурное небо, тело свое чувствую, чувствую боль головы, занят мыслями о Воскресенъи; а между тем я знаю, чувствую всем существом, что и крепкая морозная земля, и деревья, и небо, и мое тело, и мои мысли, что все это только произведение моих пяти чувств, мое представление, мир, построенный мной, потому что таково мое отделение от мира, какое есть... Ведь мир такой, а не иной, только потому, что я считаю собой то, а не другое». Незадолго до смерти (в 1909 г.) Толстой опять формулирует в письме эту идею, при чем придает ей сенсуалистический смысл, далеко отходя и от Канта и от Шопенгауэра и почти возвращаясь к Л окку: «Материя есть для меня произведение нашего сознания; не будь сознания, воспринимающего данные наших чувств: осязания, зрения, слуха, обоняния, вкуса, не могло бы быть и никакого представления о материальном мире. Так что материальный мир, кажущийся нам столь несомненно существующим, между тем существует только потому, что существует наше сознание, воспринимающее данные чувств. И потому основное начало всего есть сознание, а никак не материя»[13]. Постоянство этой темы и вместе с тем неустойчивость и неясность ее формулировки указывают на то, что Толстому ценна была не самая философская идея в окружении целой системы предпосылок, а только психологическая ее сторона— эмоция, за нею стоящая. Необыкновенно характерно поэтому, что, восприняв эту идею от Канта и Шопенгауэра, он незаметно для самого себя, видоизменил ее так, что она стала ближе к до-кантианской гносеологии, к английскому сенсуализму; тем самым совершен типичный для Толстого переход от эпохи романтической, растущей под влиянием Канта, Фихте и т. д., к эпохе английской гносеологии, внутренне связанной с психологистической поэтикой сентименталистов. Так, Карамзин, на ряду с Руссо и Стерном, был почитателем Локка и следовал его учению. Как ни парадоксальным может показаться сближение Толстого с Карамзиным, но оно подготовлено целым рядом фактов. Общий уклон к отвлеченной морали, характер философских интересов, нравственно-рассудочная окраска религиозной проблемы — все это оправдывает такую возможность сближения. Более того, «Рыцарь нашего времени» Карамзина по художественному своему замыслу и общему плану может быть поставлен в связь с «Детством и отрочеством» Толстого — родство эстетических оснований сказалось на выборе художественных форм. И даже переход Карамзина от художественного творчества к истории, иллюстрирующей нравственные проблемы, может быть истолкован как необходимое следствие его эстетики — тогда параллельными этому окажутся философско-ис- торические тенденции «Войны и мира» и позднейший переход Толстого к нравственной философии. И там и здесь искусство рождается на основе таких построений, которые разрушают его самостоятельно-метафизическое бытие.
Итак, Шопенгауэр послужил для Толстого только толчком — «заразил» его своим пафосом и подсказал ему то, что нужно было Толстому в виде философски- догматической опоры для оправдания собственных воззрений и чувств. Психологический анализ человеческой души, «диалектический» метод ее разложения на основе отвлеченно-нравственных вопросов подкреплен с новой стороны — естественно отпадает вся «метафизика» души, а вместе с нею и интимная, невыразимая целостность личности как живого символа. Можно предвидеть, что следующий роман Толстого должен дать еще более детальную разработку душевных состояний и еще определеннее выдвинуть нравственные проблемы. При этом можно ожидать, что историческая концепция окажется теперь, после увлечения чистой философией, излишней, скорее Толстому окажутся нужными обыкновенные люди с обыкновенными чувствами: Наташа, кн. Андрей и Пьер должны предстать теперь вне связи с 1812 годом — семейные элементы «Войны и мира» должны развиться в особый роман. Так и случилось: после бесплодных занятий Петровской эпохой внезапно явилось начало «Анны Карениной». Основной план, очевидно, уже настолько созрел, что достаточно было такого толчка, как попавшая на глаза Толстому начальная фраза пушкинского отрывка — «Гости съехались на дачу». Новый тип романа требовал иного приступа, чем было в «Войне и мире», — Пушкин навел Толстого на прием введения in madias res: «Все смешалось в доме Облонских». Над этим Толстой поставил общую сентенцию, подготовляющую к изложению событий: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему». Этим уже определен «семейный» тип романа — действующие лица будут, очевидно, выступать как члены семьи. Следующие фразы проходят в быстром темпе и имеют деловой характер; в нескольких строках сообщена завязка, сжато и сухо передается сущность происшедшего: «Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме» и т. д. Толстой в это время вообще заинтересовывается прозой Пушкина, ему нравится «гармоническая правильность распределения» предметов поэзии, отсутствие условной иерархии: «Давно ли вы перечитывали, — пишет он П. Д. Голохвастову (1874 г.), — прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу, прочтите сначала все повести Белкина. Их надо изучать и изучать каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу вам передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение». Толстого влечет к образцам классического, гармонического искусства: «Чтение даровитых, но не гармонических писателей (тоже музыка, живопись) раздражает и как будто поощряет к работе и расширяет область, но это ошибочно, а чтение Гомера, Пушкина сжимает область, и если возбуждает к работе, то безошибочно». По-видимому, Толстой стремится к сжатой, простой композиции — широкий захват «Войны и мира», вместе с историко-философским и сатирическим пафосом, не удовлетворяет его. Он хочет замкнуться в простую, сжатую область человеческих чувств: «Я пишу и начал печатать роман, — пишет он А. А. Толстой (1874 г.), — который мне нравится, но едва ли понравится другим, потому что слишком прост».
Центром романа служат семейные отношения, причем заметна связь с главными лицами «Войны и мира», которые перенесены из широкой области исторического романа в небольшой круг семейных перипетий: Пьер продолжает жить в лице Левина, кн. Андрей («блестящий молодой человек») превратился в графа Вронского, в Анне развиты те черты Наташи, которые сказались в ее увлечении Анатолем. Все это несколько снижено по сравнению с «Войной и миром» — этого требует как самая узость взятого круга, так и нравственная генерализация, которой подсказано противопоставление Вронского и Левина, только слегка намеченное в «Войне и мире». Фигура Левина становится поэтому навязчиво-тенденциозной, а образ Вронского колеблется — отношение к нему у самого Толстого неустойчиво: он то приобретает поэтические очертания героя — смелого, цельного, способного на большую и глубокую страсть, то принижается до жалкой роли авантюриста, по сравнению с которым образ Левина кажется возвышенным. И именно с возрастанием генерализирующей роли Левина фигура Вронского тускнеет и отходит на второй план. Сказалось еще в большей степени, чем в «Войне и мире», колебание Толстого между вольной стихией художества и рассудочным его обоснованием. Поэтому противоречиво изображается и самая страсть, то обжигающая огнем и безоценочно увлекающая своей силой, то лживая, мелкая, скучная, разъедающая душу. Личный тон Толстого колеблется между чисто человеческим вчувствовани- ем в стихийную жизнь сердца и суровым, сверхчеловеческим приговором: «Мне отмщение, и аз воздам». Любовь подвергается психологическому разложению; отметается все таинственное, мистическое, неразложимое, все то, на чем держалась «банальная» для Толстого история Лизы и Лаврецкого[14]. Отсюда один шаг до «Крейцеровой сонаты», где не осталось уже ничего человеческого, ничего возвышенного. Такое разоблачение и опрощение любви — как бы последний акт Толстого против самого существа романтической поэтики — подготовлено давно. В письме 1857 г. к А. А. Толстой он делится с ней своими мыслями о любви в шутливой, но по существу характерной для него форме: «Я был в наиудобнейшем настроении духа для того, чтобы влюбиться: проигрался, был недоволен собой, совершенно празден (по моей теории любовь состоит в желании забыться, и поэтому так же, как сон, чаще находит на человека, когда недоволен собой или несчастлив)... Мне кажется, что большая часть влюбляющихся людей сходятся вот как: видятся часто, оба кокетничают и, наконец, убеждаются, что влюбили в себя респективно один другого; а потом уж в благодарность за воображаемую любовь сами начинают любить».
Главные художественные приемы Толстого в «Анне Карениной» те же, что и в «Войне и мире». Движущими моментами романа также служат изображения душевных состояний, причем опять особенной разработке подвергаются состояния душевного распада, смятения, хаоса. Все лица поочередно проходят через эти состояния, связанные с теми или другими событиями личной жизни. На первом плане стоят Анна и Левин; жизнь обоих складывается из следующих друг за другом душевных кризисов. Но и Вронский подвергает себя «чисткам», и Каренин переживает тяжелые минуты разлада и сомнения. Интересно, что даже те особые состояния душевного напряжения и беспорядка, которые Толстой изображал в батальных сценах «Войны и мира», нашли себе место в новом романе: Вронский на скачках и Левин на косьбе — это поводы для того же метода разложения и «остра- нения». Так же разработаны сцены смерти, болезни, бреда. И так же, если еще не в большей степени, действующие лица «Анны Карениной» не становятся в нашем сознании типическими и не слагаются в цельные, живущие своим интимным миром индивидуальности или характеры. Они слишком на виду у нас, мы слишком понимаем каждый их поступок, слишком знаем все их мысли, чувства и движения, чтобы оставалось еще что-нибудь неразложимое, символическое. При этом Толстой относится к ним с одинаковым интересом психолога (что типично для «семейного» романа), с точки зрения которого переживания Каренина не менее значительны, чем муки Анны. Благодаря этому роман опять имеет характер статический, плоскостной. Толстой и здесь, несмотря на сосредоточенность и узость плана, продолжает действовать методом параллелизма, развивая две почти самостоятельные фабулы и располагая их как бы на двух независимых плоскостях: Анна — Вронский, Левин — Кити. Отсюда — особая, свойственная Толстому техника сочетания отдельных глав. Нет стремления к тому, чтобы композиция романа шла в направлении одной линии, восходящей и потом падающей (как у Тургенева), — эта форма романа чужда методу Толстого, потому что замыкает в пределы индивидуальной психологии, централизует действие, тогда как Толстой стремится расколоть его, чтобы освободить себе место и время для анализа. Композиция «Анны Карениной» основана на смене положений и состояний двух противостоящих групп: когда исчерпывается определенное состояние одной, делается переход к другой[15]. Отброшены все условности эпической формы, подсказываемые желанием дать иллюзию авторского рассказа. Толстой не рассказчик, не третье лицо, стоящее на уровне событий, а властитель своих действующих лиц, вездесущий и всеведущий, сверхчеловек по отношению к людям, им изображаемым. Центральных фигур, как это было у Тургенева, в сущности нет (что тоже характерно для форм английского семейного романа) — Анна и Вронский то и дело уступают свое место Левину и Кити с ее родными. Поэтому самое заглавие романа — «Анна Каренина» не характерно для него, не определяет его плана и внутреннего объема и не типично для Толстого: гораздо характернее и типичнее «Война и мир» или «Воскресение», как и для Тэккерея — «Vanity Fair». Фамилии действующих лиц у Толстого вообще не обладают способностью символизации или обобщения, как у Достоевского, но зато, правда, взамен этого их имена как-то особенно суггестивны — Наташа, кн. Андрей, Пьер, Анна. По-видимому, тут сказывается влияние семейно-бытового стиля, в котором пишет Толстой: имена эти не ощущаются нами как символы или типы, но наполнены особым эмоциональным содержанием, накопляющимся у нас по мере усвоения всех деталей жизни, внутренней и внешней. Рядом с этим фамилии — Ростова, Безухов, Волконский, Каренина — звучат безжизненно и безразлично[16].
«Анна Каренина» была задумана и начата после того, как ликвидированы были попытки написать нечто подобное «Войне и миру». Тем самым новый роман должен был, очевидно, в каком-либо отношении контрастировать с предыдущим. Сам Толстой указал на главное отличие: новый роман — «простой», замкнутый областью семейных отношений и обыкновенных чувств. Центральным мотивом должно было быть изображение любовной перипетии. Характером замысла объясняются некоторые приемы, которых нет в «Войне и мире». Приемы эти связаны именно с любовным сюжетом, они служат подготовкой будущих событий, предваряя, намекая и заинтересовывая читателя. Поэтому они применяются особенно в начале романа, как способ развития завязки, и употребляются только в фабуле Анна — Вронский. Толстому нужно познакомить Вронского с Анной — это первый акт завязки. Он делает их первую встречу случайной, точно она не имеет никакого значения, причем одновременно и намекает и разуверяет читателя, играя его вниманием и любопытством. Вронский приехал на вокзал встретить мать, а Облонский ждет с тем же поездом Анну — связь совершенно случайная; случайность и незначительность этого как будто еще подчеркивается их коротким разговором:
А ты кого встречаешь? — спросил он.
Я? я хорошенькую женщину, — сказал Облонский.
Вот как!
Honni soit qui mal у pense! Сестру Анну.
Ах, это Каренину! — сказал Вронский.
Ты ее, верно, знаешь?
Кажется, знаю!Или нет... Право, не помню, — рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное (I ч., гл. XVII).
Все здесь как будто против того, чтобы видеть в этом начало завязки, но вместе с тем художественное чутье подсказывает, что это новое лицо, о котором идет речь, будет важно, потому что иначе о нем не говорилось бы совсем. Так сделан намек, который скоро подтверждается, причем опять введен момент случайности. Вронский входит в вагон и дает дорогу выходящей даме: «Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее — не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо него, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову» (гл. XVIII). Дама даже не названа, но мы уже понимаем, что это — Анна и что здесь, действительно, завязка. Третий момент — сложный, содержащий в себе одновременно подтверждение первых намеков и новый намек уже на развязку. Поездом, в котором приехала Анна, раздавлен сторож. Она едет с братом — губы ее дрожат, и она с трудом удерживает слезы; на вопрос брата она отвечает: «Дурное предзнаменование». После следующей фразы брата, для нее неинтересной, идет вопрос: «А ты давно знаешь Вронского ?». Первые ее слова естественно связываются с этим вопросом — получается подтверждение того, что их встреча есть завязка романа, и вместе с тем предсказывается трагическая развязка. Дальше — фраза Облонского:
«— Да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити.
Да? — тихо сказала Анна. — Ну! теперь давай говорить о тебе, — прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически отогнать что-то лишнее и мешавшее ей» (конец XVIII гл.).
Таким образом, эти три момента, все связанные со случайными событиями, постепенно подготовляют к завязке и смутно предсказывают конец. Второй прием, тоже напрягающий интерес и тревогу читателя — совпадение кошмаров у Анны и Вронского. Это — в своем роде единственный и новый у Толстого прием: совпадение это остается фактом мистическим, необъясненным. Кошмар Анны сам по себе связан с раздавленным сторожем и с ее сном в вагоне, а затем, в самом конце, он реализуется в появлении мужика со спутанными волосами, который нагибался к колесам вагона — новый мистический факт, необъяснимый простыми психологическими законами. Прием этот еще осложнен тем, что читателю как будто подсказывается смысл кошмара: «И я от страха захотела проснуться, проснулась... но я проснулась во сне. И стала спрашивать себя, что это значит? И Корней мне говорит: "Родами, родами умрете, родами, матушка"... И я проснулась...
Какой вздор, какой вздор! — говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе». Однако дальше это оказывается неверным, и читатель, уже ожидающий именно такой развязки, приятно разочарован и опять с напряжением следит за ходом событий. Всей этой сложной техники, завлекающей читателя и играющей его любопытством, в «Войне и мире» не было. Тут Толстой действует, как мастер формы, и фабула Анна — Вронский развивается в интересный, увлекательный любовный роман.
Но это не могло удовлетворить Толстого, и «простой» роман скоро стал надоедать ему, а потом и раздражать. Работа, вначале напряженная и быстрая, стала замедляться. В письмах появляется разочарованный тон: «перестал печатать свой роман и хочу бросить его, так он мне не нравится» (А. А. Толстой в 1874 г.), «берусь за скучную, пошлую А. Каренину с одним желанием: поскорее опростать себе место — досуг для других занятий» (Фету в 1875 г.) и т. д. В связи с этим все более и более заметным становится предпочтение, отдаваемое Толстым фигуре Левина — не как личности, бескорыстно им созданной, но как носителю моральной тенденции романа. Фабула Анна — Вронский начинает постепенно тускнеть, роман семейный превращается в роман социально-философский. Из второстепенной фигуры, мешающей своей тенденциозностью, Левин превращается в главное лицо, конец романа отводится именно ему, и его думами заслоняется смерть Анны, уводя в сторону от всей любовной перипетии и как бы обесценивая все то, что составляло главный интерес романа. Смертью Анны главная фабула романа, естественно, кончается, но для Толстого этот конец служит как бы освобождением от надоевшего ему образа — он решительно прощается с главной фабулой и спешит развернуть область совсем иных состояний и дум. Недаром заключительная фраза предпоследней части производит впечатление неожиданно неприятной риторики, кажется придуманной: «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, стала меркнуть и навсегда потухла[17]». Внутренне Толстой уже отошел от когда-то увлекавшего его образа: Анна не только умерла, но и забыта — вся последняя часть есть апофеоз погруженного в отвлеченные вопросы Левина. Так подготовляется переход к «Исповеди». В промежутке — попытка нового романа из эпохи декабристов, не пошедшего дальше набросков. Фигура Левина оказалась пророческой, она не только заслонила Анну, но на время затенила и художественную фантазию Толстого. Он вложил в Левина слишком много своего, чтобы легко отойти от него. Произошла «остановка». «И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться». Так сказано в «Анне Карениной», а вот — в «Исповеди» (1879— 1882 гг.): «И вот тогда я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни». Творчество подошло опять вплотную к жизни — Левин внедрился в роман, как непрошенное, но грозное для самого Толстого лицо. Толстой, бывший до сих пор наблюдателем и властителем чужих душ, оказался во власти собственного метода: искусство отступило перед натиском самонаблюдения и самоанализа. Собственная душа превратилась в материал для разложения и опрощения.
VI
«Надо кончить надоевший мне роман», — пишет Толстой Фету в 1876 г. В конце того же года он пишет Страхову: «Приехав из Самары и Оренбурга вот скоро два месяца (я сделал чудесную поездку), я думал, что возьмусь за работу, окончу давящую меня работу, окончание романа, и возьмусь за новое, и вдруг вместо этого всего — ничего не сделал. Сплю духовно и не могу проснуться. Нездоровится, уныние. Отчаяние в своих силах». Ему же — в 1877 г.: «Мучительно и унизительно жить в совершенной праздности и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Все это пошло и ничтожно. Если бы я был один, я бы не был монахом, я был бы юродивым, т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда. Пожалуйста, не утешайте меня и в особенности тем, что я — писатель. Этим я уже давно и лучше вас себя утешаю, но это не берет и только внемлет моим жалобам, и это уже меня не утешает».
Ясно, что завершился тот период душевной и духовной жизни Толстого, который начат был торжественными словами: «Я теперь писатель всеми силами своей души и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтобы все шло по-прежнему» (1863 г.). Стиль его писем становится патетическим, тревожным: «Вот уже с месяц, коли не больше, я живу в чаду не внешних событий (напротив, мы живем одиноко и смирно), но внутренних, которых назвать не умею. Хожу на охоту, читаю, отвечаю на вопросы, которые мне делают, ем, сплю, но ничего не могу делать, даже написать письмо» (Фету в 1878 г.). Правда, в это же время Толстой увлекается планом нового романа из жизни 30-х годов, с личностью Перовского в центре, и думает работать в архивах над материалами: «Я теперь весь погружен в чтение из времен 20-х годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, которое, я помню, 30-ые года — уж история. Так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается и все устанавливается в торжественном покое истины и красоты» (А. А Толстой в начале 1878 г.). Но конец этого же письма показывает, что Толстой чувствует какую-то тревогу: «Молюсь богу, чтобы он мне позволил сделать хоть приблизительно то, что я хочу. Дело это для меня так важно, что, как вы ни способны понимать все, вы не можете представить, до какой степени это важно. Так важно, как важна для вас ваша вера. И еще важнее, мне бы хотелось сказать. Но важнее ничего не может быть. И оно то самое и есть». Околотого же времени Толстой пишет Страхову: «Мерзкая наша писательская должность — развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь понятия о своем значении и о времени упадка. Мне бы хотелось не заблуждаться и не развращаться дальше. Пожалуйста, помогите мне в этом. И не стесняйтесь только, что вы строгим осуждением можете помешать деятельности человека, имевшего талант».
Приведенные письма 1878-1879 гг. свидетельствуют о тяжелом душевном кризисе. Наступила остановка, приходят мысли о творческом упадке. Подоснова этого состояния очень сложная, но нам особенно важно одно — прежний род и тип художественного творчества стал казаться Толстому бессмысленным, ненужным, ложным. Уже конец «Анны Карениной» подготовляет к этому, недаром остановилась работа над новым историческим романом, несмотря на важность, которую приписывал ему сам Толстой. Но дело совсем не в том, что Толстой прекращает художественную работу и переходит к религиозно-нравственной проповеди, как это казалось многим современникам. Наоборот, именно в эти годы Толстой начинает заново глубоко задумываться над проблемой искусства. Как прежде педагогическая работа сама собой превратилась в наблюдение над процессом художественного творчества, так теперь, чем больше обостряются в сознании Толстого вопросы этические и социальные, тем напряженнее возвращается он к теории искусства. Период «Войны и мира» был периодом игры художественных сил, стихийно пробивающихся сквозь все преграды сознания. При этом важно иметь в виду, что именно до «Анны Карениной» Толстой ощущал свое художество выступающим на фоне прежнего, отжившего романтического искусства. Наличность этого фона сама по себе уже определяла многие его приемы. Полемическим противопоставлением подсказывалось многое в выборе фигур, в архитектонике и способе изображения. На место метафизической эстетики с понятием «красоты» в центре, естественно, становилась эстетика психологическая, основанная на понятиях «резкости» и «правды». Но с «Анной Карениной» этот период кончается, прежний фон настолько отодвинулся в прошлое, что перестал ощущаться. Явилась потребность в осознании своего творчества, а в связи с ним и всей сложной проблемы художества. Прежние представления о художнике как избраннике, жреце, гении, настолько омертвели, что жить ими Толстой не мог. «Мучительно и унизительно жить в совершенной праздности и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Все это пошло и ничтожно». Таким образом, совершенно естественно и неизбежно было то, что для Толстого отвлеченная проблема художества и попытки ее разрешения слились воедино с проблемами этического и социального порядка — вопрос об искусстве вообще с вопросом о художнике, а отсюда с вопросом о том, «чем люди живы» и как они должны жить. Здесь нет никакого разрыва, никакого перелома в том виде, как многие себе представляли, жалея, что Толстой «перестал» быть художником. Если ставить вопрос телеологически, то можно утверждать, что история требовала от Толстого, как от художника этой эпохи, ответа на эти вопросы — на ином пути ему не могло быть спасения, или он должен был свернуть с большой исторической дороги, по которой все время шел, на узкую тропинку отжившего эстетического индивидуализма и укрыться от своей судьбы. Наивно было, как делал Тургенев, призывать Толстого к чистому художеству. Спасти свое творчество Толстой мог, только пронеся его через «Исповедь», иначе он, вообще, не в силах был бы справиться с трагической коллизией между искусством и жизнью.
Усиленные размышления об искусстве начинаются у Толстого в 70-х годах. Уже в «Анне Карениной» появляется характерная фигура художника Михайлова, явившаяся, очевидно, именно плодом теоретических размышлений Толстого. Особенно характерна та сцена, где Анна, Вронский и Голенищев рассматривают картины Михайлова; Голенищев высказывает свое суждение о фигуре Пилата: «Михайлов был в восхищении от этого замечания. Он сам думал о фигуре Пилата то же, что сказал Голенищев. То, что это соображение было одно из миллионов других соображений, которые, как Михайлов твердо знал это, все были бы верны, не уменьшило для него значения замечания Голенищева». Последняя фраза совершенно совпадает с тем, что сам Толстой пишет Страхову в интереснейшем письме 1876 г.: «Вы пишете: Так ли вы понимаете мой роман[18] и что я думаю о ваших суждениях; разумеется, так. Разумеется, мне невыразимо радостно ваше понимание, но не все обязаны понимать так, как вы... ваше суждение о моем романе верно, но не на все, т. е. все верно, но то, что вы сказали, выражает не все, что я хотел сказать. Например, вы говорите о двух сортах людей. Это я чувствую, знаю, но этого я не имел в виду; но когда вы говорите, я знаю, что это одна из правд, которую можно сказать. Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал сначала. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить все то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить qu'ils en savent plus long que moi... Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Самое же сцепление составлено не мыслию (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно словами, описывая образы, действия, положения... Так вот почему такая милая умница, как Григорьев[19], для меня мало интересен; правда, что если бы не было совсем критики, то тогда бы Григорьев и вы, понимающие искусство, были бы излишни. Теперь же... нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и по тем законам, которые служат основанием этих сцеплений».
Но тем острее и мучительнее для Толстого был вопрос о художнике — социально-этическая проблема искусства. Сложность и тонкость его души сталкивались с непреодолимыми требованиями совести. Чем больше чувствовал он себя художником, а художество — «лабиринтом сцеплений» и игрой, тем резче было столкновение с жизнью. Метафизика вдохновения не могла помочь, для этого Толстой был слишком чуткий к своей современности человек и слишком ей преданный. И вот является метафизика коллектива: «Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, науки, искусства, — все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это — одно баловство, что искать смысла в этом нельзя. Жизнь же всего трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, представилась мне в ее настоящем значении... для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей». В связи с этими настроениями Толстого тянет к массе, к широкому общению с нею. На этой основе своеобразно возрождаются некоторые славянофильские суждения. Страхов в письме этого времени (1879 г.) к своему другу так изображает Толстого: «Он выходит на шоссе (четверть версты от дома) и сейчас же находит на нем богомолок и богомольцев. С ними начинаются разговоры, и если попадутся хорошие экземпляры и сам он в духе, он выслушивает удивительные рассказы... Толстого кроме религиозности, которой он очень предан (он и посты соблюдает и в церковь ходит по воскресеньям), занимает еще язык. Он стал удивительно чувствовать красоту народного языка, и каждый день делает открытия новых слов и оборотов, каждый день все больше бранит наш литературный язык, называя его не русским, а испанским. Главная тема мыслей Толстого, если не ошибаюсь, противоположность между старою Русью и новою, европейскою. Он повторяет как новое, много такого, что сказали славянофилы, но он это так проживет и поймет, как никто».
Таковы источники новой художественной работы Толстого, плодом которой явились в 80-х годах народные рассказы и легенды и драма «Власть тьмы». Одновременно с этим написана большая статья «Так что же нам делать?», связанная с работой Толстого по переписи в Москве. Тут ясно вскрывается сущность толстовского «кризиса», остановки —- он сам формулирует ее: «Только те, для которых важны и дороги нравственные истины, знают, как важно, драгоценно и каким долгим трудом достигается уяснение и упрощение нравственной истины — переход ее из спутанного, неопределенно сознаваемого предположения, желания, из неопределенных, несвязных выражений в твердое и определенное выражение, неизбежно требующее соответствующих ему поступков... вся жизнь человеческая со всеми столь сложными и разнообразными, кажущимися независимыми от нравственности деятельностями: и государственная, и научная, и торговая, и художественная не имеет другой цели, как большее и большее уяснение, утверждение, упрощение и общедоступность нравственной истины... Это уяснение незаметно точно так же, как незаметно различие тупого ножа от острого. Для того же, кто понял, что вся жизнь его зависит от более или менее тупого или острого ножа, для того важно всякоеувострение его, и тот знает, что конца нет этому увострению и что нож только тогда нож, когда он острый, когда он режет то, что нужно резать». С мукой и с наслаждением Толстой режет этим «увостренным» ножом все, что до сих пор казалось неделимым. Так и в вопросе о художнике: «Если люди действительно призваны к служению другим духовной работой, то они всегда будут страдать, исполняя это служение, потому что только страданиями, как муками, рождается духовный плод... Мыслитель и художник никогда не будет сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет всегда, вечно в тревоге и волнении; он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, а он не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно — он умрет. Не тот будет мыслителем и художником, кто воспитается в заведении, где будто бы делают ученого и художника (собственно же делают губителя науки и искусства), и получит диплом и обеспечение, а тот, кто и рад бы не мыслить и не выражать того, что заложено ему в душу, но не может не делать того, к чему влекут его две непреодолимые силы; внутренняя потребность и требования людей».
Отсюда естественнее всего перейти к позднейшим размышлениям Толстого об искусстве и к его трактату «Что такое искусство?» (1897). Поэтому, чтобы не прерывать линии, намеченной этой главой, мы оставим пока в стороне художественные произведения 80-х годов, а скажем о них потом — в последней главе, предметом которой будет обозрение творчества Толстого в период 70-х и 90-х годов.
С начала 80-х годов Толстой погружается в вопросы эстетики и усиленно читает, обдумывая собственную работу. Чтение сопровождается записями в дневниках, из которых потом и вырабатывается самый трактат[20]. Но записи эти имеют особую ценность: то, что в книге об искусстве выглядит окончательным, твердым и ясным, в дневниках является в форме исканий, нащупываний, откровенных недоумений и сомнений. На каждом шагу видна коллизия между двумя «непреодолимыми силами»: внутренней потребностью художника и требованиями жизни, людей. Чем больше осуждается искусство как деятельность «бесполезная», тем коллизия эта мучительнее: «есть два искусства... есть искусство, как верно определяют его, происшедшее от игры, от потребности всякого существа играть. Игра теленка — прыжки, игра человека — симфония, картина, поэма, роман. Это — одно искусство, искусство играть и придумывать новые игры, исполнять старое и сочинять. Это — дело хорошее, полезное и ценное, потому что увеличивает радости человека. Но понятно, что заниматься игрою можно только тогда, когда сыт. Так и общество может заниматься искусством только тогда, когда все члены его сыты... Но есть еще другое искусство, которое вызывает в людях лучшие и высшие чувства. Сейчас написал это, — то, что говорил не раз, — и думаю, что это неправда. Искусство только одно и состоит в том, чтобы увеличивать радости безгрешные, общие, доступные всем, — благо человека». Коллизия ведет к постоянным противоречиям. Сопоставим две записи: «Вчера переглядел романы, повести и стихи Фета. Вспомнил нашу в Ясной Поляне неумолкаемую, в 4 фортепиано, музыку и так ясно стало, что все это: и романы, и стихи, и музыка — не искусство, как нечто важное и нужное людям вообще, а баловство грабителей, паразитов, ничего не имеющее общего с жизнью: романы, повести о том, как пакостно влюбляются, стихи о том же или о том, как томятся от скуки. О том же и музыка. А жизнь, вся жизнь кипит своими вопросами о пище, размещении, труде, о вере, об отношениях людей... Стыдно, гадко. Помоги мне, отец, разъяснением этой лжи послужить тебе»[21]. Через несколько месяцев: «Главное же, что хотелось бы сказать об искусстве, это то, что его нет в том смысле какого-то великого проявления человеческого духа, в котором его понимают теперь. Есть забава, состоящая в красоте построек, в изваянии фигур, в изображении предметов, в пляске, в песне, в игре на разных инструментах, в стихах, в баснях, сказках; но все это только забава, а не важное дело, которому можно сознательно посвящать свои силы. Так всегда и понимал и понимает это рабочий, неиспорченный народ. И всякий человек, не удалившийся от труда и жизни, не может смотреть на это иначе». Еще позже: «Думал нынче об искусстве. Это игра. И когда игра трудящихся, нормальных людей, оно хорошо, но когда это игра развращенных паразитов, тогда оно дурно». Наконец, еще через несколько дней: «В газетах борьба из-за репинского определения искусства, как забавы. Как подходит к моей работе. Все не выяснилось вполне значение искусства. Ясно, и могу написать и доказать, но не кратко и просто. До этого не могу довести... Забава хорошо, если забава не развратная, честная, и из-за забавы не страдают люди. Сейчас думаю: эстетика есть выражение этики, т. е. по-русски: искусство выражает те чувства, которые испытывает художник. Если чувства хорошие, то и искусство будет хорошее, высокое, и наоборот. Если художник нравственный человек, то и искусство его будет нравственное, и наоборот. (Ничего не вышло.)» Создавшаяся в результате этой работы книга — «Что такое искусство?» — явилась в значительной части памфлетом, обличающим современное искусство. Интересно, что и здесь главным приемом Толстого служит упрощение явлений и их «остранение». Он берет привычные для людей впечатления и разлагает их так, что они становятся странными, нелепыми. Так изображено оперное представление с точки зрения человека, первый раз присутствующего на таком зрелище и потому остро, но разрозненно воспринимающего разные мелочи. Недаром описание заканчивается словами: «Опера, которую они репетировали, была одна из самых обыкновенных опер для тех, кто к ним привык, но одна из величайших нелепостей, которые только можно себе представить». В связи с этим стоит отрицание всей художественной культуры — всего того, что имеет целью сообщать художественные навыки: школ, академий и т. д. Понятие художественной традиции для Толстого не существует. Художник должен «заражать» своим чувством — поэтому между ним и зрителем или слушателем не должно быть ничего третьего. Те противоречия, которые были в дневнике, здесь скрыты, в основу положено этическое начало, красоту заменило добро, искусство объясняется как средство нравственного общения людей между собой. Но следы того, что с уничтожением метафизической эстетики искусство потеряло в глазах Толстого свою священную важность и сблизилось с игрой, с забавой, сохранились. Главное обличение Толстого направлено нате грандиозные затраты труда и денег, которые делаются обществом для искусства. И чем больше обличает он эту материальную сторону художественной культуры, чем больше старается свести искусство на способ единения людей, не нуждающийся ни в каких школах и ни в какой сложной культуре, тем сильнее чувствуется мучительная для Толстого коллизия между действительной стихией искусства и непреодолимыми требованиями жизни. Чем раздраженнее говорит Толстой о бессмыслицах и нелепостях, тем яснее делается, что именно в них скрыта настоящая, «бесполезная» природа искусства, которую он обличает с такой силой и с таким гневом только потому, что сам глубоко ощущает ее, но не может примирить Бетховена или Вагнера с голодным мужиком.
Мы не можем здесь говорить о книге Толстого в целом и отвлеченно как о теоретическом трактате; мы касаемся ее только в той степени, какая нужна нам для общей темы и для перехода к позднему творчеству Толстого. Поэтому, отметив способы и характер обличения искусства, мы остановимся только на некоторых суждениях Толстого об искусстве вообще, которые могут дальше пригодиться. Метафизика коллектива, массы, о которой мы говорили выше, приводит его к чрезвычайно важному для его творчества утверждению, что искусство должно быть всенародным, доступным для всех и что поэтому изображаемые им чувства не должны замыкаться в пределы чувств исключительных или сословных. «То, что составляет наслаждение для человека богатых классов, непонятно, как наслаждение, для рабочего человека и не вызывает в нем никакого чувства или вызывает чувства, совершенно обратные тем, которые оно вызывает у человека праздного и пресыщенного. Так, например, чувства чести, патриотизма, влюбления, составляющие главное содержание теперешнего искусства, вызывают в человеке трудовом только недоумение и презрение или негодование». У большинства писателей он находит слишком исключительные, не общечеловеческие чувства, «поэтому, чтобы сделать их заразительными, авторы обставили их обильными подробностями времени и места. Обилие же подробностей этих делает эти рассказы малопонятными для всех людей, живущих вне той среды, которую описывает автор... отнимите у лучших романов нашего времени подробности, что же останется? Так что в новом словесном искусстве нельзя указать на произведения, вполне удовлетворяющие требованиям всенародности. Даже и те, которые есть, испорчены большею частью тем, что называется реализмом, который вернее назвать провинциализмом». Его влечет к себе «область народного детского искусства», которая не признавалась достойным предметом искусства: шутки, пословицы, загадки, песни, пляски, детские забавы, подражания. Характерно, что такие примитивы представляются ему гораздо более трудной задачей для искусства, чем поэма в стихах из времен Клеопатры или картина Нерона, сжигающего Рим, или симфония в духе Брамса и Рихарда Штрауса, или опера в духе Вагнера. Толстой резко ощущает невозможность пользоваться «традиционно-поэтичным» материалом: девы, воины, пастухи, пустынники, ангелы, дьяволы во всех видах, лунный свет, грозы, горы, море, пропасти, цветы, длинные волосы, львы, ягненок, голубь, соловей — вот перечисляемые им шаблоны, которые считаются поэтичными, потому что «чаще других употреблялись прежними художниками для своих произведений». Не удивительно, что романам Зола, Бурже, Гюисманса «с самыми задирающими сюжетами» он противопоставляет рассказ из детского журнала о том, как наседка с цыплятами раскидала белую муку, приготовленную бедной вдовой для куличей, и как утешает она детей пословицей «черный хлебушка — калачу дедушка». Более того — «Гамлету» в исполнении Росси он противопоставляет театр вогулов, у которых вся пьеса состоит в погоне охотника за оленями.
Итак, Толстой приходит к тому самому вопросу, который беспокоил его в молодости, к вопросу о подробностях, о «мелочности». Дошедши в этой области до предела, он разочаровывается в этом приеме и требует другого искусства —- всенародного. В связи с этим он осуждает собственные произведения: «Свои художественные произведения я причисляю к области дурного искусства, за исключением рассказа "Бог правду видит", желающего принадлежать к первому роду[22], и "Кавказского пленника", принадлежащего ко второму»[23]. Так мы, с одной стороны, возвращаемся к основной проблеме толстовского творчества вообще, а с другой, видим те корни, которыми питалось его творчество последнего периода.
VII
Художественное творчество Толстого в течение последних 20 лет — явление очень сложное. Оно развивается на фоне борьбы и с искусством и с самим собой. Толстой ищет новых форм, стремится к созданию искусства религиозного и всенародного. Так совершается резкий переход от «Анны Карениной», через «Исповедь», к народным рассказам.
Переход этот —- не неожиданный: он был подготовлен уже тогда, когда Толстой писал статью «Кому у кого учиться писать». С трудом дописав «Анну Каренину» и до предела исчерпав в этом романе все свои старые приемы, он меняет язык, меняет манеру. Вместо описаний и натуралистической «мелочности» в разработке деталей — условный сказ, стиль притчи: «Чем люди живы», «Упустишь огонь —- не потушишь», «Где любовь, там и бог» и т. д. Разочарование в старой форме семейно- психологического романа привело Толстого к примитиву, где самая поучительность или «генерализация» не имеет вида тенденции. Вместо письменного «литературного» стиля — иллюзия непосредственного живого сказа с уклоном к евангельской витиеватой «простоте». Материалом ему служат старинные сказания и легенды. В историко-литературном смысле это есть возрождение «младшего» искусства на смену канонизированного и омертвевшего романа. В этом смысле Толстой не одинок — в параллель к его рассказам 80-х годов должны быть поставлены, например, легенды Лескова. Вернувшись к старому английскому роману, Толстой тем самым как бы завершил круг его развития. Произошло как бы Саморазложение традиционной формы, по крайней мере на русской почве. Обращение к истокам психологического романа подсказано было (пусть «бессознательно» — тем важнее факт) стремлением разложить роман на «подробности», превратить его в «лабиринт сцеплений». Это и было сделано в «Войне и мире» (всп. отзывы Тургенева и Боткина) и в «Анне Карениной». Переход к народным рассказам подготовлен самыми этими романами вне религиозных и социальных теорий. О большой художественной сознательности Толстого свидетельствует, например, интересная запись, сделанная в 1895 г. Л. Я. Гуревич после беседы с Толстым[24]. Вот замечательные его слова: «Прежде всякие описания давались с трудом даже более крупным талантам, теперь это стало легко всякому. И писатели, когда пишут, даже не разгорячаются, не разгораются в процессе своей работы и создают эффекты, захватывающие воображение читателя, не имея в душе ничего, что стоило бы высказать... Вы спросите меня, почему же тогда, еще не особенно давно, во времена Пушкина и Гоголя, искусство стояло на такой высоте? Я думаю, что в то время искусство еще вырабатывалось, нужно было выработать форму — форма не давалась, как что-то готовое, что можно очень легко сделать внешними средствами — затверженными и всем доступными техническими приемами... Оттого в искусстве того времени все было так свежо... даже гоголевский Ноздрев, сидящий на полу и хватающий за платье танцующих. Но искусство, начавшееся у нас в то время, выработало форму, сделало ее доступной для всех и теперь разлагается». Тут, в этой частной беседе, Толстой не упрощал себя, и сказалась вся острота и сила его художественного сознания. Форма для Толстого не есть нечто существующее вообще, «готовое», и понятие это не тождественно понятию техники. Форма вырабатывается, создается усилиями целых поколений; техника приобретается на основе уже выработанной и ставшей «доступной» формы. Когда форма превращается в технику — искусство начинает разлагаться. Теперь совершенно понятно, что после «Анны Карениной» Толстой искал именно новой формы. Наряду с народными рассказами он работает и над драматической формой, заинтересовываясь ею именно как новой для него формой, в области которой могут быть новые возможности. Еще в 1870 г. он писал Фету: «Поговорить о Шекспире, о Гете и вообще о драме — очень хочется. Целую зиму нынешнюю я занят только драмой вообще. И как это всегда случается с людьми, которые до 40 лет никогда не думали о каком-нибудь предмете, не составили себе о нем никакого понятия, вдруг с 40-летней ясностью обратят внимание на новый ненанюханный предмет, им всегда кажется, что они видят в нем много нового». Шекспир — давнишний враг Толстого. Уже в письме Боткина к Дружинину (1856 г.) упоминается о «знаменитой антипатии» Толстого к Шекспиру; она сохранилась до конца и оформилась в статье 1900 г. («О Шекспире и о драме»). В статье этой Толстой дает, по существу, превосходный анализ «Короля Лира», отмечая все театральные приемы Шекспира — особенно систематический прием задержания (Лир не узнает Кента). Но драматическая форма явилась Толстому на фоне омертвевшего романа — как форма литературная, вне прямой связи с театром. Поэтому чисто- театральная условность шекспировских драм должна была оттолкнуть его. Сценическое искусство само по себе мало интересовало Толстого; драма Шекспира, возникшая на подмостках как определенная форма сценического искусства, противоречила его основным взглядам. В драматической форме он ценил прежде всего возможность развить живой диалог, развернуть во всей силе речевую характеристику каждого лица. Естественно, что своеобразная условность шекспировского стиля раздражала его: «С самого начала при чтении каких бы то ни было драм Шекспира, я тотчас же с полной очевидностью убеждался, что у Шекспира отсутствует главное, если не единственное средство изображения характеров — "язык", т. е. то, чтобы каждое лицо говорило своим, свойственным его характеру языком.
У Шекспира нет этого. Все лица Шекспира говорят не своим, а всегда одним и тем же шекспировским, вычурным и неестественным языком, которым не только не могли говорить изображаемые действующие лица, но никогда нигде не могли говорить никакие живые люди». Совершенно верное само по себе наблюдение воспринималось Толстым как недостаток, как отсутствие меры: «Речи, как бы они ни были красноречивы и глубокомысленны, вложенные в уста действующих лиц, если только они излишни и не свойственны положению и характерам, разрушают главное условие драматического произведения — иллюзию, вследствие которой читатель или зритель живет чувствами действующих лиц». Так же чуждо должно было быть Толстому другое свойство шекспировских пьес — сосредоточенность каждого характера около какой-нибудь страсти и связанная с этим мотивация трагической развязки. Толстой вообще не изображает характеров, как мы уже не раз это отмечали; в связи с этим не страсть сама по себе служит основой его драматической композиции. Вместо этого выступает мотив нравственного кризиса, душевного просветления, уже прежде не раз им использованный. Границы личности у Толстого всегда неопределенны, текучи, потому что не построение личности самой по себе является его художественным заданием. На основе такой поэтики вырастает «Власть тьмы» (1886), по существу неразрывно связанная с народными рассказами: от сказа — к непосредственному «заражению», от стиля притчи — к живой, «естественной» речи. Каждое действующее лицо наделено особой речевой характеристикой. На основе грубого быта и примитивных чувств разработан мотив нравственного кризиса, превращающий бытовую драму в мистерию. На той же основе построена и «Смерть Ивана Ильича» — повесть, написанная в тот же период народных рассказов (1885-1886). Иван Ильич — не «характер» и не «тип», вовсе даже не индивидуальность. Толстому нужно ввести в «самую простую и обыкновенную и самую ужасную» жизнь такую силу, которая нарушила бы это спокойное течение и произвела бы нравственное потрясение. Такой силой служит смерть: «Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему». Такую форму принимает теперь то, что раньше являлось в виде снов, бреда, «остановок» и пр. Другой мотив, которым пользуется Толстой для выведения своих действующих лиц из состояния душевного равновесия — мотив чар, мотив эротики. На нем построена повесть «Дьявол» (1889). И здесь личность сама по себе не играет роли, недаром оказались возможными два варианта конца этой повести, оба вполне законные и не противоречащие один другому: личность Иртенева допускает любой из них, потому что самой личности, как таковой, нет. Художественное внимание Толстого сосредоточено на моменте кризиса, на разработке душевной катастрофы, то возвышающей, то губящей. В этом смысле «Крейцерова соната» связана с «Дьяволом», а в дальнейшем творчестве тема эта еще раз повторяется в «Отце Сергии» (1898).
Все эти вещи представляют собой новую форму в том смысле, что личность сама по себе, как твердо очерченная индивидуальность, совершенно исчезает. В этом отношении характерна одна запись Толстого в дневнике 1898 г.: «Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать текучесть человека: то, что он, он один и тот же то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо». «Отец Сергий» до некоторой степени осуществляет эту программу — она же лежит в основе «Воскресения» (1899) и «Живого трупа» (1900). Возвращаясь после периода напряженных размышлений и философской работы к художественному творчеству, Толстой пишет роман («Воскресение»), который должен собой как бы поправить те ложные, с теперешней его точки зрения, приемы, которые развиты в ранних романах. Вместо семейного романа является роман социальный. Краткая запись дневника развивается здесь в определенное утверждение: «Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими... Люди, как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов». Так от Пьера и Левина Толстой приходит к Нехлюдову, а от Наташи и Анны — к Катюше Мас- ловой.
В последние годы жизни в творчестве Толстого вспыхнуло что-то, напоминающее ранние его вещи. Среди религиозно-нравственных размышлений в дневник 1897 г. врывается лирическая запись: «Еще думал нынче же совсем неожиданно о прелести, — именно прелести, — зарождающейся любви, когда на фоне веселых, приятных, милых отношений начинает вдруг блестеть эта звездочка. Это вроде того, как пахнувший вдруг запах липы или начинающая падать тень от месяца. Еще нет полного света, нет ясной тени и света, но есть радость и страх нового, обаятельного. Хорошо это, но только тогда, когда в первый и последний раз». В этом смысле неожиданной кажется и поздняя его повесть — «Хаджи-Мурат», законченная в 1904 г. В дневнике 1896 г. имеется запись, послужившая потом вступлением к повести: «Вчера иду по передвоенному черноземному пару. Пока глаз окинет, ничего кроме черной земли, — ни одной зеленой травки; и вот на краю пыльной, серой дороги куст татарника (репья). Три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью черной, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в серединке краснеется. Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать». Толстой долго и упорно работает над формой этой повести: «Все пытаюсь найти удовлетворяющую форму Хаджи-Мурата, и все нет. Хотя как будто приближаюсь». Возникают отдельные подробности: «1) тень орла бежит по скату горы: 2) у реки следы по песку зверей, лошадей, людей; 3) въезжая в лес, лошади бодро фыркают; 4) из куста держи-дерева выскочил козел». Намечается общая основа в духе «текучести» человека: «Есть такая игрушка английская peepshow: под стеклышком показывается то одно, то другое. Вот так-то надо показать человека — Хаджи-Мурата: мужа, фанатика и т. д.». Возникшая из далеких воспоминаний, повесть эта, по стилю своему, возвращает нас к эпохе «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира». Тут Толстой точно отдыхает от борьбы с искусством и вольно отдается своему вдохновению.
Творчество как бы естественно завершилось. Оставалось разрешить проблему жизни. Она разрешилась уходом из дома и смертью на станции Астапово 7 ноября 1910 года.
молодой толстой
Жене моей эту книгу посвящаю
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга — первая часть задуманной большой работы о Толстом. Она обнимает первые годы творчества Толстого (1847-1855) — от ранних дневников до переезда из Севастополя в Петербург — и представляет собой замкнутое целое. К сожалению, мне не удалось пока, несмотря на хлопоты, воспользоваться рукописями толстовского архива, который продолжает быть недоступным для «посторонних», хотя бы и интересующихся не семейными, а чисто литературными материалами. Дальнейшая работа в том же масштабе невозможна без знакомства с дневниками и с неизданными произведениями (особенно — роман 50-х годов «Отъезжее поле»). Впрочем, хронологическое построение работы такого типа о Толстом еще преждевременно, да и необязательно. «Молодой Толстой» — естественный цикл не только в хронологическом, но и в систематическом смысле. Здесь выясняются основные литературные традиции Толстого — то, от чего Толстой отступал как от шаблона, и к чему стремился как к образцу. Дальше я намерен идти путем развития ряда систематических тем, исходя как из особенностей творчества Толстого, так и из общих теоретических проблем. Конкретная историческая работа может иметь научное значение лишь тогда, когда она соприкасается с вопросами общей теории и строится на основе определенных теоретических предпосылок. Для того чтобы иметь в руках «факты», надо уметь их получать — фактов самих по себе нет.
Основная тема как этой первой части, так и всех последующих — поэтика Толстого. В центре — вопросы о художественных традициях Толстого и о системе его стилистических и композиционных приемов. Такой метод у нас принято называть «формальным» — я бы охотнее назвал его морфологическим, в отличие от других (психологического, социологического и т. д.), при которых предметом исследования служит не само художественное произведение, а то, «отражением» чего является оно по мнению исследователя. Считалось, что изучать самое произведение — значит анатомировать его, а для этого надо, как известно, сначала убить живое существо. Нас постоянно упрекали в этом преступлении. Но, как тоже известно, сравнение не есть доказательство. И наконец — дело идет не о критике, которая интересна остротой своего восприятия по отношению к живым явлениям современности, а о науке, которая строится на изучении прошлого. Прошлое, как бы оно ни возрождалось, есть уже мертвое, убитое самим временем.
В области изучения фольклора и общей сюжетологии морфологический метод уже достаточно укреплен. На очереди стоит вопрос об изучении таким методом конкретных историко-литературных явлений — индивидуального творчества или творчества определенной литературной эпохи. Такими монографиями наша научная литература изумительно бедна. Особенно заманчивым кажется мне сейчас — подвергнуть такому анализу творчество Толстого, в сознании которого, вопреки
общепринятому мнению, так обострены были проблемы художественной формы. Литература о Толстом застыла на иконописной точке зрения. Между тем многими ощущается необходимость «преодоления» Толстого. Мы вступаем, по-видимому, в новую полосу русской прозы, которая ищет новых путей — вне связи с психологическим романом Толстого или Достоевского. Предстоит развитие сложных сюжетных форм — быть может, возрождение авантюрного романа, которого Россия еще не имела. На этом фоне изучение Толстого представляется мне одной из очередных задач. «Преодолеть» какой-нибудь художественный стиль — значит понять его. Художественное явление живо до тех пор, пока оно непонятно, пока оно удивляет. Критика удивляется, наука понимает.
Июнь 1921г. Павловск
I. ДНЕВНИКИ (1847—1852)
1
Художественное творчество по самому существу своему сверхпсихологично — оно выходит из ряда обыкновенных душевных явлений и характеризуется преодолением душевной эмпирики. В этом смысле душевное, как нечто пассивное, данное, необходимо надо отличать от духовного, личное — от индивидуального. И это касается не только художественного творчества в его чистом виде. Всякое оформление своей душевной жизни, выражающееся в слове, есть уже акт духовный, содержание которого сильно отличается от непосредственно-пережитого. Душевная жизнь подводится здесь уже под некоторые общие представления о формах ее проявления, подчиняется некоторому замыслу, часто связанному с традиционными формами, и тем самым неизбежно принимает вид условный, не совпадающий с ее действительным, внесловесным, непосредственным содержанием. Фиксируются только некоторые ее стороны, выделенные и осознанные в процессе самонаблюдения, в результате чего душевная жизнь неизбежно подвергается некоторому искажению или стилизации. Вот почему для чисто психологического анализа таких документов, как письма и дневники, требуются особые методы, дающие возможность пробиться сквозь самонаблюдение, чтобы самостоятельно наблюдать душевные явления как таковые — вне словесной формы, вне всегда условной стилистической оболочки.
Совсем иные методы должны употребляться при анализе литературном. В этом случае форма и приемы самонаблюдения и оформления душевной жизни есть непосредственно важный материал, от которого не следует уходить в сторону. Здесь, именно в этой стилистической оболочке, в этих условных формах, можно усмотреть зародыши художественных приемов, заметить следы определенной литературной традиции. Исходя из убеждения в том, что словесное выражение не дает действительной картины душевной жизни, мы должны как бы не верить ни одному слову дневника и не поддаваться соблазнам психологического толкования, на которое не имеем права. Мы должны суметь воспользоваться именно этим «формальным», верхним слоем — особенно если перед нами такие дневники или письма, в которых можно заранее ожидать вмешательства творческой и, тем самым, искажающей непосредственную душевную жизнь работы над своим «я». К таким документам надо относиться с особенной осторожностью, чтобы не впасть в простую психологическую интерпретацию того, что весьма далеко от чистой психологии. Смешение этих двух точек зрения ведет к серьезным ошибкам, упрощая явление и вместе с тем не приводя ни к каким плодотворным обобщениям.
Изучение творчества Льва Толстого должно начинаться с его дневников[25]. Здесь эта методологическая осторожность должна быть сугубой, потому что главное содержание его ранних дневников состоит в разложении собственной душевной жизни на определенные состояния, в напряженном и непрерывном самонаблюдении и осознании. Легко поэтому впасть в психологическую интерпретацию и поддаться обману. Речь здесь идет не о натуре Толстого, а об актах его творческого сознания — не о том, что дано ему природой и есть в этом смысле нечто вневременное, произвольное и единичное, а о том, что им выработано в поисках нового творческого начала и что тем самым закономерно. Это сознание по существу своему не только сверхпсихологично, но и сверхлично, хотя от этого не менее, а еще более индивидуально. Творческое отношение к жизни, преодолевающее душевную эмпирику и возносящееся над простой данностью натуры, сливает в себе личное и общее и делает человека индивидуальностью. Закономерность или законосоот- ветствие его актов не унижает, а возвышает, как всякое свободное, т. е. никем извне не навязанное, приобщение к тому сверхличному началу человеческой жизни, которому другие служат по необходимости, бессознательно и потому несвободно.
Толстой начинает вести дневник в 1846-1847 годах, во время пребывания в Казанском университете. Ему 18 лет — он недавно оторвался от семьи, впереди еще полная неизвестность. Он погружен в размышление и в самосозерцание. Внешние впечатления в дневнике отсутствуют. Все внимание обращено на формулирование мыслей и на установление правил для жизни и работы. Его тон с самого начала — педагогический: «Я стал на ту ступень, на которую я уже давно поставил ногу, но никак не мог перевалить туловище (оттого, должно быть, что не обдумавши подставил левую ногу вместо правой). Здесь я совершенно один, мне никто не мешает, здесь у меня нет услуги, мне никто не помогает; следовательно, на рассудок и память ничто постороннее не имеет влияния, и деятельность моя необходимо должна развиваться»[26]. Его интересует не отвлеченная философия, а практические результаты: «Легче написать 10 томов философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике»[27]. В связи с этим самое его философствование основано не на стремлении к выработке той или иной научной теории, а на интересе к самому процессу мысли, к самым движениям рассудка, идущего по логическим схемам, к самому теоретизированию как методу воспитания рассудка. Не случайно, что первые же опыты его философских размышлений производят впечатление какой-то нарочитой логичности, которой он как бы любуется со стороны. Не случайно и то, что стиль и самые темы этих опытов кажутся почерпнутыми из каких- то старинных учебников или рассуждений: «Уединение для человека, живущего в обществе, равно полезно, как общественность для человека, не живущего в оном. Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, — и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему все в превратном виде, и как уяснится взгляд его на вещи, так, что даже непонятно будет ему, как не видал он всего того прежде. Оставь действовать разум: он укажет тебе на твое назначение, он даст тебе правила, с которыми смело иди в общество. Все, что сообразно с первенствующею способностью человека — разумом, будет равно сообразно со всем, что существует; разум отдельного человека есть часть всего существующего, а часть не может расстроить порядок целого»[28]. Вопрос о пользе уединения, самый характер афоризмов и поучений — все вызывает в памяти образцы рассуждений XVIII века, эпохи доверия к разуму и потому эпохи педагогической больше всего. Вспоминается сочинение Гарве «Ueber Gesellschaft und Einsamkeit»[29], и кажется, что приведенная цитата взята не из дневника Толстого, а из дневника юного Жуковского, когда он в 1805 году переводил Гарве[30].
Как мы убедимся дальше, это напрашивающееся здесь сопоставление с философией XVIII века не случайно — творчество Толстого имеет глубокое и чрезвычайно характерное для него родство именно с XVIII веком. Здесь — традиции многих его приемов и форм. В этом смысле показателен самый выбор «Наказа» Екатерины для университетских занятий. Правда, работа над «Наказом» скоро начинает интересовать его больше как выполнение правила («Я читал Наказ Екатерины, и так как я дал себе, вообще, правило, читая всякое серьезное сочинение, обдумывать его и выписывать из него замечательные мысли, я пишу здесь мое мнение о первых шести главах этого замечательного произведения»[31]), но все же выбор этот не случаен. Философия, опирающаяся на метафизические предпосылки и на интуицию, явно чужда ему — он предпочитает стройное течение силлогизмов, потому что внимание его направлено не на самую философию, а на метод логизирования.
Очень характерно еще одно место этого раннего дневника. Толстой задается вопросом — какая цель жизни человека? Типичен самый вопрос, но еще более типично построение ответа: «Начну ли я рассуждать, глядя на природу, я вижу, что все в ней постоянно развивается и что каждая составная часть ее способствует бессознательно к развитию других частей. Человек же, как он есть, такая же часть природы, но одаренная сознанием, должен так же, как и другие части, сознательно употребляя свои душевные способности, стремиться к развитию всего существующего. Стану ли я рассуждать, глядя на историю, я вижу, что весь род человеческий постоянно стремится к достижению этой цели. Стану ли рассуждать рационально, т. е. рассматривая одни душевные способности человека, то в душе каждого человека нахожу это бессознательное стремление, которое составляет необходимую потребность его души. Стану ли рассуждать, глядя на историю философии, найду, что везде и всегда люди приходили к тому заключению, что цель жизни человека есть всестороннее развитие человечества. Стану ли рассуждать, глядя на Богословие, найду, что у всех почти народов признается существо совершенное, стремиться к достижению которого признается целью всех людей. Итак, я, кажется, без ошибки за цель моей жизни могу принять сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего»[32]. Самый синтаксис этого рассуждения, эти повторения «начну ли» и «стану ли», самые обороты речи и общий стиль — все типично для философских построений XVIII века и может быть приписано скорее Карамзину, чем Толстому, человеку второй половины XIX века, за спиной которого стоят и Шеллинг, и Гегель, и Шопенгауэр, и наши романтики со Станкевичем во главе. Точно никакой связи у Толстого с предыдущим поколением нет, точно он решительно отворачивается от отцов и возвращается к дедам.
Конечно, можно сомневаться, чтобы эти наброски восемнадцатилетнего юноши, недавно попавшего из деревни в провинцию, имели серьезное симптоматическое значение для будущего Толстого, но из дальнейшего будет видно, что это влечение его к XVIII веку — явление органическое и закономерное, что английская и французская литература этой эпохи составляет его главное и излюбленное чтение, тогда как немецкая романтическая литература, столь популярная в России 20-40-х годов, не интересует Толстого; Руссо и Стерн, духовные вожди эпохи Карамзина и Жуковского, оказываются его любимыми писателями. Он даже не чужд сентиментальной традиции — таков стиль его писем к Т. А. Ергольской, которой он сам пишет в 1852 году: «...вы знаете, что, быть может, единственное мое доброе качество — это чувствительность». Следы этой традиции можно наблюдать и в «Детстве»; в обращении к читателям Толстой пишет: «Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую очень немногого: чтобы вы были чувствительны, т. е. могли бы иногда пожалеть от души и даже пролить несколько слез об воспоминаемом лице, которого вы полюбили от сердца, порадоваться на него и не стыдились бы этого...»[33] Таков же стиль восклицательных отступлений: «Где те горячие молитвы? где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетел ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению. Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?»
Свою душевную жизнь Толстой старается заковать в правила — он, как педагог, экспериментирует сам над собой. Нравственная регламентация, стремление точно определить план действий и занятий, составить расписание — главное содержание этих дневников. И опять видно, что руководит им в этом не педантизм как таковой, а скорее, самая выработка этих правил и расписаний, самый акт распределения и регламентирования, как в философских набросках заметно было любование самим актом расчленения сложных проблем на логически ясные, простые схемы. Регламентация эта начинается уже в раннем дневнике, но особенной силы достигает она в дневниках уже 1850—1851 годов. Конспект «Наказа» Екатерины перебивается следующей записью: «Я не исполняю того, что себе предписываю; что исполняю, то исполняю нехорошо, не изощряю памяти. Для этого пишу здесь некоторые правила, которые, как мне кажется, много мне помогут, ежели я буду им следовать: 1) Что назначено непременно исполнить, — то исполняй, несмотря ни на что. 2) Что исполняешь, исполняй хорошо. 3) Никогда не справляйся в книге, что забыл, а старайся сам припомнить. 4) Заставляй постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою. 5) Читай и думай всегда громко. 6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели они не понимают (что они мешают), то извинись и скажи им это. Сообразно со вторым правилом, я хочу непременно кончить комментировать весь наказ Екатерины»[34]. Весной 1847 года, решив бросить университет, Толстой записывает: «Какая будет цель моей жизни в деревне в продолжение двух лет? 1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство как теоретическое, так и практическое. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику, гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила. 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинение из всех предметов, которые буду изучать»[35]. Ясно, что это — недействительная, серьезная программа реальных занятий, а скорее — программа как прием, как самоцель. Она входит в общую линию теоретизирования и схематизации, которая проходит через весь дневник юноши Толстого.
Дневник прерывается на три года. Если здесь Толстой предстает нам в облике сурового педагога и мыслителя, то письма его к брату Сергею 1848 года из Петербурга дают совсем иной образ. Все они — покаянные, взволнованные; Толстой рисует себя смущенным, беспутным и обещает исправиться. Ясно, что дневник сам по себе не обнимает натуры Толстого. Но нам важно, что и в письмах этих он старается всегда точно определить свое душевное состояние, назвать цель и смысл своих поступков: «...петербургская жизнь на меня имеет большое и доброе влияние: она меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольно расписание; как-то нельзя ничего не делать, все заняты, все хлопочут, да и не найдешь человека, с которым бы можно было вести беспутную жизнь, — одному же нельзя. Я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменился, скажешь: "это уж в двадцатый раз, и все из тебя пути нет", "самый пустяшный малый", — нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся; прежде я скажу себе: "дай-ка я переменюсь", а теперь я вижу, что я переменился, и говорю: "я переменился" Главное то, что я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо — жить положительно, т. е. быть практическим человеком. Это большой шаг и большая перемена, еще этого со мной ни разу не было». В другом письме: «Бог даст, я исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком; больше всего я надеюсь на юнкерскую службу: она меня приучит к практической жизни и volens nolens мне надо будет служить до офицерского чина»[36]. Смутного, слитного, неразложимого потока чувств Толстой не признает и, зная мнение о себе брата, тем более старается изобразить свое душевное состояние определенными, точными словами, всячески пытаясь привести в порядок хаос чувств и мыслей.
Дневник 1850-1851 годов поражает своей суровостью и педантизмом: он весь заполнен правилами, расписаниями, определениями слабостей, регламентацией и пр. «Хотелось бы привыкнуть определять свой образ жизни вперед, не на одни день, а на год, на несколько лет, на всю жизнь даже; слишком трудно, почти невозможно. Однако попробую, сначала надень, потом на два дня — сколько дней я буду верен определениям, столько дней буду задавать себе вперед. Под определениями этими я разумею не моральные правила, не зависящие ни от времени, ни от места, правила, которые никогда не переменяются и которые я составляю особенно, а именно определения временные и местные: где и сколько пробыть; когда и чем заниматься. Представляются случаи, в которых эти определения могут быть изменяемы; но в том только случае я допускаю такого рода отступления, когда они определены правилами; поэтому-то в случае отступлений я в дневнике буду объяснять причины оных»[37]. Самое ведение дневника оправдано тремя целями: «по дневнику весьма удобно судить о самом себе», необходимо «определять все занятия вперед» и желательно «пооткровеннее и поподробнее вспомнить и написать» о последних трех годах. Характерно, что общие моральные правила интересуют Толстого в этот момент меньше — ему нужна не этика сама по себе, а именно правило, программа, расписание. И вот — начинается: «На 15 июня. От 9 до 10 купаться и гулять, 10 до 12 музыка, 6 до 8 письма, 8—10 хозяйство и контора. ...19 июня. 5-8 хозяйство и мысли о музыке (!), 8-10 чтение, 10-12 писать мысли о музыке, 12-6 отдых, 6-8 музыка, 8-10 хозяйство». Самое писание правил приурочено к числу обязанностей и подведено под общее правило: «то, что предположил себе делать, не откладывай под предлогом рассеянности или развлечения; но тотчас, хотя наружно, принимайся задело. Мысли придут. Например, ежели предположил писать правила, то вынь тетрадь, сядь за стол, и до тех пор не вставай, пока не начнешь и не кончишь»[38]. И сейчас же идут эти правила. По части музыки: «Ежедневно играть: 1) все 24 гаммы, 2) все аккорды, арпеджио на две октавы, 3) все обращения, 4) хроматическую гамму. Учить одну пьесу и до тех пор не идти далее, пока не будет места, где будешь останавливаться. Все встречающиеся cadenza перекладывать во все тоны и учить. Ежедневно, по крайней мере, 4 страницы музыки разыгрывать, и не идти, пока не найдешь настоящий doigtd[39]. По части хозяйства: всякое приказание обдумать со стороны его пользы и вреда. Ежедневно лично осмотреть всякую часть хозяйства. Приказывать, бранить и наказывать не торопиться. <...> Всякое данное приказание, хотя бы оно оказалось и вредным, отменять только по своему усмотрению и в крайней необходимости».
Полугодовой перерыв в дневнике дает Толстому повод для подведения итогов. Как и в письме к брату, он дает точное изображение своего нового «переворота». Душевная жизнь слагается в его представлении из таких периодических смен, характер которых каждый раз ясно определяется. Нечто подобное видим мы потом и в художественных произведениях: его герои (Пьер, Вронский, Левин) периодически переживают такого рода «остановки», во время которых все прошлое подвергается критике и вырабатывается новый план действий. 8 декабря 1850 года (Москва) Толстой пишет: «Большой переворот сделала во мне в это время спокойная жизнь в деревне; прежняя глупость и необходимость заниматься своими делами принесли свои плоды. Перестал я делать испанские замки и планы, для исполнения которых недостанет никаких сил человеческих. Главное же и самое благоприятное для меня убеждение — то, что я не надеюсь больше одним своим рассудком дойти до чего-либо, и не презираю больше форм, принятых всеми людьми. Прежде все, что обыкновенно, мне казалось недостойным меня, теперь же, напротив, я почти никакого убеждения не признаю хорошим и справедливым до тех пор, пока не вижу приложения и исполнения наделе оного, и приложения многими. Странно — как мог я пренебрегать тем, что составляет главное преимущество человека — способностью понимать убеждения других и видеть на других исполнение на деле; как мог я дать ходу своему рассудку без всякой поверки, без всякого приложения? — Одним словом, и самым простым — я перебесился и постарел. <...> Одно мне кажется, что я стал уже слишком холоден; только изредка, в особенности когда я ложусь спать, находят на меня минуты, где чувство просится наружу; тоже в минуту пьянства, но я дал себе слово не напиваться»[40]. Нечего говорить, что весь этот новый облик, весь этот «переворот» сочинен Толстым — важно то, что темная область душевной жизни разлагается им на определенные моменты: даются не промежуточные смутные состояния, а результаты.
Доказательством того, что Толстого интересует не этическое содержание всех этих правил и определений, а самая форма, самый метод, могут служить следующие за приведенным отрывком записи, где такая же регламентация применяется уже не к занятиям музыкой и хозяйством, а к игре в карты и к поведению в обществе. Правила эти настолько курьезны, что имеют вид пародий, но в своем увлечении схематизацией и формулированием Толстой этого не замечает: «Пра вил а для игры в Москве, до 1 января. 1) Деньги свои, которые я буду иметь в кармане, я могу рисковать на один или на несколько вечеров. 2) Играть только с людьми состоятельными, у которых больше моего. 3) Играть одному, но не придерживать. 4) Сумму, которую положу себе проиграть, считать выигрышем, когда будет сверх оной в 2 раза, т. е. ежели положил себе проиграть 100 р., ежели выиграешь 300, то 100 считать выигрышем и не давать отыгрывать; ежели же повезет дальше выигрывать, то выигрышем считать также такую же сумму, которую намерен был проиграть, только тогда, когда выиграешь втрое больше; и так до бесконечности. В отношении сеансов игры вести следующий расчет: ежели выиграл один выигрыш, определять оный на проигрыш, ежели выигрыш удвоенный, то употреблять два раза эту сумму и т. д. Ежели же после выигрыша будет проигрыш, то вычесть проигранную сумму и последнего выигрыша остаток делить на два раза, следующий выигрыш делить на три. Начинать игру, разделив сумму, которую отложил, на какие-либо равные части. Я теперь разделил 300 р. натри. Примечания. Сеансом считать, конечно, когда сам кончишь и проиграешь или выиграешь положенное. Перед всяким сеансом вспоминать все писанное и не упускать из виду. Поэтому не садиться от одного сеанса за другой, не разочтя на досуге. Правила эти я могу изменить, приобретши больше опытности; но до тех пор, пока не напишу новых, должен следовать этим. Могу, обдумавши, сделать исключения из этих правил, когда буду в выигрыше 9 тыс. сер. и 29 [тысяч] сер. <...>Правила для общества. Избирать положения трудные, стараться владеть всегда разговором, говорить громко, тихо и отчетливо, стараться самому начать и самому кончать разговор. Искать общества с людьми, стоящими в свете выше, чем сам, — с такого рода людьми, прежде, чем видишь их, приготовь себя, в каких с ними быть отношениях. Не затрудняться говорить при посторонних. Не менять беспрестанно разговора с французского на русский и с русского на французский. Помнить, что нужно принудить, главное, сначала, когда находишься в обществе, в котором затрудняешься. На бале приглашать танцевать дам самых важных. — Ежели сконфузился, то не теряться, а продолжать. Быть сколько можно холоднее и никакого впечатления не высказывать»[41]. Сюда же относится дальше: «Чтобы поправить свои дела, из трех представившихся мне средств я почти все упустил, именно: 1) Попасть в круг игроков и при деньгах — играть. 2) Попасть в высокий свет и при известных условиях жениться. 3) Найти место, выгодное для службы. Теперь представляется еще 4-е средство, именно: занять денег у Киреевского. Ни одно из всех 4-х вещей не противоречит одно другому, и нужно действовать»18. Явно безразличие Толстого к материалу этих расчленений, схем и рубрик — он увлечен самым процессом упорядочения.
Такова первоначальная форма дневника. Толстой скоро сам заметил, что он занимался исключительно «напряжением воли, не заботясь о форме, в которой она проявлялась»[42]. Т. А. Ергольская называет его человеком, «испытывающим себя». Теперь это самоиспытывание обращается в сторону исключительно моральную — дневник на время становится журналом поведения, кондуитом. Является новая цель дневника — «отчет каждого дня с точки зрения тех слабостей, от которых хочешь исправиться»[43]. И сейчас же первый опыт такого отчета: «Утром долго не вставал, ужимался как-то, себя обманывал. Читал романы, когда было другое дело; говорил себе: надо же напиться кофею, как будто нельзя ничем заниматься, пока пьешь кофе... Пуаре принял слишком фамильярно и дал над собой влияние: незнакомству, присутствию К. и grand seigneur'CTBy, неуместному. Гимнастику делал торопясь. — К Горчаковым не достучался от fausse honte[44]. У Колошиных скверно вышел из гостиной, слишком торопился и хотел сказать что-нибудь очень любезное — не вышло. <...> Дома бросался от рояли к книге и от книги к трубке и еде. О мужиках не обдумал. Не помню, лгал ли? Должно быть». Получается своеобразное впечатление: весь день Толстого превращен в цепь слабостей и ошибок. Он непрерывно следит за собой и, конечно, сочиняет так же, как сочинял прежде. Появляется особая классификация — «все ошибки можно отнести к следующим наклонностям: 1) Нерешительность, недостаток энергии. 2)Обманывание самого себя, т. е., предчувствуя в вещах дурное, не обдумываешь его. 3) Торопливость. 4) Fausse honte, т. е. боязнь сделать что-либо неприличное, происходящая от одностороннего взгляда на вещи. 5) Дурное расположение духа, происходящее большей частью: 1) от торопливости. 2) от поверхностности взгляда на вещи. 6) С б и в ч и в о с т ь, т. е. склонность забывать близкие и полезные цели для того, чтоб казаться чем-либо. 7) Подражание. 8) Непостоянств о. 9) Необдуман н о с т ь»[45]. Установленная здесь терминология прилагается к отдельным поступкам: «Николиньке написал письмо (необдуманно и торопливо). В контору — тою же, мною принятою глупою формою (обман себя). Гимнастику делал неосновательно, т. е. слишком мало соображаясь с своими силами, эту слабость вообще я назову заносчивостью, отступление от действительности. Смотрелся часто в зеркало, это глупо: физическое себялюбие, из которого, кроме дурного и смешного, ничего выйти не может».
Здесь Толстому помогает Франклин с его «журналом для слабостей» — опять связь с XVIII веком. Душевная жизнь явно искажается — не дается никаких оттенков, все формулируется и подводится под ту или другую слабость. Метод проводится с такой строгостью, что в иных записях ничего, кроме перечисления слабостей, нет: «Приехал Пуаре, стали фехтовать, его не отправил, лень и трусость. Пришел Иванов, с ним слишком долго разговаривал, трусость. Колошин (Сергей) пришел пить водку, его не спровадил, трусость. У Озерова спорил о глупости (привычка спорить) и не говорил о том, что нужно, трусость. У Беклемишева не был (слабость энергии). На гимнастике не прошел по переплету, трусость, и не сделал одной штуки оттого, что больно (нежничество).У Горчакова солгал, л о ж ь. В Новотроицком трактире (мало fiert б),[46], дома не занимался английским языком (недостаток твердости). У Волконск. был неестествен и рассеян изасиделся до часу (рассеянность, желание выказать и слабость характер а)... Встал поздно от л е н и. Дневник писал и делал гимнастику. Торопился. Английским языком не занимался от л е н и. С Бегичевым и с Иславиным был тщеславен. У Беклемешева струсил имало fiert 6. На Тверском бульваре хотел выказать. До Колымажного двора не дошел пешком, нежничество, ездил сжеланием выказаться, для того же заезжал к Озерову. Не воротился на Колымажный, необдуманность. У Горчак, не скрывался и не называл вещи по имени, обман себя. К Львову пошел от недостатка энергии и привычки ничего не дел ать. Дома засиделся от р а с- сеянностии без внимания читал Вертера, торопливост ь»[47]. В связи с этим моральным уклоном является мысль: «Хочу писать проповеди», но следом за нею: «Написал проповедь л е н и в о, слабо и трусливо»[48].
Все это вместе дает совершенно определенную и интересную картину духовной деятельности молодого Толстого в период 1848-1851 годов. В этих правилах, программах, расписаниях и журналах слабостей мы видим нечто вроде системы обучения — Толстой таким способом развивает технику самонаблюдения и анализа. Действительная его жизнь, как видно из тех же дневников, идет своим путем — совсем не в целях самовоспитания, не в целях практического приложения, придумываются эти правила. Искажение своей душевной жизни — постоянный его метод, и наивно было бы, как делают некоторые, верить ему в этих случаях.
С точки зрения психологической, Толстой полон противоречий, в которых психологам и следует разобраться. Один пример. В своих воспоминаниях о студенческой жизни Толстого Загоскин говорит, что среда, в которой вращался Толстой в Казани, была средой развращающей и что Толстой должен был инстинктивно чувствовать протест; в ответ на это сам Толстой замечает: «Никакого протеста я не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, тогда очень хорошем, обществе». Загоскин удивляется нравственной силе Толстого, сумевшего устоять против всех соблазнов, — Толстой замечает: «Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым, не затрогивая непосильных вопросов и живя хоть и праздной, роскошной, но не злой жизнью»[49]. С другой стороны, в «Исповеди» сам Толстой говорит об этих и следующих годах так: «Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэль, чтоб убить; проигрывал в карты, проедал труды мужиков; казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал». В своих «Воспоминаниях детства» Толстой определяет второй период своей жизни (после 14 лет) как «ужасные 20 лет или период грубой распущенности, служение честолюбию, тщеславию и главное — похоти». А в дневнике Толстой отзывается о годах 1848—1850 так: «Последние три года, проведенные мною так беспутно, иногда кажутся мне очень занимательными, поэтическими и частью полезными». Этим примером еще раз подтверждается, что в Толстом надо различать натуру, которая, несмотря на вес внешние противоречия, производит впечатление колоссальной цельности, и творческое сознание, действующее со строгой методичностью и искажающее или стилизующее реальную душевную жизнь[50].
Оставляя в стороне чисто психологическую сторону вопроса, формулируем еще раз. В нравственно-философских размышлениях Толстого интересует не столько содержание, сколько сама по себе последовательная строгая форма — он как будто любуется законченностью, стройностью и внешней непререкаемостью, которую приобретает мысль, пропущенная сквозь логический аппарат. Здесь уже видны корни того метода, который проходит через все его творчество, объединяя художественную работу с нравственно-философской. Пока он развивает этот метод на материале собственной душевной жизни, подчиняя ее своим замыслам, сложная, богатая резкими противоречиями, страстная и трудно уловимая душевная жизнь замыкается им в пределы правил и программ, приобретает четкие очертания схемы. Этот процесс оформления, являющийся результатом разложения и, конечно, искажения или упрощения реального потока дум и чувств, развертывается постепенно на страницах дневника 1847-1851 годов. Можно сказать, что эти годы — не столько работа над миросозерцанием, сколько над методологией самонаблюдения как подготовительной ступени к художественному творчеству. Всюду чувствуется эта особенность — взгляд со стороны на самого себя; не столько выработка реальных, предназначенных к действительному исполнению, правил и программ, сколько самая их установка и потом наблюдение за тем, как вступает с ними в борьбу душа. Это — период экспериментирования, самоиспытывания, период методологический по преимуществу.
2
Характер дневника меняется после переезда Толстого на Кавказ. Франклинов журнал слабостей отходит на второй план, а вместе с ним — и правила и расписания. Вместо них появляются наброски описаний, литературные размышления и т. д. Начинаются настоящие Lehijahre[51] Толстого — он усиленно читает, наблюдает и пишет. Он вышел из своей скорлупы, и среди неопределенной и беспутной военной жизни постепенно зреет настоящая художественная работа. Весной 1851 года он выехал из Ясной Поляны на Кавказ, а уже в ноябре того же года пишет Т. А. Ер- гольской: «Помните, добрая тетенька, совет, который вы раз мне дали — писать романы? Так вот, я следую вашему совету, и занятия, о которых я вам писал, состоят в литературе. Я еще не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу; но это работа, которая меня занимает и в которой я уже слишком далеко зашел, чтобы ее оставить»[52]. Первый литературный замысел упоминается в дневнике 1850 года: «Записки свои продолжать не буду, потому что занят делами в Москве, ежели же будет свободное время, напишу повесть из цыганского быта»[53]. К тому же времени, по словам П. Бирюкова, относится замысел повести «из окна», вызванный подражанием Стерну («Sentimental journey»): «Сидел он раз у окна задумавшись (сообщает в своих записках С. А. Толстая. — Б. Э.) и смотрел на все происходившее на улице: вот ходит будочник, кто он такой, какая его жизнь? А вот карета проехала, кто там и куда едет, и о чем думает, и кто живет в этом доме, какая внутренняя жизнь их?.. Как интересно бы было все это описать, какую можно бы было из этого сочинить интересную книгу!»[54] Следы этого замысла или, может быть, вернее, метода можно найти в первой главе «Отрочества» («Поездка на долгих»): «Вот на пешеходной тропинке, вьющейся около дороги, виднеются какие-то медленно движущиеся фигуры: это богомолки. Головы их закутаны грязными платками, за спинами берестовые котомки, ноги обмотаны грязными оборванными онучами и обуты в тяжелые лапти. Равномерно размахивая палками и едва оглядываясь на нас, они медленным, тяжелым шагом подвигаются вперед одна за другою, и меня занимают вопросы: куда, зачем они идут? Долго ли продолжится их путешествие, и скоро ли длинные тени, которые они бросают на дорогу, соединятся с тенью ракиты, мимо которой они должны пройти. <...> Вон, далеко за оврагом, виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленою крышей; вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами?» и т. д. Кроме Стерна и, быть может, даже сильнее его здесь проглядывает связь с женевским художником — беллетристом Рудольфом Тёпфером (Topffer), на влияние которого, вместе со Стерном, в период работы над «Детством» указывает сам Толстой: «...во время писания этого ("Детства") я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей: Stern'a (его Sentimental journey) и Topffer'a (Bibliothfe- que de mon oncle)»[55]. Подробно на вопросе о связи Толстого со Стерном и с Тёпфером мы остановимся дальше, когда будет речь о «Детстве»; здесь укажем только, что первоначальные замыслы Толстого не связаны ни с какими сюжетными схемами и относятся к роду описательному. В этом смысле характерно его указание на Стерна и Тёпфера, произведения которых отличаются той же общей чертой — отсутствием фабулы как композиционного стержня.
Дальнейшие замыслы Толстого — того же типа: жизнь Т. А. Ергольской[56], история охотничьего дня[57] (частью вошло, очевидно, в «Детство»), описание путешествия на Кавказ[58] (частью вошло в повесть «Казаки»), письмо с Кавказа и очерки Кавказа (из чего потом получился очерк «Набег»), 6tudes des moeurs[59], роман русского помещика (будущее «Утро помещика») и т. д. Ясно, что форма новеллы как таковой чужда Толстому, как чужд ему, по-видимому, и обычный тип романа с разработанной богатой фабулой, с центральным героем и пр. Характерно, что самый термин «роман» он употребляет с самого начала работы над «Детством», не придавая, очевидно, ему никакого специфического смысла, разумея не особый литературный жанр, а просто вещь большого размера. Особенности жанров и форм им, по-видимому, не ощущаются. Это обычно бывает в такие периоды, когда развитые и усовершенствованные прежними поколениями формы начинают терять свою действенность, ощутимость — становятся доступными и легкими. Можно на основе сделанного наблюдения предвидеть, что в творчестве Толстого перед нами происходит процесс нового затруднения этих канонизированных форм путем, с одной стороны, их разложения и смешения, с другой — путем возрождения старых, уже давно забытых традиций. Тут влечение Толстого к литературе XVIII века находит себе новое, историко-литературное подкрепление и приобретает характер еще большей закономерности.
Из школы самонаблюдения и самоиспытывания Толстой переходит в школу, так сказать, ремесленную — возникают специально-технические вопросы, теоретические размышления над литературными приемами, являются «муки слова» и связанные с ними упражнения в памяти и слоге и пр. Параллельно идут специальные занятия и чтение. Развитие слога очень заботит Толстою: «С 10 до 12 писать дневник и правила для развития слога. Делать отчетливые переводы... с 8 до 10 писать, переводить что-нибудь с иностранных языков на русский для развития памяти и слова... Буду продолжать: 1) занятия, 2) привычку работать, 3) усовершенствование слога... Хочу писать Кавказские Очерки для образования слога» и т. д. Останавливает на себе особенно одна запись (27 декабря 1852 г.): «Ездил верхом и, приехавши, читал и писал стихи. Идет довольно легко. Я думаю, что это мне будет очень полезно для образования слога»[60]. Проза и стих — отчасти враждебные друг к другу формы, так что период развития прозы обычно совпадает с упадком стиха. В переходные эпохи проза заимствует некоторые приемы стихотворного языка — образуется особая музыкальная проза, связь которой со стихом еще заметна. Так у Шатобриана, так у Тургенева (недаром он начал со стихов). Потом эта связь пропадает — воцаряется самостоятельная проза, по отношению к которой стих занимает положение служебное, подчиненное (Некрасов). В этом смысле характерно это занятие Толстого стихом «для образования слога». Интересно, что тем же занимался Руссо, как видно из его «Исповеди»: «Иногда я писал посредственные стихи: это довольно хорошее упражнение для развития изящных инверсий и для усовершенствования прозы»[61]. Может быть, Толстой, увлекавшийся в это время «Исповедью» Руссо, обратил внимание на эту фразу и решил воспользоваться советом. Ощущение внутренней, органической разницы между стихом и прозой в эпоху Толстого утеряно, как утеряно вообще чувство строгих форм, строгой архитектоники. Он сам признается: «Где границы между прозой и поэзией, я никогда не пойму; хотя есть вопрос об этом предмете в словесности, но ответ нельзя понять. Поэзия — стихи. Проза — не стихи, или поэзия — все, исключая деловых бумаг и учебных книг»[62].
Слогом своим Толстой часто недоволен — над рукописями своими он работает долго и упорно: «Слог слишком небрежен, и слишком мало мыслей, чтобы можно было простить пустоту содержания... "Детство" кажется мне не совсем скверным. Ежели бы достало терпения переписать его в 4-й раз, вышло бы даже хорошо... Писал мало, потому что задумался на мистической, малосмысленной фразе, которую хотел написать красноречиво... Не спал и писал о храбрости. Мысли хороши, но от лени и дурной привычки слог не обработан... Надо навсегда отбросить мысль писать без поправок. Три, четыре раза это еще мало». Вместе с тем он постоянно страдает от несоответствия между замыслом или чувствами и тем, что выходит на бумаге. Тут дело, конечно, не просто в стремлении передать всю непосредственность впечатлений и чувств — Толстого мучает проблема описания, он ищет новых средств для этого, не тех, которые уже затаскались и стали условными значками: «Я думал: пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это? Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составляют слова, слова — фразы; но разве можно передать чувство? Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описание недостаточно»[63]. Размышления эти следуют за наброском пейзажа и непосредственно к нему примыкают. Несколько дальше, вслед за другим наброском, идет комментарий, по которому видно, какого рода стиль описания кажется Толстому ложным, банальным — на каком фоне разрабатывает он собственные приемы описаний: «Не знаю, как мечтают другие, сколько я ни слыхал и ни читал, то совсем не так, как я. Говорят, что смотря на красивую природу, приходят мысли о величии Бога и ничтожности человека; влюбленные видят в воде образ возлюбленной, другие говорят, что г о р ы , казалось, говорили то-то, а листочки то-то, а деревья звали туда-то. Как может прийти такая мысль! Надо стараться, чтобы вбить в голову такую нелепицу. Чем больше я живу, тем более мирюсь с различными натянутостями (affectation) в жизни, в разговоре и т. д.; но к этой натянутости, несмотря на все мои разговоры — не могу»[64]. Эту борьбу с метафорическим стилем романтиков можно видеть уже у Тургенева в статье о «Записках ружейного охотника» С. Аксакова (1852). Тургенев пишет: «Мне, право, кажется, что такого рода красноречивые разрисовки представляют гораздо меньше затруднений, чем настоящие, теплые и живые описания; точно так же, как несравненно легче сказать горам, что они «побеги праха к небесам», утесу — что он «хохочет», молнии — что она «фосфорическая змея»[65], чем поэтически ясно передать нам величавость утеса над морем, спокойную громадность гор или резкую вспышку молнии...» Интересно, что Тургенев чувствует уже этот метафорический стиль как более легкий по сравнению с «непосредственной» передачей. Новый прием, оправдывающий себя этой непосредственностью (романтики тоже считали свой стиль более непосредственным по сравнению с прежним — так относительны все эти понятия), создается в поисках за новой живостью и свежестью.
Эта неудовлетворенность словом и даже самым процессом писания («сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу») тоже находит себе интересную параллель у Руссо, в его «Исповеди». Руссо жалуется на трудность, с которой он пишет, и на то, что лучшие, самые яркие впечатления и чувства остаются вне написанного: «Мои рукописи, замаранные, запачканные, спутанные, неразборчивые, свидетельствуют о труде, которого они мне стоили. Нет ни одной, которой мне не пришлось бы четыре или пять раз переписывать, прежде чем отдать в печать. Я никогда не мог ничего сделать с пером в руке, за столом, перед листом бумаги; только во время прогулок, среди скал и лесов, — или ночью в кровати, во время бессонниц, я сочиняю в голове... Есть некоторые периоды, над которыми я бился пять или шесть ночей прежде, чем стало возможным положить их на бумагу»[66].
Как ни общи эти жалобы на трудность, у Толстого и у Руссо есть особые оттенки, являющиеся результатом не просто случайного психического сродства, а действия определенных законов. В основе — разложение канонических форм. Творчество Руссо так же двойственно, как и творчество Толстого, — формы так же зыбки и смешаны, искусство так же осложнено элементами рассудочности и нравственной проповеди. Тяга обоих к вопросам педагогическим и социальным есть явление не первичное, а вторичное — следствие расшатанности искусства, которое было выбито из замкнутой области эстетических канонов и должно было заново нащупывать для себя почву. Утонченность и изящество кажутся банальностью — грубость и простота, «непосредственность стиля» и упрощенность тем ощущаются как новое достижение. Толстой, совсем в духе Руссо, вписывает в дневник французскую фразу: «Pourquoi dire des subtilit6s, quand il у a encore tant de grosses \6r\t6s к dire»[67].
Неудивительно поэтому установленное уже выше влечение Толстого к литературе XVIII века и пренебрежение к романтикам. Даже Пушкина он, по собственным словам, серьезно оценил только в 1857 году, прочтя его «Цыган» в прозаическом переводе Мериме (очень характерно!). Все его чтение так или иначе связано с традицией прошлого века — с традицией дедов, а не отцов. Русской литературой он вообще мало занят. Как ни кажется это парадоксальным, но в историко-литературном смысле Толстой больше всего сближается с Карамзиным, к чему мы еще не раз будем возвращаться. «Письма русского путешественника» соответствуют описательным очеркам Толстого, «Детство» находит себе прообраз в «Рыцаре нашего времени», написанном тоже под влиянием Стерна («Тристрам Шенди»); прибавим сюда интерес Карамзина к нравственной философии и истории, своего рода «кризис» художественного творчества (как бы ни были различны психологические основания) — и сопоставление это перестает быть столь неожиданным[68]. Главное чтение Толстого в эти годы — Стерн и Руссо. Стерн — его «любимый писатель» («Читал Стерна, восхитительно!»). Руссо он читает по целым дням, хотя и критикует: «Читал Руссо и чувствую, насколько в образовании и в таланте он стоит выше меня и в уважении к самому себе, твердости и рассудке — ниже»[69]. В Диккенсе — и именно в «Давиде Копперфильде» («Какая прелесть Давид Копперфильд!») — Толстой чувствует традицию английского «семейного» романа и, по-видимому, усваивает именно ее, а не другие элементы диккенсовского творчества. Классический автор описаний — Бюффон — тоже находит в Толстом своего ученика: «Читал прекрасные статьи Бюффона о домашних животных. Его чрезвычайная подробность и полнота в изложении — нисколько не тяжелы»[70]. Характерно, что Толстой обращает внимание тут именно на подробности — вопрос, который неизбежно вставал перед ним при разрешении проблемы описания. Даже «Paul et Virginie» Бернарден де Сен-Пьера служит ему некоторое время настольной книгой — он делает из нее много выписок. Как видим, все чтение молодого Толстого имеет вид цельной системы. Прибавим еще Тёпфера, литературная традиция которого, с одной стороны, восходит через Ксавье де Местра («Voyage autour de ma chambre») к Стерну, с другой — идет к тому же Руссо, Бернарден де Сен-Пьеру и Гольдсмиту («Vicar of Wakefield», которого в 1847 году читал и Толстой). В чтении Толстого интересна еще одна черта; на протяжении дневника он несколько раз повторяет, что любит читать дурные или глупые книги: «Странно, что дурные книги мне больше указывают на мои недостатки, чем хорошие. Хорошие заставляют меня терять надежду... Есть какое- то особенное удовольствие читать глупые книги, но удовольствие апатическое» (ДМ. С. 111 и 117). Думается нам, что в этих дурных и глупых книгах Толстого интересовала примитивность и простота приемов, которые в «хороших» осложнены и скрыты. Это — удовольствие специалиста, посвященного в технику своего дела. В Толстом это сказывается с особенной силой, потому что он не эпигон, не последователь. «Хорошие», т. е. в своем роде законченные, классические произведения подавляли его скрытые еще наклонности к разрушению и смещению форм. Он еще не настолько утвердился в своих приемах, чтобы чувствовать себя независимым.
Но постепенно возникает осознание приемов, являются первые наброски. Как мы уже видели, Толстого особенно интересует проблема описания — сюжетология остается в стороне. Описание, освобожденное от метафор, требует деталей, подробностей. С другой стороны, как мы тоже видели выше, Толстой любит обобщать, классифицировать, строить определения и т. д. Эти две линии сталкиваются и мешают друг другу. Главный вопрос в том, как соединить прием лирических и философских отступлений с приемом детализации, с миниатюризмом. В романтической поэтике этого вопроса не возникало, потому что не было, с одной стороны, стремления к бытовому описательно-конкретному стилю, а с другой — все объединялось специфическим «вдохновением», делавшим общую композицию как бы музыкальной. Для поэтики Толстого этот вопрос — основной. Сентиментальная школа, любившая прибегать к детальным описаниям, сливала их с лирическими отступлениями, окутывая все общей дымкой настроенности. В сознании Толстого эти элементы выступают уже раздельно, причем вместо лирических отступлений постепенно являются философские обобщения, рубрики, классификации и т. д., а детализация имеет целью дать ощущение самой вещи и потому уже не связывается с эмоцией. Для этих двух приемов у Толстого — своя терминология: «Писал письмо с Кавказа, мало, но хорошо... увлекался сначала в генерализации, потом в мелочности, теперь, ежели не нашел середины, по крайней мере понимаю ее необходимость и желаю найти ее»[71]. В этом отношении манера Стерна, организующего свой роман при помощи особого сказа и потому все время отступающего от непосредственной темы в сторону, чужда Толстому — его вещи лишены не только сюжета, но и сказа: «Я замечаю, что у меня дурная привычка к отступлениям, и именно, что эта привычка, а не обильность мыслей, как я прежде думал, часто мешает мне писать и заставляет меня встать от письменного стола и задуматься совсем о другом, чем то, что я писал. Пагубная привычка. Несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего любимого писателя Стерна, отступления тяжелы даже у него»[72]. В этот период выработки слога и формы Толстой, чувствуя себя еще учеником, хочет достигнуть той стройности, изящества и гармонии, которые он видит у писателей старшего поколения: «Есть ли у меня талант сравнительно с новыми русскими литераторами? Положительно нету»[73]. И в другом месте: «Хотя в "Детстве" будут огромные ошибки, оно еще будет сносно. Все, что я про него думаю, это то, что есть повести хуже; однако, я еще не убежден, что у меня нет таланта. У меня, мне кажется, нет терпения, навыка и отчетливости, тоже нет ничего великого ни в слоге, ни в чувствах, ни в мыслях»[74]. Недаром «хорошие» книги отнимают у него надежду — отделанная проза Тургенева должна была в это время подавлять его. Он еще робок — прорывающаяся самостоятельность смущает его. Он хочет найти середину между «генерализацией» и «мелочностью» — скрыть их противоречие. Потом эта робость пропадает — «Война и мир» откровенно и с дерзкой парадоксальностью выставляет на свет эти два приема без всякой заботы о «середине», с полным презрением к стройной архитектонике.
Есть еще одна интересная черта в работе молодого Толстого, доказывающая, с одной стороны, связь его с сентиментальной школой (Руссо), с другой — некоторую нерешительность на пути к новому. «Письмо с Кавказа» (будущий «Набег») слагается в сатирическом духе —и это смущает Толстого. «Надо торопиться окончить сатиру моего письма с Кавказа, а то сатира не в моем характере», — записывает он 7 июля 1852 года, как раз в период усиленного чтения «Исповеди» Руссо. Позже он говорит о том же: «Писал целый день описание войны. Все сатирическое не нравится мне; а так как все было в сатирическом духе, то все надо переделывать. <...> Писал много. Кажется, будет хорошо, и без сатиры. Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сатиры. Мне даже неприятно описывать дурные стороны целого класса людей, не только личности»[75]. Отсутствие сатиры и иронии — общая черта сентиментальной поэтики. Руссо замечает по поводу одного своего сатирического стихотворения: «Эта маленькая вещица, правда плохо сделанная, но не лишенная остроумия и обнаруживающая талант к сатире, есть единственное сатирическое сочинение, вышедшее из-под моего пера. Сердце мое слишком мало ненавидит, чтобы я стал пользоваться подобного рода талантом»[76]. Романтическая ирония остается навсегда чуждой Толстому, тургеневская сатира в виде изображения «отрицательных» фигур — совершенно не в его духе, но сатира иного рода вырывается уже в таких повестях, как «Альберт», «Люцерн», а в «Войне и мире» достигает огромной силы. Мягкий юмор «Детства», сходный с юмором Стерна, Тёпфера и Диккенса, уступает потом свое место сатире отвлеченно-морального характера. «Генерализация» развивается именно в эту сторону — сатира становится приемом разложения, упрощения и «остранения» привычных, банальных представлений. В связи с этим сатирической обработке подвергаются шаблоны романтического искусства — героизм, любовь и пр.
Вместе с проблемой описания встает вопрос и об изображении характеров — проблема портрета. Для Толстого, творчество которого внесюжетно, это тоже основной вопрос. В дневнике есть опытный набросок портрета (Кноринг), снабженный комментарием: «Мне кажется, что описать человека собственно нельзя <...> он человек оригинальный, добрый, умный, глупый, последовательный и т. д. — слова, которые не дают никакого понятия о человеке, а имеют претензию обрисовать человека, тогда как часто только сбивают с толку»[77]. Иначе говоря — портрет должен слагаться из отдельных конкретных черточек, а не из общих определений. Не только сюжето- логия, но и типология Толстого не интересует. Его фигуры крайне индивидуальны — это, в художественном смысле, означает, что они, в сущности, не личности, а только носители отдельных человеческих качеств, черт, большею частью парадоксально скомбинированных. Личности эти текучи, границы между ними очерчены не резко, но резко выступают конкретные детали. Отсюда — особые приемы характеристики у Толстого: образ не дается в слитном, синтетическом виде, но расщеплен и разложен на мелкие черточки. Получается ощущение необыкновенной живости, хотя, с другой стороны, общей характеристики нет. Именно это разумеет, по-видимому, сам Толстой, когда записывает: «Перед тем, как я задумал писать, мне пришло в голову еще условие красоты, о которой (котором? — Б. Э.) я и не думал, — резкость, ясность характеров»[78]. Недаром у Толстого нет отдельных, обособленных, замкнутых фигур — «героев», по отношению к которым другие играют служебную роль. Все одинаково выпуклы — и вместе с тем как бы сливаются с другими или взаимно обусловливают друг друга. Личность как психологическое целое в творчестве Толстого, в сущности, распадается. Вместе с сюжетом отпадает необходимость в центральных фигурах как носителях действия и в типах, мотивирующих тот или другой его ход. Вместо обобщенности, вместо психологического синтеза — резкость.
Таковы общие основы поэтики молодого Толстого. Перехожу к его первоначальным наброскам и опытам. Прежде всего — ряд пейзажей и описаний. Вместо синтетических, наполненных эмоциональным вчувствованием и богатых метафорами изображений природы — резкие детали: не погружение, не слияние, а, наоборот, ясное наблюдение со стороны, напряженный взор и слух: «Ночь ясная, свежий ветерок продувает палатку и колеблет свет (нагоревшей свечи); слышен отдаленный лай собак в ауле, перекличка часовых; пахнет дубовыми и чинарными листьями, из которых сложен балаган. Я сижу на барабане, в балагане, который с каждой стороны примыкает к палатке, одна закрытая, в которой спит К. (неприятный офицер), другая открытая, и совершенно мрачная, исключая одной полосы света, падающей на конец постели брата; передо мною ярко освещенная сторона балагана, на которой висят пистолеты, шашки, кинжал и [нрзб.].Тихо; слышно, дует ветер, пролетит букашка, пожужжит около меня, и кашлянет и охнет около солдат»[79].
Пейзаж как элемент повествовательной формы имеет свою историю. Старинный, авантюрный роман его не знает — он введен сентиментальной школой, и особенно привился в качестве заставки (Natureingang) и концовки. Прием этот подсказан был стремлением к своего рода перспективе. В этом значении он развивался и дальше, выделяясь особенно там, где сюжет и драматический диалог отступали на второй план. Но обычная его роль — композиционная, как, например, в «Записках охотника» Тургенева. В этой роли он всегда окрашен эмоцией. У Толстого пейзаж смещен, как смещен и диалог. Перспектива, требуемая новеллой в ее классически развитой форме, ему не нужна, как не нужен и драматически движущийся диалог. Его вещи стоят — описания и диалоги в них самоценны. Пейзаж входит на равных правах с портретом. Резкость, ясность — условие красоты, как ее понимает Толстой. Этот принцип относится одинаково ко всем элементам и, в этом смысле, уравнивает их. Смутные, слитные, «невыразимые» состояния души исключаются или подвергаются оформлению — так же и в других случаях. Описания природы перестают быть аккомпанементом душевной жизни. Они не окутаны никакой дымкой настроения. В них восстанавливается утраченная в романтическом стиле свежесть ощущений и восприятий. Поэтому все внимание обращено на извлечение и сплетение деталей. «Перелить в другого свой взгляд при виде природы» — в этой наивной, юношеской формуле скрывается утверждение самоценности пейзажа. Отсюда искание таких приемов, которые поражали бы непосредственной своей силой — «описание недостаточно».
По отношению к портрету — тот же принцип: «описать человека собственно нельзя». И вот — делается первый опыт: портрет Кноринга[80].
Портрет этот дан тремя приемами. Сначала он набросан предварительно — через психологию брата: «Я знал, что брат жил с ним где-то, что вместе с ним приехал на Кавказ и что был с ним хорош. Я знал, что он дорогой вел расходы общие; стало быть, был человек аккуратный, и что был должен брату, стало быть, был человек неосновательный. — По тому, что он был дружен с братом, я заключил, что он был человек не светский, и по тому, что брат про него мало рассказывал, я заключил, что он не отличался умом». К этому прибавлены предварительные замечания по поводу обращения Кноринга к брату: «Здравствуй, Морда!» Затем дана наружность: «Кноринг человек высокий, хорошо сложенный, но без прелести. Я признаю в сложении такое же, ежели еще не большее выражение, чем в лице: есть люди приятно или неприятно сложенные. — Лицо широкое, с выдавшимися скулами, имеющее на себе какую- то мягкость, то, что в лошадях называется: мясистая голова. Глаза карие, большие, имеющие только два изменения: смех и нормальное положение. При смехе они останавливаются и имеют выражение тупой бессмысленности». За этим следует коротенький набросок диалога. Эти три приема в том или другом виде часто повторяются у Толстого при изображении действующих лиц. Детали иногда так нагромождаются, что ощущение «типического» совершенно пропадает, но зато резкость этих деталей заставляет «видеть» действующее лицо как индивидуальность.
Особенное внимание при этом Толстой уделяет жестам и позам. В большинстве случаев эти жесты и позы осмысленны, психологически мотивированы, но есть случаи, где они даются в чистом виде. Особенно характерен в этом отношении портрет казака Марки, набросанный в дневнике[81]. «Марка, человек лет 25, маленький ростом и убогий; у него одна нога несоответственно мала сравнительно с туловищем, а другая несоответственно мала и крива сравнительно с первой ногой; несмотря или, скорее, поэтому он ходит довольно скоро, чтобы не потерять равновесие, с костылями и даже без костылей, опираясь одной ногой почти на половину ступни, а другой на самую цыпочку. Когда он сидит, вы скажете, что он среднего роста мужчина и хорошо сложенный. Замечательно, что ноги у него всегда достают до пола, на каком бы высоком стуле он ни сидел. Эта способность в его посадке всегда поражала меня; сначала я приписывал это способности вытягивания ног, но, изучив подробно, я нашел причину в необыкновенной гибкости спинного хребта и способности задней части принимать всевозможные формы. Спереди казалось, что он не сидит на стуле, а только прислоняется и выгибается, чтобы закинуть руку за спинку стула (это его любимая поза); но, обойдя сзади, я, к удивлению моему, нашел, что он совершенно удовлетворяет требованиям сидящего». Здесь есть, по-видимому, следы стерновской традиции, которая потом, в «Детстве», несколько осложнена и затушевана психологическим параллелизмом. Самый выбор уродливой и несколько комической позы напоминает приемы Стерна. Так, например, описан Трим в «Тристраме Шенди»: «Он стоял перед нами, нагнувшись и наклонившись корпусом вперед под углом в восемьдесят пять с половиной градусов с плоскостью горизонта... опираясь на правую ногу, которая выдерживала семь восьмых его веса; ступня его левой ноги, недостаток которой нисколько не портил его фигуры, была слегка отставлена — не в сторону, но и не вперед — а по линии между этими двумя направлениями; колено согнуто, но не сильно — настолько, чтобы не выходить за пределы линии красоты, надо прибавить — линии науки также»[82]. У Стерна поза остранена и сделана вообще ощутимой — Толстой не подражает, но усваивает этот прием. Разница — историко-литературного порядка: у Толстого прием видоизменен соответственно фону, на котором выступает его манера. Дальше в описании Марки следует перечисление черт его лица, как было и в портрете Кноринга: «Лицо у него некрасивое; маленькая, по-казацки гладко обстриженная голова, довольно крупный, умный лоб, из-под которого выглядывают плутовские, серые, не лишенные огня глаза, нос, загнутый кольцом (концом? — Б. Э.) вниз, выдавшиеся толстые губы и обросший рыженькой короткой бородкой подбородок — вот отдельно черты его лица...» Затем — речевая характеристика, как вкратце было намечено и в портрете Кноринга. Здесь это интересно мотивировано: «Морально описать я его не могу[83], но сколько он выразился в следующем разговоре — передам». И следуют слова Марки с сохранением особенностей его речи («можно сказать» — «он любит употреблять это вставочное предложение»). Портрет Марки был начат с целью обрисовать «типическую казачью личность», но все описание наружности и позы никакого отношения к типичности не имеет, что и характерно для Толстого.
Другие опыты Толстого относятся к области изображения своих душевных состояний — они подготовлены напряженным самонаблюдением и самоиспытыванием «франклиновского» периода. Эти опыты служат своего рода этюдами к будущим монологам про себя, которыми так отличаются художественные произведения Толстого. Мы настолько привыкли к этому, что уже не ощущаем всей оригинальности и новизны этого приема. Иначе относились к этому современные Толстому критики. С. А. Андреевский прямо говорит: «Выступая в печати с своим психологическим анализом, Толстой рисковал быть непонятым, потому что, наполняя свои страницы длинными монологами действующих лиц — этими причудливыми, молчаливыми беседами людей "про себя", наедине с собою, — Толстой создавал совершенно новый, смелый прием в литературе»[84].
Прием этот постепенно подготовляется в дневнике. Душевные состояния изображаются здесь не в слитном, готовом виде, а в виде последовательности мыслей и чувств, причем обычно вводится момент противоречия, контраста или даже парадокса. Как и в портретах — ясность, резкость деталей, не сливающихся в одно целое. Изображается, например, религиозное чувство: «Я просил, и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил Его, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все, и мольбу, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств — Веры, Надежды и Любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно, чувство, которое я испытал вчера, — это любовь к Богу, — любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное. — Как страшно мне было смотреть на всю мелочную, порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как они могли завлекать меня. Как от чистого сердца просил я Бога принять меня в лоно свое. Я не чувствовал плоти, я был... но нет, плотская, мелочная сторона опять взяла свое, и не прошло часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустую сторону жизни; зная, откуда этот голос, зная, что он погубит мое блаженство, боролся — и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог»[85].
Душевная жизнь предстает в виде бесконечной и прихотливой смены состояний, над которыми не властно сознание, — текучесть человеческих переживаний, безостановочный процесс следующих друг за другом и часто противоречивых движений составляет главную сущность толстовского метода при изображении душевной жизни. Сознание разлагает ее на моменты и оформляет самую последовательность. На это указывает сам Толстой: «Встал я поздно с тем неприятным чувством при пробуждении, которое всегда действует на меня: я дурно сделал, проспал. Я, когда просыпаюсь, испытываю то, что трусливая собака перед хозяином... Потом подумал я о том, как свежи моральные силы человека при пробуждении, и почему не могу я удержать их всегда в таком положении. Всегда буду говорить, что сознание есть величайшее моральное зло, которое только может постигнуть человека. Больно, очень больно знать вперед, что я через час хотя буду тот же человек, те же образы будут в моей памяти, но взгляд мой независимо от меня переменится, и вместе с тем сознательно»[86].
В связи со всем этим понятным и характерным для Толстого кажется прием «остановок» или кризисов, через которые проходят его действующие лица и проводит периодически он сам себя[87]. Эти моменты служат как бы мотивировкой для обозрения душевной жизни за истекшее время — таким способом вводятся эти монологи «про себя», где с точки зрения нового взгляда на себя и на жизнь производится анализ поступков, мыслей и чувств. Анализ этот производится как бы со стороны — тем самым душевные состояния формулируются ясно, резко; хотя и неизбежно искажаются, но зато остраняются, что Толстому и нужно. Прием этот проводится уже в «Детстве», еще сильнее — в «Отрочестве» и в «Юности», а дальше он неизменно сопутствует изображению душевной жизни. Творчество вырастает на основе методов самонаблюдения — и в действующих лицах можно все время видеть, как использованы Толстым результаты его самоиспытывания: «Уезжая из Москвы, он (Оленин. — Б. Э.) находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, — что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить хорошенько, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уж не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверное будет одно счастье» («Казаки», гл. II). Как это похоже на самого Толстого, каким он изображает себя в письмах к брату! Таких примеров — бесконечное количество, и дело здесь, конечно, не в том, что творчество Толстого есть «отражение» его реальной душевной жизни, а в тожестве метода, который применяется Толстым к самоанализу и к изображению душевной жизни в художественных произведениях.
Приведем еще пример наброска из дневника. Толстой анализирует чувство грусти, охватившее его без всякой определенной причины: «Жалеть мне нечего, желать мне тоже почти нечего, сердиться на судьбу не за что. <...> Воображение мне ничего не рисует — мечты нет. Презирать людей — тоже есть какое-то пасмурное наслаждение; но и этого я не могу, я о них совсем не думаю. <...> Разочарованности тоже нет; меня забавляет все[88]; но в том горе, что я слишком рано взялся за вещи серьезные в жизни; взялся я за них, когда еще не был зрел для них, а чувствовал и понимал; так сильной веры в дружбу, в любовь, в красоту нет у меня, и разочаровался я в вещах важных в жизни; а в мелочах еще ребенок. Сейчас я думаю, вспоминая о всех неприятных минутах моей жизни, которые в тоску одни и лезут в голову, — нет, слишком мало наслаждений, слишком много желаний, слишком способен человек представлять себе счастье, и слишком часто, так, ни за что, судьба бьет нас, больно, больно задевает за нежные струны, — чтобы любить жизнь; и потом что-то особенно сладкое и великое есть в равнодушии к жизни, и я наслаждаюсь этим чувством. Как силен кажусь я себе против всего с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти. И сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за казачками, и приходить в отчаяние, что у меня левый ус ниже правого, и я два часа расправляю его перед зеркалом»[89]. Опять — контраст, опять — текучесть и прихотливая смена душевных состояний.
В другом месте Толстой размышляет о любви. Можно заранее предвидеть, что здесь, как выше в рассужденье об описании природы и о мечте, Толстой будет искать новых средств для освобождения себя от шаблонов романтической поэтики: «Не знаю, что называют любовью. Ежели любовь то, что я про нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал»[90]. Делается попытка нового определения чувства любви: «Мне кажется, что это-то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. <...> Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла. Все порывы души чисты, возвышенны в своем начале. Действительность уничтожает невинность и прелесть всех порывов»[91]. За этим следует размышление: «Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жалче, увижу ее в чепце, веселенькой и с теми же умными, открытыми, веселыми и влюбленными глазами? Я не оставил своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не довольно убежден, что она может составить мое счастье, но все-таки я влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, что этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное? Не написать ли ей письмо? Не знаю ее отчества и от этого, может быть, лишусь счастия. Смешно. Забыли взять рубашку со складками, от этого я не служу в военной службе. Ежели бы забыли взять фуражку, я бы не думал являться к Воронцову и служить в Тифлисе»[92]. Здесь Толстого заинтересовывает парадоксальная зависимость больших явлений от самых ничтожных — то самое, что потом вводится в «Войну и мир»[93]. Тем самым чувство любви оказывается зыбким, неустойчивым, подчиненным — получается нечто аналогичное той текучести душевной жизни, которая изображалась в других набросках.
Всюду — борьба с условностями установившегося литературного канона путем разложения и прихотливого сочетания элементов. Рассудок внедряется в область художества как новое, творческое начало. Форма расшатывается, приобретает неопределенные очертания, но тем определеннее выступают новые приемы, сообщающие резкость и ясность деталям. Склонность Толстого к «умствованию»[94] мы видели с первых страниц дневника. Оно выражается в форме определений, рубрик, классификаций, афоризмов и переходит в таком виде в художественные произведения. Эти философские отступления, внедряющиеся в художество, аналогичны всякого рода «диссертациям», большим и маленьким, которыми наполнены Стерн и Ксавье де Местр. «Набег» развивается из рассуждения о храбрости, следы которого есть в дневнике: «Разговоры офицеров о храбрости. Как заговорят о ком-нибудь, — храбр он? Да, так. Все храбры. — Такого рода понятия о храбрости можно объяснить вот как. Храбрость есть такое состояние духа, при котором силы душевные действуют одинаково, при каких бы то ни было обстоятельствах, или напряжение деятельности, лишающее сознания опасностей. Или есть два рода храбрости: моральная и физическая. Моральная храбрость, которая происходит от сознания долга и вообще от моральных влечений и не от сознания опасности. Физическая та, которая происходит от физической необходимости, не лишая сознания опасности, и та, которая лишает этого сознания»[95]. И, конечно, не случаен самый выбор тем для такого рода «диссертаций»: храбрость, как и любовь, — одно из неразложимых состояний или качеств; герой-храбрец — один из шаблонов романтической литературы. Этих двух оснований достаточно, чтобы Толстой направил именно сюда разлагающую силу рассудка — и в результате этого акта истинно храбрым оказывается тот, кто как раз не обладает свойствами традиционного героя, как капитан Хлопов. Так подготовляется, с одной стороны, Тушин, с другой — Кутузов.
«Генерализация» служит фоном, остраняющим душевную жизнь действующих лиц и сообщающим ее изображению особую остроту и свежесть. Сочетанием этой «генерализации» с «мелочностью» определяется развертывание художественных произведений Толстого. Первая стремится к простым и точным определениям, хотя бы и упрощающим явление. Главное — логическая ясность: «Кто-то сказал, что признак правды есть ясность. Хотя можно спорить против этого, все-таки ясность останется лучшим признаком, и всегда нужно поверять им свои суждения... Неужели я никогда не выведу понятие о Боге так же ясно, как понятие о добродетели? Это теперь мое сильнейшее желание». Религиозное чувство подвергается такому же разложению, какому подвергалось чувство любви, чувство природы, мечта и т. д. В дневнике 1852 года имеется характерная «краткая форма» верования: «Верую во единого, непостижимого, доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие за дела наши. Не понимаю тайны Троицы и рождения Сына Божия, но уважаю и не отвергаю веру отцев моих»[96]. Тут уже налицо те элементы, из которых слагаются «автобиографические» образы его романов — Пьер и Левин, а с другой стороны — здесь же зародыши его «Исповеди», «В чем моя вера» и т. д. Второй метод — «мелочность» — как бы опрокидывает все эти «умствования», превращая душевную жизнь в нечто непрерывно текучее.
Ни с одной «генерализацией» отожествить Толстого нельзя, потому что она — метод, а не учение, не теория. Метод этот возникает на основе изжитой романтической поэтики как новый творческий акт, завершающий собою процесс разложения художественных форм[97]. Метафизическая эстетика разрушена — Толстой стоит на почве новой, психологической эстетики, которая не требует от произведения искусства особой внутренней замкнутости, целостности. На место фантазии становится психологический анализ, цель которого — дать впечатление живости и «правды». Искусство должно заново найти себе место в жизни — и в этом смысле характерна для Толстого постоянная тяга от литературы в сторону. Романтическое противопоставление мечты и «существенности» изжито — представления об искусстве как откровении и о художнике как жреце уже нежизненны. Проблема оправдания искусства, всегда встающая в такие критические эпохи, осложняет творчество внедрением в него чуждых искусству элементов. Искусство не имеет постоянного, признанного раз навсегда места наравне с другими так называемыми социальными или культурными благами — оно всегда более или менее приемыш. Новому искусству всегда приходится пробивать себе дорогу через груды развалин. С самой юности у Толстого возникают эти вопросы: «Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой, или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?»[98] Художественная работа вдруг прерывается совсем посторонними замыслами — особенность, характерная для всей истории толстовского творчества: «В большой Орешевке говорил с умным мужиком. Они довольны своим житьем, но не довольны армянским владычеством. После обеда и отдыха ходил стрелять и думал о рабстве. На свободе подумаю хорошенько — выйдет ли брошюрка из моих мыслей об этом предмете» (ДМ. С. 119). «В романе своем я изложу зло правления русского, и ежели найду его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического избирательного соединения с монархическим правлением, на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни. Благодарю тебя, Господи, дай мне силы» (ДМ. С. 147). «Составить истинную правдивую историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь» (ДМ. С. 154). И наконец: «Я не могу не работать. Слава Богу: но литература пустяки, но мне хотелось бы писать здесь устав и план хозяйства» (ДМ. С. 172). Дальше мы будем иметь дело с этими характерными «кризисами». Уже в 1855 году Толстой приходит к «великой, громадной мысли», осуществлению которой он готов посвятить всю жизнь: «Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. <...> Действовать сознательнок соединению людей религией — вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня»[99].
В дневниках молодого Толстого мы видим, таким образом, зародыши всего его будущего творчества. Подготовлены приемы, обдуманы общие основы поэтики. Есть уже почва, на которой будут постепенно вырастать Наполеон и Кутузов, Пьер и Наташа, Анна и Левин, «Крейцерова соната». Подготовлена уже и «Исповедь», но теперь ясно, что тут — метод искажения и «генерализации», а вовсе не действительная душевная жизнь Толстого. Приведем в заключение этой главы портрет молодого Толстого, сделанный им самим, — образец такого искажения, очень сходный с монологами «про себя» будущих его героев: «Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с семилетнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет; без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни; наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов, а главное — привычек, а оттуда, придравшися к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26-ти лет прапорщиком почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употреблять на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить на свете, без знания службы, без практических способностей, но с огромным самолюбием. Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность. Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intoldrant) и стыдлив, как ребенок.
Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку, и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием, но есть вещи, которые я люблю больше добра — славу. Я так честолюбив, и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью — первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них»[100].
II. ОПЫТЫ В ОБЛАСТИ РОМАНА
1
Основной пафос молодого Толстого — отрицание романтических шаблонов как в области стиля, так и в области жанра. Он не думает о фабуле, не заботится о выборе героя. Романтическая повесть с центральной фигурой героя, с перипетиями любви, создающими сложную фабулу, с лирическими, условными пейзажами — все это не в его духе. Он возвращается к самым простым элементам — к разработке деталей, к «мелочности», к описанию и изображению людей и вещей. В этом смысле Толстой отходит от линии «высокого» искусства и с самого начала вносит в свое творчество упрощающую тенденцию. Отсюда — напряженное самонаблюдение и самоиспытывание, отсюда же — забота о наиболее непосредственной передаче своих ощущений, стремление освободиться от всяких традиций. Характерна в этом отношении одна его фраза в дневнике: «Людям, которые смотрят на вещи с целью записывать, вещи представляются в превратном виде; я это на себе испытал». Толстой пристально разглядывает себя и мир, чтобы дать новые формы восприятия душевной жизни и природы. Естественно поэтому, что первые формальные проблемы, которые он ставит себе, суть проблемы описания, а не повествования, проблемы стиля, а не композиции, не жанра.
В связи с этим общим устремлением его поэтики возникает и вопрос о «генерализации». Он — не рассказчик, так или иначе связывающий себя с своими героями, а посторонний, зоркий наблюдатель и даже экспериментатор. Личный тон его должен быть лишен всякой эмоциональной напряженности — он смотрит и рассуждает. Теоретические «отступления» — необходимый элемент его поэтики; нарочитая, резкая рассудочность тона требуется ее основными предпосылками. «Генерализация» укрепляет позицию автора, наблюдающего со стороны, — она должна быть фоном, на котором выступают парадоксальные в своей резкой мелочности детали душевной жизни.
Основы художественного метода определены Толстым уже в ранних дневниках. Но не сразу найдены формы — весь период до «Войны и мира» есть период не столько достижений, сколько исканий. В «Детстве» Толстой производит впечатление готового, законченного писателя, но только потому, что здесь он еще очень осторожен и даже робок, — ему нужно еще убедиться, что он может написать «хорошую» вещь. Характерно поэтому, что именно после «Детства» наступает период этюдов и опытов, период мучительных сомнений и борьбы. Недаром после «Детства» успех Толстого начинает падать, а к 60-м годам он считается почти забытым писателем.
Замысел автобиографического «романа», состоящего из описания четырех эпох жизни (Детство, Отрочество, Юность и Молодость)[101], органически связан с основными художественными тенденциями Толстого. Ни о какой авантюрной схеме, хотя бы в духе диккенсовского «Давида Копперфильда», Толстой не думает — это не должна быть «история жизни», а нечто совсем другое. Вместо сцепления новелл или событий — сцепление отдельных сцен и впечатлений. Герой в старом смысле слова Толстому не нужен, потому что ему не нужно нанизывать события. Недаром задуманный роман должен был остановиться на эпохе «молодости» — вопрос о конце вообще мало заботил Толстого; ему необходимо было только иметь перед собой некоторую перспективу. Личность героя комбинируется непосредственно из самонаблюдения, из дневников — это не «тип», даже не личность, а носитель «генерализации», восприятием которого Толстой мотивирует «мелочность» описаний. Материал романа не конструируется личностью Николеньки, скорее наоборот — личность эта обусловлена материалом. Характерно поэтому, что после «Детства», где Николенька есть лишь точка, определяющая собой линии восприятия, и где «генерализация» и «мелочность» находятся в состоянии равновесия, Толстой начинает терять интерес к своему роману. Хронологическое движение романа, по существу, совершенно не нужно Толстому — он никуда не ведет своего героя и ничего не хочет с ним делать. Необходимость уделять все больше и больше внимания его личности приводит к нагромождению «генерализаций». Неудивительно, что в 1852 г. Толстой писал Некрасову: «Принятая мною форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предыдущей так стесняют меня, что я часто чувствую желание бросить их и оставить 1-ю без продолжения». Особенно характерно это указание на принужденность связи между частями. Личность Николеньки сама по себе, очевидно, не была для Толстого нитью, естественно связующей части романа. Самая «автобиографическая» форма как бы потеряла смысл после «Детства», потому что обязывала к централизации материала, к его группированию вокруг личности героя, что совершенно не соответствовало художественным намерениям Толстого. Концентрация психологического материала вокруг одной личности вообще чужда Толстому. «Детство» оказалось не частью романа, а законченной, замкнутой в себе вещью.
Работа над «Детством» идет с конца 1851 г. до середины 1852 г. В это время он читает Стерна, Руссо, Тёпфера и Диккенса. Связь между чтением и работой несомненна: «Тристрам Шенди» и «Сентиментальное путешествие» Стерна, «Исповедь»
Руссо, «Библиотека моего дяди» Тёпфера и «Давид Копперфильд» Диккенса — это западные источники «Детства». Выбор этот очень неслучаен — все эти вещи связаны между собой определенной историко-литературной нитью. От Стерна к Тёп- феру линия идет через Ксавье де Местра — французского стернианца, автора повести «Путешествие вокруг моей комнаты»[102]. Здесь повторены многие характерные для Стерна приемы: пародирование сюжетной схемы, намеренное затягивание рассказа философскими и лирическими отступлениями, общий миниатюризм описаний (Klienmalerei) и т. д., вплоть до обращений к некой Jenny и сравнений с дядей Тоби из «Тристрама Шенди». Вместе с тем это Стерн, проведенный через французскую традицию и лишенный многих специфически английских черт. Тёп- фер выступает как последователь и ученик де Местра. На просьбу издателя прислать что-нибудь новое де Местр отвечал в 1839 году: «Я вижу такую огромную разницу между теми представлениями о литературе, которые я составил себе в юности, и теми, которыми руководятся нынешние авторы, пользующиеся успехом у публики, что чувствую себя сбитым с толку... Надеюсь, что я убедил вас в своем бессилии прибавить что-либо к моему маленькому сборнику; однако желание ответить на ваше доброе намерение побуждает меня послать вам вещицы, которые я только что получил и которые могли бы служить продолжением моих. Будучи не в состоянии предложить вам вещи, которых я не мог написать, рекомендую вам эти, которые я хотел бы написать»[103]. Тёпфер оказывается продолжателем младшей, связанной с XVIII веком линии французской литературы и воспринимается как контраст по отношению к романтикам. Сент-Бёв так и определяет впечатление, произведенное его швейцарскими новеллами на французских читателей: «Мы видели здесь образец, который действительно следовало противопоставить нашим собственным произведениям, таким утонченным и таким нездоровым»[104]. Характерна и очень близка к молодому Толстому вся литературная филиация Тёпфера: Руссо, с которым он, по собственным словам, не расставался в течение двух или трех лет[105], Бернарден де Сен-Пьер («Paul et Virginie»), Гольдсмит («Vicar of Wakefield») и, наконец, тот же
Франклин. Указывая на это возвращение Тёпфера к старой, как будто изжитой литературе, Сент-Бёв прибавляет: «Одним словом, Тёпфер начал как все мы; он отступил назад, чтобы лучше прыгнуть».
Соединение Тёпфера, с одной стороны, со Стерном, с другой — с Руссо оказывается совершенно естественным и знаменательным для Толстого. Здесь — не простое подчинение индивидуальному влиянию отдельного писателя, а творческое, активное усвоение целой литературной школы, близкой по своим художественным методам намерениям молодого Толстого. Характерно, что и Диккенс усваивается Толстым только с той стороны, которая исторически связывает его со Стерном, т. е., главным образом, разработка деталей, общий миниатюризм описаний. Весь этот круг чтения определяется основной тенденцией Толстого — разрушить романтическую поэтику со всеми ее стилистическими и сюжетными построениями. Поэтому прямых подражаний у Толстого нет — есть только усвоение некоторых художественных приемов, нужных для образования его собственной системы. Например, Стерна Толстой называет своим любимым писателем и переводит его, но специфически английские черты Стерна чужды ему — «отступления тяжелы даже у него». Он воспринимает Стерна на особом фоне — английская традиция сама по себе, стернианство как таковое ему не нужно. Ему важно в Стерне то, что усвоено было через де Местра и Тёпфером, — общая задушевность, «семейность» стиля, допускающая обильное описание деталей, отсутствие сложных сюжетных схем, вольная композиция. Кроме того, в Толстом, по-видимому, действовала и русская традиция, идущая от Карамзина, — оценившая Стерна как автора не столько «Тристрама Шенди», сколько «Сентиментального путешествия» (Толстой сам указывал именно на это произведение и его переводил). Стерн-пародист, опрокидывающий привычные формы английского романа, был слишком чужд русской литературе, едва нащупывавшей почву для развития прозы. Отсюда — специфически русский Стерн, «чувствительный» рассказчик трогательных историй. Следы этой русской традиции можно видеть в «Детстве» Толстого — хотя бы в обращении к читателям: «Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую очень немногого: чтобы вы были чувствительны, т. е. могли бы иногда пожалеть от души и даже пролить несколько слез о воспоминаемом лице, которого вы полюбили от сердца, порадоваться на него и не стыдились бы этого, чтобы вы любили свои воспоминания, чтобы вы были человек религиозный, чтобы вы, читая мою повесть, искали таких мест, которые задевают вас за сердце, а не таких, которые заставляют вас смеяться». С другой стороны, в пределах самой русской литературы «Детство» Толстого было не одиноким и не неожиданным. Начало такому автобиографическому роману, и именно описанию детства, положено было Карамзиным (опять встречаемся мы с этим именем) в его неоконченном «Рыцаре нашего времени» (кстати, не окончен и «Тристрам Шенди», не окончен и роман Толстого). Английский источник — и больше всего «Тристрам Шенди» Стерна — здесь несомненен: названия глав (особенно четвертой, «которая написана только для пятой»), игра слов, стиль непринужденной «болтовни», вставки («отрывок Графининой истории»), неожиданный перерыв письма («последних десяти строк мы никак не могли разобрать: они почти совсем изгладились от времени»), наконец — упоминание о Стерне в первой главе («Рождение моего героя»): «Отец Леонов был русской коренной дворянин, израненной отставной капитан, человек лет в пятьдесят, ни богатой, ни убогой, и — что всего важнее — самой доброй человек; однако ж нимало не сходный характером с известным дядею Тристрама Шенди — доброй по-своему и на русскую стать». Интересно при этом, что Карамзин сознательно противопоставляет свой биографический роман романам историческим, как видно из вступления: «С некоторого времени вошли в моду исторические романы. Неугомонный род людей, который называется Авторами, тревожит священный прах Нум, Аврелиев, Альфредов, Карломанов и, пользуясь исстари присвоенным себе правом (едва ли правым), вызывает древних Героев из их тесного домика (как говорит Оссиан), чтобы они, вышедши на сцену, забавляли нас своими рассказами. Прекрасная кукольная Комедия!.. Я никогда не был ревностным последователем мод в нарядах; не хочу следовать и модам в авторстве; не хочу будить усопших великанов человечества; не люблю, чтоб мои читатели зевали — и для того, вместо исторического романа, думаю рассказать романическую историю моего приятеля». Эта смена исторического романа романом семейным или биографическим повторяется и ко времени выступления Толстого. После Карамзина русская проза уступает свое место стиху, который к 30-м годам достигает расцвета. Тут — новая волна прозы и новое возрождение исторического романа: Загоскин, Лажечников, Масальский, Кукольник, Полевой и др. Сюда же примыкают «Капитанская дочка» Пушкина и «Тарас Бульба» Гоголя. Рядом с этим является сложная, воспитанная на стихотворных приемах, стилистически изысканная проза Марлинского, которая к 40-м годам дозревает до прозы Лермонтова. Происходит перелом — меняются приемы, меняется материал. Возникает целая полоса биографических повестей и романов, приводящая к «Детству» Толстого, к «Сну Обломова» Гончарова, к «Семейной хронике» и «Детским годам Багрова внука» С. Аксакова. Это замечают и современные критики. Б. Н. Алмазов писал в «Москвитянине» в 1852 г.: «Нельзя не порадоваться, что в последнее время стало выходить много романов и повестей, имеющих предметом изображения детского возраста»[106]. Сам Толстой, прочитав номер «Современника», где было напечатано его «Детство», записывает в дневнике: «...одна хорошая повесть похожа на мое Детство, но не основательно». Это повесть Николая М. (П. А. Кулиш) «Яков Яковлич»[107], которая непосредственно связана с его же повестью «История Ульяны Терентьевны», напечатанной раньше. Обе эти вещи по жанру действительно очень близки к «Детству»; чувствуется связь с английской литературой, особенно с Диккенсом — хотя бы в названиях глав, совсем в духе «Давида Копперфильда»: «Что за лицо Ульяна Терентьевна», «Мечта моя не скоро, но все-таки осуществляется», «Я приобретаю права гражданства в семействе Ульяны Терентьевны», «На светлом горизонте показывается туча», «Удивительные открытия, сделанные мною в Якове Яковличе», «Я делаю открытия, еще удивительнейшие» и т.д. Повторяются традиционные для этого жанра мотивы — скучные занятия арифметикой, любимая книга, огьезд в город для учения. Повесть тоже противопоставляется сюжетным вещам как нечто другое: «Рассказ мой сложился так, что сделался похож на начало повести. Я боюсь, чтоб читатель не позабыл, что я обещал ему, и не стал ожидать от меня развития завязки на общем основании повестей и романов». Он пишет биографию и потому будет говорить о самых обыкновенных обстоятельствах жизни, о самых простых поступках, обо всех мелочах домашнего быта. «Я бы желал, — пишет автор, — быть с моим читателем в самых искренних отношениях, чтобы речь моя была для него подобна тихим беседам в небольшом кружку близких людей, за вечерним чаем, когда дневные заботы кончены, когда чувствуешь себя обеспеченным от всякого тягостного дела и когда доверчивым излиянием чувств вознаграждаешь себя за дневное принуждение в сношениях с чуждыми нашей натуре людьми. Только в таком расположении души образ Ульяны Терентьевны представился бы ему в той меланхолической прелести, в какой он мне представляется».
Еще в 1850 г. Толстой хотел написать повесть «из окна», которая, очевидно, должна была состоять из детального описания различных сцен, связанных между собой лишь местом и способом наблюдения. Замысел этот возник у него, вероятно, не без связи с чтением Стерна и Тёпфера. В повести Тёпфера окну как наблюдательному пункту отводится очень значительная роль. Жюль проводит целые часы у окна, наблюдая и размышляя; так мотивируется ряд отдельных описаний, сменяющих друг друга: больница, церковь, фонтан, кошки, всевозможные уличные сцены — «и это лишь маленькая доля тех чудес, которые можно видеть из моего окна». В Стерне и Тёпфере Толстому нравится именно эта сосредоточенность на деталях, эта интенсивность наблюдения, делающая описание самоценным. В «Детстве» он, по собственным его словам, «не был самостоятелен в формах выражения». Действительно, здесь мы видим не только общую тенденцию к изображению деталей, но и сентиментально-меланхолический тон, усвоенный Толстым из чтения Стерна и Тёпфера. Типична в этом отношении глава XV — одно из лирических отступлений: «Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни? Где те горячие молитвы? где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному, детскому воображению. Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?» Это — почти словарь Карамзина или Жуковского. Аналогичны отступления и у Тёпфера: «Свежее майское утро, лазурное небо, зеркальное озеро, я вас вижу и теперь, но... скажите мне, куда девались ваш блеск, ваша чистота, та прелесть бесконечной радости, таинственности, надежды, какие вы возбуждали во мне?.. Как верно, нежно и искренно сердце, пока оно чисто и молодо!»
«Детство» сцепляется не движением событий, образующих фабулу, а последовательностью различных сцен. Последовательность эта обусловлена временем. Так, вся первая часть «Детства» представляет собой описание ряда сцен, сменяющих друг друга в течение одного дня — с утра до вечера, по движению часовой стрелки: пробуждение, утренний час, у отца в кабинете, урок, обед, охота, игры и т. д. Время здесь играет роль лишь внешнего плана — его движение поэтому не ощущается. Параллельно с этим совершается переход из комнаты в комнату — события первой части почти не выходят за пределы этого ограниченного пространства. Такая концентрация материала явилась естественным результатом стремлений Толстого к «мелочности», к разработке описаний. Но при такой тенденции неизбежно вставал вопрос о выборе и расположении подробностей. Чем больше освобождал себя Толстой от сюжетной схемы, тем труднее было решить проблему композиции. В этом отношении текст «Детства» подвергался значительным переделкам. Первая часть была закончена в конце 1851 г., но Толстой еще несколько раз возвращается к ней — сокращает и вставляет новое. 22 марта 1852 г. он записывает в дневнике: «Не продолжал повесть частью оттого, что я сильно начинаю сомневаться в достоинствах первой части. Мне кажется, слишком подробно, растянуто и мало жизни». Интересно, что особенно затруднял Толстого вопрос о «втором дне». Масштаб первой части, с его мелкими долями одного дня, определял собою и дальнейшее; но описывать второй день, наполняя его новыми подробностями, расположенными в том же временнбм порядке, было бы слишком скучно. Какие-то наброски этого второго дня были, по-видимому, сделаны — и вот Толстой записывает 27 марта: «Завтра буду переписывать <...> и обдумаю второй день; можно ли его исправить или нужно совсем бросить? Нужно без жалости уничтожать все места неясные, растянутые, неуместные, одним словом неудовлетворяющие, хотя бы они были хороши сами по себе». Первый день подвергался тоже большим сокращениям, как видно из сравнения журнального текста («Современник», 1852, т. XXXV) с одной из первоначальных редакций, опубликованной С. А. Толстой в ее издании; характерно, что в это время Толстой особенно старается сокращать и уничтожать отступления — нет в последнем тексте описания трех способов, какими помещик избавляется от гонений со стороны соседей (гл. X), нет длинного рассуждения о музыке (гл. XI) и т. д.
В связи с проблемой второго дня в дневнике есть одна интересная запись (от 10 апреля), очень неясная по форме, но все же понятная на фоне общего хода размышлений: «...принялся за роман; но написав две страницы — остановился, потому что мне пришла мысль, что второй день не может быть хорош без интереса, что весь роман похож на драму. Не жалею, отброшу завтра все лишнее». Это, по-видимому, значит: композиция романа, чтобы он был интересен, должна быть, драматической — поэтому второй день не может быть описательным, как первый, а должен служить лишь переходом к дальнейшему; отсюда вывод — отбрасывать все лишнее. В конце концов Толстой, очевидно, решил совершенно уничтожить второй день — осталась только одна глава (XIV), описывающая отъезд в Москву и образующая, вместе со следующей, концовку для первой части. Получается нечто вроде замкнутого акта, построенного на временнбй последовательности первого дня. Первоначальный масштаб определил собой построение второй части (гл. XVI—XXIV) — она состоит тоже из описания одного дня (именины бабушки). Последние главы (XXV-XXVIII) образуют финал, причем гл. XXVIII — воспоминания о смерти Натальи Савишны — лирически замыкает вторую часть меланхолическим вопросом и в этом смысле аналогична гл. XV: «Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черною решеткой. В душе моей вдруг пробуждаются тяжелые воспоминания. Мне приходит мысль: неужели Провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?..»[108]
Все это указывает на стремление Толстого сообщить композиции повести возможную стройность. Его беспокоило отсутствие драматического «интереса», т. е. отсутствие внутреннего движения, сцепляющего все отдельные сцены. Вместо сюжетной схемы, собою определяющей приемы развертывания материала, мы находим нечто другое. Тема матери, проведенная через всю повесть (начиная с выдуманного сна о смерти матери и кончая действительной ее смертью), служит как бы лейтмотивом, лирически стягивающим повесть воедино. Напряжением и развитием этого лейтмотива определяются ее главные, в конструктивном смысле, моменты — конец первой части (гл. XIV-XV) и финал. Выше было уже указано на соответствие гл. XV и последней — действительно, они корреспондируют друг с другом как лирические повторения в ударных местах поэмы или как рефрены в стихотворении. Это — главные лирические ударения всей повести, из которых второе, как финал, сильнее первого. Глава, описывающая разлуку (XIV), сосредоточивает в себе лирическое напряжение первой части и кадансирует меланхолическим отступлением (гл. XV). Совершенно ту же композиционную роль по отношению ко второй части, а вместе с тем и ко всей повести, играют главы, описывающие смерть матери, причем и здесь повесть не просто обрывается, а кадансирует главой о смерти Натальи Савишны, написанной в сентиментально-меланхолическом тоне и как бы разрешающей трагический диссонанс предыдущей главы. Построение оказалось не драматическим, а лирическим, что и характерно для Толстого этой эпохи, воскрешающего традиции Руссо, и Стерна, и идущего по следам Тёпфера. Особенно характерно, что смерть матери (вообще говоря — традиционный мотив «первого горя») не служит сюжетным узлом, как смерть отца в «Давиде Копперфильде», а образует финал, мотивируя остановку повести. Так преодолена текучесть автобиографической формы, развернутой не как «история детства», а как ряд отдельных сцен, расположенных по мелким делениям вре- меннбго масштаба. Исчерпывающее описание двух дней с соответственными концовками — вот все «Детство».
Толстому незачем было и даже невозможно было развертывать свой материал на большом промежутке времени, как это сделано в «Давиде Копперфильде». Никакого авантюрного плана в задуманном романе нет, Николенька не «герой». Более того, Николенька — и не личность. Идея «романа» в четырех частях явилась у Толстого не из желания изобразить психологическое развитие определенной личности с ее типически-индивидуальными особенностями, а из потребности в «генерализации», в отвлеченной программе. Толстому вообще необходим двойной масштаб: один — мелкий, долями которого определяются детали душевной и физической жизни, другой — крупный, которым измеряется весь массив произведения. Наложением одного на другой обусловлена композиция его вещей. Отсюда — потребность в больших формах, отсюда — в самом начале вопрос о сочетании «генерализации» с «мелочностью». Это сочетание во всей силе и своеобразии развернулось в «Войне и мире», но задумано уже в первом романе. В «Детстве» Николенька — лишь «окно», через которое мы смотрим на сменяющийся ряд сцен и лиц. Внимание Толстого сосредоточено здесь на «описательстве», на «мелочности» — восприятием ребенка мотивируется конкретность и резкость деталей. Связь сцен — совершенно внешняя: каждая сцена исчерпывается до конца и механически уступает место следующей. «Несамостоятельность» Толстого сказывается, главным образом, в том, что эта основная художественная тенденция окутана здесь сентиментально-меланхолическим тоном, от которого Толстой и освобождается после «Детства».
Перед нами — мир, рассматриваемый в микроскоп. Подробно описываются позы и жесты — традиция, идущая от Стерна, но здесь прием этот мотивирован детским восприятием Николеньки. Карл Иванович сидит подле столика: «в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел»; матушка «сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос». Отец подергивает плечом, приказчик Яков вертит пальцами. Иногда жесты и движения разлагаются на отдельные моменты, параллельно разговору, и образуют целую систему. Так передан разговор отца с матерью за обеденным столом: «Передай мне, пожалуйста, пирожок, — сказала она. — Что, хороши ли они нынче? — Нет, меня сердит, — продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы татап не могла достать его, — нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман. — И он ударил вилкой по столу. — Я тебя просила передать мне пирожок, — повторила она, протягивая руку. «И прекрасно делают, — продолжал папа, отодвигая руку, — что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ, — прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок» (гл. V). Аналогичный этому прием есть и в «Отрочестве», при описании урока. «Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого, — сказал он, покачиваясь на стуле и задумчиво глядя себе под ноги. — Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест, — сказал он, поднимая брови и указывая пальцем на чернильницу, — потом объясните мне общие характеристические черты этого похода, — прибавил он, делая всею кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь, — и наконец влияние этого похода на европейские государства вообще, — сказал он, ударяя тетрадями полевой стороне стола, — и на французское королевство в особенности, — заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо» (гл. XI). Так же подробно описываются животные, насекомые (муравьи, которых наблюдает Николень- ка, — ср. майского жука у Тёпфера). Рядом с этим — детали душевной жизни, которая предстает не в виде слитного потока, а в виде нескольких слоев. Получаются парадоксальные сочетания, несовпадения (оксюморон), которыми нарушается канон типического, обобщенного изображения душевной жизни. Внимание переходит от личности к самым душевным состояниям, к их составу. Дело здесь, конечно, не в «реализме», не в психологической «верности» (и то и другое предполагает общеизвестным объективное содержание душевной жизни, что неверно), а в новой затрудненности художественного восприятия, в обновлении материала, ставшего банальным и потому художественно не ощутимым. В «Детстве» Толстой связан мотивировкой самонаблюдения (недаром он жаловался на то, что «автобиографическая» форма стесняет его), но подготовленный дневниками метод уже налицо: «Выехав на большую дорогу, мы увидали белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду» (гл. XIV). Тут — сразу два слоя чувства, парадоксально соединяющихся в одно. В другом месте еще характернее: «Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другое: от этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание несчастия, и это эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль» (гл. XXVII). Это — тот самый прием, которым Толстой расслаивал собственную душевную жизнь в дневнике.
Здесь есть некоторое родство и с Диккенсом; в «Давиде Копперфильде» есть аналогичное место — тем более близкое, что речь идет тоже о смерти матери (гл. IX): «Когда м-с Крикль оставила меня одного, я стал на стул и принялся смотреть в зеркало, чтобы удостовериться, в какой мере глаза мои раскраснелись от слез, как сильно выражалась печаль на моем лице. Я рассуждал, неужели этим временем истощились все мои слезы и не осталось больше ни одной капли? Это было бы весьма прискорбно, потому что дома, куда вызывают меня на похороны, я все же должен был плакать при гробе моей матери. Потом мне показалось, что во всей моей физиономии распространилась какая-то важность, бывшая следствием моей тоски, и я убедился, что товарищи должны теперь почувствовать ко мне особенное уважение. Ничего, конечно, не могло быть искреннее моей детской грусти; но я помню очень хорошо, что эта сановитая важность, распространившаяся на моей физиономии, внушала мне чувство удовольствия, когда к вечеру я вошел на рекреационную площадку, между тем как товарищи мои были в школе».
Иногда Толстой сам, по-видимому, находил такой анализ чрезмерным — особенно в том виде, как он осуществлен в «Детстве»: «Мне пришло на мысль (пишет он в дневнике 11 мая 1852 г.), что я очень был похож в своем литературном направлении этот год на известных людей (в особенности барышень), которые во всем хотят видеть какую-то особенную тонкость и замысловатость». В современной Толстому критике упрек в чрезмерности анализа и в мелочности описаний повторяется почти всеми. Особенно характерен в этом отношении отзыв К. С. Аксакова. Он находит, что в автобиографическом романе Толстого «описание окружающей жизни доходит иногда до невыносимой, до приторной мелочности и подробности» и что анализ его «часто подмечает мелочи, которые не стоят внимания, которые проносятся по душе, как легкое облако, без следа; замеченные, удержанные анализом, они получают большее значение, нежели какое имеют в самом деле, и от этого становятся неверны. Анализ в этом случае становится микроскопом. Микроскопические явления в душе существуют, но если вы увеличите их в микроскоп и так оставите <...> то нарушится мера отношения их ко всему окружающему, и, будучи верно увеличены, они делаются решительно неверны, ибо им придан неверный объем, ибо нарушена общая мера жизни, ее взаимное отношение, а эта мера и составляет действительную правду <...> Итак, вот опасность анализа: он, увеличивая микроскопом, со всею верностью, мелочи душевного мира, представляет их по тому самому в ложном виде, ибо внесоразмерной величине. <...> Наконец, анализ может найти и то в человеке, чего в нем вовсе нет; устремленный тревожно взор в самого себя часто видит призраки и искажает свою собственную душу»[109]. Осуждающий Аксаков, конечно, гораздо более прав, чем беспринципные почитатели Толстого, твердящие о «реализме». Независимо от оценки, Аксаков совершенно верно уловил «доминанту» толстовского метода — нарушение психологических пропорций, установку на «мелочность».
Отступая от обобщенной характеристики, от изображения устойчивых типов, Толстой развертывает подробности движений, жестов, интонаций и т. д. При этом действующие лица не выступают сразу, а проходят через ряд сцен: Карл Иванович в детской, в гостиной, в кабинете отца, отец и Яков, отец и мать и т. д. Образы как бы расщеплены, протянуты через всю повесть и проведены сквозь восприятие
Николеньки. Но необходимость мотивировать каждое описание восприятием Ни- коленьки («форма автобиографии») стесняет Толстого. Иногда он отступает от нее и делает описание с точки зрения взрослого, как бы по воспоминаниям (характеристика Якова, Натальи Савишны, отца, кн. Ивана Ивановича), иногда же, что особенно интересно, происходит выпадение из мотивировки, лишний раз показывающее, что личность Николеньки сама по себе играет служебную роль. В гл. XI описывается факт, который остается вне восприятия Николеньки (Карл Иванович в кабинете отца), но описание сделано так, как будто он слышит и видит — более того, есть детали, которые не могли бы быть мотивированы даже восприятием Николеньки. Николенька сидит в гостиной и дремлет, Карл Иванович проходит мимо него в кабинет отца: «Его впустили, и дверь опять захлопнулась. "Как бы не случилось какого-нибудь несчастия, — подумал я, — Карл Иваныч рассержен: он на все готов..." Я опять задремал. <...> Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался[110] красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпенные им в нашем доме; но когда он начал говорить тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого <...>. "Как ни грустно мне будет расстаться с детьми, — он совсем сбился, голос его задрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок. — Да, Петр Александрыч, — сказал он сквозь слезы (этого места совсем не было в приготовленной речи), — я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. Лучше я без жалованья буду служить вам", — прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другою подавая счет».
Общие характеристики, к которым иногда прибегает Толстой в «Детстве», очень своеобразны — в них, как будто без особенного плана и без внутренней связи, сообщается ряд свойств, присущих описываемому лицу: «Большой, статный рост, странная, маленькими шажками, походка, привычка подергивать плечом, маленькие, всегда улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, неправильные губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношении — пришепетывание, и большая, во всю голову лысина: вот наружность моего отца, с тех пор как я его помню, — наружность, с которою он умел не только прослыть и быть человеком k bonnes fortunes[111], но нравиться всем без исключения — людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться. Он умел взять верх в отношениях со всякими. Не быв никогда человеком очень большого света, он всегда водился с людьми этого круга, и так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая, не оскорбляя других, возвышала его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях светскость или богатство. <...> Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобства и наслаждения, и умел пользоваться ими. <...> Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по-модному; но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и легкое платье, прекрасное белье, большие отвороченные манжеты и воротнички... <...> Он был чувствителен и даже слезлив. <...> Он любил музыку...» и т. д. Бесконечное количество раз повторяется одна и та же форма — «он был», и получается впечатление какого-то случайного нагромождения фактов — мелких и крупных, важных и несущественных. Кажется, что самого главного, объединяющего все эти черты, не говорится. Толстой разглядывает человека со всех сторон, почти ощупывает его. Недаром еще в дневнике он задумывался над проблемой портрета: «<...> описать человека собственно нельзя. <...> Говорить про человека: он человек оригинальный, добрый, умный, глупый, последовательный и т. д. — слова, которые не дают никакого понятия о человеке, а имеют претензию обрисовывать человека, тогда как часто только сбивают с толку». Эта мысль мельком повторяется и в обращении к читателям перед «Детством»: «Трудно, и даже мне кажется невозможным, разделять людей на умных и глупых, добрых и злых». И Толстой действительно избегает такого рода обобщений. В позднем дневнике (1893) Толстой говорит очень определенно: «Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать текучесть человека: то, что он, он один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо»[112]. В «Воскресении» это отчасти и выполнено — так мотивируется поведение Нехлюдова: «Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. <...> Люди как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских, и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою» (ч. I, гл. LIX). Это, очевидно, одно из любимых утверждений Толстого — одна из «генерализаций», которой мотивируется художественный прием: его острие направлено против типизирующего канона. В этом смысле личностей у Толстого нет. Он оперирует всегда целой массой лиц, из которых каждое выступает не само по себе, а на фоне других, и часто соединяет в себе противоречивые свойства. Недаром еще в старой критике указывалось на то, что «произведения его весьма во многом и весьма резко отличаются от чисто психологических концепций» и что «в его созданиях мы не найдем вполне цельных характеров, не найдем чистых психологических типов»[113]. Личности Толстого всегда парадоксальны, всегда изменчивы и подвижны. Это и необходимо Толстому, потому что произведения его строятся не на характерах, не на «героях» как носителях постоянных свойств, которыми определяются их поступки, а на резких изображениях душевных состояний, на «диалектике души», по выражению одного критика: «Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями, четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином. <...> Особенность таланта графа
Толстого состоит в том, что он не ограничивается изображениями результатов психического процесса: его интересует самый процесс, — и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым»[114].
2
В книге, главная задача которой — установить систему художественных приемов Толстого в ее постепенном развитии, нет надобности так же подробно говорить об «Отрочестве» и о «Юности». Продолжение автобиографического романа интересует Толстого все меньше и меньше. Еще во время работы над «Детством» Толстой записывает в дневнике (18 мая 1852 г.): «...оно ("Детство" — Б. Э.) мне опротивело до крайности». Выше уже приводилась цитата из письма его к Некрасову — действительно, «Детство» оказалось, замкнутой в себе вещью, не требующей продолжения. Начинается период колебаний — Толстой сам чувствует, что именно после «Детства» наступает для него серьезный и ответственный момент. В письме к Некрасову он выражает это чувство в такой форме: «Я слишком самолюбив, чтоб написать дурно, а написать еще хорошую вещь едва ли меня хватит».
«Отрочество» закончено только в 1854 году, а «Юность» — только в 1857 году. Толстой убеждает сам себя в том, что роман надо продолжать, потому что, «как роман человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен», но внимание его уже отвлечено другими замыслами, гораздо более характерными для художественных исканий Толстого. «Отрочество» еще тесно примыкает к «Детству» и во многом повторяет его; «Юность» превращается в бесформенное накопление материала — выросший Николенька не превращается в «героя» и не способен объединить собой роман. Внутренняя потребность в больших формах сталкивается с отсутствием художественной зрелости. Характерен поэтому переход Толстого от «Детства» к этюдам, к очеркам, хотя и разрабатываемым на фоне тенденций к большому «роману». Еще во время работы над «Детством» появляются замыслы маленьких рассказов. Чеченец Балта рассказывает ему «драматическую и занимательную историю семейства Д ж е м и. Вот сюжет для кавказского рассказа. <...> Очень хочется мне начать коротенькую кавказскую повесть, но я не позволяю себе этого сделать, не окончив начатого труда» (т. е. «Детства»). Дальше упоминается про какую-то историю немца: «Вся эта история очень забавна и трогательна. Мне очень захотелось написать ее, и я вспомнил об одном из лучших дней моей жизни: поездка из России на Кавказ. Меня поразила ясность воспоминаний». Но маленькая, «драматическая» или «трогательная», новелла — не в духе Толстого. Вместо коротеньких повестей естественно возникает общая программа «очерков Кавказа», выполненная потом частями в «Набеге», в «Рубке леса», в «Казаках». Характерно, что история семейства Джеми вошла в «Набег» лишь в качестве маленького эпизода. Программа этих кавказских очерков вбирает в себя все отдельные впечатления и эпизоды, разделяясь натри основные части: «1) Нравы, народ: а) История Сал...[115] Ь) Рассказ Балты, с) Поездка в Мамакай-Юрт. 2) Поездка на море: а) История немца, Ь) Армянское управление, с) Странствование кормилицы. 3) Война: а) переход, Ь) движение, с) что такое храбрость?» (ДМ. С. 160). Сюда же присоединяются потом рассказы Япишки — об охоте, о старом житье казаков, о его положении в горах.
Рядом с этим возникает другой, чрезвычайно характерный замысел — «догматического» романа. Разочарование в романе из четырех эпох жизни приводит его к мысли о «романе русского помещика», в котором он не будет связан условиями автобиографической формы и развернет свой двойной масштаб — «генерализацию» и «мелочность». Как раз в это время он занят усиленным чтением Руссо и определением различных нравственных и религиозных понятий. Записи этих размышлений принимают, как всегда у Толстого, вид внутренних монологов, обнажающих «диалектику души»; фиксируется самый процесс мысли, ее движение, сжатые формулы тут же разрушаются наплывающими вопросами и возражениями: «Как глупо! А казалось, какие прекрасные были мысли! Я верю в добро и люблю его, но что указывает мне его — не знаю. Не отсутствие ли личной пользы есть признак добра? Но я люблю добро потому, что оно приятно, следовательно, оно полезно. То, что мне полезно, полезно для чего-нибудь и хорошо только потому, что хорошо, сообразно со мной. Вот и признак, отличающий голос совести от других голосов. А разве это тонкое различие, что хорошо и полезно (а куда я дену приятное), имеет признак правды — ясность? Нет. Лучше делать добро не зная, — почем я его знаю, — и не думать о нем. — Невольно скажешь, что величайшая мудрость есть знание того, что ее нет. <...> Хочется мне сказать, что делать добро — давать возможность другим делать то же, отстранять все препятствия к этому — лишения, невежество и разврат... Но опять нет ясности. Вчера меня останавливал вопрос: неужели удовольствия без пользы дурны? Нынче я утверждаю это. <...> Скептицизм довел меня до тяжелого морального положения... Неужели я никогда не выведу понятие о Боге так же ясно, как понятие о добродетели? Это теперь мое сильнейшее желание».
Уже в этот начальный период художественная работа временами обесценивается в глазах Толстого, потому что не имеет ясной практической цели: «...пробовал писать, не идет. Видно, прошло время для меня переливать из пустого в порожнее. Писать без цели и надежды на пользу решительно не могу». Уже здесь — зародыш постоянных «кризисов» и «остановок», которые проходят через всю историю творчества Толстого и сопровождают почти каждое его достижение. Уже здесь он смотрит на свою литературную работу как на временное занятие и задумывается о том, что будет делать после. «Решительно совестно мне заниматься такими глупостями, как мои рассказы, когда у меня начата такая чудная вещь, как "Роман помещика" Зачем деньги, дурацкая литературная известность? Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полезную вещь. За такой работой никогда не устанешь. А когда кончу, только была бы жизнь и добродетель, — дело найдется... В романе своем я изложу зло правления русского, и ежели найду его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического избирательного соединения с монархическим правлением, на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни. Благодарю тебя, Господи, дай мне силы». Дело здесь, конечно, не в душевной двойственности Толстого — явление это не душевное, не личное. Толстой переживает на себе ломку, которой подвергается все искусство, вся культура этой эпохи. И чем мучительнее, чем интимнее совершается этот процесс в душе Толстого, тем серьезнее сверхличное его значение.
Недаром в одном письме к А. А. Толстой (1874 г.), как раз в эпоху приближавшегося кризиса, у Толстого вырвалась такая фраза: «Вы говорите, что мы как белка в колесе. Разумеется. Но этого не надо говорить и думать. Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что du haut de ces pyramides 40 sifecles me contemplent[116], и что весь мир погибнет, если я остановлюсь».
Задуманный «роман русского помещика» непосредственно связан с автобиографическим романом. Самое появление этого замысла можно объяснить некоторым разочарованием в первоначальном романе и желанием освободиться от «принужденной связи» четырех эпох жизни и от стесняющей Толстого автобиографической формы. Толстой как бы делает скачок — от «Детства» к той эпохе жизни, которой должен был кончаться тот роман. Недаром герой нового романа — князь Нехлюдов — появляется в конце «Отрочества» в качестве друга Николеньки и проходит через всю «Юность»; даже тетка его, к которой он пишет письмо и «которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире», фигурирует в «Отрочестве»: «Нехлюдова можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тетку, к которой он чувствовал какое-то восторженное обожание». Новый роман должен быть «с целью», т. е. с определенной моральной тенденцией. Никакой фабулы в воображении Толстого нет; герой интересует его не как образ, а как абстрактное понятие, воплощающее в себе «генерализацию». Вместо хронологической схемы — четырех эпох жизни — является схема моральная. В дневнике записывается «основание романа русского помещика», т. е. его основная тенденция; «Герой ищет осуществления идеала счастия и справедливости в деревенском быту. Не находя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его наводит его на мысль, что счастие состоит не в идеале, а в постоянном жизненном труде, имеющем целью — счастье других». Несомненна связь этого «основания» с размышлениями самого Толстого и с чтением Руссо. Записывается и «заключение», которое должно быть поучительным: «После описи имения, неудачной службы в столице, полуувлечений зверскостью желания найти подругу и разочарования в выборах, сестра Сухонина остановит его. Он поймет, что увлечения его [не дурны], но вредны, что можно делать добро и быть счастливым, перенося зло». Совершенно ясна внутренняя автобиографичность задуманного романа. Толстой бросает первый роман, потому что его поучительность загромождена ненужным для Толстого хронологическим развитием героя — здесь он свободен от этой «принужденной связи» частей и может выполнить свой «догматический» план.
Однако роман не удается — возникает лишь небольшой отрывок («Утро помещика»), своего рода этюд к «помещичьим» главам будущих романов. Первые главы изображают душевную жизнь Нехлюдова — материалом здесь служит собственный душевный опыт. «Я много и много передумал о своей будущей обязанности» (пишет Нехлюдов тетушке, сообщая ей о своем решении выйти из университета и заняться хозяйством), «написал себе правила действий и, если только Бог даст мне жизнь и сил, я успею в своем предприятии». Об этих правилах, столь характерных для самого Толстого, говорится и дальше: «У молодого помещика <...> были составлены правила действий по своему хозяйству, и вся жизнь и занятия его были распределены по часам, дням и месяцам»[117]. Нехлюдов — не созданная воображением фигура, не образ, живущий своей независимой жизнью, а проекция вовне некоторых, выбранных для «догмы» черт, которые наблюдал Толстой в самом себе. В этих постоянно появляющихся у Толстого персонажах, более или менее механически составленных из комбинации собственных его черт и несущих на себе «основание» или «генерализацию», сильнее всего сказывается антиномия толстовского творчества, развивающегося на фоне кризиса романтической эстетики. Вольная игра воображения удерживается в своем как бы бесцельном действии и ищет соединения с рассудочно поставленными целями и догмами. В «Детстве» Толстой позволил себе «переливать из пустого в порожнее», потому что еще хотел доказать самому себе, что у него есть «талант». Но временами ему кажется, что вещь эта никуда не годится: «слишком мало мыслей, чтобы можно было простить пустоту содержания» (запись 7 апреля 1852 г.). После «Детства» начинается напряженная работа мысли, которая приводит к душевному кризису: «Опять ничего не делал. <...> Ничего не делаю, курю. <...> Так же расстроен, так же празден. <...> Шляндую, здоровье ни то ни се. <...> Во всех отношениях все то же. <...> Все то же самое, однако праздность начинает надоедать мне». Этот кризис кончается решением писать «догматический» роман «с целью».
Но характерно, что душевная жизнь Нехлюдова постепенно как бы расплывается, уступая место бытовому материалу — сценам крестьянской жизни. Герой начинает играть второстепенную роль — вроде тургеневского охотника. Толстого начинает, по-видимому, интересовать обработка нового материала — недаром в списке произведений, оказавших на него именно в это время то или другое влияние, значатся «Записки охотника» (вышедшие отдельным изданием в 1852 г.) и «Антон Горемыка» Григоровича (1847). Нехлюдов ходит по крестьянским дворам и беседует с крестьянами — таково движение этого отрывка. Намеченное в начале изображение героя отходит на второй план. Оно возвращается к концу отрывка — тут развертывается «диалектика души», чрезвычайно близкая к тем внутренним монологам, которые наблюдаются в дневнике. «...Неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой, тогда как я воображал, что, раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли?» Это, очевидно, тот пункт программы, согласно которому герой, разочарованный в своих деревенских идеалах, должен перейти к мечтам о семейном счастье. И действительно — дальше мы находим: «...кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастии семейной жизни?» Но тут роман и остановился, — тема «семейного счастья» развернулась в особый роман, уже совершенно лишенный намеченных здесь тенденций, гораздо позже («Семейное счастье», 1859).
В последней главе отрывка Толстой погружает своего героя в особое состояние: под влиянием аккордов, которые он берет на рояле, в нем начинается «усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительною ясностью представлявшего ему в то время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошлого и будущего». Тут впервые испробован Толстым прием, который он потом так часто применяет, погружая своих героев в состояния полусна или бреда и развертывая таким образом прихотливую, «бессвязную» систему картин. Сны стали своего рода специальностью Толстого — недаром в «Братьях Карамазовых» Достоевский говорит устами Ивана: «...иногда видит человек такие художественные сны... с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе,
Лев Толстой не сочинит». Сны эти и видения у Толстого — вовсе не психологические, вовсе не характеризующие изображаемого лица. Они почти всегда мотивируют собой какой-нибудь ряд подробностей, имеющий самоценное, независимое от героя значение. Они и не фантастичны, а лишь парадоксальны сплетением этих подробностей. Это — прием введения деталей, не оправдываемых самым ходом действия. Так и здесь. Нехлюдов, в сущности, забыт. Последнее видение — Илюшка с тройкой потных лошадей — развивается в целую картину, богатую мельчайшими подробностями. И на этом роман обрывается — точно после этого нового отступления в сторону Толстой уже не может вернуться к душевной диалектике своего «догматического» героя[118]. Крушение нового замысла произошло потому, что форма романа, построенного на «герое», на центральном лице, изображение душевной жизни которого должно составлять сущность произведения, была чужда Толстому. Ведь потому же прервался и первый роман, где при этом Толстого стесняли еще другие формальные условия. В «романе русского помещика» Толстой решил освободиться от этих условий, но и это не помогло — Нехлюдов, как и Николенька, неспособен организовать своей душевной жизнью целый роман. «Основание» и «заключение» оказались недостаточными элементами для построения на них романа.
Сделав эти два опыта и разочаровавшись в них, Толстой переходит к военным очеркам, не претендующим ни на какой определенный жанр и имеющим вид свободных этюдов или даже фельетонов. Он прежде всего возвращается к замыслу Кавказских очерков. В это время, по-видимому, были начаты «Казаки», но закончены они позже; подробно я буду говорить о них дальше — здесь интересно только отметить, что и в этой вещи оказалось внутреннее столкновение тех же сил — история душевной жизни Оленина, как «героя» повести, и независимо от него развернувшийся бытовой материал. Толстому нужен такой персонаж, душевной жизнью которого он мотивирует изображаемое, — Оленин в этом смысле тот же Нехлюдов, тот же Николенька. Но в «Детстве» Николенька не мешал Толстому, а в помещичьем романе и в «Казаках» этот персонаж, по законам формы, требует к себе внимания. Стремление к крупным формам не оставляет Толстого, но самые формы еще не найдены. Толстой никогда нt рассказывает (как, например, Пушкин в «Повестях Белкина» или в «Капитанской дочке») — ему нужен такой медиум, восприятием которого определяется тон описания и выбор подробностей. Но, пока медиум этот воплощается в одном лице, Толстому не удается развернуть большой вещи.
III. БОРЬБА С РОМАНТИКОЙ
(Кавказ и война)
1
Один из пунктов кавказской программы — «что такое храбрость?» — превращается в самостоятельный очерк: «Набег». Это, по-видимому, то самое «Письмо с Кавказа», которое Толстой начинает писать еще в мае 1852 года. 20 июля записано: «Завтра начинаю переделывать "Письмо с Кавказа", я себя заменю волонтером». Подзаголовок «Набега» и есть — «Рассказ волонтера». Зародыш этого очерка можно видеть еще в ранней записи о храбрости (11 июня 1851 г.) — вопрос, которым открывается «Набег». Характерно решение Толстого сделать рассказчика волонтером, т. е. наблюдателем со стороны, резко воспринимающим все детали и потому удобным Толстому в качестве мотивировки. Здесь он уже не претендует на роль «героя» или даже личности и не вмешивается своей душевной жизнью в описание окружающего. Замысел Кавказских очерков вызван, по-видимому, стремлением Толстого к преодолению романтических традиций. Кавказ — одна из устойчивых в русской романтической литературе тем. В собрании сочинений Марлинскогодва тома так и называются — «Кавказские очерки», один из которых занят повестью «Мулла-Нур», упоминаемой в «Набеге». Кавказ Марлинского и Лермонтова — вот то, от чего хочет отступить Толстой. С этим литературным Кавказом традиционно связана батальная романтика — изображение безумных удальцов, выказывающих чудеса храбрости. Наконец — мрачные «байронические» фигуры, живущие чувством презрения или мести. Все это вместе образует тот романтический шаблон, в борьбу с которым вступает Толстой. Война для толстовского волонтера — «непонятное явление», полное противоречий и парадоксов. Он пристально наблюдает за всем происходящим, рассудочно анализирует свои впечатления и — «ничего не понимает». Так мотивируется остранение[119] батальной темы, так разрушается романтический ореол. Но напрасно стали бы мы толковать слова волонтера как осуждение или отрицание войны, выраженное здесь Толстым. Резкая «генерализация» нужна здесь Толстому; но здесь же, как и в Севастопольских рассказах, картина сражения не раз описывается как «величественное зрелище», а рядом с противопоставлением войны мирной природе есть и моменты слияния воедино этих двух стихий. Рядом с волонтером — капитан Хлопов, призванный на место романтических героев, но героический по-своему и называющий храбрым того, «который ведет себя как следует». Поручик Розенкранц — пародия на романтических храбрецов, это — «один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе как сквозь призму "героев нашего времени", Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов». Тут названы и самые шаблоны, причем не пощажен и Лермонтов. Есть указание на то, что «Тамань» Лермонтова оказала на Толстого «очень большое»[120] влияние[121], но в целом Лермонтов в его представлении был, очевидно, неразрывно связан с изжитыми традициями русской романтики. Ясно, что он имеет в виду именно его героев, в том числе и Печорина, когда рисует Розенкранца следующими чертами: «Он искренно верил, что у него есть враги. Уверить себя, что ему надо отомстить кому-нибудь и кровью смыть обиду, было для него величайшим наслаждением. Он был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие, поэтические чувства. Но любовница его, — черкешенка, разумеется, — с которою мне после случалось видеться, говорила, что он был самый добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграфленной бумаге и на коленях молился Богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть!» Итак, толстовская черкешенка сделала жалким и смешным того самого байронического героя, которого некогда умоляла о любви черкешенка Пушкина.
«Набег» расположен в хронологической последовательности — по движению солнца. «Солнца еще не было видно. <...> Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать долину. <...> Солнце прошло половину пути. <...> Солнце садилось и бросало косые розовые лучи. <...>» и т. д. вплоть до вечера: «Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури». Отсутствие фабулы, как и в «Детстве», побуждает Толстого к укреплению временнбй схемы рассказа путем такого замыкания его в пределы одного дня, движение которого тщательно указывается. Кроме того, делается попытка придать композиции «Набега» характер замкнутой новеллы тем, что один эпизод — смерть прапорщика Аланина — образует своего рода вершину рассказа, за которой следует каданс, лирически обрамляющий собою всю вещь. Во второй главе, с которой и начинается самый рассказ о набеге, упоминается о звуках «солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении»; повторение этого же в развернутом виде служит концовкой: «Темные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и, исполненные чувства и силы, звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху». Характерный композиционный прием — обрамление лирическим пейзажем, — в русской литературе особенно канонизированный Тургеневым. Здесь, по- видимому, можно видеть влияние «Записок охотника». Недаром Толстой так долго работал над «Набегом» (май — декабрь 1852 г.) — успех первого произведения, как он сам пишет Некрасову, развил в нем авторское самолюбие. Он тщательно отделывает свой рассказ, стараясь придать ему вид законченной новеллы.
Намеченные в «Набеге» приемы батальных описаний развертываются в Севастопольских очерках. В начале 1854 года Толстой возвращается в Петербург и скоро уезжает в Бухарест, а оттуда — в Севастополь, в центр военных действий.
Отсюда он и посылает свои военные очерки. По-видимому, еще до Севастополя Толстой познакомился с романами Стендаля «Le Rouge et le Noir» и «La Chartreuse de Parme» и нашел в них опору для преодоления романтических канонов. На влияние Стендаля указывал не раз сам Толстой. Поль Буайе, беседовавший с Толстым в 1901 году, передает его слова: «Что касается Стендаля, то я буду говорить о нем только как об авторе "Chartreuse de Parme" и "Le Rouge et Noir". Это два великие, неподражаемые произведения искусства. Я больше, чем кто-либо другой, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Перечтите в "Chartreuse de Parme" рассказ о битве при Ватерлоо. Кто до него описал войну такою, т. е. такою, какова она есть на самом деле? Помните Фабриция, переезжающего поле сражения и ничего не понимающего? И как гусары с легкостью перекидывают его через труп лошади, его прекрасной, генеральской лошади? Потом брат мой, служивший на Кавказе раньше меня, подтвердил мне правдивость стендалевских описаний. <...> Вскоре после этого в Крыму мне уже легко было все это видеть собственными глазами. Но, повторяю вам, все, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля»[122]. Судя по этим словам, Толстой читал Стендаля еще до поездки на Кавказ, так что «Набег», с «ничего не понимающим» волонтером, написан уже после ознакомления с его произведениями. Это подтверждается и фразой Толстого в письме к жене 1883 года: «Читаю Stendhal'a: Rouge et Noir. Jlem 49 тому назад я читал это, и ничего не помню, кроме моего отношения к автору: симпатия за смелость, родственность, но неудовлетворенность. И странно: то же самое чувство теперь, но с ясным сознанием, отчего и почему»[123]. Ей же он пишет в 1887 году: «Читаю для отдыха прекрасный роман Stendhal'a — "Chartreuse de Parme", и хочется скорее переменить работу. Хочется художественной»[124].
Круг чтения, установленный выше на основании дневников, надо, очевидно, дополнить именем Стендаля. Влияние его не менее характерно, чем влияние Стерна и Руссо, — недаром Толстой чувствует к нему симпатию за «родственность». Стендаль занимает по отношению к французским романтикам положение аналогичное Толстому. В противовес аффектированному, эмфатическому стилю романтиков он вводит деловую, лишенную элегантности фразу[125]; вместо обобщенных характеристик — детальный психологический анализ. Влияние это особенно интересно тем, что оно основано не на случайном увлечении какой-нибудь частностью, а на сознании родства методов. Стендаль, так же как Толстой, органически связан с XVIII веком. «Стендаль — ученик XVIII века, ученик Кондильяка, Канибаса, энциклопедистов, идеологов. <...> Метод его — анализ. Он разлагает действия своих героев на составные их части, на идеи и на чувства. <...> Он роется в скрытых причинах того или другого поступка, подробно и до мелочности точно разбирает оттенки чувства»[126]. «Последний пришелец XVIII века» (Барбэ д'Оревильи)[127], «заблудившийся в героических временах Наполеона человекХУШ века» (Стриенский)[128], — таково устойчивое мнение о Стендале во французской критике. Его упрекают в небрежностях языка, в трудности и запутанности стиля, в чрезмерной мелочности анализа (minitie dans le detail) — то самое, в чем упрекали и Толстого. «Он смотрит на себя как на удобное опытное поле: изучая себя вплоть до самых маленьких мыслей, вплоть до самых маленьких действий, он руководствуется своею потребностью в анализе, справедливо говоря о себе: "Я — наблюдатель человеческого сердца... Это более чем привычка, это — метод"» (А. Сеше)[129].
В этом отношении сходство Стендаля с Толстым поразительно. Стендаль мечтал написать трактат по логике, который должен был служить таким же руководством или кодексом правил для повседневной жизни, каким книга Макиавелли была для поведения государей. «Он постоянно занят рассуждением; тысячи раз он повторяет себе: "Я сделаю то-то, надо сделать то-то". Он считает себя великим психологом, и на самом деле таков, но можно быть уверенным, что каждый раз как он устанавливает для себя какое-нибудь правило поведения — это будет напрасно» (А. Сеше). Его дневники также наполнены правилами и формулами, совершенно в духе молодого Толстого: «I. Выработать привычку шутить. И. Никогда не совершать ничего трагического по страсти, но неизменно владеть собой. Быть хладнокровным на улицах, в кафе, в гостях... III. Не забавляться огорчениями по поводу случившихся и потому неизбежных несчастий. Время, нужное для скорби, употреблять на приискание средств для того, чтобы избежать ее в будущем[130]... Имея в виду, что смелым Бог владеет (audaces fortuna juvat) и что если я не сделаю ничего экстраординарного, то и никогда не буду иметь достаточно денег на развлечения, я решаю: Статья пе р вая. На всех лотерейных тиражах в Париже (3-го, 15-го и 25-го) я буду ставить 30 фр. на терну, 1,2, 3. Статья вторая. Каждое первое число я буду давать 3 фр. Манту, чтобы он их ставил на кватерну по 1 фр. на каждый тираж. Статья третья. Каждый месяц тратить 30 фр. на игру в карты (a la Rouge е t N о i г, au N ИЗ). Так я получу право строить воздушные замки»[131]. При всей разнице натур — то же сочетание страстности с рассудочностью, та же противоречивость и даже то же обожание музыки, и именно музыки. Моцарта больше всего. Здесь какая-то закономерность, стоящая над простой психологической эмпирикой, сточки зрения которой Стендаль и Толстой представляются почти контрастами.
Стендаля называют «реалистом». Толстой говорит, что он описал войну такою, «какова она на самом деле». Но реализм — понятие относительное, само по себе ничего не определяющее. Фоном для Стендаля, как и для Толстого, была поэтика романтиков, в которой война служила материал ом для героических картин. Отступая от этой поэтики, Стендаль берет тот же материал, но разрабатывает его иначе. «Реализм» есть лишь условный и постоянно повторяющийся девиз, которым новая литературная школа борется против изжитых и ставших шаблонными и потому слишком условными приемов старой школы. Сам по себе он ничего положительного не означает, потому что содержание его определяется не сравнением с жизнью, а сравнением с иной системой художественных приемов. Война, как и всякий другой факт жизни, неисчерпаема в своем разнообразии, и, служа материалом для искусства, она может быть описана самыми разными приемами. Произведение искусства создается и воспринимается (поскольку восприятие остается в плоскости искусства) не на фоне жизни, «какова она на самом деле», а на фоне других, привычных методов художественного изображения. Стендаль, как и Толстой, берет батальную тему иначе, чем это делалось до него. В центр батальной картины он ставит новичка (толстовский «волонтер» или Пьер), который представляет себе войну по обычному, «романтическому» шаблону — как героическую, возвышенную борьбу с врагом. На основе этого представления Стендаль развертывает свои приемы анализа, нарушая батальный канон. Ватерлооская битва — лишь эпизод в его романе, который в дальнейшем развитии сюжета почти забывается. Но эпизод этот чрезвычайно характерен для его поэтики — и недаром Толстой развернул его в целый ряд очерков и картин. Стенда- левское описание Ватерлооской битвы оценивается и французской критикой как нарушение канона: «Нету него обобщенных взглядов, нет общего впечатления. Это- то и позволило ему дать столь верные, столь поражающие и столь новые описания сражений. Он первый указал на то мелкое, дурное, эгоистическое, тщеславное и жадное, что есть в войне, параллельно с храбростью и героизмом. После него война перестала быть эпопеей. Рядом с трагическим ужасом, рядом с театральным героизмом, если можно так выразиться, он видит героизм простодушный и даже нечто комическое в предметах, в людях и в положениях» (А. Сеше)[132]. Если оставить вопрос о «верности» в стороне, то все это можно повторить, говоря о Толстом. Дальше придется еще не раз возвращаться к вопросу о влиянии Стендаля на Толстого. Приемы внутреннего монолога и «диалектика души», столь характерные для Толстого, составляют особенность и стендалевского метода. То же отсутствие сюжетной композиции, та же любовь к рубрикам, к генерализации, к рассудочному стилю, к теоретическим проблемам. Родство приемов можно наблюдать не только в Севастопольских очерках и военных сценах «Войны и мира», но и в «Юности»[133], и в «Анне Карениной»[134].
Еще до Севастопольских рассказов Толстой написал рассказ «Рубка леса». Как и в «Набеге», рассказ ведется от первого лица, и, как в «Набеге», лицо это играет роль скорее наблюдателя, чем действователя. Здесь он не волонтер, а юнкер[135], но характерно, что вначале, перед выступлением в поход, Толстой погружает его в сон, чтобы этим мотивировать особенную резкость впечатлений после возвращения к действительности: изменена только мотивировка остранения. Весь рассказ насыщен этой резкостью деталей, как бы впервые наблюдаемых, — типичный для Толстого прием. Пейзажи — не обобщенные, не метафорические, а точные, воспроизведенные со всей отчетливостью пристального наблюдателя: «Справа виднелись крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища; слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса»; «Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко: серо-лиловый горизонт постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но так же резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана»; «В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца; тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глянцевитой дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов». Такие же резкие детали — в описании действующих лиц: все время указываются особенности мимики, жестов, движений и т. д. Веленчук «расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился». Жданов, «заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал свое сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул под ушами, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выражения». И так непрерывно: «...заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая... перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически, гордо выбивая трубку о ладонь левой руки... Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее». Иногда это развивается в целую молчаливую сценку, своего рода пантомиму: «Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку и молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда, наконец, он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал». В отличие от «Набега» чрезвычайно развернут диалог — не драматического типа, а скорее, типа речевой характеристики. Тщательно выписаны детали народной речи, с сохранением говоров, причем язык некоторых солдат отличается особыми свойствами. Максимов особенно любит слова «происходит» и «продолжать» — солдаты «любили слушать его "происходит" и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова». Чикин говорит «сихарки», «фатит» и т. д.
Есть еще одно интересное отличие от «Набега». Параллельно солдатским сценам даются сцены офицерской жизни, где тоже — целый ряд фигур. Толстой начинает здесь развертывать свойственный ему массовый параллелизм, освобождаясь от первоначальной скованности центральной личностью. В небольшом рассказе — 10 действующих лиц и ни одного «героя». Юнкер, еще больше, чем волонтер в «Набеге», служит лишь наблюдательным пунктом. Нет и той напряженности анализа и «генерализации», какая заметна в «Набеге». Все несколько сглажено, смягчено. Сглажен резкий контраст между Хлоповым и Розенкранцем — он развернут здесь в сопоставлении солдатских разговоров с офицерскими. Вместо пародийного Розенкранца — скучающий Волхов, устами которого окончательно снижается романтический Кавказ: «Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками, — все это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д.». Вот пример толстовского остра- нения не при помощи метафор или сравнений, а при помощи перифразы, переносящей предмет в «прозаический» ряд («кусок материи на палке» вместо «знамени»)[136]. Самый темп рассказа — иной, чем в «Набеге»: медленно протекают разговоры действующих лиц, развиваются подробные их характеристики, которым отводятся специальные главы, вставленные между двумя восклицаниями Веленчука, как отступление от временнбй последовательности рассказа (конец гл. I: «Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности»; начало гл. IV: «Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои!» — повторил Веленчук»). В этой медлительности темпа, в развитых разговорах и характеристиках, в самой роли юнкера, сидящего у костра с солдатами, есть родство с тургеневской манерой — следы влияния «Записок охотника», на которое уже указывалось выше. Влияние это сказывается на всей композиции вещи и на отдельных ее эпизодах — недаром Толстой собирался посвятить ее Тургеневу: «Эта мысль пришла мне потому, что, когда я перечел статью, я нашел в ней много невольного подражания его рассказам»[137] (письмо к И. И. Панаеву от 14 июня 1855 г.).
Несмотря на тяготение к параллелизму и к мелочности, Толстой компонует рассказ вокруг истории Веленчука, стремясь придать очерку характер закругленной «тургеневской» новеллы. Веленчук появляется в самом начале (его странная спячка), его восклицанием сшиваются две главы, разделенные длинным отступлением[138](классификация и характеристика солдат), его смерть образует своего рода вершину рассказа; разговором об этой смерти и заканчивается рассказ. Самое описание смерти Веленчука как будто навеяно «Смертью» Тургенева. Концовкой служит лирически окрашенный пейзаж — прием, тоже напоминающий Тургенева. Как и в «Набеге», концовка эта обрамляет рассказ, возвращая нас к костру, вокруг которого сидят солдаты, — так начинается последняя (XIII) глава: «Уже была темная ночь, и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошел к своим солдатам. Большой пень, тлея, лежал на углях. <...> Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла[139]сыпалась с мрачного неба». Обрамляя весь рассказ, пейзаж этот особенно укрепляет последнюю главу, являясь в конце рассказа в виде повторения: «Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова с его седыми усами, красною рожей и орденами на накинутой шинели, чьи-нибудь сапоги, голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная мгла, в воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова; а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря, храпения, бряцания ружей часовых и тихого говора вторили ей. "Вторая смена! Ма- катюк и Жданов!" — крикнул Максимов. Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям».
Лирическая замедленная интонация, резко прерванная сжатой заключительной фразой, которая возвращает к рассказу и вместе с тем останавливает его, — такой прием концовки не раз повторяется у Тургенева: «Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел и глядел на зарю... На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина» («Хорь и Калиныч»). «Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно спустилось на реку недалеко от нас. Уже совсем стемнело и начинало холодать; в роще звучно защелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули» («Ермолай и мельничиха»). «Мы опять примолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас... Через полчаса мы разошлись» («Малиновая вода»).
В батальных сценах «Рубки леса» Толстой развивает приемы, намеченные в «Набеге». Там в центре стоял вопрос о храбрости — остранялось романтическое представление о военном героизме и удальстве. Здесь никаких храбрецов нет. С одной стороны, солдаты, которые спокойно шутят под пулями, с другой — командир Волхов, который кокетничает уже не храбростью, а отсутствием ее («я не могу переносить опасности... просто я не храбр»), пародийный капитан Крафт, который рассказывает небылицы о своей храбрости, «старый кавказец» Тросенко, человек «спокойной храбрости», напоминающий капитана Хлопова. Каждому уделена особая характеристика; с обычной для Толстого «мелочностью» в описании мимики (масленые глазки майора Кирсанова, от которых, когда он смеялся, оставались «только две влажные звездочки»), с выдержанными особенностями речи. Характеристика Крафта сделана по тому образцу, который установлен был Толстым в дневнике, когда он обдумывал проблему портрета и утверждал, что описать человека нельзя, а можно только описать, «как он на меня подействовал». Там сделан набросок Кноринга таким методом: «За палаткой я услыхал радостные восклицания свидания с братом и голос, который отвечал на них столь же радостно: "Здравствуй, Морда!" Это человек непорядочный, подумал я, и не понимающий вещей». Здесь — тот же метод: «Длинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки. "А, милый капитан! и вы тут?" — сказал он, обращаясь к Тросенке. Новый гость, несмотря на темноту, пролезло него и, к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и неудовольствию капитана, поцеловал его в губы. "Это немец, который хочет быть хорошим товарищем", — подумал я». Вместе с тем подготовляется та «диалектика души», которая развернута потом в Севастопольских очерках. Обнажается внутренний слой душевной жизни — момент опасности выбирается Толстым именно для того, чтобы ввести свой микроскопический анализ: «Вы где брали вино? — лениво спросил я Волхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один — Господи, приими дух мой с миром, другой — надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро, — и в то же мгновение над головой просвистало что-то ужасно неприятное, и в двух шагах от нас шлепнулось ядро». Рядом с этим — жуткие подробности, которыми Толстой уничтожает военную романтику, — то самое, чему он научился у Стендаля. Особенно характерна в этом смысле деталь, которая введена в описание раненого Веленчука: «Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязали черес». Из этой детали развертывается дальше, в Севастопольских очерках ряд жутких картин, окончательно заслоняющих собой романтические олеографии[140]. Тот же прием — у Стендаля. Фабриций с ужасом смотрит на убитого солдата: «Что всего более поражало его, это необыкновенно грязные ноги трупа, с которого кто-то уже успел стащить сапоги, оставив на нем только скверные испачканные в крови панталоны... Что ужасало его всего более, так это открытый глаз покойника»[141].
Так подготовлены Севастопольские очерки. Толстой точно сознательно идет по следам романтиков, чтобы последовательно разрушать их поэтику. Он попадает на Кавказ — как будто нарочно для того, чтобы устроить очную ставку с Марлинским и Лермонтовым и, уличив их в «неправде», ликвидировать эту романтическую затею. В «Казаках» он смело берет традиционную романтическую ситуацию — европеец среди дикарей — с обычными для этой ситуации персонажами (Оленин, Марьяна, Лукашка)[142]. Но в этой ситуации нарушены все характерные отношения — романтическая трагедия пародирована. Марьяна оказывается неприступной, верной своему Лукашке; вместо романтического старца она сама произносит суд над жалким Олениным: «Уйди, постылый!» Оленин смешон в своей роли влюбленного «интеллигента», повторяющего романтические тирады разочарованных европейцев («Коли бы вы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне вместо моей хаты, моего леса и моей любви эти гостиные, эти женщины с припомаженными буклями...»[143] и т. д.) и в то же время робко оглядывающегося на самого себя: «Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе. — "Что же это я говорю? — подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова. — Скажу ли я то же завтра?"» И хотя он твердо решает, что скажет, но Марьяна — уже не наивная черкешенка. Романтический сюжет вывернут наизнанку: другом Оленина делается не Марьяна, а Ерошка, который оказался на месте романтических отцов или старцев, произносящих заключительное нравоучение герою. Вместо слов пушкинского старика: «Оставь нас, гордый человек!» — слова Ерошки: «Так разве прощаются? Дурак! дурак! <...> Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! <...> Мурло-то, мурло-то давай сюда. <...> Я тебя люблю. Прощай! <...> Прощай, отец. Прощай! Буду помнить тебя!» Более того, Ерошка берет на себя совершенно новую роль, давая Оленину уроки мудрости и смелости: «На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спасение. Бог тебя сделал, Бог и девку сделал. Все Он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться». Романтический Кавказ еще раз высмеян со всей силой толстовского остранения: «Он не нашел здесь ничего похожего на свои мечты и на все слышанные и читанные им описания Кавказа: "Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев[144], — думал он. — Люди живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет..."»
Но Толстой здесь не ограничивается пародией — он возвращается к идиллическому тону Руссо и замыкает, таким образом, весь цикл этого движения. Повторяется характерное для Толстого явление — «герой» отходит на второй план, становится фоном для описания. Целый ряд глав проходит даже без всякого его участия (IV-IX), несмотря на детальное изображение его душевной жизни в начальных главах. Здесь Оленин — тот же Нехлюдов из «Утра помещика» (интересно, что и имя его то же — Дмитрий). Он так же скомбинирован из материала самонаблюдения. Особенно характерен в этом смысле мотив обновления, который так часто появляется на протяжении ранних дневников: «Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить хорошенько, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уж не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверное будет одно счастье». Общее описание жизни Оленина в Москве очень сходно с наброском автобиографических «записок» в дневнике (1850): «Зиму третьего годая жил в Москве, жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели; и жил так не потому, что, как говорят и пишут многие, в Москве все так живут, а просто потому, что такого рода жизнь мне нравилась. — Частью же располагает к лени и положение молодого человека в московском свете». Оленин «был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет[145] не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется "молодой человек" в московском обществе». Этой характеристикой уничтожена мрачная «тайна» романтических героев. Здесь совершенно ясно отступление Толстого от традиции: «У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды2*. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно». И следуют указания на противоречия, хорошо знакомые нам по дневникам: «Он решил, что любви нет» (ср. в дневниках: «Любви нет; есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни»), «и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольно удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергий и говорил ласковые речи» (ср. в дневниках: «Первый поклонился Голицыну и прошел не прямо, куда нужно»). Толстой как бы резюмирует содержание собственных дневников, когда говорит об Оленине: «Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке, — на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или на практическую деятельность, — не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется». Оленин — так же как Нехлюдов — не созданная фигура, не образ, не герой, а лишь медиум. Характерно поэтому, что именно в начале повести его душевной жизни уделено столько внимания и столько «мелочности», которая в дальнейшем ходе не имеет почти никакого значения.
Повторяется здесь и тот прием погружения в забытье, который был отмечен в «Утре помещика». В дороге Оленин дремлет — проходит ряд бессвязных картин- воспоминаний; девушка, в которую он был влюблен, хозяйственная деятельность в деревне (связь с Нехлюдовым — точно здесь взят следующий момент, так что образуется своеобразная хронологическая последовательность от «Отрочества» и «Юности» к «Казакам»), жизнь в Москве — с игрой в карты и цыганами, вплоть до ресторанов Мореля и Шевалье, которые упоминаются в дневниках. Дальше — опять пародирование романтических шаблонов: «Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростью и удивляющею всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. <...> Есть еще одна, самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки-рабыни, с стройным станом, длинною косой и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина и у порога она, дожидающаяся его в то время, как он, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее поцелуи, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность».
Здесь — все атрибуты романтических поэм и повестей собраны воедино: Кавказ, героизм, покорная черкешенка. И как выше психологическая схема романтического скитальца разбита одной маленькой деталью — «не было нужды», так здесь сюжетная схема остраняется и пародируется дальнейшим ее развитием: «Она прелестна, но она необразованна, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. Notre Dame de Paris, например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостиной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь, просто, сильно и страстно. "Ах, какой вздор!" — говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию и надо перелезать из саней в сани и давать на водку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил, и ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигель- адъютантство, прелестная жена».
Но, как выше было уже замечено, пародированием романтического сюжета «Казаки» не исчерпываются — Толстой вступает в борьбу с романтикой не только для того, чтобы низвергнуть ее и наложить свое veto на все ее шаблоны, но и для того, чтобы противопоставить ей нечто другое, новое. В этом отношении очень интересно место о горах. Сначала пародируется шаблон: «Вот оно где начинается!» — говорил себе Оленин, и все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз, перед вечером, ногаец-ямщик плетью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно, и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и любовь к женщине, в которые он не верил, — и он перестал дожидаться гор»[146]. На место этого шаблона Толстой ставит свое описание, которое сделано согласно его методу («описание недостаточно»): описываются не самые горы, а впечатление от них — горы становятся фоном, на котором все получает новый характер: «Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. "Теперь началось", как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами, а горы... За Тереком виден дым в ауле, а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке, а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые, а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье и сила, и молодость, а горы...» Вот пример необличительного, несатирического остранения. Впечатлением от гор мотивируется прихотливая смена деталей, резко, как бы впервые воспринимаемых благодаря присутствию этого необычного фона. Использована лирическая форма концевых повторений — нечто вроде газеллы, с ее прикрепленными к концам определенных строк повторениями одних и тех же слов. У Толстого — это один из видов «диалектики души», и в этом смысле есть аналогия между описанием гор и многочисленными примерами снов, видений, бреда и вообще таких состояний, когда нарушается обычный порядок душевной жизни. Толстой часто употребляет этот прием — и иногда в изображении совершенно второстепенных лиц, так что «мелочность» этого анализа остается совершенно самоценной и не имеет никакого сюжетного или композиционного значения. В повести «Два гусара» душевное состояние корнета Ильина, лица совершенно эпизодического, изображается аналогичным приемом. Мотивировка—в том, что Ильин проиграл в карты казенные деньги: «"Что теперь я буду делать?" — рассуждал он. "Занять у кого-нибудь и уехать". Какая-то барыня прошла по тротуару. "Вот так глупая барыня", — подумал он отчего-то. "Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость". Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. "Коли бы восьмерку я не снял, я бы отыгрался" Нищая старуха хныкала, следуя за ним. "Занять-то не у кого. Какой-то господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно! Погубил я свою молодость"».
После описания гор Оленин надолго исчезает. Следует «географическая» глава, описывающая местность, нравы и обычаи — тот самый hors d'oeuvre, который развернулся в «Кавказском пленнике» Пушкина в целый «отчет путешественника», не связанный с событием[147], и подавил собой личность пленника. У Пушкина здесь сказалась традиция описательной поэзии XVIII в.; у Толстого — возвращение к проблеме описания после изжитой романтической новеллы. Результаты сходные: Оленин, намеченный первыми главами в герои повести, начинает играть чрезвычайно пассивную роль и сосредоточивает на себе внимание только там, где Толстой пользуется им для «диалектики души» и где интересно самое изображение душевной жизни, а не фигура героя как определенно очерченной индивидуальности (так в гл. XX — Оленин в лесу).
Интересно, что между первоначальным описанием Оленина и последующим его поведением заметно некоторое противоречие, которое тоже свидетельствует о неустойчивости его фигуры как индивидуальности — иначе говоря, о том, что не на его личности строится повесть. Вначале Толстой делает специальную оговорку, выделяющую Оленина из ряда романтических героев, — он не был «мрачным, скучающим и резонирующим юношей». Тут же это подкрепляется словами о том, что Оленин «сознавал в себе этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, — броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем». Но что же общего между этим Олениным первых глав и последующим Олениным — вялым, бескровным резонером, который все ищет каких-то формулировок и совершенно неспособен непосредственно, без оглядки, отдаться одному желанию или одной мысли! Резкое противоречие, которое явилось не случайно, а по необходимости и совершенно естественно: вначале Оленин изображается на фоне романтических шаблонов и имеет самоценное значение, а в дальнейшем он нужен Толстому лишь как мотивировка внутренних монологов и душевной диалектики, потому что центр повести переместился. Образуется характерный для Толстого параллелизм, но, как и в «Утре помещика», он не развернут настолько, чтобы Оленин занял в повести соответствующее ему место. «Герой» слишком выдвинут, чтобы не требовать к себе специального внимания; с другой стороны — история его душевной жизни слишком не собрана, чтобы не отступить на второй план перед натиском другого материала.
Повторилось то самое, что наблюдали мы в «Утре помещика». Обернувшись Олениным, Нехлюдов остался тем же резонером — лицом лишь сцепляющим, а не организующим повесть. Еще раз не удалось Толстому развернуть большую форму. Именно поэтому, вероятно, он напечатал «Казаков» только в 1863 году, и то под давлением внешних условий[148]. Это был период удаления от литературы — в это время он писал Фету: «Я живу в мире столь далеком от литературы и ее критики, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же такой написал "Казаков" и "Поликушку"? Да и что рассуждать о них? Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает». Что-то в «Казаках» ему самому нравилось, но, конечно, не Оленин, а скорее, Марьяна и Ерошка. Эту часть повести он, вероятно, и разумеет, когда в том же письме говорит, что «Казаки» — «с сукровицей, хотя и плохо». Повесть эта, по-видимому, составляет часть задуманного им большого романа — к мысли о нем он возвращается и позже; в дневнике 1865 года есть запись: «Читал Троллопа— хорошо. Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий — Бреддон, мои Казаки (будущие)»[149]. Неоконченный автобиографический роман, неоконченный «роман русского помещика», неоконченный кавказский роман — таков неизбежный результат тех исканий новой формы, которым предан Толстой этого периода.
2
Большие формы временно оставлены — Толстой переходит к военным «статьям», к фельетонам, которые он собирался писать каждый месяц. Вместо новеллы — движущаяся панорама, построенная на скрещивании двух восприятий: восприятия постороннего наблюдателя, резко замечающего все детали (волонтер в «Набеге»), и восприятия военного профессионала. Создаются парадоксальные сочетания, которыми нарушается батальный канон романтиков. Таков первый Севастопольский очерк («Севастополь в декабре 1854 года»). Меняется самый материал — вводятся такие элементы, которые прежде оставались вне искусства. Пародийных приемов здесь уже нет, но ясно, от какого шаблона отступает Толстой, нашедший себе опору в Стендале: «Да! вам непременно предстоит разочарование, если вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, — ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и по виду и звукам с Северной стороны». И вот — вместо картины боя описание госпиталя. Центр тяжести перемещен: «Вы увидите, как быстрый кривой нож входит в белое, здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет, не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении, — в крови, в страданиях, в смерти...»
Недаром Толстой выбрал для этого очерка форму обозрения — его зритель, которого он водит за руку по всем достойным внимания пунктам и заставляет прислушиваться и приглядываться («высмотрите», «вы входите», «вы непременно испытываете» и т.д.), даже не волонтер, а любопытствующий корреспондент, который реагирует на каждое впечатление, резко меняя свое восприятие. Так мотивируются нужные Толстому парадоксы. После госпиталя — картина похорон офицера, «с розовым фобом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте». Батальные сцены остранены будничными деталями, которые, тоже не без парадоксальности, выносятся на первый план: «Это он с новой батареи нынче палит, — прибавил старик, равнодушно поплевывая на руку»; фурштатский солдатик «спокойно мурлыкает себе что-то под нос» и «исполняет свое дело <...> так же спокойно, самоуверенно и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске»; молоденький офицер жалуется, что на 4-м бастионе плохо — но не от бомб и пуль, как можно ожидать, а «оттого, что грязно»; на самом бастионе («Так вот он, 4-й бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» — думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха») матросы играют в карты под бруствером, а офицер «спокойно свертывает папироску из желтой бумаги» (деталь эта особенно укреплена тем, что повторена еще раз после описания раненого матроса: «Это каждый день этак человек семь или восемь», — говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папироску из желтой бумаги»); офицер отдает приказание стрелять — и матросы «живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, пойдут к пушке и зарядят ее».
Первый Севастопольский очерк — своего рода программная статья к следующим очеркам. Тут Толстой совершенно избавил себя от посредничества Нехлюдовых и Олениных, но характерно, что чье-то предполагаемое восприятие оказалось ему необходимым. От своего лица (как у Пушкина «Выстрел», «Станционный смотритель», «Капитанская дочка») Толстой никогда не пишет, потому что он, в сущности, никогда не повествует. Развитие чисто повествовательной формы было делом предыдущего поколения (30-х годов) — эпоха Толстого и Достоевского есть кризис повествовательной прозы. Достоевский развертывает диалог, сокращая до минимума описательную и повествовательную часть и придавая ей характер субъективного комментария; Толстой развивает конкретную «мелочность» в описаниях и соединяет ее с «генерализацией». Неудивительно, что после них русский роман останавливается в своем развитии, и на смену ему являются анекдоты Чехова. Тургенев заканчивает собой период повествовательной прозы, возобновленной после Карамзина Нарежным, Марлинским, Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым и развернувшейся в целый поток повестей и романов. После них повествовательная проза отходит на второй план и создает младшую линию прозы, которая ищет спасения от тургеневского языка в народных диалектах и древнерусском сказе, — Вельтман, Даль, Мельников-Печерский, Лесков[150]. Линия эта возродилась и дала новые образцы в современной прозе, преодолевшей канон Толстого и его подражателей, — у Ремизова, у Кузмина, у Замятина и др.
Таково в сжатом виде движение русской прозы XIX века. В этом смысле творчество Толстого есть кризис художественной прозы, и долго русская литература живет под гнетом канонизации этого кризиса. Здесь — настоящий, органический, сверхличный источник толстовской «рассудочности» и «двойственности». Толстой сам чувствовал это и очень точно выражал свое чувство в письмах к Страхову (1872 г.), указывая на особенное положение русской литературы, еще не имеющей своей прочной традиции: «Правда, что ни одному французу, немцу, англичанину не придет в голову, если он не сумасшедший, остановиться на моем месте и задуматься о том — не ложные ли приемы, не ложный ли язык тот, которым мы пишем и я писал; а русский, если он не безумный, должен задуматься и спросить себя: продолжать ли писать, поскорее свои драгоценные мысли стенографировать или вспомнить, что и "Бедная Лиза" читалась с увлечением кем-то и хвалилась, и поискать других приемов языка. <...> Я изменил приемы своего писания и языка <...> не потому, что рассуждаю, что так надобно, а потому, что даже Пушкин мне смешон <...>» «Последняя волна, поэтическая парабола, была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы, грешные, и ушла под землю, другая линия пошла в изучение народа и выплывет, Бог даст, а Пушкина период умер, совсем сошел на нет»[151]. Гораздо позже, в 1895 году, Толстой в беседе с Л. Я. Гуревич возвращается к этому же вопросу и чрезвычайно ясно формулирует: «Прежде всякие описания давались с трудом даже более крупным талантам, теперь это стало легко всякому. <...> Вы спросите меня, почему же тогда, еще не особенно давно, во времена Пушкина и Гоголя, искусство стояло на такой высоте? Я думаю, что в то время искусство еще вырабатывалось, нужно было выработать форму — форма не давалась как что-то готовое, что можно очень легко сделать внешними средствами — затверженными и всем доступными техническими приемами. <...> Оттого в искусстве того времени все было так свежо... даже гоголевский Ноздрев, сидящий на полу и хватающий за платье танцующих. Но искусство, начавшееся у нас в то время, выработало форму, сделало ее доступной для всех и теперь разлагается»[152]. Тут, между прочим, с совершенной ясностью различается форма (о «содержании» нет и речи) и простая техника как навык — понятия, которые с таким рутинным упорством до сих пор смешиваются в сознании большинства людей, толкующих и пишущих о литературе.
В повествовательной прозе основной тон дается рассказчиком, который и образует собой фокусную точку зрения. Толстой всегда — вне всяких действующих лиц, поэтому ему нужен медиум, на восприятии которого строится описание. Эта необходимая ему форма создается постепенно. Собственный его тон имеет всегда тенденцию развиваться вне описываемых сцен, парить над ними в виде «генерализаций», поучений, почти проповедей[153]. Проповеди эти часто принимают характерную декламационную форму, с типичными риторическими приемами. Так начинается второй Севастопольский очерк («Севастополь в мае 1855 года»): «Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и из траншей в бастионы, и ангел смерти не переставал парить над ними. Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи — успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти. <...> Сколько розовых фобов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же с невольным трепетом и страхом смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя <...> все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов <...> и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей с еще более разнородными желаниями к этому роковому месту. А вопрос, не решенный дипломатами, все еще не решается порохом и кровью». Типичная речь оратора или проповедника—с нарастающей интонацией, с эмоциональными повторениями, с фразами широкого декламационного стиля, рассчитанными на большую толпу слушателей. Тон этот проходит через всю вещь, возвращаясь в ударных местах очерка. Так — глава XIV, отделяющая первый день от второго, целиком написана в том же стиле, с теми же приемами: «Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких, надежд и желаний, с окоченелыми членами лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни мертвых в Севастополе; сотни людей с проклятиями и молитвами на пересохших устах ползали, ворочались и стонали, одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта, — а все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплывало могучее, прекрасное светило». Схема обеих «проповедей» совершенно одинакова: «тысячи... тысячи... а все те же... все так же... и все с тем же; сотни... сотни... а все так же, как и в прежние дни... и все так же, как и в прежние дни». Для ораторских приемов еще чрезвычайно характерны такие обобщающие антитезы, как «тысячи... успели оскорбиться, тысячи — успели удовлетвориться» или «сотни... тел... полных разнообразных, высоких и мелких, надежд и желаний... сотни людей с проклятиями и молитвами». Так же написано заключение, которое вместе с приведенными кусками образует действительно целую проповедь: «Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена мертвыми телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море[154], колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди — христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения <...>» и т. д.
Таков один масштаб этого очерка — масштаб крупных долей. Под ним располагаются деления иного, «стендалевского» масштаба. Здесь появляется ряд действующих лиц, которых в первом очерке не было совершенно. И замечательно, что первое появляющееся лицо, штабс-капитан Михайлов, описано с такой «мелочностью», точно ему предстоит дальше роль главного героя, вокруг которого должны расположиться события: сообщаются не только подробности его наружности и одежды, но и его воспоминания о «голубоглазой Наташе», его мысли, мечты и надежды. На самом деле Михайлов потом отступает совершенно на второй план — и «мелочность» эта остается самоценной. В связи с вопросом о повествовательной прозе и о приемах Толстого интересно здесь остановиться на том, как Толстой описывает Михайлова. Как уже не раз указывалось, это всегда предмет особенного внимания и заботы для Толстого. В прозе повествовательного типа тон и способ описания действующих лиц определяются тоном рассказчика и требованиями сюжета. Иногда действующее лицо описывается сначала как бы со стороны — точно рассказчик сам еще не знает его, а только разглядывает. Так часто вводятся персонажи, чтобы после, когда роль их определяется, так или иначе развернуть подробную характеристику. Толстой не рассказывает и не строит сюжетной новеллы — он не вводит своего персонажа, а сразу ставит его. Но описание со стороны, более того — описание, как бы проведенное сквозь чье-то чужое восприятие, есть обычный и необходимый Толстому прием (ср. портрет Кноринга, Крафта и т. д.). Своеобразно решена эта проблема во втором Севастопольском очерке. Сначала — описание совершенно со стороны: «Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, настроенных на левой стороне Морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого лица этого офицера не изобличало больших умственных способностей, но простодушие, рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен, не совсем ловок и как будто стыдлив в движении. На нем была мало поношенная фуражка, тонкая, немного странного лилового цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов, панталоны со штрипками и чистые, блестящие опойковые сапоги. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чистого русского происхождения, или адъютант, или квартирмейстер полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии». Описание сопровождается даже догадками и размышлением, так что момент появления персонажа как бы на самом деле совпадает с моментом разглядывания его самим автором, который еще не знает, кто это такой. Но игры иллюзией здесь никакой нет — это обычный способ толстовского описания, только лишенный в данном случае всякой мотивировки, хотя бы в лице того юнкера, который в «Рубке леса» рассматривает Крафта. Что это так, доказывается резким переходом от этой части описания к дальнейшей: «Он, действительно, был офицер, перешедший из кавалерии, и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспомнил одно место письма <...>» и т. д. От разглядывания со стороны — к сообщению того, что думал и о чем вспомнил Михайлов. Дальше — целый внутренний монолог: мечты о том, как он получит Георгия, «а потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк... подполковник... Анну на шею... полковник...». И все эти подробности — эта голубоглазая Наташа и помещик Т. губернии, письмо которого в кавычках приводится здесь же (с наивной мотивировкой, что Михайлов вспомнил одно место из него), — все это не развивается дальше. Появляются другие лица, среди которых Михайлов не только не выделяется своей ролью, но, наоборот, — часто совершенно стушевывается и уступает место им.
Намеченная в «Рубке леса» «диалектика души» развертывается здесь в целую систему. Второй очерк сосредоточен на изображении батальных сцен. Дается ряд внутренних монологов, обнажающих скрытый механизм душевной жизни каждого. Все действующие лица — Михайлов, Праскухин, Калугин, Гальцин, Пест — поочередно проходят через химический метод Толстого. Михайлов должен идти со своей ротой в ложементы: «Наверное, мне быть убитым нынче <...> я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшисецкий? Очень может быть, что и вовсе не болен: а тут из-за него убьют человека, непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то верно представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал: позвольте мне идти, ежели поручик Непшисецкий болен. Ежели не выйдет майора, то Владимира наверно. Ведь я уж тринадцатый раз иду на бастион. Ох, 13 — скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют <...>» и т. д. Калугин идет к бастиону: «Ах, скверно! — подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, т. е. мысль очень обыкновенная, — мысль о смерти. Но Калугин был <...> самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя». Но дальше с Калугиным повторяется то же, что было с Михайловым: «Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и прилег на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения <...> Он, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. "Ах! нехорошо! — подумал он, споткнувшись. — Непременно убьют" В одном месте — когда Михайлов вместе с Праскухиным идут из ложементов — даются параллельные монологи их обоих: «Черт возьми! как они тихо идут, — думал Праскухин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова. — Право, лучше побегу вперед: ведь я передал приказание... Впрочем, нет: ведь могут рассказывать потом, что я трус <...> Что будет, то будет: пойду рядом». «И зачем он идет за мной? — думал со своей стороны Михайлов. — Сколько я ни замечал, он всегда приносит несчастие. Вот она летит, прямо сюда, кажется».
Сцены страха сменяются сценами смерти и ранения. Развертываются внутренние монологи, особенность которых в том, что они идут вразрез с действительностью. Смерть Праскухина описана иносказательно — сам он не догадывается, что умрет: "Слава Богу! я только контужен <...> Верно, я в кровь разбился, как упал", — подумал он <...> Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, а ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди». Здесь уже нельзя говорить о «реализме», о «правде» — свидетелями и судьями могли быть, очевидно, только умершие. Самый материал обязывает, чтобы мы говорили о приеме. И характерно, что Толстому не столько нужен факт смерти (потому что никакого сюжетного значения смерть Праскухина не имеет), сколько процесс умирания. Праскухин сделан посторонним самому себе — это тот же прием, который знаком нам в иных мотивировках. То же разложение душевной жизни, как бы наблюдаемой со стороны, причем здесь этот анализ усилен тем, что действительный смысл всего наблюдаемого — совсем иной. Совершенно так же поступает Толстой с Михайловым; но отношение обратное: "Все кончено: убит", — подумал он, когда бомбу разорвало <...> и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. "Господи! прости мои согрешения!" — проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь. <...> "Это душа отходит, — подумал он. — Что будет там? Господи! приими дух мой с миром" <...> Он был камнем легко ранен в голову».
В этом контрастном сопоставлении скрыт типичный толстовский парадокс, остраняющий традиционное «литературное» представление о смерти — особенно о смерти героической. Толстой как бы говорит то же, что он говорил о Кавказе: люди умирают совсем не так, как принято об этом писать. Не такова природа, как ее изображают, не такова война, не таков Кавказ, не так выражается храбрость, не так люди любят, не так живут и думают, не так, наконец, умирают — вот общий источник всей толстовской системы. Близится самое роковое и вместе с тем неизбежное для Толстого «не то» — не таково искусство, как об нем пишут и думают. В этом смысле Толстой действительно канонизатор кризиса — обличительные, разрушительные силы скрыты почти в каждом его приеме. Толстой — не зачинатель, а завершитель. Это хорошо чувствовал Достоевский, когда писал Страхову (в 1871 г.): «А знаете, ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним»[155].
Недаром второй Севастопольский очерк развернут на фоне нравственной проповеди. Недаром в конце Толстой как бы с недоумением оглядывается на свое произведение: «Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.
Ни Калугин со своею блестящею храбростью (bravoure de gentilhomme) и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший на брани за веру, престол и отечество, ни Михайлов со своею застенчивостью, ни Пест, ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести». Тут уже нет ни капитана Хлопова, ни даже Веленчука. Микроскопический анализ и химическая реакция уничтожили даже эти образы. Механизм душевной жизни оказался у всех одинаковым. Юнкер Пест рассказывает, как он заколол француза; но Толстой, так сказать, вмешивается в его рассказ и, даже не заботясь ни о какой мотивировке, прямо и сурово говорит: «Но вот как это было действительно». И вместо подвига, вместо героизма — что- то нелепое, непонятное, совершающееся помимо его воли и сознания, как будто во сне: «Пест был в таком страхе, что решительно не помнил, долго ли, куда и кто, что. Он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестел миллион огней, засвистело, затрещало что-то. Он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он споткнулся и упал на что-то. <...> Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. "Ah Dieu!" — закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что заколол француза. Холодный пот выступил у него по всему телу, он трясся как в лихорадке и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он герой».
Так развернулся в руках Толстого сравнительно скромный метод Стендаля. Толстой уличает на каждом шагу своих же действующих лиц. Тот же Пест рассказывает, как он разговаривал с французскими солдатами во время перемирия; Толстой опять вмешивается со своими показаниями: «В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего особенного <...> и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал». Калугин, князь Гальцин и один полковник ходят по бульвару и говорят о вчерашнем деле: «Главною путеводительного нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а участие, которое принимал <...> рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное выражение, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали и огорчали каждого; но, сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека, это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. <...> Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело, с тем чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди». Снижается представление не только о героях, но и о просто «прекрасных людях», душевный состав которых оказывается более сложным, чем об этом принято писать, и вместе с тем более простым — у всех одинаковым. Недаром Толстой сравнивал людей с реками — «вода во всех одина- кая и везде одна и та же». Это все та же постоянная у Толстого система отступления — «люди не бывают такими». И потому он неизменно держится в стороне от своих персонажей — одинаково близкий и одинаково далекий им всем. Во втором Севастопольском очерке его личная роль как автора сводится к постоянному вмешательству в разговоры и поступки персонажей, к постоянным показаниям, что они на самом деле чувствуют и думают.
После всех этих обличений он описывает одну жуткую сцену, чтобы ею покончить со всеми этими «возвышающими обманами» и, противопоставив им «низкую истину», перейти к своему проповедническому тону: «Но довольно. Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку, который в старом — должно быть, отцовском — картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помочею, с самого начала перемирия вышел за вал и все ходил по лощине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь, к крепости». Сходная деталь есть у Стендаля (Фабриций натыкается на обезображенный труп солдата и, по предложению маркитантки, трясет его за руку), но характерны для Толстого эти усиливающие средства — ребенок, голубые цветы. Детей Толстой вообще употребляет часто для обличительного остранения; в этом же очерке маленькая девочка принимает бомбы за звезды: «Звездочки-то, звездочки так и катятся! <...> Вон, вон еще скатилась. К чему это так? а, маынька?» Интересно, что немного раньше Калугин и Гальцин тоже говорят о сходстве бомб со звездами, но здесь — обратное сравнение: «А эта большая звезда — как ее зовут? — точно как бомба».
Композиционные приемы Толстого в обоих Севастопольских очерках сходны с теми, которые он употреблял раньше — т. е. расположение сцен по простому движению времени, обычно в пределах одного дня, и обрамление или кольцевое построение. Первый очерк открывается утренней зарей, а кончается вечерней; при этом вначале звуки голосов, долетающих по воде, соединяются со звуками стрельбы, а в конце — «по воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им». Во втором очерке композиция сложнее. Во-первых, указанное выше обрамление проповедью, причем, так как очерк этот охватывает два дня (гл. II—XIV, гл. XV — до конца), то на границе их есть своя концовка, совершенно повторяющая вступительную часть («Сотни свежих окровавленных тел...» и т. д.) и образующая, таким образом, своего рода кольцо. Сцены первой части заключены в пределы одного дня; первая сцена изображает бульвар, где «около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам»; вторая часть, которая вся в целом (всего две главы) служит заключением, открывается повторением той же сцены: «На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним аллеям из цветущих душистых белых акаций» (ср. в гл. III: «Внизу по тенистым пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы»).
В «Набеге», «Рубке леса» и в двух первых Севастопольских очерках Толстой не только развернул свои приемы описания батальных сцен, но и довел их до канонизации. В третьем очерке («Севастополь в августе 1855 года») Толстой уже повторяет самого себя. Основные приемы здесь — уже знакомые по прежним вещам. Повторяется даже прием, которым во втором очерке был описан Михайлов:«Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напружены»[156]. Следует указание различных деталей наружности, после чего — опять резкий переход: «Офицер был ранен 10 мая осколком в голову <...> и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из симферопольского госпиталя ехал к полку». Еще дальше дается и душевная его характеристика, с обычными для Толстого резкими и парадоксальными сочетаниями. Таким образом, первоначальный портрет сделан с точки зрения чужого восприятия («насколько можно было заключить») не потому, что оно принадлежало рассказчику — тому «я», которое должно было бы определить собой тон и построение дальнейшего рассказа, — а потому, что таков метод описания, имеющий лишь местное, а не композиционное значение. Как было и раньше, офицер этот (Козельцов-старший) вовсе не становится героем рассказа, несмотря на все подробности описания. Более того, целая страница (гл. V) отводится описанию одного офицера, который больше даже не появляется и имя которого остается неизвестным. Зато известно, что в Петербурге он «мечтал о бессмертном венке славы и генеральских эполетах», а потом, оставшись на первой станции один, «с изжогой и запыленным лицом», раскаялся в своем легкомыслии и «из героя, готового на самые отчаянные предприятия, каким он воображал себя в П., в Джанкой он прибыл жалким трусом». Продолжается метод расслаивания душевной жизни и «уличения». На предложение старшего брата ехать с ним сейчас в Севастополь младший Козельцов отвечает: «Прекрасно! сейчас и поедем» («со вздохом»), а сам думает: «Сейчас прямо в Севастополь, в этот ад... ужасно!»
Братья говорят об офицере, заведовавшем обозом: «Ведь эта каналья из Турции тысяч 12 вывез... — И Козельцов стал распространяться о лихоимстве, немножко (сказать по правде) с той особенной злобой человека, который осуждает не за то, что лихоимство — зло, а за то, что ему досадно, что есть люди, которые пользуются им».
Знакома нам и психология новичка, попадающего на войну и не находящего в ней ничего из своих мечтаний. Таков Володя Козельцов. По дороге в Севастополь он мечтает (дорога у Толстого — постоянная мотивировка таких внутренних монологов): «Два брата, дружные между собой, оба сражаются с врагом <...> Вот мы нынче приедем <...> и вдруг прямо на бастион: я с орудиями, а брат с ротой, и вместе пойдем. Только вдруг французы бросятся на нас. Я — стрелять, стрелять: перебью ужасно много; но они все-таки бегут прямо на меня. <...> Французы бросятся на брата. Я подбегу, убью одного француза, другого и спасаю брата. Меня ранят в одну руку, я схвачу ружье и все-таки бегу...» и т. д. И в ответ на эти мечты — толстовское «не так», сказанное устами старшего Козельцова: «Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя». Все дальнейшее должно разрушить мечты Володи: «Все, что он видел и слышал, было так мало сообразно с его прошедшими, недавними впечатлениями <...> и так мало все, что он видел, было похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты. <...> И все это вместо той исполненной энергии и сочувствия героической жизни, о которой он мечтал так славно»[157].
Неудивительно, что третий очерк был встречен критикой не с таким восторгом, как прежние вещи Толстого: «...нет действия, а есть картины и портреты. Портреты действующих лиц, преимущественно солдат, были уже изображены автором в первом рассказе, где мы познакомились с тою хладнокровною стойкостью, с тем пренебрежением опасности, которая составляла силу защитников Севастополя. В следующих картинах, после того как портреты были уже очень хорошо обрисованы, мы ждали действия, жаждали рассказов о происшествиях, а гр. Толстой в двух следующих описаниях, "Севастополь в мае" и "Севастополь в августе", явился тем же психологом-наблюдателем, от которого не ускользает ни одна мелочь. <...> Под Севастополем, как и в простом, обыденном набеге на горцев, автор вздумал снова приковать нас к своим наблюдениям над психологическими явлениями в душе юноши! Можно ли сделать подобный промах? Действие происходит громадное, а мы сидим с юношей в одном уголку картины и смотрим не на общую картину приступа, сражения и отступления — нет, мы смотрим, как чувства испуга, гордости и отчаянной храбрости меняются в душе благородного юноши! Автору следовало бы назвать свой рассказ: "Прапорщик Володя Козельцов под Севастополем", а не "Севастополь в августе"»[158].
При всей своей наивности отзыв этот верно схватывает особенность толстовского метода и верно указывает на его постоянство. Но построение третьего очерка отличается некоторыми новыми чертами, особенно характерными для будущего Толстого. Очерк этот — самый большой из военных рассказов. Описанные в нем события совершаются на протяжении не одного, а нескольких дней. Количество изображенных лиц — значительно большее, чем в прежних вещах. В связи с этим являются новые приемы композиции. Здесь нет уже простого обрамления или замыкания в кольцо, нет и проведенной сквозь очерк проповеди, которая во втором очерке скрепляет все его части. Вместо этого — движение двух линий, временной параллелизм. Два основных лица сделаны братьями — этим укрепляется их положение среди остальных действующих лиц (вернее было бы сказать — разговаривающих лиц) и этим же мотивируется самый параллелизм, к которому естественно тяготеет Толстой. Параллелизм этот нужен Толстому не для развертывания фабулы (в этом случае параллели необходимо должны в конце концов скрещиваться и потому представляют собой только кажущиеся параллели — сюжетный прием, употребленный, например, Пушкиным в «Метели»), а для связывания сцен, в сущности, независимых друг от друга, т. е. параллелизм в чистом виде. Мотивировка родством — частый у Толстого композиционный прием для соединения нескольких лиц и групп воедино. Здесь — первый случай такой мотивировки. И действительно — весь очерк построен по принципу временнбго параллелизма, причем параллели эти так и не сходятся. Братья встречаются (гл. VI) и едут вместе в Севастополь; тут они решают идти порознь на 5-й бастион, — Толстой разлучает их, чтобы начать движение по двум линиям, причем здесь же дает понять, что линии эти уже не встретятся: «Больше ничего не было сказано в это последнее прощание между двумя братьями» (конец гл. XI). Начинается линия Володи (гл. XII-XIV), которая прерывается его сном («он заснул скоро покойно и беспечно, под звуки продолжавшегося треска и гула бомбардирования и дрожания стекол»); идет линия старшего брата, которая начинается с того момента, когда братья расстались (возвращение назад: «Старший Козельцов, встретив на улице солдата своего полка, с ним вместе направился прямо к 5-му бастиону», гл. XV); эта линия опять прерывается игрой Козельцова в карты (гл. XVII), возобновляется линия Володи (гл. XVIII—XXIII), которая заканчивается сообщением о начавшемся штурме. Описанию штурма посвящена особая глава (XXIV), которая подготовляет две следующие: судьба старшего Козельцова и судьба Володи. Оба гибнут — их смерть и описана в этих двух главах. Здесь нет того контрастного сопоставления, которое наблюдается во втором очерке (Праскухин — Михайлов); описание именно их смерти мотивируется уже тем, что они братья и что весь очерк построен на параллелизме этих двух линий, но некоторый иронический контраст все же заметен. Старший Козельцов гибнет как герой — почти так, как мечталось Володе; он бросается в бой с криком: «Вперед, ребята! Ура-а!» — и в порыве храбрости («Козельцов был уверен, что его убьют; это-то и придавало ему храбрости» — типичный парадокс) не чувствует, что он ранен. Володя гибнет бессмысленно и жалко: «Что-то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя <...>» Последняя глава корреспондирует с той, где описывалось начало штурма, и подводит итоги.
Толстой пробует здесь применить тот композиционный прием, которым впоследствии он широко воспользовался в «Войне и мире». Но самое это движение по параллелям, с переходами по очереди от одной к другой, требует какой-то неподвижной, постоянно возвращающейся в качестве устойчивого мотива основы. В «Войне и мире» историческая часть, с философскими отступлениями, и представляет собой эту основу. В третьем очерке основа эта тоже намечена. Глава IX открывается описанием Севастополя: "Неужели это уже Севастополь?" — спросил меньшой брат, когда они поднялись в гору. И перед ними открылись бухты с мачтами кораблей, море с неприятельским далеким флотом, белые приморские батареи, казармы, водопроводы, доки и строения города, и белые, лиловатые облака дыма, беспрестанно поднимавшиеся по желтым горам, окружающим город, и стоявшие в синем небе, при розоватых лучах солнца, уже с блеском отражавшегося и спускавшегося к горизонту темного моря». В главе, описывающей штурм, дается опять описание Севастополя, причем основные элементы пейзажа повторяются: «Солнце светило и высоко стояло над бухтой, игравшею с своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. <...> Севастополь, все тот же, с своею недостроенного церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с своими маленькими лазоревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов, — все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на солнце морем, виднелся на той стороне бухты». И наконец — в последней главе: «Звезды так же, как и в прошлую ночь, ярко блестели на небе» (ср. в гл. XXII), «но сильный ветер колыхал море. <...> Большое пламя стояло, казалось, над водой на далеком мыску Александровской батареи и освещало низ облака дыма, стоявшего над ним, и те же, как и вчера, спокойные, дерзкие далекие огни блестели в море на неприятельском флоте». Это развивается дальше в характерную декламацию, напоминающую нам проповедь второго очерка. Те же синтаксические повторения, те же приемы остранения: «По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев кипевших необыкновенною энергическою жизнью, столько месяцев видевших сменяемых смертью, одних за другими умирающих героев и столько месяцев возбуждавших страх, ненависть и, наконец, восхищение врагов, — на севастопольских бастионах уже нигде никого не было. <...> По изрытой свежими взрывами обсыпавшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие — русские и вражеские — трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшною силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. <...> Севастопольское войско <...> медленно двигалось в непроницаемой темноте от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, — от места, всего облитого кровью, — от места, 11 месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага и которое теперь велено было оставить без боя». Здесь, как и раньше, Толстой — не рассказчик, не повествователь. Он стоит где-то в стороне от всей этой картины, где-то высоко над всем совершающимся, в неподвижной позе пристального и то иронически улыбающегося, то сурово декламирующего наблюдателя.
Перед нами прошли четыре года работы (1852—1855) — годы сосредоточенных исканий и первых опытов. Толстой уже печатается, уже известен, но он живет еще в стороне от литераторов, от журнальной атмосферы, работает уединенно, по-своему, не пользуясь ничьими советами, не считаясь ни с чьим мнением. По дневникам видно, что литературная работа все время перебивается другими планами, и Толстой как будто намеренно не хочет вступать на путь профессионального писательства. Вместе с тем в письмах этого времени к Т. А. Ергольской пробегают фразы, указывающие на растущую в нем тягу к литературе: «Я еще не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу; но это работа, которая меня занимает и в которой я уже слишком далеко зашел, чтобы ее оставить» (1851). «Мои литературные работы также подвигаются понемногу, хотя я еще не думаю ничего печатать. Я три раза переделал работу, которую начал уже давно, и я рассчитываю еще раз переделать ее, чтобы быть довольным. Быть может, это будет работой Пенелопы, но это не отталкивает меня; я пишу не из тщеславия, но по влечению, мне приятно и полезно работать, и я работаю» (1852). «Я не хотел бы бросать литературные занятия, которыми мне невозможно заниматься в этой лагерной жизни» (1855).
Начало пути уже пройдено: определились основные художественные тенденции, осознаны главные проблемы, произведено отступление от романтической традиции, намечена система стилистических и композиционных приемов. Большие формы временно оставлены — идет серия очерков, которые служат этюдами к чему-то в будущем. Выбор именно батального материала подсказан, главным образом, желанием ликвидировать романтические шаблоны. В «Набеге» и в двух первых Севастопольских очерках присутствие этого стимула резко ощущается. Но третий очерк, несмотря на повторение тех же приемов, содержит в себе какие-то новые намерения, непосредственно с батальным материалом не связанные. Наивный критик был прав, когда удивлялся, что Толстой поместил нас «в одном уголку картины», и предлагал ему иначе озаглавить рассказ. Батальный материал исчерпан — намечается переход к рассказам и повестям, уже не так крепко связанным со стремлением к преодолению романтики. Период замкнутой, уединенной работы кончен — в ноябре 1855 года Толстой приезжает в Петербург и сразу попадает в самую гущу петербургской литературной жизни (кружок «Современника»: Некрасов, Тургенев, Дружинин, Островский, Фет и др.). Начинается сложный период споров, перекрестных влияний, борьбы, который кончается разрывом с литературой (1860-1861 гг.).
Это — период созревания, период искания новых форм. Главным руководителем и советчиком Толстого на время становится Дружинин. Толстой — на распутье. Повести его («Метель», «Два гусара», «Альберт», «Люцерн») возбуждают недоумение среди критиков: от автора «Детства» все ждут чего-то другого. Возвратившись в 1857 году из-за границы, Толстой записывает в дневнике: «Петербург сначала огорчил, потом оправил меня. Репутация моя пала или чуть скрипит, и я внутренно сильно огорчился; но теперь я спокоен, — я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно; а потом что хочешь говори, публика». Но в ближайшие годы Толстой пишет мало и сам быстро разочаровывается в каждой своей вещи. Опыт нового романа («Семейное счастье», 1859) не удовлетворяет его: «...не могу опомниться от сраму и, кажется, больше никогда писать не буду», — признается он в письме к А. А. Толстой. И действительно — литературная работа почти останавливается. Наступает кризис: «Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко тому, что мы знаем» (Фету в феврале 1860 г.). Друзья Толстого огорчены. Дружинин горячо убеждает его вернуться к литературе. На самом деле Толстой не уходил, а только чувствовал потребность спрятаться, остаться наедине с самим собой, освободиться от посторонних влияний. Этого он и достигает: статья «Кому у кого учиться писать» (1862) — литературный памфлет, которым он порывает с прошлым и выходит на новый путь. Работа в школе дает материал для размышлений и наблюдений над искусством. Период исканий кончен. Осенью 1863 года Толстой пишет А. А. Толстой: «Детей и педагогику я люблю, но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад. <...> Я теперь писатель всеми силами души, и пишу и обдумываю, как еще никогда не писал и не обдумывал».
Этот сложный и интересный период (1855— 1862) требует особого исследования, для которого необходимо знакомство с дневниками и рукописями.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Книга первая Пятидесятые годы
ПРЕДИСЛОВИЕ
Десять лет назад я написал свою первую работу о Толстом (вступительный очерк ктому, содержащему «Детство», «Отрочество» и «Юность», Гос. Изд. 1922). За ней последовала книжка «Молодой Толстой» (1922). После этого я продолжал работать и собирать материал для следующей книги о Толстом, но усиленная педагогическая работа, увлекавшая возможностью сейчас же делиться новыми мыслями и материалом, мешала это сделать — тем более, что положение книжного рынка не воодушевляло на писание такого рода исследований. Да и помимо этого — лекции и семинарии, давая выход накопляющейся энергии, понижали, вместе с тем, стимулы к писанию. Писать — не значит записывать; высказанное уже теряет для самого себя прелесть свежести и новизны. Это хорошо знают беллетристы.
Постоянная необходимость «высказываться» и иногда преждевременно формулировать свои мысли перед аудиторией стала беспокоить меня, и я начал мечтать о сокращении педагогической работы. Это осуществилось осенью 1927 г. Тогда же, вместе с возобновлением работы над текстом Толстого для юбилейного издания его сочинений, я решил писать новую книгу.
Сначала я думал написать книгу, охватывающую всю деятельность Толстого, — сжато, тезисно, без демонстрации материала. Но материал так развернулся, а тезисы так осложнились, что я отступил от своего первоначального намерения и решил закончить первый том вопросом о «Войне и мире», а остальному посвятить второй том. Однако, скоро пришлось изменить и это намерение. Вокруг «Войны и мира» собрался колоссальный и никем не обследованный материал. Ища литературных источников этого романа (помимо того материала военных записок и мемуаров, сопоставлению которых с «Войной и миром» посвящена книга В. Б. Шкловского), я сделал своего рода «открытия», о которых предварительно сообщаю в последней главе.
В нашей области открытия возможны потому, что современники многого не знают и о многом забывают. Им некогда, потому что они делают современность, а историк узнает прошлое детальнее и полнее, чем отдельные его очевидцы. Так, никто из современников Толстого не вспомнил или не знал, что в 1861 г. вышла книга Прудона «Война и мир», хотя в 1864 г. она была издана в русском переводе. Между тем из сопоставления фактов явствует, что «Война и мир» Толстого находится в прямой и очень интересной связи с сочинением Прудона. Вообще тема «Толстой и Прудон», над которой я теперь работаю, оказывается не менее важной, чем такие, как «Толстой и Руссо» или «Толстой и английский роман». Также никто не заметил в «Correspondance» Прудона письма, в котором он описывает свою беседу с Толстым. Особенно странно, что оно осталось неизвестным биографам Толстого — П. Бирюкову и Н. Гусеву, хотя «Correspondance» вышла еще в 1875 г.
Другое «открытие» касается Наполеона. И современники Толстого, и позднейшие его биографы и истолкователи считали, что толстовский Наполеон — в том виде, как он изображен в романе, — выдуман самим автором. Многих возмущала эта «дерзость», многие считали это проявлением невежества или стремления к оригинальности во что бы то ни стало. Между тем толстовский Наполеон — пересадка на русскую почву тех тенденций, которыми была охвачена французская историческая публицистика пятидесятых-шестидесятых годов, боровшаяся с «бонапартизмом». Патриотические настроения Толстого, пережившего падение Севастополя, совпали в этом пункте с настроениями некоторых свободомыслящих французских историков и публицистов, стремившихся уничтожить «легенду» о величии Наполеона I и, тем самым, опорочить вторую империю (Наполеон III).
Все это заставило меня принять новое решение: кончить первый том путешествием Толстого за границу (1860—61), а «Войне и миру» посвятить особую работу. Так получилась эта книга, охватывающая только первое десятилетие литературной деятельности Толстого — пятидесятые годы. Во избежание недоразумений необходимо указать на то, что этой новой книгой не покрывается и не заменяется моя старая книжка — «Молодой Толстой»: они различны и по проблемам и по материалу. Многого, сказанного там, я здесь не повторяю, потому что пишу в другом жанре и на другие темы. Та книжка была, в основе своей, теоретической; эта написана без теоретических отступлений — как историческая. Отсюда — ввод такого материала, которым я прежде не пользовался. Читатели — особенно те из них, которые следили за «методологическими» спорами последних лет, — сразу заметят, что в этой книге есть так называемый «биографический уклон», которого не было ни в «Молодом Толстом», ни в книге о Лермонтове (1924). Это сделано не только сознательно, но принципиально, — и потому требует объяснения.
Еще летом 1925 г. я стал заниматься вопросами, которые называл для себя вопросами «литературного быта». К этому привело меня как положение современной литературы, обострившей вопрос о том, «как быть писателем», так и положение науки о литературе: многие проблемы перестали быть живыми, чувствовалась необходимость выйти из намеченных раньше общих схем историко-литературной диалектики к более конкретному и детальному изучению исторического процесса, захватить новый материал, остающийся обычно на задворках, в примечаниях, выдвинуть новые вопросы, новые аналогии и т. д. Наука работает над тем, что неясно, а история притом есть научный метод изучения современности при помощи прошлого.
«Литературный быт» частично привел меня к изучению биографического материала, но под знаком не «жизни» вообще («жизнь и творчество»), а исторической судьбы, исторического поведения. Таким образом, биографический «уклон» явился как борьба с беспринципным и безразличным биографизмом, не разрешающим исторических проблем. В 1927 г. я напечатал две статьи: теоретическую («Литература и литературный быт») в журнале «На литературном посту» (1927. № 8) и историческую («Писатель и литература») в журнале «Звезда» (1927. № 5). От этих проблем и работ я и вернулся к мысли — написать книгу о Толстом с новым материалом в руках. Литературная позиция и самая судьба Толстого, всю жизнь боровшегося с литературно-бытовым укладом своего времени, должна предстать в новом свете, если использовать биографический материал для разрешения определенных проблем (например, история писания «Казаков» на фоне литературного соперничества с братом Николаем).
Я не отступил и перед таким вопросом, как отношение Толстого к освобождению крестьян, потому что он оказался узловым — как и вопрос о педагогических его увлечениях. В некоторых главах Толстой совсем отсутствует — так, как в романах автор иногда покидает своего героя, чтобы развернуть боковой материал.
Я заранее знаю многое из того, что скажут о моей книге — вряд ли могут быть какие-нибудь неожиданности в наше строгое и логическое время. Одни будут жалеть, что я «отошел от формального метода», — это те, которые прежде жалели, что я к нему «пришел». На это мне не хочется отвечать, потому что я достаточно потратил усилий (по-видимому — напрасно) на разъяснение того, что такое «формальный метод». Удивление этих рецензентов перед эволюцией литературоведения вызывает с моей стороны только недоумение перед их наивностью. Другие, более ядовитые и ревнивые, скажут, что я отошел от старого и не пришел к новому, остановился на полдороге. Доказывать этим людям, что наука — не поездка с заранее взятым билетом до такой-то станции, на место назначения, бесполезно: они считают, что наука объясняет то, что уже заранее считается выясненным. Я могу только упрекнуть их в непоследовательности: они должны были бы прекратить всякую историко-литературную работу (впрочем — в этом они как раз достаточно последовательны) и объявить историю литературы наукой прекращенной, все выяснившей. Был бы, по крайней мере, редкий в истории науки случай — ликвидация одной из наук по причине достаточного уяснения всех ее проблем, как общих, так и частных.
Итак, книга эта не полемическая и даже не «методологическая». Основное значение в ней имеют материал и его сопоставление. Это сделано тоже сознательно и принципиально. Разговоров о «методологии» у нас много, а реальной работы над материалом мало.
Писание книги — искусственная остановка в работе. Нет такого момента, когда можно сказать себе, что я кончил всю подготовительную работу и могу писать. Поэтому, когда пишешь последние главы, хочется переделать первые. Я этого не делал — и читателю придется помириться с тем, что автор первых глав несколько другой, чем автор последних. Эволюция сказывается и на протяжении книги — это закон природы.
Б. Эйхенбаум. 14 июля 1928г. Луга
P. S. За помощь указаниями, советами, материалом и пр. я должен поблагодарить ряд лиц: В. И. Срезневского, М. А. Цявловского, А. Е. Грузинского, Ю. Г. Оксма- на, Е. В. Тарле, К. С. Шохор-Троцкого, В. Г. Черткова, Н. Н. Гусева, С. Д. Балуха- того, П. К. Губера. Особую дружескую благодарность выражаю Виктору Б. Шкловскому и Ю. Н. Тынянову, на которых я не ссылаюсь в тексте только потому, что это пришлось бы делать слишком часто. Что касается изучения самого текста Толстого, то многим здесь я обязан К. И. Халабаеву.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 1847-1852
1
Когда умер Пушкин и в литературу стали входить «люди сороковых годов», Толстой был еще мальчиком и воспитывался в патриархальной обстановке дворянской помещичьей семьи, далекой от формировавшегося тогда мира «русской интеллигенции» — с ее философскими кружками, журналами и пр.
На некоторых фактах этого «долитературного» периода его жизни надо остановиться прежде всего — не для собственно-биографического анализа (я не собираюсь, например, говорить здесь о наследственности), а потому, что Толстой сам придал им литературное и историческое значение, использовав их не только как материал для своих хроник и романов, но и как основу для устроения своей литературной судьбы, своей писательской позиции, своего жизненного дела.
Толстой — воинствующий архаист, отстаивавший в середине XIX в. принципы и традиции уходящей и частью ушедшей культуры XVIII в. Это — глубоко-историческое и знаменательное явление. «Ясная Поляна» — не только поместье, но и место хранения традиций, противопоставляемых новой петербургской «цивилизации», опытное поле для культивирования этих традиций и навыков, идеологическая крепость, за стенами которой живет особо организованный на соединении самых разнообразных принципов, причудливый в своей противоречивости, архаистический в своей основе мир, созданный отчасти воображением, отчасти упорством Льва Толстого. Это — не столько «дворянское гнездо», сколько восстановленная его модель, только издалека кажущаяся точной копией. И сам Толстой — не столько идеолог, сколько мемуарист, полемически настроенный к чуждой ему «современности», но в то же время понимающий ее историческую неизбежность и силу. Самое искусство для него — замена чего-то другого, уже невозможного: не профессия, не «артистическая» специальность, а одно из дел, явившееся взамен других и наряду с другими. В другом веке, в другой эпохе Толстой был бы, конечно, не писателем. В этом — особая его власть, особая сила, выделяющая его среди всех других явлений русской литературы второй половины XIX века.
Патриархальный помещичий уклад, которым жила в двадцатых годах семья Толстых, имел несколько своеобразный характер. Это была не та механическая, бессознательная патриархальность «старосветских помещиков», которая передается из рода в род и свидетельствует только об отсталости, провинциальности, а совсем другая — явившаяся результатом разочарования и «фрондёрства», построенная на принципах восстановления утраченного «достоинства» и потому скрывающая в себе не столько консервативные, сколько реставрационные тенденции. Это была патриархальность с надрывом — сознательно и заново организованная (даже без достаточных на то реальных возможностей и средств), утонченная, преувеличенная и несколько стилизованная, соединяющая в себе элементы старорусского барства с французской чувствительностью и галантностью.
Отец Толстого стал помещиком после того, как разочаровался в «военном ремесле» и в службе вообще. Это был не «старосветский», а «великосветский» помещик, сознательно выбравший эту новую карьеру и женившийся специально для ее осуществления. После войны 1812 г., в которой принимал деятельное участие и потом пленным попал в Париж, он, как и многие другие дворяне высшего круга, стал в ряды оппозиции, но без всякой «политической» программы. Его программа была другая: жениться так, чтобы получить имение (от наследственного он должен был отказаться из-за долгов) и окопаться в нем — стать независимым от петербургского торгово-чиновничьего мира, возглавляемого государем и оскорбительного для его родового графского «достоинства». Это была рискованная, но гордая, полемическая позиция.
Так изображает его и сам JI. Толстой в своих «Воспоминаниях детства»: «Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образованных людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14 и 15 годов, он был не то, что теперь называется либералом, а просто, по чувству собственного своего достоинства, не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. В одном письме из Москвы к матери он пишет в своем шуточном тоне про Юшкова, О. И., брата своего зятя: "О. И. воображает, что он очень важен, потому что шталмейстер. Но я ни крошечки не боюсь его. У меня есть свой шталмейстер" Он не только не служил нигде, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство Николая Павловича. За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником». В этой характеристике проглядывает не только глубокое понимание той позиции, которую занял его отец в годы исторического перелома (понимание, свидетельствующее об интимном сочувствии, понимание по аналогии), но и явная симпатия к ней.
Николай Ильич жил в Ясной Поляне не столько как хозяин, сколько как владетельный герцог, гордый своей независимостью и властью: «у меня есть свой шталмейстер». Отсюда — особый стиль жизни и быта. Суровый помещик, любящий показать свою власть над крепостными, и изящный кавалер, легко изменяющий жене — он, вместе с тем, «наказывает» крепостных так, что дома этого не знают («Вероятно, эти наказания производились», — пишет JI. Толстой), а жене пишет французские чувствительные письма, заимствуя их из литературных образцов. JI. Толстой говорит в тех же «Воспоминаниях»: «В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: "несравненная, обожаемая, радость моей жизни, неоцененная" и т. д. — были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее. Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: "ma bien douce amie, je ne pense qu'au bonheur d'etre аиргёБ de toi», и т. п. Едва ли это было вполне искренно». В устах Толстого, всегда крайне осторожно говорящего о недостатках отца и часто умалчивающего, это очень много. Менее осторожная и довольно яркая характеристика Н. И. Толстого есть в воспоминаниях Ю. М. Огаревой (урожденной Арсеньевой), соседки по имению, за которой он, в первые же годы своего брака, стал настойчиво ухаживать; приревновав ее как-то к князю В., он велел вырубить ее любимую рощу, в которой она виделась с князем. Она же рассказывает: «у отца графа [т. е. у Ильи Андреевича Толстого] было огромное состояние, но он прожился и все его имения были проданы, не исключая того, где его мать давала такие блестящие балы. Граф [т. е. Николай Ильич] хотел выкупить его. Он научился экономить и мог исполнить свое желание, так как имел для этого достаточно средств. Он вел образ жизни не такой, как его родители: жил уединенно в своем имении, принимая только близких и всех людей хорошего тона. Если ему докладывали о визите лица, принадлежащего к более низкому классу, он приказывал говорить, что он на охоте. От него-то я и приобрела отчужденность от простого народа»[159].
JI. Толстой склонен изображать своего отца человеком «слабым», но по воспоминаниям крестьян, быть может, и не вполне достоверным, он рисуется совсем другим. Одно другому не противоречит — тем более, что нам здесь важно представить себе не натуру отца Толстого, не его «домашний» характер, а тот бытовой стиль, законам которого он, соответственно своей жизненной программе, старался подчинить и других и себя. «Николай Ильич, как и большинство дореформенных помещиков, не отличался какими-либо добродетелями, и аракчеевские порядки оставляли глубокий след в его обширных усадьбах. У него были своя юстиция, свои законы и мало милосердия. Людей провинившихся он ссылал в местечко, названное им Угрюмово», сообщает М. П. Кулешов[160]. Он же описывает день рождения сына Льва — 28 августа 1828 г.: «по всем деревням заговорили о смягчении наказаний провинившихся; говорили, что уменьшат тяжесть работ и будут даны, особенно семейным, большие льготы. Но не таков был граф Николай Ильич, человек крутого нрава, тип истого крепостника, хотя он и считался "пленительным" мужчиной в большом свете... У крыльца робко толпились мужики и бабы. Николай Ильич, сиявший от избытка чувств, обратился к крестьянам: "Родился сын. Поздравьте" Толпа загудела, желая новорожденному долголетия. Потом Николай Ильич позвал управляющего и спросил: "Все ли деревни работают?" — "Только две", — был ответ. — "Сейчас же передать по всем деревням, чтобы сюда пришли все бабы, у которых есть грудные дети. Да почище одеваться, слышь!.." — приказал граф». Так была выбрана кормилица для Льва Николаевича.
Если все это даже несколько преувеличено, то общий стиль передан, надо полагать, верно. «Ясная Поляна» была организована как «графство» не только по титулу, но и наделе. Просуществовала она однако в таком виде недолго: идиллия «великосветского» поместья сменилась трагедией.
В 1830 г., когда Толстому не было еще двух лет, умерла его мать, и он поступил на попечение дальней родственницы и друга семьи, «тетеньки» Татьяны Александровны Ергольской. В 1836 г. вся семья перебралась из Ясной Поляны в Москву, но не прошло и года, как погиб отец. По протокольным данным[161], смерть его произошла внезапно — от пережитых им в Туле волнений; но протоколы в таких случаях — самый ненадежный документ, потому что они составляются так, как требуется «видами правительства». Именно в эти годы участились случаи убийства помещиков дворовыми — и слухи упорно доказывали, что виновниками смерти Н. И. Толстого были его «любимцы», братья Петруша и Матюша. На них пало подозрение в том, что они отравили барина и украли бывшие с ним деньги. Оправдалось ли это подозрение — неизвестно, как неизвестна и дальнейшая судьба этих любимцев, но нам гораздо важнее то, что сам Л. Толстой допускал правильность такого подозрения. Если принять во внимание осторожность, с которой Толстой рассказывает об отце, то слова его о смерти отца приобретают особенное значение и звучат сильнее протоколов: «Не думаю, чтобы это была правда, но было возможно и это. Бывали именно такие случаи, именно то, что крепостные, особенно возвышенные своими господами, вместо рабства получавшие огромную власть, ошалевали и убивали своих благодетелей. Трудно представить себе весь тот переход от полного рабства не только к свободе, но к огромной власти. Не знаю уж как и отчего, но знаю, что это бывало и что Петруша и Матюша были именно такие ошалевшие люди, не могущие удовлетвориться тем, что получили, а естественно, хотевшие подниматься все выше и выше»[162]. Здесь сказано очень много — и для характеристики не только отца в его отношениях к крепостным, но и самого Толстого. Воспоминание (1903) о смерти отца от руки дворовых вызывает у Толстого комментарий, написанный в терминах крепостной эпохи, хотя и смягченный некоторым «руссоизмом»: ошалевшие крепостные, естественно хотящие подниматься все выше и потому убивающие своих благодетелей. В противоречивом сочетании этих трех слов сказался противоречивый, двойной взгляд Толстого на вещи — не столько идеолога, сколько мемуариста.
Гибель отца не только была одним из самых сильных и тяжелых впечатлений его детства, но и на всю жизнь осталась жутким воспоминанием, не раз, вероятно, тревожившим Толстого и тогда, когда он, в пятидесятых годах, взялся за свои хозяйственные дела и волновался вопросом об освобождении крестьян. Характерно, что именно этот факт не вошел ни в одну из его хроник; только в черновом наброске «1818 год. Пролог» есть описание того, как получено было известие о «неожиданной и неясной смерти» князя Василия Федоровича Гагарина; здесь Толстой попробовал использовать то, что слышал от родных о смерти отца: «Вот что рассказал Семен Иваныч (Езыков)[163]. На крыльцо пришла нищая и потребовала барыню. Семен Иваныч вышел к ней, и нищая передала бумаги. "Велено отдать." — "От кого?" — "Велено отдать", — повторила она. Я взял и только открыл, вижу Князевы вексели, контракт, его закладочка. Я выбежал к ней. Ее уже нет. Послал искать. Не нашли. Случилось что-нибудь. — К вечеру неизвестность прекратилась. Матюша, один из камердинеров князя, — их было два, — Матюша и Петруша, два брата, — прискакал в Москву с известием, что князь умер в Новгороде. Он шел по улице, упал, и не успели довести его, как он умер. Денег, говорил Матюша, ничего не нашли, кроме кошелька с двойчаткой орехом и двумя монетками»[164].
Так кончилась карьера отца. Его смерть была катастрофой для семьи — тем более жуткой, что некому было вести хозяйство и укрощать «ошалевших» крестьян: остались одни женщины, беспомощные и напуганные. Система горделивого «фрондёрства» сорвалась. Приходилось строить жизнь заново.
Осиротевшие дети (Николай, Сергей, Дмитрий, Мария и Лев) перешли в ведение бабушки (матери отца), тетушки (сестры отца) и Т. А. Ергольской. В следующем году (1838) умерла бабушка, — дети перешли в руки тетушки-опекунши. Материальные дела оказались настолько не блестящими, что пришлось оставить большой дом и переехать в маленькую квартиру. На зиму маленькие дети (в том числе и Левочка) были оставлены в Ясной Поляне на попечении Т. А. Ергольской. В 1841 г. умерла тетушка-опекунша — ее заменила другая тетушка, жившая в Казани. В связи с этим осенью 1841 г. Толстые переехали из Ясной Поляны в Казань.
Столько семейных событий и перемен пришлось пережить Толстому в возрасте от восьми до тринадцати лет, т. е. именно тогда, когда впечатления ограничиваются почти исключительно семейным кругом. На этом фоне огромную роль играли гувернеры и учителя, тоже сменявшие друг друга. Толстой растет строптивым, эксцентричным мальчиком — мальчиком «со странностями», с «выходками».
Казанская жизнь началась «падением», а затем пошла по линии балов и увеселений. Осенью 1844 г. Толстой поступил на философский факультет Казанского университета и стал «выезжать в свет». Он появляется на балах, вечерах и великосветских собраниях — хотя и ведет себя угловато, застенчиво, не то как философ, не то как недоросль. С философского факультета, ничего не сделав, он переходит на юридический, но наукой по-прежнему не занимается. Уже подошел 1846 год: Толстому восемнадцатый год, будущие его литературные «современники» (Достоевский, Григорович, Салтыков), правда, старшие по возрасту, уже дебютируют в литературе, — а он в живых картинах, поставленных в актовом зале университета, изображает «простака-детину».
С товарищами Толстой держит себя гордо и оригинальничает, презирая школьные воззрения и высказывая решительные и неожиданные взгляды. Попав в начале 1847 г. в карцер, он ведет беседу со своим товарищем Назарьевым: «Помню, — пишет Назарьев, — что, заметив у меня Лермонтова, Толстой иронически отнесся к стихам вообще, а потом, обратившись к лежавшей возле меня истории Карамзина, напустился на историю, как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет»[165]. Правда, в это же время Толстой, попав в клинику, начинает усиленно заниматься предложенной ему темой — изучением «Наказа» Екатерины. Но изучение это — совсем особенное. Это не исторический анализ, а критика положений, кажущихся ему неверными. Он читает «Наказ» не как студент юридического факультета, а как соперник Екатерины, готовящийся вступить в управление государством. Он относится к «Наказу» не как к памятнику отошедшей эпохи, а как к чему-то злободневному — то возражая, то поправляя, то соглашаясь: «я пишу здесь мое мнение о первых шести главах этого замечательного произведения».
На некоторых пунктах он останавливается с особым вниманием — именно на тех, которые тревожат его самого. Так, всюду видна тенденция противопоставлять монархическим тезисам «Наказа» республиканские, усвоенные, очевидно, из университетских лекций. «Низшее правительство не может накладывать наказаний, ибо оно есть часть целого, а монарх имеет это право, ибо он есть представитель всех граждан, говорит Екатерина. — Но разве представительство государем народа в неограниченных монархиях есть выражение совокупности частных, свободных волей граждан?»[166] Следом университетских бесед и впечатлений надо, по-видимому, считать и следующую интересную полемику Толстого с Екатериной: «Екатерина старается доказать, что ни монарх, ни благородные не должны заниматься торговлею. Что монарх не должен заниматься торговлею, это ясно, ибо ему не нужно бы было даже торговать, чтобы завладеть всем в своем государстве, ежели бы он этого хотел. Но почему же благородные в России не должны торговать? Ежели бы у нас была аристократия, которая бы ограничивала монарха, то, в самом деле, ей бы и без торговли было бы много дела. — Но у нас нет ее. Наша аристократия рода — исчезает и уже почти исчезла по причине бедности; а бедность произошла от того, что благородные стыдились заниматься торговлею. Дай бог, чтобы в наше время благородные поняли свое высокое назначение, которое состоит единственно в том, чтобы усилиться. Чем поддерживается деспотизм? Или недостатком просвещения в народе, или недостатком сил со стороны угнетенной части народа»[167]. Отцовское «фрондёрство» перешло к сыну, но приняло более современные формы: сын заботится уже не о родовом «достоинстве», а об экономической независимости.
Университетская наука окончательно надоедает Толстому, а положение студента само по себе ему не нужно. Он решает бросить Казань и уехать в Ясную Поляну. Этот отъезд, как он сам его определяет, есть «переход от жизни студенческой к жизни помещичьей». На ближайшие два года он составляет фантастический план, явно показывающий всю степень его «автодидактной»[168] наивности: «Какая будет цель моей жизни в деревне в продолжение двух лет? 1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство как теоретически, так и практически. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математики гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила. 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать»[169].
Если это не просто наивность, то другая, еще более характерная для дневников Толстого этой поры, черта: полная разобщенность между характером записей и характером жизни. Дневник пишет Толстой таким: он себя придумывает — отчасти для самонаблюдения, отчасти для самоиспытания. Дневник для него — какая-то замена гувернера, диктующего ему правила поведения и наказывающего за их неисполнение. И поэтому — чем суровее и педантичнее становится тон этого молчаливого гувернера, тем решительнее срывается с цепи воспитанник. Толстому, действительно, точно не хватает в это время какой-то властной и авторитетной руки, направляющей его поведение. Он ее придумывает потом в форме «франклинова журнала».
Толстой занят музыкой, философией и хозяйством. Ему уже 20 лет, но о литературе он еще не думает. Зиму 1848 г. он прожил в Москве: «жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели; и жил так не потому, что, как говорят и пишут многие, в Москве все так живут, а просто потому, что такого рода жизнь мне нравилась. Частью же располагает к лени и положение молодого человека в московском свете. Я говорю: молодого человека, соединяющего в себе некоторые условия, а именно: образование, хорошее имя и тысяч 10 или 20 доходу». У братьев репутация его довольно низкая — Сергей считает его просто «пустяшным малым». Ему это неприятно, и вот он в начале 1849 г. приезжает в Петербург с тем, чтобы выдержать университетский экзамен и поступить на службу: «ежели же не выдержу (все может случиться), то и с 14-го класса начну служить, я много знаю чиновников 2-го разряда, которые не хуже и вас, перворазрядных, служат. Короче тебе скажу, что петербургская жизнь на меня имеет большое и доброе влияние: она меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольно расписание; как-то нельзя ничего не делать, все заняты, все хлопочут, да и не найдешь человека, с которым бы можно было вести беспутную жизнь — одному же нельзя. Я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменился, скажешь: «это уж в двадцатый раз и все из тебя пути нет», «самый пустяшный малый», — нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся; прежде я скажу себе: «дай-ка я переменюсь», а теперь я вижу, что я переменился, и говорю: «я переменился». Главное то, что я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо — жить положительно, т. е. быть практическим человеком. Это большой шаг и большая перемена, еще этого со мной ни разу не было»12.
На самом деле никакой перемены не произошло. Уже через два месяца Толстому приходится признаться: «Сережа, ты, я думаю, уже говоришь, что я "самый пустяшный малый", и говоришь правду. Бог знает, что я наделал? Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там нужного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо! Невыносимо глупо!.. Надо мне было поплатиться за свою свободу (некому было сечь. Это главное несчастие) и философию, вот я и поплатился»13. Хотя два экзамена были уже выдержаны, но явился новый неожиданный план — «вступить юнкером в конно-гвардейский полк. Мне совестно писать это тебе, потому что я знаю, что ты меня любишь, и тебя огорчат все мои глупости и безосновательность». И вслед за этим — обычное успокоение: «бог даст, я исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком; больше всего я надеюсь на юнкерскую службу, она меня приучит к практической жизни и volens nolens мне надо будет служить до офицерского чина». Надо прибавить, что этот план возник у Толстого в связи с подготовкой венгерской кампании, предпринятой Николаем для подавления революции. Республиканские тенденции раннего дневника были, очевидно, действительно, навеяны и ни о каких «убеждениях» не свидетельствовали. Двадцатилетний Толстой так погружен в себя и так еще наивен, что о самом походе, в котором собирается участвовать, и не задумывается — ему нужен офицерский чин.
Наступила весна — и его «потянуло» в Ясную Поляну, где он и прожил всю зиму 1849/50 г., развлекая себя музыкой и кутежами в Туле, числясь на службе в тульском дворянском депутатском собрании. В деревне он занимается хозяйством, музыкой и писанием «правил». 8 декабря 1850 г. подводятся некоторые итоги: «Большой переворот сделался во мне в это время; спокойная жизнь в деревне; прежняя глупость и необходимость заниматься своими делами принесли свой плод. Перестал я делать испанские замки и планы, для исполнения которых не достанет никаких сил человеческих. Главное же, и самое благоприятное для меня убеждение — то, что я не надеюсь больше одним своим рассудком дойти до чего-либо и не презираю больше форм, принятых всеми людьми». В этой же записи впервые фигурирует и некий литературный план: «ежели же будет свободное время, напишу повесть из цыганского быта». Впрочем, этому делу отведено очень второстепенное место: «С утра читать, потом до обеда дневник и расписание на воскресение дел и визитов; после обеда читать и баня, вечером, ежели не устану очень, повесть»; «читать, сделать покупки (калоши) и книги о музыке; обедать, читать и заняться сочинением музыки или повести». Рядом с этим — «практический план» — снять почтовую станцию в Туле.
Ошибется тот, кто будет думать, что этот строй душевной жизни молодого Толстого и самый бытовой его уклад есть явление индивидуальное, одному ему свойственное. В том слое, к которому принадлежал Толстой, это — явление типовое, вплоть до занятий музыкой и литературой. Типичны для дворянской молодежи этого времени, не принадлежащей к самым верхам, оба дела — кутежи у цыган и мечты стать «практическим человеком». Даже терминология, употребляемая Толстым в письмах и дневниках, оказывается ходячей.
Вот — сверстник Толстого: Б. Н. Алмазов. Он родился в 1827 г. в старой дворянской семье, детство провел в деревне; в 1838 г., как и Толстого, его привезли в Москву, в 1848 г. он поступил на юридический факультет, но курса не кончил и с 1851 г. стал заниматься литературной работой и сделался сотрудником журнала «Москвитянин» (Эраст Благонравов). Первый фельетон Алмазова — «Сон по случаю одной комедии (Предуведомление)»[170] («Москвитянин» 1851 г., № 7) — может служить любопытным комментарием к дневникам и письмам Толстого и к самому его образу жизни. Это неудивительно, потому что Алмазов говорит здесь о типичных явлениях и фактах. Я считаю этот материал особенно подходящим еще и потому, что одновременно с Алмазовым в «Москвитянине» начинает сотрудничать светский приятель Толстого, имя которого неоднократно фигурирует в дневниках, начиная с декабря 1850 г. (когда Толстой в Москве) — С. П. Колошин. Колошин пишет «физиологические очерки» и светские повести («Из записок праздношатающегося», «Ваш старый знакомый»); Алмазов — фельетоны и шутливые стихи. Литературная судьба обоих была довольно печальная: дальше начала шестидесятых годов (т. е. именно тогда, когда Толстой, бросив Петербург и журналы, сел за «Войну и мир») их литературная карьера не пошла. Алмазов дожил до 1876 г., но жил в бедности, и должен был, для заработка, написать на старости лет длиннейшую повесть «Катенька», а Колошин, издав в 1857 г. роман «Светские язвы» и проработав некоторое время в иллюстрированном журнале «Зритель общественной жизни, литературы и спорта», уехал за границу, откуда в 1867 г. писал Некрасову, прося у него протекции и работы: «моту более, чем когда-нибудь, быть полезным русскому журналу политическими корреспонденциями... Пусть, если угодно, заказывают мне статьи. Работаю скоро и честно. Журналов у вас ведь нынче много»[171].
В фельетоне Алмазова изображается эволюция молодого человека, который, под влиянием «журнальной литературы», решил стать «практическим человеком», а затем пришел к литературной деятельности. Он рекомендует себя читателям как очень странного человека: «Странность моя главнейшим образом состоит в том, что я отстал от века и современных интересов, короче, что я несовременен... Я очень склонен, например, к чувствительности и мечтательности[172]; а чувствительность и мечтательность в настоящее время больше не употребляются в нашем обществе: чувствительность и мечтательность в нем выведены из употребления стараньями новейшей журнальной литературы». Далее описываются хлопоты, которые предпринял молодой человек, чтобы стать «практическим, порядочным человеком» — начиная с костюма. Следует «история моего волокитства за практической жизнью». У молодого человека, со времен пансиона, два друга, но характеры этих трех лиц совершенно различны. «Я был очень чувствителен, очень мечтателен и очень впечатлителен, и часто и быстро переходил от одного расположения духа к другому, совершенно противному»; один его друг — весельчак и гуляка, другой — серьезный педант, любитель древних классиков. «На меня производило необыкновенно сильное впечатление приближение весны. Пахнёт бывало на меня первым весенним ветром, услышу голос весенних птичек, увижу на Москве-реке первое движение льда — и я сам не свой... Я уносился воображением в деревню: передо мною расстилались веселые поля с зеленеющей озимью, шумел густой сосновый бор, сверкал прозрачный ручей, катя свои струи по желтому песку, усеянному блестящими раковинами».
Дальнейшая их судьба складывается тоже разно. Весельчак становится литератором: «пишет натуральные повести и приобретает громкую известность. Повести его отличались легкостью слога и легкостью содержания. В них не было ни идеи, ни глубоко задуманных характеров, ни драматического движения; не было ничего целого и законченного. В них описывались самые известные и обыкновенные происшествия, приводились самые будничные, нехарактеристические разговоры, выводились давно всем известные и истертые во всех романах лица». Он же издает и журнал. Педант становится ученым филологом, асам молодой человек «жил в деревне, занимался там хозяйством и садоводством, читал, любил, ходил на посиделки, водил хороводы — и был счастлив». По зимам он ездит в Москву. «Я занимался многими науками, занимался серьезно и основательно, но я не мог ни одной заняться специально, т. е. посвятить себя одному какому-нибудь предмету исключительно». Занялся он, между прочим, и юриспруденцией — «ударился изучать право вообще. Три года слишком я занимался юриспруденцией, перечитал в это время все замечательные сочинения по части философии права, проследил его историю у древних и новых народов, и уже принялся было за подробное изучение восточных законодательств, как приехала в Москву итальянская опера. Сходил я на первое ее представление, услыхал Лукрецию Борджиа и погиб безвозвратно для юриспруденции... Когда первые порывы любви к опере прошли, страсть эта приняла более солидный характер, следствием чего было то, что я занялся изучением истории вокальной музыки».
Происходит встреча с другом-литератором, который стыдит его за отсталость: «Боже мой, как ты отстал от века! тебе, видно, совсем незнакома новейшая философия. Читал ты в «Современнике» письма из Парижа?.. Что это как ты скверно одеваешься! Какое толстое сукно на твоем фраке... Стал ли ты наконец ездить на балы?.. Опомнись, оглядись! ведь человек рожден для общества и потому не должен чуждаться балов». «Мной овладело сомнение: я стал спрашивать себя, точно ли я живу, как жить следует[173], не откроет ли мне глаза новейшая журнальная литература. Я обратился к ней. Вследствие моего знакомства с ней я возымел твердое намерение сделаться практическим человеком и с этой целью заказал себе особый костюм». Автор решает стать «практическим и современным человеком» с того дня, как портной принесет ему новый костюм: «Этот день (я очень хорошо помню) был середа, 25 апреля; портной мне обещал принести платье в 10 часов утра. Сообразив все это и еще то, что я употреблю полчаса для надевания нового костюма, я записал у себя в памятной книжке, купленной мной по случаю намерения сделаться практическим человеком[174], следующее. «Сего 184... года, вереду, 25-го апреля, я сделаюсь практическим человеком; начало в 10 часов с половиною».
Намерение, однако, не удается — молодой человек, махнув рукой, решает остаться таким, каким был прежде. Но тут приезжает в Москву ученый филолог, — описывается встреча. Ученый удивлен, что его друг еще не писатель: «Отчего же ты не пишешь? Что ты делаешь в деревне? — Занимаюсь хозяйством... — А! хозяйством!.. Отчего же ты не пишешь статей о сельском хозяйстве!» Молодой человек сопротивляется: «Нет, ты меня не уговоришь быть писателем; у нас и без меня их много. Мне кажется, что у нас происходит много вреда от того, что всякий мало-мальски образованный и способный человек лезет непременно в литературную или ученую деятельность. Он этим отнимает у других сфер деятельности умных и способных людей. Так, например, я знаю много молодых "ученых" и "литераторов", у которых есть поместья. Сами они присутствуют в столице в качестве посредственных литераторов и мнимых ученых, а поместья свои вверяют плохим, необразованным управляющим. Они гораздо бы больше принесли пользы и отечеству, и себе, и своим крестьянам, если б жили в деревне, а не занимались эфемерной деятельностью в столице... Нет, я думаю, что для человека гораздо полезнее, возвышеннее, жить в деревне и возиться с мужиками, чем, не имея больших литературных способностей, заниматься прославлением своего имени»[175]. Кончается вся эта беседа тем, что молодой человек не в силах удержаться и решает описать свой сон[176].
Сопоставление таких разных источников, как письма и дневники Толстого и фельетон Алмазова, приводит к выводу, что душевная жизнь Толстого в том виде, как она зафиксирована в его письмах и дневниках в период 1847—1851 гг., есть, действительно, явление типовое. Юриспруденция, философия, литература, карты, цыгане, занятия хозяйством и мечты о практической жизни, сосредоточенные в дневниках, — все это характеризует не только Толстого, но и очень многих юношей, приезжающих из своих поместий в столицу. У Толстого все это, может быть, только проявляется в особенно резкой форме, благодаря тому, что он уже в восемнадцать лет — совершенно свободный от всякого надзора и от всяких обязанностей человек, вышедший из сугубо патриархальной обстановки и потому особенно «отсталый». Старушка Ергольская для него — высший авторитет. Сходство набросанного Ал- мазовым портрета с молодым Толстым указывает, с другой стороны, и на то, что Толстой, пожив в Москве и Петербурге, хорошо усвоил себе общее «веяние» своего круга, общий его стиль.
Сопоставлением этих источников освещается, сверх того, вопрос, почему в программах Толстого 1851 г. появились литературные проекты. Литература в эти годы стала привычным занятием светского человека — но не так, как в двадцатых годах, когда это занятие было, наряду с музыкой, только салонным развлечением, а в несколько иной, более практической форме — как способ стать известным, сделать карьеру и кстати — заработать денег. Переходной формой от великосветского дилетантизма к профессиональному занятию литературой была позиция Лермонтова и В. Соллогуба[177]. Соллогуб писал сам: «Вообще все, что я писал, было по случаю, по заказу, — для бенефисов, для альбомов и т. п. "Тарантас" был написан текстом к рисункам князя Гагарина, "Аптекарша" — подарком Смирдину. Я всегда считал и считаю себя не литератором ex professo, а любителем, прикомандированным к русской литературе по поводу дружеских сношений. Впрочем, и Лермонтов, несмотря на громадное его дарование, почитал себя не чем иным, как любителем, и, так сказать, шалил литературой»[178].
Толстой как в общем «безалаберном» образе жизни, так и в переходах от университетских занятий к военным планам, как бы механически повторяет знакомый по Лермонтову путь, осложняя его только типичной для провинциального помещика «отсталостью» и стремлением к «практической» жизни, к «хозяйству». В 22 года Лермонтов уже выступает в печати и становится известным в литературных кругах, а Толстой в это время еще только разучивает генерал-бас, собирается взять в Туле почтовую станцию и по вечерам, ежели не очень устает, пробует писать «повесть из цыганского быта». В годы 1850—1851 литература для него — одно из второстепенных занятий, полезных для успеха в обществе. Недаром в той же записи, где впервые говорится о повести (8 декабря 1850 г.), собраны правила для игры в карты и «правила для общества». Среди первых — характерное «играть только с людьми состоятельными, у которых больше моего», среди вторых: «искать общества с людьми, стоящими в свете выше, чем сам, — с такого рода людьми, прежде, чем видишь их, приготовить себя, в каких с ними быть отношениях. Не затрудняться говорить при посторонних. Не менять беспрестанно разговора с французского на русский и с русского на французский. Помнить, что нужно принудить себя, главное сначала, когда находишься в обществе, в котором затрудняешься. На бале приглашать танцовать дам самых важных». Запись от 17 января 1851 г. прямо открывает те «средства», которые стояли у Толстого на первом плане — «чтобы поправить свои дела»: «1) Попасть в круг игроков и при деньгах — играть. 2) Попасть в высокий свет и при известных условиях жениться. 3) Найти место выгодное для службы». Понятно, что для осуществления такого рода намерений бал — дело серьезное, требующее подготовки, потому что здесь можно произвести нужное впечатление, завоевать симпатию. И Толстой это понимает: «Перед балом много думать и писать» (в этой же записи).
Особенность Толстого, отличавшая его от многих других и ярко сказавшаяся в ближайшие годы, — это общая одаренность его натуры, постоянно влекущая его к пристальному самонаблюдению и вызывающая резкие состояния разочарования и кризисы. В этом смысле он живет двойною жизнью, хотя вторая, более глубокая, дает о себе знать пока не часто. Скоро после приведенной выше записи о бале целый месяц проходит без записей в дневнике, а затем, 28 февраля, Толстой пишет: «Много пропустил я времени. Сначала завлекся удовольствиями светскими, потом опять стало в душе пусто; и от занятий отстал, т. е. от занятий, имеющих предметом свою собственную личность. Мучило меня долго то, что нет у меня ни одной задушевной мысли или чувства, которое бы обуславливало все». Дневник превращается в «журнал слабостей», в кондуит. Толстой — как актер: день разыгрывает ту или другую роль, а вечером критикует собственное исполнение. 8 марта 1851 г. он пишет Ергольской: «Впрочем, сопоставляя с прошлыми зимами, это, несомненно, самая приятная и самая разумная из всех проведенных мною. Я веселился, ездил в свет, остались воспоминания, и при всем том, я не расстроил свои финансы — и не устроил, правда». 20 марта окончательно решается вопрос относительно трех «средств» для поправления дел: «Приехал в Москву с тремя целями: 1) играть, 2) жениться, 3) получить место. Первое скверно и низко, и я, слава богу, осмотрев положение своих дел и отрешившись от предрассудков, решил поправить и привести в порядок дела продажею части имения. — Второе, благодаря умным советам брата Николиньки, оставил до тех пор, пока принудит к тому или любовь, или рассудок, или даже судьба, которой нельзя во всем противодействовать; последнее невозможно до двух лет службы в губернии».
Надо полагать, что брат Николай взял на себя некоторое руководство «пустяш- ным малым», тщетно старающимся стать «практическим» и «порядочным» человеком. Очевидно, он уговорил Толстого бросить эту светскую жизнь и поехать с ним на Кавказ, к месту его службы. В начале апреля Толстой уезжает в Ясную Поляну, а 20-го вместе «с братом Николаем выезжает на Кавказ по особому пути — на лошадях до Саратова, а от Саратова по Волге на лодке до Астрахани. Толстой, проездом через Москву, абонировался на книги — «так что у меня много чтения, которым я занимаюсь даже в тарантасе».
30 мая 1851 г. Толстой приехал в станицу Старогладковскую (Кизлярского округа), а 3 июня записал в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже». Началась новая жизнь.
2
Прошло ровно четыре года с того момента, когда Толстой, покидая Казань и переходя от жизни студенческой к жизни помещичьей, составил программу занятий на два года. Каковы итоги? Программа забыта: не изучены юридические науки, не написана диссертация, не достигнуто совершенство ни в музыке, ни в живописи. Зато недаром Толстой так упорно занимался своим дневником — это оказалось впоследствии важнее ненаписанной диссертации.
Оценивая свое поведение при помощи «франклиновой» таблицы слабостей, Толстой в результате обостряет методы самонаблюдения и заинтересовывается парадоксальностью душевной жизни, несовпадением ее с «правилами». Таблица служит как бы химическим реактивом для опытов: Толстого над своей душевной жизнью, дает «точку зрения», разлагает смутный поток чувств на составные части. Постепенно из актера Толстой превращает себя в какого-то литературного персонажа — дневник все больше и больше приобретает характер материалов для биографической повести или, вернее, хроники. Появляются то парадоксальные афоризмы, то наброски пейзажа, то психологические характеристики и наблюдения. «В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастие было бы соединение того и другого... Всегда буду говорить, что сознание есть величайшее моральное зло, которое только может постигнуть человека... Самая обычная форма эгоизма — самопожертвование». Это, конечно, результаты чтения — Руссо, Стерн, Сенека, Бернарден де Сен-Пьер и др. Но (вот и результаты самонаблюдения: «Как силен кажусь я себе против всего с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти. И сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за казачками и приходить в отчаяние, что у меня левый ус жиже правого и я два часа расправляю его перед зеркалом». Размышляя о девушке, оставшейся в Казани, Толстой пишет: «Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не довольно убежден, что она может составить мое счастие, но все-таки я влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, что этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное. Не написать ли ей письмо? Не знаю ее отчества и от этого, может быть, лишусь счастия. Смешно. Забыл взять рубашку со складками, от этого я не служу в военной службе. Ежели бы забыл взять фуражку, я бы не думал являться к Воронцову и служить в Тифлисе. В папахе нельзя же!» Тут уже парадоксы не душевной жизни, а ситуаций — какие-то сюжетные зародыши, именно с этой стороны заинтересовывающие Толстого.
Если даже не знать ранних литературных опытов Толстого, можно утверждать, что они должны быть тесно связаны с его дневниками — как их оформление или сводка. Основные элементы дневника, развернутые и сопоставленные в виде последовательного описания, прерываемого общими рассуждениями, определениями и афоризмами — такова должна быть конструкция той «истории нынешнего дня», за которую Толстой берется за несколько дней до выезда из Москвы в Ясную Поляну. Другого материала у него нет, а «любимый» его писатель Стерн («Сентиментальное путешествие») служит ему подходящим литературным образцом для обработки этого материала).
«История вчерашнего дня», сохранившаяся в рукописи Толстого, вполне подтверждает такого рода догадку: переход к литературе совершается у Толстого непосредственно через дневник, и наоборот — дневник, тем самым, должен рассматриваться не только как обычная тетрадь записей, но и как сборник литературных упражнений и литературного сырья.
«История вчерашнего дня» — вещь совершенно сырая: пуповина, связывающая ее с дневником, еще не перерезана. Но зато в ней — зародыши не только «Детства», но и более поздних вещей, а некоторые ее элементы протягиваются через все творчество Толстого, сохраняя свою устойчивость до конца и видоизменяясь только в деталях.
Особенно замечательно прежде всего то, что Толстой в этой «Истории» поднимается над собственными своими дневниками, используя их и превращая вместе с самим собой в материал. Получается дневник над дневником — а раз начатая такая постройка может расти и дальше, так что дневник совершенно теряет свое интимное, глубоко-личное, исповедальное значение и приобретает значение нижнего этажа, кладовой или подвала. Это выглядит даже несколько жутко — по крайней мере для человека, который раскрывает дневник Толстого как книгу его интимных откровений, признаний, убеждений: есть что-то «циничное» в таком отношении к собственной душевной жизни — какое-то душевное бесстрашие, свидетельствующее о презрении к человеку с его «убеждениями», «принципами», «целями», «нравственностью» и пр.
Не будем бояться слов — основная сила Толстого определяется именно особого рода цинизмом, до предела разлагающим душевную, интимную жизнь человека и превращающего ее в какой-то химический процесс. Отсюда — особенности его «психологического анализа», построенного на недоверии к неразложимости, к слитности, к цельности душевной жизни; отсюда же — и внедрение «догмы» в художество, как необходимого реактива, как «точки зрения». Подробности выяснятся дальше, а пока скажу только, что «цинизм» этот я понимаю не как индивидуальную черту (или тем более «недостаток») личности Толстого а как явление социальное, глубоко-историческое, развившееся и окрепшее в Толстом, как в историческом деятеле. Русская культура второй половины XIX в. должна была в известном слое подготовить именно такую силу художественного «нигилизма», противопоставляемую «нигилизму» другого рода, который выражал себя наоборот — именно; в пафосе убеждения, в доверии, иногда наивном, к человеку, к «прогрессу», к «целям», к «принципам» и т. д. Противоположности сходятся — и Толстой не раз оказывается стоящим чуть ли не в одних рядах с «русской интеллигенцией», ополчаясь на искусство, сближаясь с «народниками» и «социалистами», отстаивая правоту «мужика» и пр. На самом деле нет ничего более противоположного.
Для Толстого всякое убеждение, всякий тезис существует рядом и одновременно с его антитезисом; для него «убеждение» стоит в одном ряду с другими проявлениями душевной жизни, всегда текучими, живущими сразу в двух, а то и в трех планах, и потому никогда не исчерпывающими себя. Отсюда — многосмысленность его семантики и многослойность его построений («параллелизм»). Смыслы Толстого существуют только в сопоставлениях — все у него осмысляется только на фоне другого, а не само по себе, и потому все складывается мозаикой. Тенденция, «догма» служит в этой мозаике необходимым цементом — и именно потому так крепко входит в самую конструкцию. В личной жизни «философия» служит как будто только для того, чтобы оттенить парадоксальность и противоречивость поступков, чтобы придать им некоторый ракурс. Особенно резко это проявляется в молодые годы: дневник наполнен всякого рода «философией», а жизнь идет своим порядком, отбрасывая все абстрактные построения. Толстой часто выглядит ребенком, с удовольствием пишущим «прописи», но легко забывающим о них, как только «урок» сделан. В первой записи 1852 г. Толстой сам признается: «Я не совершенно спокоен и замечаю это потому, что перехожу от одного расположения духа и взгляда; на многие положения к другому. Странно, что мой детский взгляд — молодечество — на войну для меня самый покойный. Во многом, я возвращаюсь к детскому взгляду на вещи...» Характерна и другая запись — 1 июня 1852 г.: «Я могу лишиться Ясной и, несмотря ни на какую философию, это будет для меня ужасный удар».
Итак, какова же связь «Истории вчерашнего дня» с дневниками? Во-первых, вся эта вещь начата именно как запись одного дня — с самого утра («Встал я вчера поздно»); но затем, в пояснение того, почему автор встал поздно, описывается вечер накануне, — игра в карты у знакомых и возвращение домой. Картиной засыпания и большим рассуждением о сне прерывается на полуфразе этот отрывок, по существу своему бесконечный: «вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что не достало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать». Во- вторых, одним из моментов, входящих в эту «историю», является самое писание дневника, о чем подробно и рассказывает автор: «Я обыкновенно вечером пишу дневник, франклиновский журнал и ежедневные счеты. Нынешний я ничего не издержал, потому что ни гроша нету — так нечего писать в счетную книгу. Дневник и журнал другое дело: нужно бы было писать, но поздно, отложу до завтра. Мне часто случалось слышать слова: «пустой человек, живет без цели»; и сам даже я часто говорил и говорю, не оттого, чтобы я повторял чужие слова, но я чувствую в душе, что это нехорошо и что нужно иметь в жизни цель. Но как же это сделать, чтобы быть «полным человеком и жить с целью?» Задать себе цель никак нельзя. Это я пробовал сколько раз, и не выходило. Надо не выдумать, но найти такую, которая бы была сообразна с наклонностями человека, которая бы и прежде существовала, но которую я только бы сознал. Такого рода цель я, мне кажется, нашел: всестороннее образование и развитие всех способностей[179]. Как одно из главных сознанных средств к достижению — дневник и франклиновский журнал. В дневнике я каждый день исповедуюсь во всем, что я сделал дурно. В журнале у меня по графам расписаны слабости — лень, ложь, обжорство, нерешительность, желание себя выказать, сладострастие, мало йег!ё и т. д., всё вот такие мелкие страстишки. В этот журнал я из дневника и выношу свои преступления крестиками по графам».
Затем следует обширное критическое рассуждение о такой системе — дневник над дневником: «Я стал раздеваться и думал: где же тут всестороннее образование и развитие способностей, добродетели? и разве этим путем дойдешь ты до добродетели? куда поведет тебя этот журнал, который служит тебе только указателем слабостей, которым конца нет, которые всякий день прибавляются и которыми, ежели бы ты даже уничтожил их, не достигнул бы добродетели. Ты только обманываешь себя и играешь этим, как дитя игрушкой! — Разве достаточно какому- нибудь художнику знать те вещи, которых не нужно делать, чтобы быть художником? Разве можно отрицательно, удерживаясь только от вредного, достигнуть чего-нибудь полезного? Земледельцу недостаточно выполоть поле, надо вспахать и посеять его. — Сделай себе правила добродетели и следуй им. Это говорила частица ума, которая занимается критикой».
Следует защита системы «журнала», заканчивающаяся словами: «Откинь оболочку слабостей, будет добродетель». Но критическая часть ума снова вмешивается: «Но неужели только одни те мелочи, ошибки, которые ты пишешь в журнале, мешают тебе быть добродетельным? Нет ли больших страстей? И потом, откуда такое множество каждый день прибавляется: то обман себя, то трусость и т. д., прочно же нет исправления, во многом никакого хода вперед. Это заметил опять, заметил критически. Правда, все слабости, которые я написал, можно привести к трем разрядам, но так как каждая имеет много степеней, то комбинаций может быть без числа: 1) гордость, 2) слабость воли, 3) недостаток ума. Но нельзя же все слабости относить отдельно к каждой, ибо они происходят от соединений. Первые два рода уменьшились, последняя, как независимая, может подвинуться только со временем. Например, нынче я солгал, приметно было, без причины: меня звали обедать, я отказывался, потом сказал, что не могу от того, что у меня урок. — "Какой?" — "Английского языка", — когда у меня была гимнастика. Причины: 1) мало ума, что вдруг не заметил, что глупо солгал, 2) мало твердости, что не сказал, почему, 3) гордость... глупая, полагал, что английский язык скорее может быть — предлогом, чем — гимнастика». Части ума вступают в диалог: «Разве добродетель состоит в том, чтобы исправляться от слабостей, которые тебе в жизни вредят? Кажется, что добродетель есть самоотвержение. Неправда; добродетель дает счастье, потому что счастье дает добродетель. — Всякий раз, когда я пишу дневник откровенно, я не испытываю такой досады на себя за слабости; мне кажется, что ежели я в них признался, то их уже нет. Приятно».
Последнее признание очень знаменательно — оно подтверждает ту мысль, что «журнал слабостей» был для Толстого, по существу, не средством достичь «добродетели», а методом производить анализ душевной жизни, хотя бы и преувеличенный в своей точности — способом химического разложения. Пафоса морального совершенствования, о котором постоянно говорится в дневнике, на самом деле нет («я не испытываю никакой досады на себя за слабости»), да он и не мог выражаться в таких формах — а есть пафос (это-то и есть цинизм) анализа, пафос жестокого обращения с собственной душевной жизнью, пафос методологический. Уже в «Истории вчерашнего дня» душевная жизнь протекает не менее чем в двух планах — образуются те «внутренние монологи», а иногда и диалоги, которые позже определили собой своеобразие толстовского «психологического анализа» и были замечены критикой. Это — один из способов «остранения», явившегося естественным результатом методологии Толстого и сохранившегося на протяжении всего творчества, меняясь только в мотивировках. Здесь это дано еще совсем просто, откровенно — как самонаблюдение: «Я так был погружен в рассматриванье не этих движений, но всего, что называют charme, который описать нельзя, что мое воображение было очень далеко и не поспело, чтобы облечь слова мои в форму удачную. Я просто сказал: "Нет, не могу". Не успел я сказать этого, как уже стал раскаиваться. Т. е. не весь я, а одна какая-то частица во мне. Нет ни одного поступка, который бы не осудила какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу[180]: "что за беда, что ты ляжешь после 12? а знаешь ли ты, что будет у тебя другой такой приятный вечер?" — Должно быть, эта частица говорила очень красноречиво и убедительно (хотя я не умею передать), потому что я испугался и стал искать доводов. — "Во-первых, удовольствия большого нет, — сказал я: — тебе вовсе она не нравится, и ты в неловком положении; потом, ты уже сказал, что не можешь, и ты потерял во мнении..."»
Получается какая-то дантовская витиеватость, напоминающая «Vita nuova», которая тоже построена на принципе самонаблюдения и остранения. Анализ доходит дальше до того, что объект и субъект наблюдения совершенно разъединяются — самонаблюдение делается уже как-то совсем со стороны, сверху, каким-то чужим умом, без всякой мотивировки самой его возможности (самонаблюдение, таким образом, уже явно превращается в художественную систему): «Так как я был занят рассуждением о формулах третьего лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости».
Далее идет внутренний диалог — «неслышный разговор», как называет его сам Толстой. Совершенно тем же методом раскрыто дальше значение слов, произнесенных хозяином дома при прощании — «когда мы опять увидимся»: «самолюбие гостя переведет так: "когда" значит: пожалуйста, поскорее; "мы" значит: я и жена, которой тоже очень приятно тебя видеть; "опять" значит: мы нынче провели вечер вместе, но с тобой нельзя соскучиться; "увидимся" значит: еще раз сделай удовольствие. И гостю остается приятное впечатление».
Последние страницы этой «Истории» отведены сну. Туг метод Толстого достигает кульминации. Это ведь одна из наиболее естественных и благодарных мотивировок разложения и «остранения» — недаром Толстой славился потом именно как специалист сочинять и описывать сны. Так, Достоевский в «Братьях Карамазовых» говорит устами Ивана: «иногда видит человек такие художественные сны... с такими неожиданными подробностями, начиная с высших наших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит». Особенно важен для Толстого процесс засыпания, превращающий душевную жизнь в пеструю мозаику разнообразных мыслей, ассоциативно цепляющихся друг задруга. Вместо двух раздельных планов, над которыми, не давая им слиться, царит сознание, получается один, но совершенно парадоксальный план, вступающий в какие-то странные отношения с планом действительных событий, существующих вне душевной жизни. Фабула сна, при всей своей мозаичности, оказывается не свободным порождением фантазии, а переработкой доставляемых органами чувств впечатлений — обнажается механизм сонного «сюже- тосложения». Сознание потухает — вступает в свои права психология и физиология. Самонаблюдение Толстого достигает методологического предела — оно следит за процессом засыпания и сна, уже явно освобождаясь от мотивировки и переходя в область «сочинения», выдумки. Следующий момент, в описании которого выдумка, хотя и построенная по методу самонаблюдения, совершенно обнажена, — это процесс умирания, который, действительно, и описан у Толстого в целом ряде вещей.
Итак, «История вчерашнего дня» — это еще совершенно импрессионистический, но тем более яркий и смелый, написанный еще без оглядки на «литературу», этюд, в котором имеются зародыши основных художественных приемов Толстого — сжатая энциклопедия его художественной системы. Дневник по отношению к этому этюду — собрание отдельных упражнений, развивающих метод самонаблюдения. Толстой идет к литературе так, как будто ее еще никогда не было — постепенно поднимаясь из области самонаблюдения в область выдумки. «Литература» рождается у него из противопоставления «правил» и действительного поведения. Он экспериментирует и над собой и над людьми. В письме к казанскому знакомому А. С. Оголину с Кавказа (22 июня 1851 г.) он пишет: «Я живу теперь в Чечне около Горячеводского укрепления в лагере, — вчера была тревога и маленькая перестрелка, ждут на днях похода. — Нашел-таки я ощущения»[181]. Еще раньше, в апреле 1851 г., он пишет из Казани Т. А. Ергольской: «Так как, по-вашему, я человек, испытывающий себя, я пошел в народ, в цыганский табор. Вы легко можете себе представить, какая поднялась там во мне внутренняя борьба за и против»[182].
«История вчерашнего дня» навела Толстого, может быть, неожиданно для него самого, на мысль взяться за писание серьезнее, чем он это делал до сих пор. Тут, по-видимому, оказали свое действие и выезд на Кавказ, вырвавший его из наскучившей атмосферы светских развлечений, и усиленное чтение, и влияние брата Николая, и даже совет Ергольской, о котором он напоминает ей в письме из Тифлиса от 12 ноября 1851г.: «Помните, тетенька, совет, который вы раз мне дали — писать романы. Так вот я следую вашему совету, и занятия, о которых я вам писал, состоят в литературе. Я еще не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу; но это работа, которая меня занимает и в которой я уже слишком далеко зашел, чтобы ее оставить»[183]. Речь здесь идет, очевидно, о начатом «Детстве». Интересно, что в письме к брату Сергею, написанном в это же время (23 декабря 1851 г.), Толстой не упоминает о своей литературной работе (вероятно, боясь иронии), а рассказывает о своей жизни и новых знакомствах.
С первых же дней новой жизни характер дневника меняется — вместо правил и сухих расписаний появляются наброски описаний, сценок, портретов, обсуждаются технические вопросы — как писать. К началу 1852 г. уже готова первая часть «Детства». Толстой начинает следить и за журналами; мелькают отзывы о «Современнике», «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения» — отзывы, большею частью отрицательные: «Читал Современник, в котором все очень дурно... читал глупые повести в Библиотеке для чтения... читал апрельский Современник, который гадок до крайности». Рядом с этим — чтение исторических книг и иностранных авторов: Тьер, Ламартин, Бернарден де Сен-Пьер, Стерн («Читал Стерна, восхитительно!»), Руссо, Диккенс («Какая прелесть "Давид Копперфильд"!»).
Главные заботы Толстого сосредоточены около вопроса о выработке «слога» и около проблемы «описания». Характерно, что он работает сразу над несколькими вещами — параллельно с «Детством» делаются наброски к «Роману русского помещика», пишется «Набег», начинается работа над «Кавказским рассказом». Это возможно и характерно именно потому, что никаких «фабул» у Толстого нет, а есть куски, сцены, которые нужно только так или иначе связать и мотивировать. Поэтому ему важно решить для себя самые основные вопросы литературной техники — так, как будто литературы до сих пор на свете не было. Это производит наивное впечатление, но в известные моменты наивность бывает силой.
В частности, вопрос о «слоге» был в это время вопросом очень важным, но в литературе о нем как-то старались не думать, напрягая все усилия для создания интересной «беллетристики» и укрепления, таким образом, журнального дела. В журналах печатаются длиннейшие романы — вроде «Старого дома» В. Зотова, где есть все, кроме «слога». С другой стороны, у Тургенева и выдвигающихся в это время дам-писательниц «слог» так раз навсегда обработан и сглажен, фраза так спокойно и уверенно ложится в традиционные формы, что русский литературный стиль кажется уже достигшим совершенства и потому не требующим внимания. Это положение хорошо отмечено А. В.Дружининым в «Письме иногороднего подписчика» (1849). «Не очень далеко от нас то время, когда в русской литературе преобладал великий пуризм относительно слога. Целые статьи, в которых писатели упрекали друг друга в ошибках против синтаксиса, недавно еще печатались и в газетах и в журналах. В них было много дельного, и никто не станет отвергать необходимости правильного слога; но всему есть пора: всякое направление в литературе ведет за собой необходимую реакцию, и потому-то теперь мало говорят и пишут о слоге и языке писателей»[184].
Действительно, проблема «слога» сдвинута другими очередными проблемами, среди которых выделяются, как центральные, проблемы материала, героя и жанра. В связи с этим проза выдвигается за счет стиха: «Всякому известно, — пишет Дружинин в октябре 1849 г., — что в последние десять лет публика сделалась чрезвычайно холодна к стихотворениям, а критика, не ограничиваясь холодностью, с заметным удовольствием преследует и поэтов и поэзию: каждое собрание стихов какого-нибудь нового писателя рождает по три и по четыре забавных рецензии и вслед затем предается забвению»[185]. Б. Алмазов пишет в фельетоне 1851 г.: «У нас в России ныне никак нельзя печатать стихов. Стихи всевозможными средствами и самыми разнообразными путями преследуются нашими толстыми и прекрасными журналами... У нас позволяется писать прозу: в прозе вы можете писать какие вам угодно пошлости, и будьте уверены, что, как бы вы плохо ни написали, петербургские журналы примут с благодарностью на свои страницы ваше произведение. Но избави вас бог написать, или — что еще опаснее — напечатать ваше стихотворение: стихотворение ваше будет встречено самыми строгими, мелочными придирками; вас поднимут на смех, назовут даже пожалуй, поэтом, а выражение поэт с некоторого времени употребляется нашими журналами как бранное слово»[186]. Стих становится исключительно средством пародии — все другие его качества и возможности точно отпадают. В пародию перерабатывается вся русская поэзия — как будто стих уже сам по себе, как носитель особого ритма и интонации, воспринимается в это время как нечто пародийное. Так поступает, например, И. Панаев («Новый Поэт»), перекладывая в стихи даже прозу Гоголя в целях его пародирования:
В груди моей и буря, и смятенье, Святым восторгом вечно движим я — Внимает мне Россия с умиленьем. Чего же, Русь, ты хочешь от меня? Зачем с таким невиданным волненьем Не сводишь ты с меня своих очей? О Русь, о Русь, с немым благоговеньем — Чего же ждешь ты от моих речей?.. Иль чувствуешь, что слово вдохновенья В устах моих, пылающих огнем, Есть личная потребность очищенья, И потому такая сила в нем[187].
Что касается прозы, то рядом с длинными романами, заполняющими собою приготовленное для этого журнальное пространство, развиваются фельетоны и очерки. Меняется состав и самое понятие «словесности», на смену которому приходит новое слово — «беллетристика». В декабре 1849 г. Дружинин пишет: «Знаете ли, мне по временам кажется, что скоро все писатели в мире не будут ничего писать, кроме фельетонов. Заметьте, как упрощается словесность, как исчезают хитросплетенные разделения литературных произведений, как явственно простота и краткость берут верх над велеречием и запутанностью... Только роман может на каждом шагу менять место действия, переходить от анализа к катастрофам, прыгать от никогда не виданных автором будуаров к толкучему рынку, от театра в кабинет ученого, наблюдать за секретами женского сердца и сочинять происшествия, которые во всяком другом произведении признаны были бы сбродом нелепостей. Но роман длинен — сократим его, и у нас выйдет повесть, тоже очень хорошая вещь. Но для повести потребна любовь и другие избитые условия: необходимо воображение, то есть наука приглянуть кстати, необходим сюжет, который добывается потом и кровью, если не частичкою задушевных своих интересов. Для повести надо много думать и чувствовать, для повести опять-таки нужен сюжет — это неумолимое, страшное, фантастическое чудовище! И тут-то выступает на сцену фельетон, для которого не нужно ни сюжета, ни глубоких чувств, ни выстраданной оригинальности, ни уменья лгать бессовестно, ни картин природы, ни анализа души человеческой»[188].
Этот полуиронический фельетон о фельетоне обнаруживает одновременно и действительную угрозу «беллетристике» со стороны «легкого» жанра и серьезную заботу о состоянии таких жанров, как роман или повесть, с их «избитыми» сюжетами и материалом. На этой почве прививаются в русской литературе этого времени такие явления западной словесности, как Тёпфер, о своем увлечении которым в период писания «Детства» говорит Толстой. В феврале 1850 г. Дружинин, внимательно следивший за западной литературой и специализировавшийся потом на пропаганде английских писателей, пишет о Тёпфере: «Тёпфер не француз. Вместе с Ж.-Ж. Руссо, братьями де Местр он принадлежит к числу иностранцев, писавших на французском языке едва ли не лучше, чем природные французы... "На дереве нет двух листов одинаковых, в мире нет двух людей совершенно сходных между собою"[189]. Вот мысль, которою можно объяснить успех той школы, последним представителем которой был Тёпфер... Стерн портит свое громадное дарование усилиями и заранее данною себе задачей быть оригинальным, во что бы то ни стало, граф К. де Местр сух и слишком мелочен; в одном Тёпфере мы постоянно встречаем отсутствие всякой натяжки. Он начинает рассказывать какую-нибудь простую повесть, на пути встречает он какую-нибудь мысль, развивает ее без церемонии, вводит один, два эпизода, но все-таки помнит о целом: он не ловит отступлений; он знает, что, со странностями или без странностей, рассказ его все-таки будет хорош и оригинален»[190].
Печатающиеся в это время очерки Тургенева («Записки охотника») имеют большой успех не только в публике, но и среди писателей, между тем как повесть его «Дневник лишнего человека» дает повод Дружинину обрушиться на всю современную беллетристику: «Мы в последнее время так уже привыкли к психологическим развитиям, к рассказам темных, праздных, лишних людей, к запискам мечтателей и ипохондриков, мы так часто, с разными, более или менее искусными нувеллистами, заглядывали в душу героев больных, робких, загнанных, огорченных, вялых, что наши потребности совершенно изменились... В последние двадцать лет сотни даровитых людей, в праздные минуты, разрабатывали эту тощую жилу». Дружинин упрекает всю русскую беллетристику в мелочности: «Думая о причинах этой мелочности, я пришел к двум убеждениям: первое, что сатирический элемент, как бы блистателен он ни был, не способен быть преобладающим элементом в изящной словесности, а второе, что наши беллетристы истощили свои способности, гоняясь за сюжетами из современной жизни»[191]. Первое «убеждение» направлено, очевидно, против подражателей Гоголю — борьбе с его влиянием, которое находили и у Тургенева, Дружинин посвятил ряд статей; второе «убеждение» .направлено против всех основных жанров господствующей беллетристики. «Большая часть русских и иностранных беллетристических произведений, взятых из современной жизни, отличаются какою-то вялостью, бесцветностью, невыдержанностью. Такие романы, особенно повести, пишутся с большою легкостью, и за такой труд может взяться всякий человек, владеющий языком». Вместо этого Дружинин рекомендует обратиться к историческим романам («Отчего бы нам не пуститься в историческую литературу, хотя бы для разнообразия?») и, как бы в подтверждение своей мысли, хвалит появившиеся в «Отечественных записках» «Записки А. Т. Болотова».
Над этим же вопросом о судьбах русской беллетристики и, в частности, о путях романа — задумывается и Тургенев. В связи с вышедшим в 1851 г. огромным романом Е. Тур «Племянница» Тургенев пишет статью, в которой говорит: «Роман, — роман в четырех частях! Знаете ли, что кроме женщины никто в наше время в России не может решиться на такой трудный, на такой во всяком случае длинный подвиг? И в самом деле, чем наполнить четыре тома? Исторический, Вальтерскоттовский роман, — это пространное, солидное здание, со своим незыблемым фундаментом, врытым в почву народную, со своими обширными вступлениями в виде портиков, со своими парадными комнатами и темными коридорами для удобства сообщения, — этот роман в наше время почти невозможен: он отжил свой век, он несовременен... Остаются еще два рода романов более близких между собой, чем кажется с первого взгляда, — романов, которые во избежание разных толкований, не везде удобных, мы назовем по имени их главных представителей: зандовскими и диккенсовскими. Эти романы у нас возможны и, кажется, примутся; но теперь спрашивается, настолько ли высказались уже стихии нашей общественной жизни, чтобы можно было требовать четырехтомного размера от романа, взявшегося за их воспроизведение? Успех в последнее время разных отрывков, очерков, кажется, доказывает противное»[192].
Как видно по этим цитатам, положение русской беллетристики в начале пятидесятых годов было очень сложное. Все сознают, что нужно сделать что-то новое, и никто не знает, что именно, а пока что выходящие ежемесячно толстые книжки журналов набиваются всяким случайным материалом — «халтурой», как мы бы теперь сказали. Русская литература живет журнальной инерцией, поддерживая честь редакторов перед лицом доверяющих им подписчиков. Зато неожиданный успех и вес приобретают такие явления литературы, которые в другое время прошли бы незамеченными — вроде «Записок ружейного охотника» С. Т. Аксакова. Время доспело до него и сделало его на старости лет (ему в это время шестьдесят слишком лет) «беллетристом» крупнейшего, по словам критиков, значения. «Отцы» (писатели тридцатых годов) уступают свое место не только «детям», но и дедам. Аксаков, родившийся в 1791 г., оказывается более приемлемым и нужным для новой эпохи, чем Гоголь.
Толстой живет пока в стороне от этого журнального мира и только издалека присматривается к тому, что в журналах печатается. Он даже с удовольствием читает эту халтуру: «Читал Современник, в котором все очень дурно. Странно, что дурные книги мне больше указывают на мои недостатки, чем хорошие. Хорошие заставляют меня терять надежду»[193]. Для него вопросы еще на каждом шагу — почти как у ребенка. Ничего не решено и не выяснено. Самый процесс писания кажется ему вдруг подозрительным — «остранение» проникло и сюда: «Сейчас лежал я за лагерем. Чудная ночь! Луна только что выбиралась из-за бугра и освещала две маленькие, тонкие, легкие тучки; за мной свистел свою заунывную, непрерывную песнь сверчок; вдали слышна лягушка, и около аула то раздается крик татар, то лай собаки, и опять все затихнет, и опять один только свист сверчка и катится легонькая, прозрачная тучка мимо дальних и ближних звезд. Я думал: пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это? Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составят слова, слова — фразы; но разве можно передать чувство? Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описание недостаточно»[194].
Так же неясен для него и другой вопрос, не менее наивно выраженный, но характерный для этой эпохи: «Где границы между прозой и поэзией, я никогда не пойму; хотя есть вопрос об этом предмете в словесности, но ответ нельзя понять. Поэзия — стихи. Проза — не стихи, или поэзия — все, исключая деловых бумаг и учебных книг»[195]. Вопрос этот явился, очевидно, в связи с тем, что литературная работа самого Толстого складывается вне рамок журнальной беллетристики — и он, по-видимому, сам не знает, куда отнести то, что у него выходит — к прозе или к поэзии. Если вспомнить слова Дружинина об «избитости» современных повестей и о «Записках» Болотова, то вопрос этот оказывается характерным и для эпохи. В дальнейшем Толстому придется серьезно столкнуться с этим вопросом и ставить его ребром. П. В. Анненков хорошо подметил особенность толстовских вещей, когда в 1855 г. писал в «Современнике» (№ 1): «Повествование графа Л. Н. Толстого имеет многие существенные качества исследования, не имея ни малейших внешних признаков его и оставаясь по преимуществу произведением изящной словесности». Это «по преимуществу» выдает с головой самую эпоху, растерявшуюся в определениях разницы между «словесностью» и «беллетристикой» и покрывшую, в конце концов, все жанры (даже иной раз стихотворные) одним журнальным термином — «статья».
Естественно, что вопрос о «слоге» заботит Толстого не менее сильно, чем другие вопросы литературной техники. Он работает на деталях, на описаниях, на живой натуре, а между тем единственная его литературная школа — собственные дневники. Мобилизуются все средства для развития и обогащения языка. Прочитав, вероятно, в «Исповеди» Руссо, что писание стихов — «довольно хорошее упражнение для развития изящных инверсий и для усовершенствования прозы», Толстой записывает в дневнике: «Ездил верхом и, приехавши, читал и писал стихи. Я думаю, что это мне будет очень полезно для образования слога». Но попытки быть «красноречивым» ему не удаются: «Писал мало, потому что задумался на мистической, малосмысленной фразе, которую хотел написать красноречиво». С той же целью, — «для образования слога» — он задумывает «Кавказские очерки». Он записывает в дневнике местные слова и понравившиеся ему выражения: корсаки, грузильная, ватага, длинник, чалка, перетяга, «сердце так и бьется, как голубь»[196]. Прочитав в «Современнике» повесть М. Михайлова, Толстой записывает: «Повесть М. М. "Кружевница", очень хороша, особенно по чистоте русского языка — слово распуколка». В записи следующего дня: «Вычитал выражение: Примешь свою лепту».
Как видно по дневникам и по «Истории вчерашнего дня», Толстому особенного труда стоит слог повествования и рассуждений — фразы нагромождаются одна на другую, с накоплениями «что» и «который»: «Каким образом объяснить то, что вы видите длинный сон, который кончается тем обстоятельством, которое вас разбудило... В минуту пробуждения мы все те впечатления, которые имели во время засыпания и во время сна (почти никогда человек не спит совершенно), мы приводим к единству под влиянием того впечатления, которое содействовало пробуждению, которое происходит так же, как засыпание, постепенно, начиная с низшей способности до высшей». Совсем иной характер имеет «слог» Толстого в некоторых письмах этого времени — там, где он не старается писать по-книжному: это бойкий, слегка грубоватый, по-офицерскому развязный, богатый живыми интонациями, торопливый язык, далекий от «литературы» и тем самым оригинальный: «Приходит размахивая руками и стуча саблей добрый немец Полицмейстер. Он уж чай, мороженое и апельсины выслал. Мимо окна, вот и Тиле прокатил, опираясь на трость и заглядывая в окно с беспокойной улыбкой. Долгушки у подъезда. Как-то разместятся?.. Но вот заколыхалась зеленая шитая portifcre, выходит Молостовщина, дурные, но добрые Депрейс. Плутяки все веселенькие, свеженькие, в кисейных платьицах, — так всех бы их и расцеловал»[197].
Особое и очень характерное место в этих ранних литературных экзерсисах Толстого занимают его французские письма к «тетеньке» Ергольской. Здесь он — ученик XVIII века, повторяющий стилистику не только Руссо, но и мадам де Жанлис; здесь он — литературный архаист, упражняющийся в выражениях «чувствительности». Тетенька — подходящий объект для упражнений в этом стиле, «живая старина», сохранившая в полной неприкосновенности дух ушедшей эпохи. Пользуясь этим, Толстой, сам воспитанный на литературе XVIII века, пишет ей длинные послания, настолько увлекаясь стилем «источников», что это становится заметным и вызывает насмешку у брата Сергея. В ответ на просьбу прислать ему оставленный дома I том «Nouvelle Hdloise» Руссо Сергей пишет в июле 1852 г.: «Ты просишь меня прислать тебе 1-й том Новой Елоизы — зачем он тебе. Из писем твоих к тётеньке видно, что ты ее помнишь наизусть. Послушай, я право люблю старуху тётку, но убей меня бог, Томарман довело, как говорят цыгане, в экстаз прийти от нее не могу; не знаю, разве расстояние производит такое странное действие, что можно шестидесятилетней женщине писать письма вроде тех, которые писывали в осьмнадцатом веке друг другу страстные любовники»[198]. Так разоблачен был Толстой, увлекшийся литературными экзерсисами. Это разоблачение важно помнить и в других случаях — идет ли речь о его письмах, или о дневниках.
Другая важная для Толстого этого периода проблема — проблема описания и монтажа. «История вчерашнего дня» писалась еще вслепую — поток «подробностей» сменяется длинными рассуждениями или отступлениями в сторону. Тут сказывается увлечение Стерном и Тёпфером. При работе над «Детством» Толстой начинает задумываться над тем, как монтировать эти противоположные элементы. Читая Бюффона, он записывает: «Читал прекрасные статьи Бюффона о домашних животных. Его чрезвычайная подробность и полнота в изложении — нисколько не тяжелы». С другой стороны, постоянные отступления Стерна, пародийной функции которых он совершенно не замечает, смущают его, и он записывает: «Я замечаю, что у меня дурные привычки к отступлениям и именно, что эти привычки, а не обильность мыслей, как я прежде думал, часто мешают мне писать и заставляют меня встать от письменного стола и задуматься совсем о другом, чем то, что я писал. Пагубная привычка! Несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего любимого писателя Стерна, отступления тяжелы даже у него». Дальше проблема эта формулируется совершенно точно: «Писал "Письмо с Кавказа", мало, но хорошо... Я увлекался сначала в генерализациях, потом в мелочности, теперь ежели не нашел середины, по крайней мере понимаю ее необходимость и желаю найти ее». Генерализации и мелочность — это именно те основные элементы, монтажом которых определяется конструкция Толстовских вещей и которые в «Истории вчерашнего дня» находятся еще в совершенно раздельном состоянии.
Что касается проблемы описания самой по себе, то она встает у Толстого в связи с пейзажем и портретом. Общий его тезис — «описание недостаточно». Обычная в литературе метафоризация природы кажется ему фальшивой: «Не знаю, как мечтают другие, сколько я ни слыхал и ни читал, то совсем не так, как я. Говорят, что, смотря на красивую природу, приходят мысли о величии бога и ничтожности человека; влюбленные видят образ возлюбленной, другие говорят, что горы, казалось, говорили то-то, а листочки то-то, а деревья звали туда-то. Как может прийти такая мысль! Надо стараться, чтобы вбить в голову такую нелепицу. Чем больше я живу, тем более мирюсь с различными натянутостями (affectation) в жизни, разговоре и т. д.; но к этой натянутости, несмотря на все мои усилия, привыкнуть не могу»[199]. Это рассуждение следует непосредственно за наброском пейзажа, лишенным, действительно, всех этих «натянутостей», сделанным по совсем другому принципу: «Третьего дня ночь была славная; я сидел в Старогладовской у окошка своей хаты и всеми чувствами, исключая осязания, наслаждался природой. Месяц еще не всходил; но на юго-востоке уже начинали краснеть ночные тучки; легкий ветерок приносил запах свежести. Лягушки и сверчки сливались в один неопределенный, однообразный ночной звук. Небосклон был чист и усеян звездами. Я люблю всматриваться ночью в покрытый звездами небосклон; можно рассмотреть за большими, ясными звездами маленькие, сливающиеся в белые места. Рассмотришь, любуешься ими, и вдруг опять все скроется, кажется — звезды стали ближе. Мне нравится этот обман зрения». Толстой недаром упоминает об осязании — здесь, действительно, соединены вместе впечатления и зрения, и обоняния, и слуха. При этом выделена деталь — маленькие звезды, к которой и стянуто все описание: панорама сменилась деталью, своего рода «крупным планом». Это и важно Толстому.
Далее идут наброски портретов и отдельных сцен: «Обедали втроем, как обыкновенно: я, брат и Кноринг. Попробую набросать портрет Кноринга. Мне кажется, что описать человека собственно нельзя; но можно описать, как он на меня подействовал. Говорить про человека: он человек оригинальный, добрый, умный, глупый и т. д. — слова, которые не дают никакого понятия о человеке, а имеют претензию обрисовать человека, тогда как часто только сбивают с толку». Следует описание, занимающее целую страницу. Своеобразие этого «портрета» в том, что он дан не сразу, а частями, как бы в процессе самого наблюдения и, тем самым, не обще, а конкретно и несколько парадоксально. При этом портрет как бы постепенно приближается к глазам — как в кино при переходе от общего плана, через первый план, к крупному. Именно так, натри части, делится портрет Кноринга. 1) «Я знал, что брат жил с ним где-то, что вместе с ним приехал на Кавказ и что был с ним хорош. Я знал, что он дорогой вел расходы общие; стало-быть, был человек аккуратный, и что был должен брату, стало-быть, был человек неосновательный. — По тому, что он был дружен с братом, я заключил, что он был человек не светский, и по тому, что брат про него мало рассказывал, я заключил, что он не отличался умом». 2) «Раз, утром, брат сказал мне: "Нынче будет сюда Кноринг, как я рад его видеть". — Посмотрим этого франта, — подумал я. — За палаткой я услыхал радостные восклицания свидания брата и голос, который отвечал на них столь же радостно: "Здравствуй, Морда!" — Это человек непорядочный, — подумал я, — и не понимающий вещей. Никакие отношения не могут дать прелести, такому нарица- нию". Брат, по своей привычке, отрекомендовал меня ему; я, бывши уже настроен с невыгодной стороны, поклонился холодно и продолжал читать, лежа». 3) «Кноринг человек высокий, хорошо сложенный, но без прелести. Я признаю в сложении такое же, ежели еще не большее выражение, чем в лице: есть люди приятно или неприятно сложенные. — Лицо широкое, с выдавшимися скулами, имеющие на себе какую-то мягкость, то, что в лошадях называется: мясистая голова. Глаза карие, большие, имеющие только два изменения: смех и нормальное положение. При смехе они останавливаются и имеют выражение тупой бессмысленности. Остальное в лице по паспорту». В результате портрет получается подвижным и странным, а это и нужно Толстому, чтобы отступить от общих, статических характеристик.
В другом портрете, казака Марки, система несколько изменена тем, что «крупный план» использован для выделения характерных деталей — вроде того, как это делает Стерн. Первая часть портрета дана общая: «Марка, человек лет 25, маленький ростом и убогий; у него одна нога несоответственно мала и крива сравнительно с первой ногой; несмотря на это, или, скорее, поэтому он ходит довольно скоро, чтобы не потерять равновесие, с костылями и даже без костылей, опираясь одной ногой почти на половину ступни, а другой на самую ципочку. Когда он сидит, вы скажете, что это среднего роста мужчина и хорошо сложенный». Следует вторая часть: «Замечательно, что ноги у него всегда достают до пола, на каком бы высоком стуле он ни сидел. Эта особенность в его посадке всегда поражала меня; сначала я приписывал это способности вытягивания ног, но, изучив подробно, я нашел причину в необыкновенной гибкости спинного хребта и способности задней части принимать всевозможные формы. Спереди казалось, что он не сидит на стуле, а только прислоняется и выгибается, чтобы закинуть руку за спинку стула (это его любимая поза); но, обойдя сзади, я, к удивлению моему, нашел, что он совершенно удовлетворяет требованиям сидящего». За этим следует описание его лица и передача его слов («Морально описать я его не могу, но сколько он выразился в следующем разговоре — передам»). Выходит не столько «портрет», сколько описание самого разглядывания, которое не собирается ни в какую «характеристику», а дает только ощущение резкости восприятия.
Итак, Толстой берется за литературную работу. Он уже пробует сравнивать себя с другими писателями: «Есть ли у меня талант сравнительно с новыми русскими литераторами? Положительно нету». Вместе с тем он, вероятно, под влиянием журнальных статей задумывается о причине упадка литературы и дает характерное объяснение: «Причины упадка литературы: чтение легких сочинений сделалось привычкой, а сочинение сделалось занятием. Написать в жизни одну хорошую книгу — слишком достаточно. И прочесть тоже. Дисциплина необходима только для завоеваний». Под «занятием» Толстой разумеет, очевидно, профессию, ремесло[200]. Эта запись знаменательна — в дальнейшем о ней придется вспомнить. Здесь уже поставлен вопрос не о том, «как писать», а о том, — как быть писателем. Толстой, очевидно, — и как писатель и как читатель — настроен против журнальной литературы, против «беллетристики», против книг «для легкого чтения», как характерно назвал Некрасов затеянные им сборники повестей и рассказов. По дальнейшим записям 1852 г. видно, что запись эта не случайная, что Толстой смотрит пока на свои литературные занятия не как профессионал-литератор и стать им не собирается: «Решительно совестно мне заниматься такими глупостями, как мои рассказы, когда у меня начата такая чудная вещь, как "Роман помещика" Зачем деньги, дурацкая литературная известность? Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полезную вещь. За такой работой никогда не устанешь. А когда кончу, только была бы жизнь и добродетель,— а дело найдется».
И действительно — рядом с литературой у него возникают самые разнообразные планы, а в конце 1852 г., уже после появления в печати «Детства» и «Набега», Толстой пишет брату Сергею в ответ на его письмо: «Современные заметки нейдут ко мне, потому что я ничего так не боюсь, как сделаться журнальным писакой; а ежели кончу когда-нибудь свой роман, то сам издам его... я думаю, что для журналов больше писать не буду. Мне хотелось испытать себя и только». Одна из последних записей в дневнике 1852 г. идет еще дальше, предваряя будущие «кризисы»; сказав о том, что писание стихов («идет довольно легко») будет ему «очень полезно для образования слога», Толстой прибавляет: «Я не могу не работать. Слава богу; но литература — пустяки, и мне хотелось бы писать здесь устав и план хозяйства».
Интересно привести тут же, совпадающие по времени, размышления и признания Тургенева, — тем более, что через несколько лет именно он будет доказывать Толстому необходимость быть «только литератором». 28 октября 1852 г. Тургенев пишет П. В. Анненкову: «Для этого [т. е. для создания чего-нибудь нового, непохожего на прежние вещи] я почти рад моему зимнему заключению — я буду иметь время собраться с духом, а главное — в уединении стоит человек от всего далеко, но особенно от литературы, журнальной и всякой; а из меня может выйти что-нибудь только по уничтожении литератора во мне — но мне 34 года, а переродиться в эти годы трудно»[201]. Через несколько месяцев, 24 февраля 1853 г., Тургенев пишет ему же: «Никто больше меня не признает той роковой связи между жизнью и литературной деятельностью, о которой вы говорите, но эту связь не сами мы делаем — вот в чем штука. Поломать себя, сбросить с себя разные дрязга, которые большею частью сам тщательно на себя накладываешь — как масло на хлеб, — можно; переменить себя нельзя. Хорошо тому сосредоточиться, кто у себя в центре опять находит натуру — и всю натуру, — потому что сам — натура; а наш брат только и живет беготнёю, то наружу — то внутрь. Иной сосредоточится и вдруг сделается прост, чист и ясен — как нуль. В каждом столетии остается много, много, два-три человека, слова которых получают крепость и прочность жизни народной; эти ведут оптовую торговлю; мы с вами сидим в мелочных лавочках и удовлетворяем ежедневным и преходящим потребностям»[202]. Это — голос человека, отравленного «эпохой сороковых годов». Рядом с ним голос Толстого — голос нового человека и, конечно, человека с «натурой». Им суждено встретиться лицом к лицу — и разойтись.
Как же выглядел Толстой в литературе 1852 г.?
з
Разрыв поколений, произведенный наступлением новой литературной эпохи, стал чувствоваться уже в начале сороковых годов. Образовавшийся в 1841 г. «Москвитянин» объявляет себя защитником традиций и ополчается против новшеств «петербургской» литературы. В 1842 г. архаист С. Шевырев выступаете программной статьей «Взгляд на современное направление русской литературы»[203], в которой вся петербургская литература названа «стороной черной». Особенное негодование возбуждает в нем развитие журнализма: «Давно ли, в этом же исполинском городе, тут же, на этом самом месте, жил наш примерный отшельник, мученик труда, поглотившего жизнь самую чистую и полезную? Давно ли он так славно работал здесь, сам и плотник, сам и зодчий своей Истории Государства Российского? Давно ли тут же была мастерская нашего любимца-поэта, где зачинались чудные думы, где совершались лучшие, прекраснейшие видения русской поэзии? Давно ли на этом же месте действовали славно другие богатыри нашей словесности? И что же? Теперь или совсем нет их, или они умолкли и сошли со сцены действия... На место прежних славных лиц с известным образом мыслей и характером, на место литераторов, именами своими украшавших славу своего отечества, поступили компании журнальные, образуемые набором перьев безымянных!.. Как же могла произойти такая перемена? Как имена великих действователей наших сменились прозвищами журналов? Как за периодом лиц известного характера и направления мог последовать у нас период журнальных компаний?» Во всем этом, по мнению Шевырева, виновато «промышленное направление современной русской литературы», о котором он заговорил еще в 1835 г., в связи с появлением «Библиотеки для чтения»; виноваты «литераторы-промышленники», превратившие борьбу литературных партий в борьбу «журнальных кондотьери».
К 1845 г. положение определилось еще яснее. Этот год является, в известном смысле, пограничным. «Профессионализм», к которому так напряженно стремился Пушкин в борьбе, с одной стороны, с меценатством, а с другой — с «лавочниками» литературы, обернулся новой бедой. Писатель оказался в руках торгаша-издателя, часто ничего не понимавшего в литературе. Старые журналы, как «Библиотека для чтения», например, пали страшно низко; в среде самих писателей развилось циничное отношение к журнальному сотрудничеству. Достаточно прочитать в «Воспоминаниях» П. М. Ковалевского сцену, в которой он описывает, как Н. Кукольник помогал Е. П. Ковалевскому, проигравшемуся в карты, «надуть» издателя «Библиотеки для чтения» М. Олъхина — заставить его купить еще не написанный роман, который должен был конкурировать с «Парижскими тайнами» Сю: «В то время, кто только состоял в живых, непременно состоял и в чиновниках, если не сподобился состоять в офицерах. Свободомыслящие начальники отделений и ротные командиры признали "Парижские тайны" за последнее слово истины, и "Мертвые души" Гоголя, недавно пользовавшиеся почетом, были поруганы. Оль- хин сказал себе: "Отчего не сочинить своих тайн? И мы не лыком шиты! Свои, пожалуй, понравятся тоже начальникам отделений". И попросил Кукольника заказать "Тайны". Выбор Нестора Васильевича пал почему-то на моего дядю — Егора Петровича. В назначенный день у Кукольника собираются — Ковалевский и Ольхин со своим помощником П. Фурманом: «Это был сотрудник нескольких журналов, переводчик кого хотите, фельетонист, компилятор чего угодно, при нужде—даже писатель для народа и романист... микроб того литературного недуга, которому суждено было развиться позднее в репортеров, "наших собственных корреспондентов", критиков от строки, исторических романистов от "Русского Архива" — всех этих писак от толкучего рынка!» Ковалевский читает написанное начало романа, а Ольхин, сам ничего не понимающий, следит за выражением лица Кукольника: «Среди совершенно невозможной в Петербурге уличной сцены, где несуществующий петербургский уличный мальчик (le gamin de Pdtersbourg) ночью спасает из обломавшейся кареты дочь какого-то влиятельного князя (по современным условиям цензуры могшего даже показаться великим), раздается крик другого французского уличного мальчика: "Сенька! отдай мне! У тебя хоть собака есть, а у меня ничего нету!" Это было признано за чисто шекспировскую черту нравов петербургских маленьких французов... Испытание кончилось приговором в пользу автора трех тысяч рублей за роман, в котором, и то ночью, успел появиться один Сенька, но где долженствовало пройти все население Петербурга, не только ночью, но и днем, ради чего и определился размер в шесть частей, и название давалось: "Петербург днем и ночью" По-тогдашнему сделка была блистательная». Роман этот, под таким названием, действительно, печатался в «Библиотеке для чтения», но так и остался неоконченным. «Доморощенные "Тайны", — пишет П. М. Ковалевский, — предпринятые как доказательство, что мы не лыком шиты, выходили сами шитые лыком... Гораздо позже, под названием "Петербургских трущоб", им суждено было сделать имя Всеволоду Крестовскому»[204].
Эта ярко описанная литературно-бытовая сценка дает достаточное представление о закулисной жизни петербургских журналов в середине сороковых годов.
Литература становится массовым производством и, по сравнению с эпохой двадцатых годов, падает до очень низкого уровня, наводняясь заказной халтурой, предназначенной для чиновников и офицеров. Самое представление о «литераторе» снижается до последней степени. В этом смысле очень знаменательно появление в третьем томе смирдинского «Новоселья» (1846 г.) статьи Н. Полевого — того самого, который в годы 1825—1834 издавал «Московский телеграф», а затем, перебравшись в Петербург, влачил жалкое существование оброчного писателя и умер в 1846 г., раньше, чем вышло «Новоселье» с этой статьей. Статья желчная, ироническая — результат многих разочарований, страданий и дум: «Отрывок из заметок русского книгопродавца его сыну». Начинается эта статья указанием на то, что «ныне самые модные книги— записки разных людей об их жизни... Не знаю, писал ли и издал ли свои записки какой-нибудь книгопродавец; а по моему мнению, такие записки могли бы быть весьма любопытны и многое пояснили бы, о чем толкуют люди без толку, как многое пояснил бы драматическим писателям взгляд за театральные кулисы и на актерские репетиции». Этим «отрывком» Полевой как будто начал осуществление того замысла, о котором говаривал сам Смирдин — написать свои воспоминания. «Книгопродавец» Полевого судит о литературе так: «Общее мнение составилось такое, что литература есть что-то такое высшее из всего в мире; что она представительница народа, и века, и духа и — бог еще знает чего; что литераторы — особенный народ на свете; что они живут и питаются чем- то неземным. С тем вместе падает жестокое осуждение на нашу братью книгопродавцев, потому что мы почти со всем вышесказанным осмеливаемся не соглашаться, потому что мы смеем смотреть на литераторов как на людей, яко же и прочии смертный, а на книги как и на всякий другой человеческий товар (да еще и не хуже ли иного другого товара)... Что делать! У литераторов с нами всегда будет вечная вражда, а в руках у них пишущие перья и горлы у них широкие. Мы писать не умеем, да и толковать нам некогда; они бегают везде и дают языку своему свободу, а мы вечно торчим за прилавком; они тотчас напишут, напечатают и разошлют на почтовых, а мы если бы и хотели написать — не умеем, умели бы написать — где напечатаешь? и грозное обвинение гремит и падает на главу нашу...» Следует сравнение литературной профессии с другими — и вывод: «Словом сказать, мне кажется, литература такое же общественное и земное дело, как и всякое другое; литератор такое же звание, как и прочие; житье литературное не хуже другого, да и труд не тяжеле других. Довольно, если назовем литературу такою же необходимостью, как война, правосудие, торговля, литераторов такими же необходимыми людьми, как солдат, приказный и купец. Высокая цель, высшее назначение, труд умственный — слова громки, правда, но если и так, падая с неба на землю, высокая цель теряется в земной грязи, высшее назначение путается в злоупотреблении страстей, и труд умственный облекается в форму вещественную, в книгу, в журнал, в газету, а газета, журнал, книги продаются и покупаются, следственно, она товар\ Вот добились до настоящего слова: книга товар; и как же хотите вы, чтобы мы, торгующие книжным товаром, считали его чем-нибудь другим? За что же вы на нас сердитесь, когда мы называем вещь ее настоящим именем? Герой, увенчанный лаврами и изувеченный на поле битв, подписывается под распискою в получении жалованья не героем, а поручиком, майором, полковником. Литератор говорит в условии: продаля, такой-то, Архип Сидоров, рукопись мою и получил за нее деньгами столько-то. Не одно ли и то же? Вот, если бы литератор писал: "предал я рукопись мою бессмертию, и получил за нее в задаток славу" — тогда иное дело... Итак, если книга — товар, то выходит, что фабрикант такого товара —литератор, потребитель его — публика, а мы, книгопродавцы — продаватели его, торгаши литературным товаром. Станем же смотреть на все это попросту». Отсюда и еще один вывод: «Будучи товаром, книга требует, чтобы литератор, как все фабриканты, старался сделать ее по вкусу публики, так, чтобы можно было ее выгоднее продать — по вкусу публики, то есть делал то, что требуется и как требуется. Вследствие того не всегда требуется доброта товара, а драгоценное свойство товаров — уменье удовлетворить потребности покупателя. Тогда будут барыши фабриканту и гуртовому его покупателю, и прибыль в продаже по мелочи товара, купленного гуртом. Что ж ты думаешь: не так делается в литературе! Ох, мой друг! так, именно так, и уж нам это известно, нам, книгопродавцам, народу, который стоит за кулисами и видит, как крашеную холстину выдают за дворцы, за сады, за море-океан и как гром раздается из железного листа, а пальбу производят, стуча кулаками в декорацию».
Этот предсмертный памфлет Полевого, обращенный в обе стороны — и к литераторам, и к книгопродавцам, прекрасно оттеняет сценку, набросанную П. Ковалевским. Но было бы, конечно, ошибочно думать, что этот материал дает полную и объективную картину литературной жизни и охватывает весь процесс движения самой литературы. Несомненен только тот факт, что к середине сороковых годов самые функции литературы, или, вернее, их соотношение радикально изменилось по сравнению с положением двадцатых годов. С одной стороны, издатели и книгопродавцы, торговавшие прежде только лубочной литературой и стоявшие в стороне от «высокой» литературы, захватили теперь и ее, опираясь на появившийся в чиновничьей и военной среде интерес к русской книге и к журналам; с другой — тип литератора-дворянина, занимавшегося литературой, большею частью, бескорыстно или, по крайней мере, смотревшего на это дело как на дополнительное «светское» занятие, сменился теперь новым типом «интеллигента», для которого литература (все равно беллетристика, критика или публицистика) — основное, главное и единственное занятие, «профессия», которой он живет. Белинский в этом отношении — достаточно яркое и характерное явление, как, с другой стороны, характерен именно своим двойственным и противоречивым положением (писателя-«интелли- гента» и «издателя-промышленника») Некрасов. Этим людям пришлось столкнуться лицом к лицу с новым положением — и решёать его не так, как книгопродавцы, а сложнее: подчиняться необходимости, но с тем, чтобы использовать ее по-своему и все-таки удержать литературу в руках писателей, не отдавая ее в полную власть «толкучего рынка». Вопрос стоял именно так — кто возьмет власть. (Борьба Некрасова с Краевским.)
Для борьбы с опустившимися в литературном отношении журналами возникают новые планы и группировки, — начинают выходить «сборники», совершенно непохожие на всевозможные «альманахи» и «карманные книжки» двадцатых-тридца- тых годов. Они являются застрельщиками новой борьбы за литературу и подготовляют организацию нового журнала — «Современника», который и начал выходить с января 1847 г. и в программу которого входила борьба как с халтурной «Библиотекой для чтения», так и с промышленными «Отечественными записками». Некрасов стоит во главе всех этих новых затей. В 1845 г. он выпускает литературный сборник под названием «Физиология Петербурга» (две части), в 1846 г. — под названием «Петербургский сборник» (где дебютирует Достоевский). Первая часть «Физиологии Петербурга» открывается большим «Вступлением», автором которого был Белинский[205]. Это — целая новая программа, более того — манифест, открыто признающий факт нового положения литературы и обсуждающий вытекающие из него последствия. Памфлет Полевого и манифест Белинского, поставленные рядом, производят впечатление почти художественное — настолько ярко характеризуют они поворот от одной эпохи к другой и отношение к нему людей разных, хотя и одновременно действующих поколений: Полевого, родившегося в 1796 г. и проделавшего свой основной литературный стаж в «пушкинскую» эпоху, и Белинского, родившегося в 1811 г. и вступившего в литературу накануне смерти Пушкина, уже в эпоху диктатуры «Библиотеки для чтения» и «барона Брамбеуса». Здесь имеет влияние даже территориальная разница, исторически определившая Москве этого времени роль охранительницы традиций, а Петербургу — роль революционную. Недаром «славянофильство» (как «архаистическое» течение) централизовалось в Москве, а «западничество» — в Петербурге. Шевырев, всего пятью годами старший Белинского, уже в 1835 г. громит петербургскую литературу и остается верен себе и в 1842 г. С другой стороны, Белинский в 1840 г. недаром покидает Москву ради Петербурга и порывает свои старые дружеские связи — это всё столько же «личные», сколько и исторически-обусловленные и исторически-знаменательные поступки. «Современник» в 1850 г. не без иронии делит свой библиографический отдел натри: «Петербургская литература», «Московская литература» и «Провинциальная литература». Поняв эту иронию, Б. Алмазов в своем фельетоне «Сон» говорит о своем приятеле-литераторе (очевидно — И. И. Панаеве): «Русская литература обязана ему многими, так сказать, реформами. Я упомяну только об одной. Библиографическую хронику своего журнала он разделил на три отдела — на литературу Московскую, литературу Петербургскую и литературу Провинциальную. Московскую литературу он подразделяет на Мясницкую, Арбатскую и Пресненскую».
В своем «манифесте» Белинский заявляет, что «русская литература гениальными произведениями едва ли не гораздо богаче, чем произведениями обыкновенных талантов». Указав на «творения» Гоголя, Грибоедова, Пушкина и Лермонтова, Белинский продолжает: «Нельзя сказать, чтоб эти гениальные действователи стояли совершенно одиноко, но они не окружены огромною и блестящею свитою талантов, которые были бы посредниками между ими и публикою, усвоив себе их идеи и идя по проложенной дороге. Этих последних у нас слишком немного, хотя некоторые из них и действительно замечательны и силою и блеском; другие, и это менее сильные и блестящие, одолжены своим; успехом тому, что, хорошо зная русскую действительность, умеют и верно понимать ее. К сожалению, этих последних еще менее, чем сильных и блестящих талантов. А между тем в них-то больше всего и нуждается наша литература, и оттого, что их у нас так мало, литературные предприятия так дурно поддерживаются, и публике теперь стало совершенно нечего читать. Высокий талант, особенно гений, действует по вдохновению и прихотливо идет своею дорогою; его нельзя пригласить в сотрудничество по изданию книги, ему нельзя сказать: "Напишите нам статью, которой содержание касалось бы петербургской жизни, а то, что вы предлагаете для нашей книги, нейдет к ней, и нам этого не надо". Притом же, слишком много нужно было бы гениев и великих талантов, чтобы публика никогда не нуждалась в литературных произведениях, удовлетворяющих насущную потребность ее ежедневных досугов. Иногда в целое столетие едва ли явится один гениальный писатель: неужели же из этого должно следовать, что иногда целое столетие общество должно быть совсем без литературы? Нет! Литература, в обширном значении этого слова, представляет собою целый живой мир, исполненный разнообразия и оттенков, подобно природе, произведения которой делятся на роды и виды, классы и отделы, и от громадных размеров слона доходят до миниатюрных размеров колибри. Бедна литература, не блистающая именами гениальными; но не богата и литература, в которой всё — или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы». В пример Белинский ставит французскую литературу.
Характернейший исторический факт: «строгий» Белинский выступает здесь в роли не только защитника, но и пропагандиста или агитатора за «легкую литературу», в роли поощрителя «обыкновенных талантов». Отвлеченное представление о «гении» еще осталось, но места ему в общем литературном потоке, обслуживающем «потребности публики», отведено очень мало — допускается, что в течение целого столетия «гений» может появиться один раз. Рекомендуя выпускаемый сборник как попытку ответить на «заказ» без «халтуры», Белинский пишет: «Что касается лично до составителей этой книги, — они совершенно чужды всяких притязаний на поэтический или художественный талант; цель их была самая скромная — составить книгу вроде тех, которые так часто появляются во французской литературе и, заняв на время внимание публики, уступают место новым книгам в том же роде». Если для двадцатых годов было характерно олитературивание быта (альбомы, салоны, дружеские послания и пр.), то теперь происходит нечто обратное — быт («публика») внедряется в литературную жизнь и диктует ей свои требования (заполнять «ежедневные досуги») — как заказчик фабриканту, выражаясь языком Полевого.
Меняется терминология: рядом с «творениями строгого искусства» выдвигается «легкое чтение» (ср. в дневнике Толстого— «чтение легких сочинений сделалось привычкой»), рядом с «гениями» или «высокими талантами» — «обыкновенные таланты», рядом с «литературой» или «художеством» — «беллетристика» (термин, который в русской критике появляется именно в это время). Не удивительно, что особое значение получают фельетоны, мемуары, исторические статьи, автобиографии, а наиболее живыми отделами журналов делаются отделы критики, «наук», библиографии, хроники, смеси — все, кроме классического отдела «словесности», из которого при этом совершенно изгнаны стихи. Более того — самые отделы теряют свои резкие отличия, и разнесение по ним делается по каким-то случайным признакам: «Признания Ламартина» (мемуары) попадают в «Современнике» в отдел «Словесности», а «Хорь и Калиныч» Тургенева оказывается в «Смеси» — как «очерк».
В конце 1850 г. между «Современником» и «Отечественными записками» завязывается полемика на очень «откровенную тему» — какой журнал лучше (это перед подпиской на 1851 год). В числе упреков, делаемых «Современнику», «Отечественные записки» указывают на то, что он «долго тянет некоторые статьи» (этим термином покрываются и романы) — для того чтобы удержать подписчиков на следующий год; «Современник» отвечает на это: «Мы вовсе не смотрим на своего читателя, как смотрит портной или сапожник на своего заказчика, который, сносив платье или сапоги, сшитые одним мастером, свободно переходит к другому ремесленнику. Умный читатель понимает, что, независимо от конченных или неконченных статей, журнал одного года есть собственно продолжение журнала за предыдущий год... Причина раздробления статей заключается отчасти в самом характере, какой приняла литература в последнее время, — и с этим необходимо мириться». Сверх того, «Современник» отвечает на этот упрек тем же упреком — по методу «сам съешь», о котором когда-то писал Пушкин: «В 1848 году с X кн. мы начали печатать "Три страны света", роман в осьми частях с прологом, и объявили, что роман перейдет на следующий год и потому первые его части будут выданы новым подписчикам. А ныне, спустя ровно двагода, "Отечественные записки", тоже сХкнижки, начали печатать "Старый дом", роман тоже в осьми частях и тоже с прологом, и тоже объявляют, что роман перейдет на следующий год и что первые его части будут выданы новым подписчикам». На характерный упрек в том, что в «Современнике» науки пишутся как повести, комедии — как водевили, критика — как смесь, журнал отвечает по первому пункту, что «это именно то, чего всегда мы желали, стараясь помещать в отделе наук произведения ученых и литераторов, соединяющих с фактическими сведениями беллетристический талант и уменье писать живо и увлекательно. Это нам всегда казалось необходимым условием для литературного журнала нашего времени». (Следует цитата из объявления, где об этом специально говорится.) Кончается статья любопытной таблицей, сопоставляющей беллетристические итоги обоих журналов за 1849 г.[206]
Вернемся к «манифесту» Белинского. Он не остался на бумаге — или, вернее, именно на бумаге сказалась его своевременность: беллетристика, при особенном содействии Некрасова, Панаева, Григоровича, Соллогуба и др., сильно развернулась — литература сосредоточилась в журналах, особенно в петербургских. В Москве как призыв Белинского, так и факт превращения «словесности» в журнальную «беллетристику», встречен был иначе — грустным размышлением или иронией. Одновременно со статьей Белинского И. Киреевский печатает в «Москвитянине» 1845 г. «Обозрение современного состояния литературы»[207], которое начинается знаменательными словами, характеризующими новое положение: «Было время, когда, говоря: словесность, разумели обыкновенно изящную литературу; в наше время изящная литература составляет только незначительную часть словесности... Может быть, от самой эпохи так называемого возрождения наук в Европе, никогда изящная литература не играла такой жалкой роли, как теперь, особенно в последние годы нашего времени, — хотя, может быть, никогда не писалось так много во всех родах и никогда не читалось так жадно все, что пишется. Еще XVIII век был по преимуществу литературный; еще в первой четверти XIX века чисто литературные интересы были одною из пружин умственного движения народов; великие поэты возбуждали великие сочувствия; различия литературных мнений производили страстные партии; появление новой книги отзывалось в умах как общественное дело. Но теперь отношение изящной литературы к обществу изменилось; из великих, всеувлекающих поэтов не осталось ни одного; при множестве стихов и, скажем еще, при множестве замечательных талантов, — нет поэзии: незаметно даже ее потребности; литературные мнения повторяются без участия; прежнее, магическое сочувствие между автором и читателями прервано; из первой блистательной роли изящная словесность сошла на роль наперсницы других героинь нашего времени... В наше время изящную словесность заменила словесность журнальная. И не надобно думать, чтобы характер журнализма принадлежал одним периодическим изданиям: он распространяется на все формы словесности, с весьма немногими исключениями. В самом деле, куда ни оглянемся, везде мысль подчинена текущим обстоятельствам, чувство приложено к интересам партии, форма приноровлена к требованиям минуты. Роман обратился в статистику нравов; — поэзия в стихи на случай; — история, быв отголоском прошедшего, старается быть вместе и зеркалом настоящего, или доказательством какого-нибудь общественного убеждения, цитатой в пользу какого-нибудь современного воззрения». В конце статьи дана очень отчетливая, хотя и грустная, с точки зрения Киреевского, формулировка: «в наше время достоинство чисто литературное уже далеко не составляет существенной стороны литературных явлений... литература наша могла иметь полный смысл до конца жизни Пушкина и не имеет теперь никакого определенного значения».
Статья Белинского, очевидно, запомнилась: Б. Алмазов пародирует ее в своем драматическом фельетоне «Сон по случаю одной комедии» (1851 г. — по случаю комедии Островского «Свои люди — сочтемся»). Действие происходит внутри «величественного и мрачного строения», на фасаде которого — «надпись золотыми словами по голубому полю: ...екая литература, вход со двора». Среди спорящих выступают два «больших любителя и знатока истории и литературы западных народов». Один из них, по поводу вопроса о том, как называть Островского в журнале — Александром Николаевичем или просто по фамилии (как «великого писателя»), произносит следующую тираду: «Нет, нет! Нельзя, никак нельзя! Он никак не может быть великим писателем, потому что у нас больше не может быть великих писателей. Великими писателями могут только быть Пушкин, Лермонтов и Гоголь... Больше иметь великих писателей нельзя. Критика этого не допустит... Теперь больше никто не смеет быть великим писателем... Скажу прямо: возможность появления великой личности в данной земле есть признак плохой цивилизации, необразования, невежества, дурного тона, дикости... Шекспир разве может существовать в наше время, когда литература так усовершенствована?.. Нет, он только мог существовать в глубокой древности, когда литература была в таком плохом состоянии и беспорядке». Другой «знаток» не соглашается с ним и пробует возражать, но вдруг быстро присоединяется: «Впрочем, я с вами согласен, что для русской литературы не нужны великие писатели. Какая польза нашей литературе и нашему обществу от великих писателей? К чему нам великие писатели? У нас их довольно... Нам нужна беллетристика. Хор. Что-о-о-о? Знаток западной литературы. Беллетристика... Что вы морщитесь? Вам неприятна моя самодельщина,— слово беллетристика... Я человек решительный... Этакие ли слова я говорю!.. Дело в том, что нам нужна беллетристика. У нас беллетристика не развита и мало производительна; а нам она очень нужна. Какая нам польза в том, что у нас есть Гоголь, которого произведения превосходны, в высшей степени художественны? Но ведь у нас он один! Пусть лучше у нас будут похуже его писатели, только бы их было побольше. Я полагаю, что для литературы гораздо выгоднее, когда она имеет 10 человек писателей, которые пишут порядочно, чем одного писателя, который пишет превосходно. У нас есть художественная литература, но нет беллетристики; у нас слишком много хороших писателей, но мало дурных... Хор. Нет, кажется, у нас и дурные, славу богу... Другой знаток западной литературы. Но все не столько, сколько во Франции. Это показывает, что во Франции цивилизация стоит на высокой степени развития. Знаете ли, что, когда французская цивилизация будет стоять на самой высокой степени развития — когда все будут там, равно образованы, равно добродетельны и счастливы, — там больше не будет хороших писателей, но все до одного жителя той страны будут уметь сочинять и будут дурными писателями. Вот до чего там со временем дойдет образование!»
В периоды такого перемещения и переключения литературных функций неизменно выдвигается переводная литература, становясь на время заместительницей недостающей, заново формирующейся национальной беллетристики. Она, как готовый жанр, заполняет пустоту редакционного и издательского портфеля и «ежедневных досугов» читателя. Так случилось и к началу пятидесятых годов. В 1851 г., обсуждая беллетристический отдел «Сына отечества», Дружинин пишет: «...что же делать издателям журналов, если в нашей литературе так мало известных беллетристов, что их недостает ни на одно издание? Мое мнение на этот вопрос вот какое: пусть журналисты [т. е. редакторы и издатели журналов] терпеливо ждут того времени, когда, вследствие все более и более развивающейся в публике потребности к чтению, каждый журнал будет располагать значительным количеством сотрудников по части русской словесности: пора эта придет довольно скоро — вспомните мое слово. А до тех пор пусть издатели делают то же, что делалось прежде нас и будет делаться после нас, то, чем занимался сам Карамзин, взявшись за журнальное дело: то есть пусть они обратят свое особенное внимание на переводы известнейших иностранных писателей»[208]. Совет этот был уже в значительной степени констатированием факта. В 1849-50 гг. основные «толстые» журналы («Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Москвитянин») начинают печатать переводы больших иностранных романов — преимущественно английских: Бульвера, Диккенса, Теккерея. Параллельно с ними появляются и обозрения иностранной литературы, и специальные статьи об отдельных авторах. Сам Дружинин начинаете 1849 г. усиленно пропагандировать английскую литературу (старую и новую) в своей «Галерее замечательнейших романов» (Ричардсон, Гольдсмит, Радклиф, Коррер-Белль, Теккерей и др.). Происходят характерные литературные «скандалы» — когда оказывается, что один и тот же роман печатается в двух конкурирующих журналах. Так случилось с романом Диккенса «Домби и сын» («Современник» и «Отечественные записки» 1847 г.), с романом Теккерея «Ярмарка тщеславия» («Современник» и «Отечественные записки» 1850 г. — где он назван «Базар житейской суеты»). Последний случай вызвал даже целую полемическую литературу и выдвинул имя переводчика И. И. Введенского. Теккерей становится популярнейшим писателем — его печатают все журналы, выпуская потом отдельными изданиями.
Дальнейшее развитие переводной литературы приводит уже к осознанию важности этого факта и к любопытным, даже с нашей современной точки зрения, теоретическим тезисам. Автор рецензии на издание Н. Гербеля «Шиллер в переводе русских поэтов», пользуясь случаем, ставит вопрос об учете переводной литературы в историко-литературных построениях: «Положим даже, что история литературы должна говорить нам только о писателях, замечательных в художественном отношении, пренебрегая, как пренебрегают теперь, книгами, доставляющими чтение огромнейшему числу грамотного населения. И с этою уступкою все-таки мы не дошли еще до того, чтобы находить удовлетворительно широкими нынешние границы истории литературы. Теперь она почти исключительно занимается только оригинальною литературою, не обращая почти никакого внимания на переводную. Это было бы совершенно справедливо, если бы история литературы должна была представлять не рассказ о развитии литературных понятий народа, а простой список людей известной нации, прославившихся в литературе. Правда, переводчики редко приобретают знаменитость, а часто и вовсе не бывают литераторами в настоящем смысле слова, но что ж из того? Никто и не просит историю литературы говорить о переводчиках — пусть она говорит о переведенных произведениях, — ведь наука имеет предметом факты, и какой бы стране, какому бы народу ни принадлежал человек, от которого ведет начало литературный факт, о факте все-таки должна говорить история того народа, на жизни или понятиях которого отразился этот факт»[209].
К числу фактов, характеризующих положение русской литературы в начале пятидесятых годов, относится еще один: медленное и трудное вхождение в литературное сознание «публики» произведений тех писателей, которые прокладывают новые пути и потому пишут «трудно» (как Писемский, например), и головокружительные, хотя и быстро исчезающие успехи эпигонов. В этом смысле типичен, например, для этих годов успех В. А. Вонлярлярского, светского дилетанта вроде В. А. Соллогуба (кстати — они оба родились в 1814 г., как и Лермонтов, товарищем и соперником которого в школе гвардейских подпрапорщиков был Вонлярлярский). Увлекаясь, по обязанности светского и блестящего молодого человека, разными искусствами, Вонлярлярский стал писать и в 1850 г. напечатал в «Отечественных записках» (№ 12) первую свою вещь! — «Поездка на Марсельском пароходе»; на протяжении 1851-52 гг. появляется в «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения» и «Современнике» ряд его повестей и романов («Воспоминания о Захаре Ивановиче», «Силуэты», «Магистр», «Две сестры», «Сосед», «Большая барыня»), и он делается «известным беллетристом». Карьера прерывается смертью — в конце 1852 г., через два года после первого выступления в печати, а в 1853-54 гг. выходит посмертное издание его сочинений — в семи томах. Все это — перепевы «светской повести», ведущей свое начало еще из тридцатых годов.
Не менее знаменателен и другой факт — наплыв дам-писательниц, колоссально увеличивавших своими повестями и романами литературу эпигонов и облегчавших, таким образом, заботы редакторов об отделе «словесности». В 1849 г. выступает Евгения Тур с повестью «Ошибка», за которою следует роман «Племянница», вызвавший двусмысленную статью Тургенева и похвалу Толстого (в дневнике); за ней следует Е. Растопчина, Кохановская, В. Крестовский (Хвощинская); к ним же принадлежит и Н. Станицкий (Е. А. Головачева-Панаева, жена Некрасова), напечатавшая еще в 1848 г. роман «Семейство Тальниковых». Этот поток дамской беллетристики вызвал в 1852 г. отповедь со стороны Б. Алмазова: «О дамах-писательницах я не упоминаю. Отчего? спросите вы; не смею сказать, право, не смею сказать... Я вооружен против дам-писательниц... Я знаю, что меня за это вооружение побьют каменьями наши дамские угодники, которых всегда и везде такое множество... Я знаю, что у нас есть дамы-писательницы с большим дарованием; знаю, что некоторые из наших дам пишут гораздо лучше многих наших кавалеров... Но, право, мне кажется, что это не их дело»[210]. Любопытен в связи с этим отзыв Толстого о «Наденьке», повести М. Жуковой, начавшей свою карьеру еще в тридцатых годах («Вечера на Карповке» 1837 г.). 23 октября 1853 г. Толстой записывает в дневнике: «Я прочел "Наденьку" — повесть Жуковой. — Прежде мне довольно было знать, что автор повести женщина, чтобы не читать ее. Оттого, что ничего не может быть смешнее взгляда женщины на жизнь мужчины, которую они часто берутся описывать, напротив же, в сфере женской автор женщина имеет огромное преимущество перед нами. Наденька очень хорошо обставлена; но лицо ее самой слишком легко и неопределенно набросано, видно, что автора не руководила одна мысль».
Пора, однако, вообще, вернуться к Толстому. Приведенный материал поможет ориентироваться в том, как «Детство» выглядело в русской беллетристике 1852 г. и что оно означало.
4
Толстой моложе всей основной группы «Современника» — Некрасова, Панаева, Тургенева, Григоровича, Дружинина. В этот момент разница в шесть-семь лет (а тем более в десять, как с Тургеневым) имела большое значение. Дебюты молодого поколения (Писемского, Григоровича, Достоевского и др.) уже прошли; прошли уже и литературные бури «сороковых годов». Все это не только совершилось без участия Толстого, но даже, по всей вероятности, и не доходило до него, а если и доходило, то частично, случайно, неполно, со стороны. Некоторое представление о московской литературной жизни конца сороковых годов он, может быть, и получил, но сквозь призму светских отношений и бесед. Кавказ обрывает и эти отношения — связь поддерживается только при помощи журналов, за которыми в 1851-52 гг. Толстой следит довольно пристально.
Читая эти журналы, Толстой, между прочим, мог обратить внимание на то, что так назыв. «беллетристика», которую и сам он в дневнике называет «глупой», встречает в критике холодные или даже насмешливые отзывы, между тем как вещи промежуточного типа, близкие к очеркам, воспоминаниям или автобиографиям, встречаются с сочувствием и рекомендуются читателям. В «Современнике» он, вероятно, читал «Признания» Ламартина, в «Отечественных записках» — «Записки Андрея Тимофеевича Болотова». По поводу этих «Записок» Дружинин в «Современнике» 1850 г. (№ 11) писал об автобиографиях — Толстой, вероятно, читал и эти строки: «Автобиографии, то есть повествования исторических и неисторических, любезных и нелюбезных лиц о происшествиях своей собственной жизни, с описанием своих мыслей и ощущений, всегда были любимым чтением людей с наблюдательным складом ума. Что может быть возвышеннее и поучительнее, как следить за жизнью и чувствами личности, или почему- нибудь обратившей на себя внимание потомства, или просто близкой к нам, вследствие закона, так прекрасно переданного Теренцием в своем стихе: "Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо". Этою симпатиею лучшего класса читателей к задушевной исповеди своих собратий легко объяснить причину, по которой словесность почти каждого народа богата многими автобиографиями. И — странное дело! — все они замечательны по фактам и по изложению; отыскать плохую автобиографию во сто раз труднее, нежели самому сочинить плохой роман и снотворную поэму. В автобиографии писатель описывает вещи, им виденные, страсти, им перечувствованные; а все виденное и перечувствованное высказывается гораздо лучше и рельефнее, чем сцены, порожденные праздным раздражением фантазии». Далее Дружинин делает краткий обзор наиболее замечательных автобиографий — Сильвио Пеллико, Ж.-Ж. Руссо, Альфиери, Гёте, Бенвенуто Челлини, Шатобриана, Ламартина. При этом он ставит «Исповедь» Руссо выше записок Гёте по следующим соображениям: «Гёте, в своих записках, уже явно отклоняется от пути, указанного Жан-Жаком: он передает читателям только то, что казалось ему поэтическим в своей жизни, налагая на все остальное непроницаемый покров. Конечно, нельзя никого заставить быть откровенным
против воли; со всем тем насколько самый простейший факт из жизни Руссо превышает интересом и поэзиею драгоценнейшие из воспоминаний автора Фауста! Откровенность есть такой источник поэзии, которого не заменишь ни одним вымыслом, и хотя, по слабости человеческой натуры, полная откровенность в признаниях едва ли возможна, но даже самое стремление к ней уже производит благотворные результаты».
Оценка Дружинина подсказана наметившейся в русской литературе этого времени тягой к «факту», к «материалу» — в противовес избитой стилистике и традиционным мотивам «светских повестей». Промежуточные, полубеллетристические жанры, свободные от фабульных схем и не притязающие на «художественность» стиля, оказываются более живыми явлениями литературы — если не для широкой публики, питающейся романами Вонлярлярского или Зотова, то для других. Под знаком «фактичности», «откровенности», «мемуарности» заново вступает в литературу старик Аксаков — под этим же знаком выступают впервые молодой Толстой и многие другие. Старческий по своей традиции жанр автобиографии, несколько принаряженный, возрождается под пером дебютантов. Описания детства, как фрагменты («Сон Обломова» Гончарова) или как отдельные вещи, являются в большом количестве — всё под тем же знаком «фактичности». В связи с этим основной повествовательной формой становится рассказ от лица некоего «я» (Ich- Erzahlung), сообщающего все подробности своей жизни. Центр тяжести переходит от фабулы к описаниям и деталям, развертывающимся без отношения к сюжету. Так продолжается примерно до конца 1854 г. В своей повести «Тонкий человек» («Современник» 1855 г., № 1) Некрасов, в специальном отступлении, уже высмеивает это увлечение. Вместо того чтобы передавать рассказ Грачова («Грачов начал: «Чтоб сказать все, я должен коснуться моего детства...») Некрасов пишет: «Но рассказ Грачова длился несколько часов, и как мы не принадлежим к числу друзей рассказчика, то не лучше ли нам сократить его? Благо, у нас под рукою верное средство: опыт научил нас, что как только торжественное "я" уступит место скромному "он", многие подробности, казавшиеся чрезвычайно важными, вылетают сами собою. Например: "Принужденный сам заботиться о долговечности моих сапогов, я приискал какой-то дрянной черепок, пошел на рынок, купил дегтю, увы! на последний гривенник, и, возвратясь домой, тщательно вымазал мои сапоги, не щадя рук и подвергая невыносимой пытке мое бедное обоняние" Отбросьте "я", и останется: "он купил дегтю — и вымазал свои сапоги" Если вам мало одного примера, то можете делать опыты сами: теперь только и пишутся, что записки, признания, воспоминания, автобиографии. И вы увидите иногда результаты неожиданные. Эта невинная замена имеет действие лопаты, с помощью которой очищают — веют — только что вымолоченный хлеб: зерно остается на гумне, а шелуху и пыль уносит ветер...» В том же номере «Современника» напечатана статья П. В. Анненкова «О мысли в произведениях изящной словесности», открывающаяся большим рассуждением на ту же тему, как бы подводящим итог: «Рассказ от собственного лица освобождает автора от многих условий повествования и значительно облегчает ему путь. С первых приемов писатель уже становится в положение человека, не слишком озабоченного достижением предположенной цели, что позволяет ему иногда резвиться перед своим читателем на просторе, а иногда даже кончить рассказ на полдороге... Случалось и, вероятно, еще много раз будет случаться, что писатели, прельщенные выгодами формы личного повествования, принимались за нее, не взвесив предварительно важности условий, с ней сопряженных. Последствия известны. Кто не знает, что рассказы наиболее вялые, ничтожные и пошло-притязательные, как в нашей, так и в других литературах, обыкновенно начинаются с «Я...»
Замысел Толстого написать роман, обнимающий четыре эпохи развития (Детство, Отрочество, Юность и Молодость), оказывается, таким образом, совпадающим с одним из главных литературных заказов этого времени — с заказом на автобиографии и мемуары. Как ни далеко стоял Толстой от литературных кругов и литературных споров этих лет, он, по-видимому, начиная с 1850 г., не только пристально следил за происходящим в литературе движением, но и очень тонко улавливал ее направления и потребности. Как будто следуя советам Дружинина, он, по окончании «Детства», записывает в дневнике 30 ноября 1852 г.: «4 эпохи жизни составят мой роман до Тифлиса. Я могу писать про него, потому что он далеко от меня. И как роман человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен».
Пройденный до 1852 г. Толстым путь упорного самонаблюдения и самоиспытывания достаточно подготовил его к выполнению именно этого заказа. «История вчерашнего дня» была мостом для перехода от записей дневника к написанию «Детства». К этому же вело и основное чтение Толстого, которое тоже частично совпадает с указаниями Дружинина: Стерн, Руссо, исторические книги[211]; из более современных писателей — Тёпфер, Диккенс («Давид Копперфильд» упоминается в дневнике). На русской почве в этот момент все эти западные источники выравнивались по линии новых литературных требований, так что Стерн (особенно его «Сентиментальное путешествие») оказывался в одном ряду с Руссо — его пародийность воспринималась либо как «недостаток», как чрезмерная «болтовня» («отступления тяжелы даже у него»), либо как нечто специфически-английское, не заслуживающее внимания. Тёпфер, объединивший, через Ксавье де-Местра, художественные принципы Стерна и Руссо, пришелся особенно по вкусу и так вошел в оборот русской беллетристики пятидесятых годов, что имя его стало мелькать в разных повестях и рассказах — то как цитата, то как предмет чтения героини или ее бесед.
Итак, Толстой выступает не как революционер, сокрушающий традиции и идущий на скандал, не как зачинатель нового литературного течения, а как последователь наметившегося в молодой группе писателей (преимущественно около «Современника») движения в сторону от измельчавшей «беллетристики», и, тем самым, в сторону от широкого читательского круга, продолжавшего питаться любовными, построенными, преимущественно, на материале балов и дуэлей, повестей и романов. Он, по всему своему образу жизни, традициям и вкусам стоящий вдали от журнальной жизни, от «литераторов», вовсе и не стремится работать на читательский заказ — ему важно еще решить для себя, может ли он быть писателем, и потому он, в процессе работы над «Детством», больше всего беспокоится вопросом, есть ли у него «талант сравнительно с новыми русскими литераторами». Один раз (30 мая 1852 г.) он решает — «положительно нету», другой раз (2 июня) — не так категорично: «Хотя в "Детстве" будут орфографические[212] ошибки, оно еще будет сносно. Все, что я про него думаю, это то, что есть повести хуже; однако, я еще не убежден, что у меня нет таланта. У меня, мне кажется, нет терпения, навыка и отчетливости, тоже нет ничего великого ни в слоге, ни в чувствах, ни в мыслях. В последнем я еще сомневаюсь, однако». Вопрос о читателе он решает для себя довольно определенно, и не без скрытой иронии по отношению к услужливости «беллетристов», работающих на спрос публики. Об этом свидетельствует не только предисловие к «Детству», оставшееся ненапечатанным в «Современнике» («К читателям»), но и заметка в записной книжке от 2 января: «Всякий писатель для своего сочинения имеет в виду особенный разряд идеальных читателей. Нужно ясно определить себе требования этих идеальных читателей, и ежели в действительности есть хотя во всем мире два таких читателя, писать только для них». Эту же мысль он повторяет и развивает в предисловии: «Всякий автор — в самом обширном смысле этого слова, когда пишет что бы то ни было — непременно представляет себе: каким образом подействует написанное. Чтобы составить себе понятие о впечатлении, которое произведет мое сочинение, я должен иметь в виду один известный род читателей... я начну с того мое обращение к вам, читатель, что опишу вас. Ежели вы найдете, что вы непохожи на того читателя, которого описываю, то не читайте лучше моей повести — вы найдете по своему характеру другие повести».
Толстой в период «Детства» — последователь, и последователь довольно робкий. Он работает над этой вещью полтора года и четыре раза перерабатывает. «История вчерашнего дня» — гораздо более смелая вещь, написанная без оглядки на «новых русских литераторов» и даже без забот об «идеальных читателях». Другое дело — «Детство». Оно пишется под большим давлением самокритики, усилившейся с того момента, как Толстой стал думать о печатании, пишется с осторожностью, с сомнением в своих силах. Перечитав свои дневники 1851 г. (где есть, между прочим, и литературные наброски, о которых была речь выше), Толстой записывает 20 марта 1852 г.: «Некоторые мысли, написанные в этой книге, поразили меня иные своей оригинальностью, иные своей верностью. Мне кажется, что я уже потерял способность писать и думать так бойко и смело — правда, смелость эта так часто соединена с парадоксальностью, но зато и больше уверенности». Он то и дело прерывает работу или берется заново исправлять написанное, потому что пропадает уверенность: «Не продолжал повесть частью от того, что не успел, частью от того, что я сильно начинаю сомневаться в достоинствах первой части. Мне кажется слишком подробно, растянуто и мало жизни». Не вполне одобрительная оценка брата Николая тоже действует на него очень сильно: «пришел брат, я ему читал писанное в Тифлисе. По его мнению, не так хороню, как прежнее, а по-моему, к чёрту не годится». 7 апреля 1852 г. записано: «Пошлю ли я или нет это сочинение? Я не решил. Мнение Николеньки решит это дело». В связи с этим разочарованием являются старые мечты о музыке: «Почти все мечты счастья разрушены действительностью в моем воображении, исключая счастья артиста. Я хотя в очень несовершенном виде, но испытал его в деревне, в 1850-м году». И тут же решение: «Завтра буду переписывать... и обдумаю 2-й день; можно ли его исправить или нужно совсем бросить? Нужно без жалости уничтожать все места неясные, растянутые, неуместные, одним словом, неудовлетворяющие, хотя бы они были хороши сами по себе». После нескольких дней скуки, вялости и самобичевания («мне кажется, что я от скуки рехнусь. Презираю все страсти и жизнь, а увлекаюсь страстишками и тешусь жизнью») следует любопытная запись: «Я становлюсь труслив.
Надо принуждать себя делать вещи смелые». И на другой день — новое решение: «Писал, писал, наконец стал замечать, что рассуждение о молитве имеет претензию на логичность и глубокость мыслей, а не последовательно. Решился покончить чем-нибудь, не вставая с места, и сейчас сжег половину — в повесть не помещу, но сохраню как памятник».
Больше всего затрудняет Толстого вопрос о «втором дне». И понятно почему. Отсутствие фабулы и интерес к «подробностям» привели к тому, что движение повести стало складываться не по годам и даже не по дням, а по часам — по движению часовой стрелки, и даже более того — не столько по времени, сколько по пространству, по переходам из одной комнаты в другую. В сущности, композиция «Детства» слагается из сопоставления отдельных сцен, связь между которыми образуется лирическими комментариями и «генерализациями». Как в «Истории вчерашнего дня» — сцены одного дня, вместе с отступлениями и характеристиками, заполнили значительную часть вещи. Описание «второго дня» оказалось ненужным. 10 апреля 1852 г. Толстой записывает в дневнике: «принялся за роман; но написав две страницы, — остановился, потому что мне пришла мысль, что второй день не может быть хорош без интереса, что весь роман похож на драму. Не жалею, отброшу завтра все лишнее». Под «интересом» Толстой разумеет, очевидно, фабулу: вещь развивается без драматического (фабульного) «интереса», и потому второй день не может ничего прибавить к первому.
Вряд ли кто замечает при чтении «Детства», что действие повести почти целиком уложено в два дня: день в деревне (гл. I—XII) и день в Москве (гл. XVI-XXIV); гл. XIII («Наталья Савишна»), XIV («Разлука») и XV («Детство») служат кадансом первой части и переходом ко второй, а гл. XXV-XXVIII образуют финал, заканчивая намеченную еще в первых главах трагическую линию матери и замыкая всю вещь лирической концовкой, посвященной Наталье Савишне. Повесть, таким образом, довольно явственно распадается на три части. Сам Толстой в своем первом письме к Некрасову (от 3 июля 1852 г.), посылая ему рукопись «Детства», пишет: «Ежели по величине своей она с не может быть напечатана в одном нумере, то прошу разделить ее на три части: от начала до главы 17-ой, от главы 17-ой до 26-ой и от 26-ой до конца. Судя по этому, в рукописи, посланной Некрасову, количество глав было не то, которое оказалось в печатном тексте (помимо выпущенной в «Современнике», но восстановленной в отдельном издании истории любви Натальи Савишны в гл. XIII). Глав было, по-видимому, больше — текст поэтому, надо полагать, был ближе к тому, который опубликован С. А. Толстой в ее издании 1911 г., где всех глав не 28, а ЗО[213]. Гл. XVII этой редакции соответствует пятнадцатой XV гл. печатной («Детство») — т. е. именно той, которая, как я и предполагаю, открывает вторую часть; та глава, которую Толстой в письме называет двадцать шестой, соответствует, вероятно, двадцать пятой («Письмо»), с которой естественно начинается третья часть.
По дневникам видно, как старательно работал Толстой, помимо слога, именно над конструкцией своей первой вещи, стараясь придать ей как можно больше ясности и выбрасывая все «лишнее». По редакции, опубликованной в 1911 г., видно, что при отбрасывании Толстой руководствовался двумя соображениями, из которых одно подтверждает его писательскую «робкость». Часть материала была выброшена, очевидно, для того, чтобы избежать «отступлений», «растянутости»: таковы, например, рассуждения о соседях и способах избавиться от доставляемых ими неприятностей, рассуждение о музыке и др. Другая часть выбрасывалась потому, что признана была «неуместной» — слишком смелой, грубой или рискованной. Таковы, например, эротические детали в описании сцены между Николенькой и Катенькой (гл. XII окончательного текста, XIV— в тексте 1911 г.), занимавшие первоначально целую отдельную главу. Вместо слов: «Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губам», в тексте 1911 г. читаем: «В ту же минуту я почувствовал какой-то сладкий трепет и вспомнил то место под косыночкой, в которое я поцеловал ее нынче в лесу. Я ничего не отвечал на вопрос ее, а только обеими руками схватил ее ручку, прильнул к ней губами и стал жадно целовать ее». Вместо следующей фразы — «Катенька верно удивилась этому поступку и отдернула руку: этим движением она толкнула сломанный стул, стоявший в чулане» — было нечто совсем другое и даже прямо противоположное: «Но я не удовольствовался этим; не выпуская ее руки, я осторожно расстегнул пуговку ее рукава и стал покрывать ее руку самыми страстными поцелуями от кисти до сгиба локтя, того самого места, из которого пускают кровь. Прижав губы к этой ямочке, я испытывал неописанное наслаждение и думал только об одном — как бы не сделать слишком громкого звука губами, который мог меня выдать и прекратить это наслаждение. Катенька не вырвала у меня руки, но другою, отыскав мою голову, гладила меня по лицу и волосам и старалась оттолкнуть. Потом, как будто ей стало стыдно, она быстро выдернула свою руку и спустила рукав, но я опять схватил ее, прижав еще крепче, и слезы закапали у меня из глаз. Ей стало жалко, она нагнулась ко мне и прикоснулась к моим волосам. Мне было так хорошо, как никогда в жизни; я желал только одного: чтобы это счастливое состояние никогда не прекращалось». Стул в этой редакции роняет не Катенька, а Николенька.
Среди остального материала, выброшенного по тем же соображениям «неуместности», есть кое-что, рисующее отца более отрицательно, чем это было признано нужным, кое-что, изображающее Карла Иваныча в слишком комическом виде (сцена возвращения Карла Иваныча пьяного домой), кое-что, признанное просто наивным или грубым, как, например, фраза, которой кончалась гл. VII[214]: «Должно быть, с летами чувство обоняния у меня совсем переменилось. Отчего, сколько я теперь ни принюхиваюсь к запаху лошадей, этот запах совсем не имеет для меня того значения и прелести, которые имели в детстве?» В последних строках повести ослаблен сентиментальный стиль, в первоначальном тексте напоминающий не только Тёпфера, но и «чувствительные» повести Карамзина и его последователей — вплоть до деталей: «Иногда в душе моей вдруг пробуждаются грустные воспоминания о ней, мне приходит мысль, что уже я никогда не встречу в этой жизни такой нежной, любящей души, и, несмотря на то, что прихожане с удивлением смотрят на меня, я молча останавливаюсь около черной решотки, и горькие слезы капают из моих глаз».
Особый случай — большой кусок из письма матери, содержащий доводы против «общественного воспитания» детей в казенных заведениях. Это, очевидно, имело тогда злободневный смысл и было выброшено потому, что самые взгляды должны были казаться «неуместными».
В работе над «Детством» Толстой старается соединить два принципа: принцип автобиографической хроники, выражающийся в простой временнбй последовательности отдельных сцен, не связывающихся в фабульный узел, с принципом «повести», сюжетная конструкция которой обусловлена фабульным движением. Уйти совсем в сторону от традиций «беллетристики» он еще не решается — лишнее подтверждение его «робкости». Это сказывается в том, что через все «Детство», в качестве некой фабульной пружины, проходит история отношений между матерью и отцом и предчувствие трагической развязки. Характер этих отношений и их причины остаются загадочными что, само по себе тоже приобретает фабульное значение «тайны» и мотивируется психикой ребенка, не понимающего и не могущего ее понять. Тайна эта только слегка приоткрывается в разговоре бабушки с князем Иваном Иванычем (гл. XVIII), подслушанном Николенькой. Характерно, что именно из этой главы оказалось выброшенным заключение — вероятно, потому, что оно слишком подчеркивало вину отца: «Не могу сказать, что я не понимал, кто такой был он, которого обвиняла бабушка и оправдывал князь. Но в чем могла состоять вина лица, которое, по моим понятиям, ни в каком случае не могло подлежать осуждению, я никак не мог разъяснить себе. Я даже сомневался в том, действительно ли я слышал эти слова и справедливо ли было то, что они относились к папа. По случаю этого рассуждения в голове моей набралось столько догадок, воспоминаний и соображений, что я никак не мог привести в порядок моих мыслей и, как всегда бывает в подобных случаях, стал думать о предметах совершенно посторонних. Одно, что вышло из этой путаницы, это неясное понятие, которое, как ни пугало меня, я не мог уничтожить, о том, что отец мой может делать дурно».
К этой фабульной части «Детства» относится и появление в конце повести новой фигуры—«1а belle Flamande», присоединяющей к «тайне» другой характерный беллетристический элемент — любовную интригу. Все это нанесено легкими штрихами и отодвинуто на второй план — как намек на фабулу, но все же заметный именно как намерение. Тургенев обратил внимание на это, когда писал Некрасову 28 октября 1852 г.: «Ты прав, это талант надежный. В одном упоминовении женщины под названием "La belle Flamande", которая появляется к концу повести, — целая драма»[215]. Так, хотя и в легкой степени, осуществился в «Детстве» тот драматический «интерес», о котором, как видно по дневнику, беспокоился Толстой. Более того, автобиографическая форма стала к концу работы над «Детством» стеснять Толстого — именно потому, что он, в процессе писания, стал отходить от нее в сторону «повести». Это сказалось в отбрасывании «лишних» отступлений и рассуждений, об этом же он говорит в письме к Некрасову от 15 сентября 1852 г.: «Принятая мною форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предыдущими так стесняет меня, что я часто чувствую желание бросить их и оставить 1-ую без продолжения»[216].
Поскольку «форма автобиографии» и самый жанр повестей о детстве (как я говорил раньше) приобретали в это время популярность и поощрялись критикой, постольку «Детство» Толстого, естественно, входило именно в этот ряд. Для читателей того времени, особенно более близких к литературе, многое в повести Толстого должно было восприниматься как знакомое — не только по сходству со
Стерном или Тёпфером, но и по совпадению с другими современными вещами подобного жанра, с подобным материалом. Карл Иваныч, например, должен был многим напомнить немца-гувернера из повести М. Михайлова «Адам Адамович»[217]. Можно даже предполагать, что сцена возвращения домой пьяного Карла Иваныча была отброшена не только потому, что показалась грубой, но и потому, что слишком напоминала изображение Адама Адамыча у Михайлова.
Еще до «Детства», которое было напечатано в «Современнике» 1852 г. (№ 9), в августовской (№ 8) книжке «Современника» появилась сходная по Matepnajiy, а местами и по общему тону, повесть Николая М. (П. А. Кулиша) — «История Ульяны Терентьевны». Толстой сам записывает в дневнике 29 сентября 1852 г.: «Читал новый «Современник»; одна хорошая повесть, похожа на мое «Детство», но не основательна». Главным источником для Кулиша (особенно в смысле манеры и тона) был тот же Диккенс — это сказывается хотя бы в названиях глав: «Что за лицо Ульяна Терентьевна», «Мечта моя не скоро, но осуществляется», «Я приобретаю права гражданства в семействе Ульяны Терентьевны», «На светлом горизонте показывается туча», «Удивительные открытия, сделанные мною в Якове Яковличе», «Я делаю открытия еще удивительнейшие» и т. д.[218] Сходство систем и источников сказывается, между прочим, и в отношении к «читателю» — слова Кулиша, по их тону и смыслу, очень близки к тому, что писал Толстой о «понимающих» читателях: «Я бы желал быть с моим читателем в самых искренних отношениях, чтобы речь моя была для него подобна тихим беседам в небольшом кружку близких людей, за вечерним чаем, когда дневные работы кончены, когда чувствуешь себя обеспеченным от всякого тягостного дела и когда доверчивым изложением чувств вознаграждаешь себя за дневное принуждение в сношениях с чуждыми нашей натуре людьми. Только в таком расположении души образ Ульяны Терентьевны представился бы ему в той меланхолической прелести, в какой он мне представляется».
Оценка Толстого («не основательна») означает, по-видимому, упрек в том, что повесть Кулиша, написанная как хроника, страдает неясностью конструкции и не дает, вместе с тем, достаточно полного и достаточно конкретного («мелочного») анализа. Кулиш сам подчеркивает отличие своей вещи от обычной беллетристики: «Рассказ мой сложился так, что сделался похож на начало повести. Я боюсь, чтоб читатель не позабыл, что я обещал ему, и не стал ожидать от меня развития завязки на общем основании повестей и романов». Несмотря на это заявление, Кулиш следует традициям старой беллетристики, как в тоне рассказчика, так и в психологических характеристиках персонажей. Некрасов, может быть, не без умысла напечатал «Детство» Толстого вслед за повестью Кулиша — точно подчеркивая этим появление новой серии «детских» повестей и предоставляя читателю сделать сравнение и выбор. В октябрьской (№ 10) книжке, поддерживая «серию», появилась повесть того же Кулиша «Яков Яковлич», связанная с предыдущей. В письме к Тургеневу 21 октября 1852 г. Некрасов говорит: «Детство в IX № — это талант новый и, кажется, надежный... Что ты думаешь об авторе Ульяны Терентьевны и Якова Яковлича?»[219] Тургенев ответил ему 26 октября: «Я было начал читать Ульяну Терентьевну, да что-то мне показалось, что это нашего поля ягода, старая погудочка на новый лад»[220], а 18 ноября прибавляет: «Вот, мои друзья, мнение мое об октябрьской книжке Современника. Во-первых, я прочел "Якова Яковлича". В авторе есть талант, но небольшой и ненадежный. Какая-то ложная струя проходит по всей повести, какая-то болезненная и самодовольная любовь к небывалым положениям, психологическим тонкостям и штучкам, глубоким и оригинальным натурам и т. д. Первая половина "Я. Я." недурна, в ней заметен юмор, хотя и тут автор козыряет, а мы знаем, что значит это слово... но как только этот Я. Я. становится прекрасным человеком, алмазом в грубой оболочке — все идет к чёрту. Отношения его к девице и сама девица, и рассказчик — все это невозможно, вычурно и приторно-натянуто. Уж эти мне смехи, смешанные со слезами! Набили они оскомину читателю. Но все-таки "Я. Я." повесть не дюжинная, и если автор молод — выработается. Только от него до Толстого (JI. Н.), как от земли до неба, и Ульяну Терентьевну я читать не стану»[221].
Эти две повести фигурируют рядом, как одинаковые по жанру, и в критических обзорах 1852 г. — у Алмазова, у А. Григорьева. Отличие Толстого от Кулиша не всем бросалось в глаза так, как Тургеневу, который, сам недавно увлекавшийся «психологическими тонкостями и штучками», переживал теперь борьбу со своей «старой манерой» и потому особенно сильно реагировал на появление ее у других. Особенно любопытен отзыв А. Григорьева, который, не следуя за Белинским, продолжает отстаивать «искусство» от «беллетристики» и в статье своей даже не хочет говорить о последней: «Беллетристика не вошла в этот обзор, потому что даже хорошую беллетристику мы, как несколько раз уже высказывали, считаем только позволительною роскошью и не разделяем никак мнения критики бывалых (весьма недавних) времен, которая плакалась на то, что у нас есть художники и нет беллетристов: мы, напротив, готовы плакаться, что развелось у нас теперь слишком много и дурных и сносных беллетристов, т. е. поставщиков материала для праздного чтения»[222]. Руководствуясь этим принципом, А. Григорьев говорит в своей статье только об Островском («Бедная невеста»), Писемском, Потехине, В. Крестовском (Хво-щинской) и Кокореве («Саввушка»). Что касается Кулиша и Толстого, то А. Григорьев принимает их, невидимому, даже за одного и того же «неизвестного» автора и говорит очень небрежно: «Наконец, мы должны еще упомянуть об авторе "Ульяны Терентьевны" и "Истории моего приятеля"[223], помещенных в "Современнике" и отличающихся благородством направления, хотя, вместе с тем, представляющих собою не рассказы, не повести, а какие-то психологические этюды, замечательные по обилию наблюдений автора над впечатлениями детства, и, вообще, над миром собственной души. Художественного значения эти повести не имеют никакого». Этот отзыв человека, враждебно настроенного к «петербургским» принципам и журналам, ярко иллюстрирует положение литературы, расслоившейся на «художество», «беллетристику» и промежуточные жанры. Москва держится за «художество» и всячески огораживает это, ставшее пустырем, место; Петербург культивирует «беллетристику», фельетон, мемуары, записки, автобиографии и пр. Отзыв Б. Алмазова, хотя и более сочувственный, кончается, однако, характерной фразой, показывающей, что повести Кулиша и Толстого ценились им не только с «художественной» точки зрения: «Нельзя не порадоваться, что в последнее время стало выходить много романов и повестей, имеющих предметом изображения детского возраста. Наблюдения, собранные писателем касательно впечатлений детства, может употребить психология и даже педагогия»[224].
Итак, «Детство» вовсе не было таким исключительным, одиноким, глубоко своеобразным и ни с чем несоизмеримым литературным явлением, как об этом любят говорить иные биографы Толстого. Успех «Детства» в редакции «Современника», если присмотреться к тому, что в ней делалось в 1850-1852 гг., становится очень естественным и понятным: дело тут не в исключительных достоинствах этой вещи, а в катастрофическом положении отдела «словесности» и связанных с этим усиленных поисках «новых талантов». И так не только в «Современнике», но и в других журналах (ср. выше о переводной литературе). Некрасов идет на все, чтобы спасти журнал и увеличить подписку: пишет вместе с Е. А. Панаевой романы («Три страны света» в 1848—1849 гг., «Мертвое озеро» в 1850—1851 гг.), переделывает поступающие в редакцию плохие повести, чтобы, придав им некоторый литературный лоск, напечатать, бросается на переводную литературу и т. д. По поводу романа «Три страны света» Некрасов откровенно писал Тургеневу 17 декабря 1848 г.: «Мы печатали, что могли. Если увидите мой роман, не судите его строго: он писан с тем и так, чтобы было что печатать в журнале — вот единственная причина, породившая его на свет»[225].
Помимо всего, и материальное положение «Современника» в это время очень нетвердое — 1849 год кончился с большим дефицитом. 15 сентября 1851 г. Некрасов пишет Тургеневу: «Хотя я и мало надеюсь, чтоб вы уважили мою просьбу, но так как к ней присоединяется и ваше обещание, то и решаюсь напомнить вам о "Современнике". Сей журнал составляет единственную, хотя и слабую и весьма непрочную, но тем не менее единственную опору моего существования, — потому не удивитесь, что я уже приставал часто и ныне пристаю к вам с новою просьбою не забыть прислать нам что у вас написано... и поскорее: верите ли, что на XI книжку у нас нет ни строки ничего — ибо даже уже и "М. Оз." [Мертвое Озеро] иссякло... Я и так долго крепился и молчал, а теперь пришла крайняя нужда»[226]. Москва злорадно издевается над Петербургом, видя падение журналов, предоставивших свои страницы пресловутой «беллетристике». Б. Алмазов пишет в 1851 г.: «публика с удовольствием прочла Мертвое озеро и Старый дом на страницах тех журналов, которые прежде очень невыгодно отзывались о такого рода произведениях и отличались литературной нетерпимостью... Что может быть хуже романов: Три страны света, Мертвое озеро, Старый дом и других литературных спекуляций? Ничего. А ведь эти несчастные произведения, имеющие в виду одни практические цели, напечатаны в двух наших самых лучших петербургских журналах. Да это бы ничего, что они там напечатаны: мало ли что теперь печатается в этих журналах; известно, что эти два журнала совершенствуются на пути жизни с неудержимой быстротой, так что мы надеемся, что в скором времени гг. Зряхов и Кузмичев примут в них деятельное и живое участие. Но странно то, что публика, вкус которой дошел было до такой утонченности и разборчивости, опять стала так неприхотлива, что позволяет печатать и с удовольствием читает пошлости, которые теперь ей предлагают. Впрочем я нарочно сказал, что это странно, а в самом деле тут нет ничего странного. Петербургские журналы теперь издаются не для той публики, для которой исключительно было стали писать русские писатели. Помянутые журналы смекнули, что писать только для избранной публики невыгодно, что, если они будут писать только для нее, то у них мало будет подписчиков. И вот они принялись за создание разных романов на манер Александра Дюма. Да ведь оно и легче и дешевле: такого рода произведения может делать, в свободное время, сама редакция»[227].
На самом деле редакция, сочиняя романы для подписчиков, в то же время усиленно ищет «новых талантов». Это выражение стало своего рода термином, который то и дело мелькает в письмах Некрасова, Тургенева, Панаева и др. Е. Я. Панаева вспоминает, как Панаев, восторгаясь «Детством» Толстого, читал его каждый вечер у кого-нибудь из знакомых и выучил его наизусть, а в ответ на подтрунивания Тургенева говорил ему: «Меня удивляет, что ты так равнодушно относишься к такой художественной вещи и не радуешься появлению нового таланта». Тургенев, пожимая плечами, говорил: «А меня удивляет, как вы щедры на похвалы; чуть появится новичок в вашем журнале, сейчас начинаете кричать: талант!» Однако, как видно из писем Тургенева к Некрасову, он сам тоже приветствовал появление «Детства», соглашаясь с Некрасовым, что это — «талант надежный» и прибавляя: «Пиши к нему и понукай его писать. Скажи ему, если это может его интересовать, что я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему»[228]. Некоторые надежды в это время возлагаются на Писемского, особенно в Москве: он печатается, преимущественно, в «Москвитянине», и его усиленно хвалят и Алмазов и Григорьев, явно выдвигая его против петербургской беллетристики. А. Григорьев, например, пишет в 1851 г.: «Вопрос о том, художник л и г. Писемский по натуре или только беллетрист, каким хотят его представить некоторые критики, мы предполагаем также решенным... Этот вопрос разрешается притом чрезвычайно просто: г. Писемский художник, но художник с совершенно особой манерой, и господа, требующие от него какого-то движения в развитии действия и характеров, упрекающие его в недостатке психологического анализа (!!), не хотят понять, что приступают к его произведениям с заранее составленными теориями, и сердятся на то, что их теории не оправдываются на произведениях нового дарования»[229].
На критике Писемского, как и на целом ряде других вопросов и явлений, произошло характерное столкновение Москвы с Петербургом. Московские критики, славянофильствующие архаисты, ценят в Писемском, ученике Катенина, его «грубость» и «самобытность», а петербургские, западники и модернисты, не отрицая таланта, пугаются и сожалеют — в том числе и Некрасов. В том же письме, где речь идет о «Детстве» Толстого и о Кулише, он пишет Тургеневу о «М-r Батманове» Писемского, напечатанном в «Москвитянине» 1852 г.: «Батманов (особенно первая половина) очень хорош, но какое грубое существо этот господин (т. е. автор)! Я думаю, ты уже прочел 2 часть Батманова; эта часть поразила меня своею грубостью; сцена с фраком, львица-/с«ягш*я, которая все толкает мужчин; письмо Наумовой о пощечинах, с подписью: женщина, которой очень хотелось за вас замуж — как все это нежно! Удивительно, как мало автор затрудняется в разрешении самых трудных вопросов. После этой повести... он мне иначе не представляется, как литературным городовым, разрешающим все вопросы жизни и сердца палкой! Впрочем, потому все это и досадно, что таланту много». Тургенев отвечает: «2-ая часть Батманова— из рук вон, плоха. Ну этот Писемский! Может он начать гладью, а кончить гадью, а все-таки замечательный талант, хоть я и очень смеялся прозвищу, которое ты ему дал»[230]. Позже, в 1859 г., эту «петербургскую» точку зрения очень ярко выразит Салтыков в письме к П. В. Анненкову (после прочтения «Дворянского гнезда»): «У нас на Руси художникам время еще не приспело. Писемский как ни обтачивает своих болванчиков, а духа жива вдохнуть в них не может. От художников наших пахнет ябедой и семинарией; все у них плотяно и толсто выходит, никак не могут форму покорить. После Тургенева против этих художников некоторое остервенение чувствуешь»[231].
Необходимо отметить, хотя бы в нескольких словах, еще одно. Развитие писательского профессионализма привело к тому, что прежние идейные организации и кружки стали постепенно заменяться редакциями журналов. Литература стала «занятием», писатель — «профессионалом». Журнальная полемика приняла характер мелочной конкуренции в погоне за подписчиками. Развилась редакционная кружковщина, отстаивавшая не столько новые и крупные общие идеи (как было в начале сороковых годов), сколько свои, иногда почти семейные, домашние интересы — характерное литературно-бытовое явление, принявшее особенно обширные размеры к концу пятидесятых годов. В связи с этим стал развиваться особый вид беллетристики — памфлетные повести, романы, очерки и «сцены», в которых изображались писатели, — «беллетристика о беллетристах», особенно развернувшаяся тоже в следующие годы. В 1852 г. появились: роман Д. Григоровича «Проселочные дороги», одна часть которого посвящена описанию вечера у московского писателя (по-видимому — Ф. Глинки), и сцены П. Менши- кова «Старый литератор», первая часть которых изображает литературный вечер в 1820 г., а вторая — беседу с состарившимся литератором Рубиным в 1850 г. Дружинин, разбирая эти вещи, вспоминает между прочим, свою беседу с «одним из наиболее мною любимых и уважаемых новых писателей» [Тургеневым?], происходившую несколько лет назад: «Литератор, о котором идет речь, имел тогда намерение начать большую повесть или роман из новых литературных нравов и по этому случаю делился со мною своими многочисленными наблюдениями над образом жизни, характерами, странностями, добрыми сторонами и слабостями своих литературных сверстников. Литераторы, начавшие свою деятельность в течение последнего десяти- или пятнадцатилетия, их ссоры и дружеские связи, попытки и удачи, хлопоты и сплетни, причуды и притязания, странные выходки и полезные дела составляли предметы наших разговоров, — и я должен признаться, что мало удавалось мне слышать рассказов страннее, смешнее... Я всегда считал и теперь считаю чрезвычайно неприличным вводить рассуждения о современной литературе и журналистике в произведение, писанное для сцены или для первых отделов журнала. А наши беллетристы и драматурги даже крайне грешны в этом отношении: не только читая новые повести или романы, даже часто слушая комедию-водевиль, наскакиваешь на целую тираду о новых писателях, о петербургских и московских журналах. И большею частью все тирады и выходки подобного рода бывают очень злы, очень желчны... и совершенно непонятны для публики»[232].
Душная атмосфера этой профессиональной кружковщины давила самих писателей и заставляла их иногда оглядываться по сторонам и искать «новых талантов» за пределами журнального мира. В 1857 г. Некрасов писал Тургеневу по поводу рассказов об охоте на Кавказе Н. Н. Толстого: «Это вещь хорошая... Далекость от литературных кружков имеет также свои достоинства. Я уверен, что автор не сознал, когда писал, многих черт, которыми я любовался, как читатель, а это не часто встречаешь»[233].
Примерно такое же впечатление, вероятно, было у Некрасова, когда в июле 1852 г. он получил по почте, с Кавказа, от неизвестного и даже скрывшего свою фамилию автора, рукопись «Детства». При тогдашнем положении «Современника», обремененного долгами, среди неурожайного года, при молчании «известных» писателей, после «Мертвого озера» и ряда бездарных повестей и рассказов, только подтверждавших бессилие и пустоту «первого» отдела, литературный «самотек» приобретал серьезное значение — тем более, что он, по общему тогдашнему правилу, не оплачивался. Приложенное к рукописи письмо было написано спокойно, сухо и уверенно — без лирики, без лести и без унижения: «Моя просьба будет стоить вам так мало труда, что, я уверен, вы не откажетесь исполнить ее. Посмотрите эту рукопись и, ежели она не годна к печатанию, возвратите ее мне. В противном же случае оцените, вышлите мне то, что она стоит по вашему мнению, и напечатайте в своем журнале. Я вперед соглашаюсь на все сокращения, которые вы найдете нужным сделать в ней, но желаю, чтобы она была напечатана без прибавлений и перемен... Я убежден, что опытный и добросовестный редактор — в особенности в России — по своему положению постоянного посредника между сочинителями и читателями, всегда может вперед определить успех сочинения и мнения о нем публики. Поэтому я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое»[234]. Некрасов признал в авторе талант: «Во всяком случае направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет поболее живости и движения, то это будет хороший роман»79. Что касается денег, то на новый запрос автора Некрасов пишет: «в лучших наших журналах издавна существует обычай не платить за первую повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует публике... Я предлагаю вам то же с условием, что за дальнейшие ваши произведения прямо назначу вам лучшую плату, какую получают наши известнейшие (весьма немногие) беллетристы, т. е. 50 р. сер. с печатного листа»[235].
Так началось сотрудничество Толстого в журналах — главным образом в «Современнике». Этот журнал, по-видимому, нравился Толстому больше всего своим критическим отделом. Мы видели выше, что чтение и самый замысел автобиографического романа находились в некоторой связи со статьями Дружинина в «Современнике» 1850-1851 гг.
5
Литература, даже когда Толстой стал заниматься ею серьезно и писал иногда изо дня вдень, не решала для него вопроса о жизни и деятельности. На протяжении 1852 г. у него возникают самые разнообразные планы. Осенью 1852 г. он едет в Тифлис «для определения на службу», но проводит там месяц «в нерешительности, что делать, и с глупыми тщеславными планами в голове». Из-за отсутствия нужных бумаг он долго не может определиться на службу, пишет «Детство», ходит в театр, играет в карты. «В Тифлисе я стал играть с маркером на партии и проиграл ему что-то около 1000 партий; в эту минуту я мог бы проиграть все».
В мыслях своих и мечтах этого времени Толстой живет сразу, по крайней мере, в четырех лицах, как бы совмещая в себе четыре персонажа какого-то романа: артиллериста, мечтающего об офицерском чине и «способствующего с помощью пушки к истреблению хищников и непокорных азиатов»; помещика-хозяина, озабоченного делами своего имения; тихого семьянина, рисующего себе идиллию мирной жизни, которая повторяла бы патриархальный уклад родительского быта, и писателя, обдумывающего различные планы своих будущих трудов. Над всем этим возносится, как авторский голос над своими персонажами, строгий дух морали и философии, детально анализирующий страсти и без конца определяющий «цель жизни».
В качестве артиллериста Толстой занят не только своей батареей и ученьем, но и какими-то теоретическими планами или изобретениями: «Приехал Хилковский и Алексеев. С первым рассуждал о моих артиллерийских планах, — он сказал дельное опровержение — не горизонтальное положение колес. Подумаю об этом»[236]. В Пятигорске, во время лечения водами, его воображение разыгрывается так сильно, что он записывает в дневнике: «Мечтал целое утро о покорении Кавказа. Хотя и знаю, что вредно для обычных занятий заноситься, не могу отвыкнуть»[237].
Толстой-помещик переписывается со своим приказчиком Андреем Ильиным, сердится на него и огорчается хозяйственными неудачами, а съездив в станицу Орешинку, записывает21 апреля 1852 г.: «Будьу меня деньги, купил бы здесь имение, и уверен, что сумел бы не так, как в России,— хозяйничать выгодно».
Мечты о семейной жизни ведут свое происхождение от прежних годов, от проекта жениться, чуть было не осуществившегося. Здесь, в Пятигорске, Толстой ведет беседу на эту тему с Горчаковым — по поводу отношений между его женой и кн. Барятинским. Горчаков говорит ему: «Человек этот так блистателен во всех отношениях и так много имеет внешних преимуществ перед мной, что я не могу не предположить, что моя жена может или могла бы предпочесть его мне, а довольно такого предположения, чтобы лишиться спокойствия и счастья и, главное, самоуверенности и гордости, которые составляют необходимый атрибут любви — семейных»[238]. Интимный характер беседы заставляет предположить, что разговор— не единственный, что Горчаков видит в Толстом советника по семейным делам, а запись показывает, что вопросы эти Толстого, действительно, интересуют. Разговор имеет непосредственное продолжение; в тот же день в дневнике записано: «пил воду и болтал с Б... о качествах, нужных для семейного счастья».
Еще до этих разговоров, в январе 1852 г., Толстой пишет письмо Т. А. Ерголь- ской, в котором изображает будущее свое счастье. Это уже целый конспект или черновой набросок «семейного романа», который и откликнется потом в романе «Семейное счастие» (1859). Вот каков черновик этого сюжета (в подлиннике — по- французски): «После некоторого количества лет, не молодой, не старый, я в Ясной Поляне, дела мои в порядке, у меня нет ни беспокойства, ни неприятностей. Вы также живете в Ясной. Вы немного постарели, но еще свежи и здоровы. Мы ведем жизнь, которую вели раньше, — я работаю по утрам, но мы видимся почти целый день. Мы обедаем. Вечером я читаю что-нибудь интересное для вас. Потом мы беседуем, я рассказываю вам про кавказскую жизнь, вы мне рассказываете ваши воспоминания о моем отце, матери; вы мне рассказываете "страшные" истории, которые мы прежде слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами. Мы вспоминаем людей, которые нам были дороги и которых больше нет. Вы станете плакать, и я тоже, но эти слезы будут успокоительны; мы будем говорить о братьях, которые будут к нам приезжать время от времени. О дорогой Маше, которая также будет проводить несколько месяцев в году в Ясной, которую она так любит, со всеми своими детьми. У нас не будет знакомых, никто не придет нам надоедать и сплетничать. Это чудный сон. Но это еще не все, о чем я себе позволяю мечтать. Я женат, моя жена тихая, добрая, любящая; вас она любит так же, как и я; у нас дети, которые зовут вас бабушкой; вы живете в большом доме наверху, в той же комнате, которую прежде занимала бабушка. Весь дом содержится в том же порядке, какой был при отце, и мы начинаем ту же жизнь, только переменившись ролями. Вы заменяете бабушку, но вы еще лучше ее, я заменяю отца, хотя я не надеюсь никогда заслужить эту честь. Жена моя заменяет мать, дети — нас. Маша берет на себя роль двух теток, исключая их горе; даже Гаша заменяет Прасковью Ильинишну. Не будет хватать только лица, которое взяло бы на себя вашу роль в жизни нашей семьи. Никогда не найдется столь прекрасная душа, столь любящая, как ваша. У вас нет преемников. Будет три новых лица, которые будут иногда появляться среди нас — это братья, особенно один, который часто будет с нами, Николенька, старый холостяк, лысый, в отставке, всегда такой же добрый, благородный»[239].
Наконец, Толстой — писатель. Однако сначала надо сказать о другом. Через весь 1852 год, как особая полоса, проходит история его отношений с братом Николаем. Эта история — очень сложная, как вообще отношения Толстого к людям и к себе самому. А поскольку из этих отношений многое врастает в литературу — более того, отношения эти неизменно складываются под знаком экспериментирования или самонаблюдения, имеющего целью «записывать»[240] — постольку на них важно остановиться, и именно тогда, когда Толстой еще не стал писателем и не начал «делать» свою биографию, а вместе с нею — и свои отношения к людям.
Толстой сам замечает, что окружающие считают его «чудаком» или «гордецом». Он или презирает и оскорбляет, или наблюдает — «с целью записывать». Постоянная его жертва на протяжении 1852 г. — молодой офицер Буемский. Одна из первых записей сразу характеризует отношение Толстого: «Как ни смешон Буемский, когда с ним с глазу на глаз, невольно принимаешь его в серьезное и делается досадно, и еще досаднее то, что досадно». Это — из области самонаблюдения, с типичным для Толстого расслоением чувства[241]. А далее идет и экспериментирование и использование. Несмотря на «глупость» этого Буемского, он часто «болтает» с ним — «и довольно хорошо», но, правда, потому только, что у него самого при этом являются «дельные мысли». Если этого нет, то он поступает иначе: «Писал, обедал, объяснялся с Буемским и пугнул его. Разойдусь с ним, а то он слишком надоел». В следующие дни Толстой все «сердится» на него, говорит ему, что он «глуп», заставляет его переписывать свои рукописи. Дело кончается тем, что он, описав его в «Набеге» (прапорщик Алании), прочел ему это место: «Прочел Буемскому то, что писал о нем, и он, взбешенный, убежал от меня». На следующий день Толстой раскаивается: «Буемский совсем расстроен. Я раскаиваюсь в том, что напрасно и больно обидел его. В его летах и с его направлением нельзя было нанести ему удара тяжеле».
Каждое новое лицо — это для Толстого новая и сложная проблема отношений, даже если человек ему нравится: «Хилковский мне очень нравится, но он как-то на меня неприятно действует, мне неловко на него смотреть так, как мне бывало неловко смотреть на людей, в которых я влюблен». Командир Алексеев — «все так же скучен, те же бесконечные рассказы о вещах, которые никого занимать не могут, то же неумение слушать, и робкий, нетвердый взгляд. Должно быть, мой взгляд на него действует, и от этого мне как-то совестно на него смотреть». Толстой видит, что отношения его с людьми складываются странно — 25 мая 1852 г. он записывает: «Отчего не только людям, которых я не люблю, не уважаю и другого со мной направления, но всем без исключения заметно неловко со мной. Я должен быть несносный, тяжелый, человек». Через несколько дней он, после чтения нравоучительной переводной книги «Часы благоговения», записывает: «Она подтвердила мои мысли насчет средств к поправлению моих дел и прекращению ссор. И я твердо решился при первой возможности ехать в Россию и продать часть имения и заплатить долги и при первой встрече окончить миролюбиво — без тщеславия все начатые неприязненности и впредь стараться добротой, скромностью и благосклонным взглядом на людей подавлять тщеславие. Может быть, это лучшее средство избавиться от моего неуменья иметь отношения с людьми». 13 ноября 1852 г. — новая запись на ту же тему: «Прекрасно сказал Япишка, что я какой-то нелюбимый. Именно так я чувствую, что не могу никому быть приятен, и все тяжелы для меня. Я невольно, говоря о чем бы то ни было, говорю глазами такие вещи, которые никому неприятно слышать, и мне самому совестно, что я говорю их». Вопрос об отношении людей к нему и своем отношении к людям беспокоит его все сильнее. 18 июля 1853 г. он записывает: «Отчего никто не любит меня? Я не дурак, не урод, не дурной человек, не невежда. Непостижимо. Или я не для этого круга?» Большая, имеющая характер итога, запись сделана 3 ноября 1853 г.: «Почти всякий раз, при встрече с новым человеком, я испытываю тяжелое чувство разочарования, воображая его себе таким, каков я, и изучаю его, прикидывая на эту мерку. Раз навсегда надо привыкнуть к мысли, что я — исключение, что или я обогнал свой век, или одна из тех несообразных, неуживчивых натур, которые никогда не бывают довольны. Нужно взять другую мерку (ниже моей) и на нее мерить людей. Я реже буду ошибаться. Долго я обманывал себя, воображая, что у меня есть друзья, люди, которые понимают меня. Вздор! Ни одного человека еще я не встречал, который бы морально был так хорош, как я, который бы верил тому, что не помню в жизни случая, в котором бы я не увлекся добром, не готов был пожертвовать для него всем. От этого я не знаю общества, в котором бы мне было легко. Всегда я чувствую, что выражение моих задушевных мыслей примут за ложь и что не могу сочувствовать интересам личным»[242].
После множества покаянных записей такое высокое мнение о самом себе, как об исключении не только умственном, но и моральном, кажется неожиданным; но оно, вероятно, ближе характеризует Толстого в его отношениях к людям, чем эти записи. В эти годы Толстой держал себя с людьми высокомерно, «изучая их», экспериментируя и упрощая. «Цинизм», о котором я заговорил вначале, сказывается здесь уже в достаточной степени. Возможно, что тон этой записи находится в связи с печатавшейся в «Современнике» 1853 г. работой Д'Израэли «Литературный характер, или История гения», которая, вероятно, заинтересовала Толстого[243]. Здесь, между прочим (в августовской книжке «Современника») дается объяснение и оправдание таким фактам, как неуважение «гениев» к другим людям («образованным, так сказать, по другой мерке») или «самохвальство»: «Высокое мнение гениев о самих себе необходимо для выполнения их ученых и литературных трудов». Толстой уже в 1851 г. говорит о своем «презрении к обществу», постоянно рассуждает о тщеславии как о своей главной «страсти», находит в себе «благородство характера, возвышенность понятий, любовь к славе»; в записной книжке он, размышляя о разных способностях людей, явно относит себя к «гениям или талантам» и склонен оправдать этим пороки: «Есть люди, которые все разумное понимают быстро, всему изящному сочувствуют живо, и все хорошее чувствуют, но которые в жизни, в приложении, не умны, не изящны и не добры. Отчего бы это? Или есть две способности: восприимчивости и воспроизведения, или недостает той способности, которую называют гением или талантом, или, наконец, натуры слишком чистые всегда слабы и апатичны, и потому способности не развиты»[244].29 марта 1852 г. Толстой записываете дневнике: «Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все. Но отчего это происходит? Несогласие ли,— отсутствие гармонии в моих способностях, или я действительно чем-нибудь стою выше людей обыкновенных?.. Неужели я так и сгасну с этим безнадежным желанием? Есть мысли, которые я сам себе не говорю; я так дорожу ими, что без них не было бы для меня ничего». Среди этих мыслей главная, наверно, мысль о том, что он — человек необыкновенный, гениальный. Самая напряженность самонаблюдения исходит не из простого «стремления к добру», как это может показаться при чтении дневников, а из погруженности в себя, из глубокой, подавляющей все другие интересы, заинтересованности в себе, доходящей до степени страсти. Это делает его «тяжелым» для других и мешает ему любить кого бы то ни было — он может только изучать, и бывает жесток, как настоящий экспериментатор, даже в отношении к самому себе.
Экспериментаторское отношение Толстого к людям особенно сказывается в том, что он больше всего заинтересовывается людьми с недостатками, со странностями или людьми опустившимися, жалкими, потерявшими равновесие. Так, о некоем Султанове, разжалованном из юнкеров в унтер-офицеры, Толстой записывает: «Приехал Султанов в восторге оттого, что получил собак. Замечательная и оригинальная личность. Ежели бы у него не было страсти к собакам, он был бы отъявленный мерзавец. Эта страсть более всего согласна с его натурой»[245]. Он потом даже строит новую теорию, интересно освещающую самый характер его персонажей, с их парадоксальными сочетаниями достоинств и недостатков — то, что называют «свободным героем» в противоположность «типам» с их душевным единством, положительным или отрицательным. Недаром еще при описании Кноринга Толстой решил отказаться от таких общих определений, как добрый, умный, глупый и пр. 5 июня 1852 г., после разговора с Горчаковым о семейном счастье, он записывает: «Из собрания недостатков составляется иногда такой неуловимый, но чарующий характер, что он внушает любовь тоже в известных лицах».
Его привлекают к себе люди с ущербной или ущемленной психикой — хотя только как наблюдателя, не иначе. Из Пятигорска он пишет брату Сергею (23 декабря 1851 г.) о своих новых знакомых: первый — Багратион, второй — князь Барятинский. «Знакомство это, без сомнения, не доставляет мне большого развлечения, потому что ты понимаешь, на какой ноге может быть знаком юнкер с генералом. Третий знакомый мой — помощник аптекаря, разжалованный поляк, презабавное создание»[246]. Там же он обращает внимание и на другого разжалованного: «Разжалованный женатый Европеус очень интересует меня». Третий разжалованный, Цвиленьев, воспользовался интересом Толстого и попросил у него денег: «Не дал, но обещал, идам», и через день: «Сдержал глупое обещание, Цвиленьевудал 2 рубля». Позже является правило: «Даю себе слово никому, исключая в случае крайней физической необходимости, взаймы денег не давать». Из этих наблюдений над разжалованными возник потом очерк «Встреча в отряде с московским знакомым», первоначальное название которого было «Разжалованный».
Не думая еще о литературной деятельности, о «профессии» писателя, он к людям уже относится «профессионально», пристально наблюдая за ними, экспериментируя и выбирая материал. Контрастом ко всякого рода «разжалованным» и жалким людям является Епишка (или Япишка), на квартире у которого жил брат Толстого — «старик Ермоловских времен, казак, плут и шутник». С ним он в большой дружбе. Епишка помогает ему в любовных делах («Пьяный Япишка вчера сказал, что с Саламанидой дело на лад идет. Хотелось бы мне ее взять и отчистить»), ходит с ним на охоту, а главное — рассказывает ему, рассказывает много и охотно, не подозревая, что Толстой слушает его «с целью записывать». А Толстой именно слушает, понимая, что это — прекрасный материал: «У меня Япишка, послушаю его, поужинаю и лягу спать... После обеда помешал Япишка. Но рассказы его удивительны... Слушал Япишку». Программа «Очерков Кавказа», набросанная в дневнике 21 октября 1852 г., возникает прямо из этих слушаний: «Очерки Кавказа: I) Расказы Япишки а) об охоте, в) о старом житье казаков, с) о его положении в горах». В конце концов Епишка, под именем Ерошки, нашел себе место в повести «Казаки», начатой еще в 1852 г.
На этом Епишке и на самой теме «Очерков Кавказа» Толстой встретил соперника—в лице старшего брата Николая. Так мы возвращаемся к вопросу об их отношениях, хотя бы в форме догадок, которые впоследствии, может быть, подтвердятся новыми материалами. Николай Николаевич Толстой некоторое время заменяет Толстому отца или гувернера и руководит им: он увозит Льва на Кавказ, он помогает ему устроиться на службу, он же является авторитетом для Льва в выборе книг. Так, «Сентиментальное путешествие» Стерна было (как ввдно из письма Николая 1851г.) его любимой книгой, предметом «изучения». 23 декабря 1851 г. Лев пишет брату Сергею из Тифлиса: «Николенька здесь на отличной ноге; как начальники, так и офицеры-товарищи, все его любят и уважают. Он пользуется сверх того репутацией храброго офицера. Я его люблю больше, чем когда-либо, и когда с ним, то совершенно счастлив, а без него скучно»[247]. Здесь, в письме к ироническому Сергею, Толстой, может быть, даже нарочно подчеркивает свое отношение к Николаю — как признак того, что он, наконец, перестал быть «пустяшным малым». Но после Тифлиса отношения начинают меняться. 21 марта 1852 г. Толстой записывает: «Странно, как он с своими рыцарскими правилами чести, которым он всегда верен, может уживаться и даже находить удовольствие с здешними офицерами? Отчего нам с ним как-то неловко с тех пор, как я приехал из Тифлиса? Не оттого ли, что мы слишком полюбили, идеализировали друг друга заочно, и ожидали друг от друга слишком много?»
С этого времени записи о брате становятся чаще, смысл их — сложнее. Николай начинает раздражать его: «Николенька что-то очень был весел, и, признаюсь, мне неприятно было смотреть на его веселость, потому что он как-то несообразно и некрасиво бывает весел». Через несколько дней: «Вчера заходил брат и с свойственной ему милой и смешной откровенностью рассказывал, что был два раза пьян — как жалко!» Еще через несколько дней, на Пасхе, он описывает, каков брат в пьяном виде: «Николенька насилу говорит и смотрит на меня глазами, которые говорят: "я с тобой согласен, что это скверно и что я жалок; но мне это нравится"». На другой день: «Пришел Николенька в том же виде. Я уехал на охоту и узнал потом от Балты, что он на площади делал бесчинства. — Жалко, что он не знает, какое большое для меня огорчение видеть его пьяным». 8 апреля: «Очень беспокоился за брата; наконец, он приехал с какой-то сальной компанией, которая, с присоединением Япишки, надоедала мне до 12-го часу». «Детство» свое Толстой читает брату, но обижается: «После обеда пришел Николенька, я предлагал ему читать 16-ую главу, он меня оскорбил холодностью». 10 мая запись: «Мне скучно со всеми, и всем со мной скучно, даже Николеньке». 27 мая (в Пятигорске): «Написал холодное и небрежное письмо Николеньке». Вернувшись домой, 11 августа: «Можно поглупеть с здешним образом жизни. Пример Николеньки».
После нескольких мирных записей — 28 сентября: «был у Николеньки и разгорячился в споре с ним, чего давно со мной не было — дурно». На другой день: «Николенька, по случаю какого-то химического спора, рассердился на меня, и я не сумел без досады отклониться от разговора». Через два дня: «Мне с Николенькой бывает иногда неловко. Лучшее средство не стесняться. Ежели неприятно с ним быть — не быть с ним». 29 октября: «болтал у Николеньки. Он эгоист». На другой день: «Последнее слово подтвердилось нынче. Впрочем, я сам глуп, что принял к сердцу его замечание о том, что у него у самого мало денег».
В этот же день Николай читал ему свои «записки об охоте» — т. е. напечатанную впоследствии «Охоту на Кавказе». Это после того, как за неделю, 21 октября, Толстой набросал программу кавказских очерков, где тоже должно было быть описание охоты. Вот отзыв Льва о сочинении Николая: «У него много таланта, но форма нехороша. Пусть он бросит рассказы об охоте, а обратит больше внимания на описание природы и нравов, они разнообразнее и хороши у него». Едва ли ошибочно будет предположить, что здесь некоторую роль играло литературное соперничество, — тем более, что в записках брата большое место уделено тому самому «Епишке», которого так внимательно слушал и изучал Толстой. Это чтение происходило уже тогда, когда «Детство» вышло в печати и книжка «Современника» должна была получиться со дня надень: Толстой уже признан Некрасовым и Тургеневым. 13 ноября новая запись: «Николенька очень огорчает, он не любит и не понимает меня. В нем страннее всего то, что большой [ум] и доброе сердце не произвели ничего доброго. Недостает какой- то связи между этими двумя качествами». Через несколько дней: «ссоримся с братом». 30 ноября (после прочтения «с небыкновенной радостью» похвального отзыва о «Детстве»): «Я начинаю жалеть, что отстал от одиночества: оно очень сладко. Влияние брата было очень полезно для меня, теперь же скорее вредно, отучая меня от деятельности и обдуманности». 10 декабря: «Был у Николеньки. Там Маслов. Удивительно, как неудачны все выборы его друзей. Однако, Маслов с талантом — рассказывать». 22 декабря: «Все ссорюсь с Николенькой». То же продолжается и в 1853 г.: «Он [Николай] эгоист; но все-таки я его люблю, и меня мучает, что я огорчил его». В июле 1853 г. Толстой опять в Пятигорске — там его сестра Марья Николаевна и брат Николай: «Холодность ко мне родных мучает меня». Для отношений с братом характерна и такая запись: «Проел 1. 30 и должен их Николеньке. Баста роскошничать».
Итак, после Тифлиса отношения братьев меняются — их пути расходятся. Николай хотя и пишет, но ни о какой литературной славе не помышляет, «не понимает, чтб такое тщеславие», живет в шумной компании товарищей-офицеров, легко сходится со всякими людьми, пьет и опускается, несмотря на всю свою талантливость, превращаясь в типичного «неудачника»; Лев, наоборот, вместо «пус- тяшного малого», на которого Сергей рукой махнул, а Николай решил попробовать вывести в люди и увез на Кавказ, оказывается человеком «трудным», «тяжелым», замкнутым, высокомерным, упорным в работе, мечтающим не только об офицерском чине, как об этом говорилось в письмах, но иногда и о «покорении Кавказа». Недаром он разбирал «Наказ» не как студент, а как соперник Екатерины — наклонности деспота, тирана, завоевателя обнаруживаются в мыслях и в поступках.
Характерна одна деталь. Выше я отметил тон первого письма Толстого к Некрасову — тон очень независимый, даже гордый, не похожий на тон тех многочисленных, вероятно, писем, которые Некрасов получал вместе с «самотечными» изделиями начинающих беллетристов. Второе его письмо — еще более независимое, а третье, уже после появления «Детства», написано тоном человека, сознающего свое право предъявлять требования: «Я буду просить вас, милостивый государь, дать мне обещание, насчет будущего моего писания, ежели вам будет угодно продолжать принимать его в свой журнал — не изменять в нем ровно ничего.— Надеюсь, что вы не откажете мне в этом». Это — тон человека, который умеет «делать» свою биографию. Если заглянуть в дневник, то видно, что над этим последним письмом Толстой работал так же, как и над «Детством» — тон был глубоко обдуман и выработан в деталях. 8 ноября 1852 г.: «Написал письмо редактору, которое успокоило меня, но которого не пошлю». 17 ноября: «Еще раз писал письма Дьякову и редактору, которые не пошлю. Редактору слишком жестко[248], а Дьяков не поймет меня. Надо привыкнуть, что никто никогда не поймет меня. Эта участь должна быть общая всем людям слишком трудным».
Это приводит к одному частному, но важному выводу: не только к воспоминаниям Толстого о себе и его публичным «исповедям», но и к письмам его надо относиться с осторожностью — не как к абсолютно-достоверным «документам» (к чему склонны многие его биографы). Таких «неотосланных» писем, кроме указанных, очень много, а еще, конечно, больше черновиков. Об этом Толстой сам пишет Ергольской 16 сентября 1851 г.: «Вы мне много раз говорили, что у вас нет привычки писать черновики для ваших писем; я следую вашему примеру, но у меня это не выходит так хорошо, как у вас, так как мне часто приходится рвать письма, после того, как я их перечитал. И это не из ложного стыда я так делаю. Орфографическая[249] ошибка, неловкое выражение не стесняют меня; но это от того, что мне не удается управлять хорошо своим пером и мыслями»[250]. И дальше — любопытный комментарий к тому, что разумеет Толстой под «управлением» мыслями: «Я только что разорвал письмо, которое написал вам, потому что я наговорил там много такого, чего я не хотел вам говорить, и не сказал того, что хотел. Быть может, вы думаете, что это скрытность, и скажете, что нехорошо скрывать от людей, которых любишь и которыми чувствуешь себя любимым. Я согласен. Но согласитесь и вы, что безразличному человеку можно все сказать, но, чем ближе вам человек, тем больше есть вещей, которые бы хотелось скрыть от него...». Вывод дополняется: письма Толстого к близким людям требуют сугубой осторожности, а дневники, как письма, написанные к самому близкому человеку — к самому себе, содержат, очевидно, только то и только в таком виде, в каком Толстой считал это нужным и возможным делать. Важные намеки и оттенки, чем места подробные и обдуманные, а такие важны уже не как фактический материал, а лишь как материал «характерный» — по методу или по стилю. Многое отсутствует вовсе — и биографу надо догадываться, привлекая материал со стороны и строя гипотезы. Разговоры об «откровенности» пора оставить — они наивны, а по отношению к такому человеку, как Толстой, просто смешны. Он слишком сложен и достаточно наделен чувством «историчности» своих слов и поступков, чтобы позволить себе такую обывательскую роскошь, как «откровенность». Недаром он в 1874 г. написал А. А. Толстой, цитируя Наполеона: «Вы говорите, что мы, как белка в колесе. Разумеется. Но этого не надо говорить и думать. Я, по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что du haut de ces pyramides 40 sifccles me contemplent и что весь мир погибнет, если я остановлюсь»[251]. Если это и поза для адресата, то — характерная.
Возвращаюсь к вопросу об отношениях Толстого к брату Николаю. К середине 1852 г. Толстой начинает освобождаться от благоговения перед братом и от его влияния. Роли меняются — Толстой берет верх: спорит, упрекает, советует. Эти отношения еще осложнены литературным соперничеством, о котором я упомянул выше. Я позволяю себе сделать предположение, что «Казаки», начатые в 1852/53 г., были отложены Толстым вплоть до 1857 г. отчасти потому, что значительная доля материала оказалась использованной Николаем в его «Охоте на Кавказе». Первоначальный замысел («Очерки Кавказа») был, по-видимому, близок по общему плану и материалу к тому, что написал Николай. Фабулы, над которой потом (в 1857-1858 гг.) Толстой упорно работал, превращая «очерки» в «повесть», тогда, вероятно, не было. Это должны были быть отчасти этнографические, отчасти нравоописательные очерки, а в центре их должен был быть, очевидно, тот самый Епишка, который очень детально и ярко изображен Николаем. Толстой, может быть, ревнуя за свои очерки (где должны были быть «рассказы Епишки об охоте»), советует Николаю «бросить рассказы об охоте, а обратить больше внимания на описание природы и нравов». Однако на деле Толстому самому пришлось отказаться от своего замысла, и вернулся он к нему только в 1857 г., когда «Охота на Кавказе» явилась в печати и вызвала у Толстого желание заново взяться за свой старый замысел и попробовать сделать из него роман или даже «поэму»[252]. Он победил, но Фет, очень осторожно обходящий вопрос об отношении Толстого к брату и их литературном соперничестве, говорит несколько двусмысленно: «будучи от природы крайне скромен, он нуждался в расспросах со стороны слушателя. Но, наведенный на какую-либо тему, он вносил в нее всю тонкость и забавность своего добродушного юмора. Он, видимо, обожал младшего своего брата Льва. Но надо было слышать, с какой иронией он отзывался о его великосветских похождениях. Он так ясно умел отличать действительную сущность жизни от ее эфемерной оболочки, что с одинаковою иронией смотрел и на высший и на низший слой кавказской жизни. И знаменитый охотник, старовер, дядюшка Епишка (в «Казаках» гр. JI. Толстого — Ерошка), очевидно, подмечен и выщупан до окончательной художественности Николаем Толстым»[253]. В последних словах скрыт как будто намек на то, что честь художественного открытия «Ерошки» принадлежит в данном случае не столько Льву, сколько Николаю.
И в самом деле — основной материал тот же. Вторая глава, посвященная описанию жизни Епишки и охоты с ним, до подробностей совпадает с описанием Ерошки в «Казаках». М. О. Гершензон, в предисловии к отдельному изданию «Охоты на Кавказе»[254], пишет: «Сразу видно, что оба описания тождественны до мелочей. В портрете Епишки у Н. Н. Толстого нет ни одной черты, которая не была бы, часто даже в тех же словах, воспроизведена Л. Н. Толстым в Ерошке. Если прав П. И. Бирюков, утверждающий, что «Казаки» написаны в Гиере, т. е. осенью и зимой 1860 г., то даже не совсем понятно, как Л. Н. решился вывести в повести фигуру, в которой всякий памятливый читатель должен был тотчас узнать живое лицо, описанное три года назад в статье, напечатанной в Современнике». По дневникам Толстого видно, что после 1852 г. работа над «Казаками» возобновилась весной 1857 г. после того, как в июне 1856 г. он получил от Николая «Записки», очевидно, для передачи в «Современник». Три дня подряд Толстой читает их и записывает: «Прелестно... Читал прелестнейший рассказ, Чеченк Н. Вот эпический талант громадный... Читал Николенькин рассказ, опять заплакал». Об этих «Записках» Толстой написал Тургеневу, который отвечал: «Чрезвычайно заинтересовали вы меня тем, что вы мне говорите о записках вашего брата, и я почти уверен, зная его, что вы не преувеличиваете. Очень бы мне хотелось их послушать»[255]. Судя по письму Тургенева к Д. Колбасину, Н. Толстой был сам в июле 1856 г. у Тургенева в Спасском.
Толстой принимается за «Казаков» после того, как он с увлечением читает Пушкина — особенно «Цыган». Мысль об «очерках» брошена — он старательно работает над фабулой и называет свою вещь в дневниках то поэмой, то романом. При таком повороте материала он, вероятно, решил прямо воспользоваться «Охотой на Кавказе», особенно после смерти Николая в 1860 г. Надо полагать, что и другое сходство, обнаруженное А. Е. Грузинским в рассказе Н. Толстого «Пластун»[256], не случайно: «Это было давно, я был еще малолеток и сидел в секрете. Вдруг вижу плывет карчь, только — плывет она не так, как следует, а наперекоски, как будто человек, и, действительно, это был человек. Черкесин привязал поверх себя сук да и плывет на нашу сторону, бисов сын. Вот я как его пальнул, так он и поплыл уже как следует, т. е. вниз по воде. Уж на другой день его поймали там на низу. И рад же я был, что удостоился, ухлопал бесова сына». Этот кусок развернут у Толстого в большую сцену (Лукашка убивает абрека), имеющую сюжетное значение. Если принять во внимание, что именно в 1857/58 г. Толстой начал приближаться к тому кризису, который вызвал остановку в литературной работе и привел к педагогическим занятиям, то чтение «Записок» Николая и восторженное отношение к ним получают особый смысл. Соперничества такого, какое было в 1852 г., между ними уже нет — Толстой, как известный и всеми признанный писатель, покровительствует брату, и сам, под впечатлением его «Записок», пробует себя в «эпическом» роде. 14 июня 1856 г. после слов «Читал Николенькин рассказ» записано: «Начинаю любить эпический легендарный характер». Слова «эпический» и «лирический» служили Толстому для обозначения противоположностей своей манеры. Так, 3 января 1863 г. Толстой записывает: «Эпический род становится мне один естественен», а 23 февраля того же года (отчасти, по-видимому, под впечатлением «Mis6rables» Гюго, о которых дан отзыв — «сильно») пишет: «Перебирал бумаги — рой мыслей и возвращение или попытки возвращенья к лиризму. Он хорош».
Николай умер в сентябре 1860 г. от чахотки, в Гиере. Толстой, бывший при нем до конца, пишет брату Сергею об этом событии письмо, в котором, между прочим, говорит: «И он покорился, и стал другой: кроткий, добрый этот день; не стонал, ни про кого не говорил, всех хвалил и мне говорил: "Благодарствуй, мой друг". Понимаешь, что это значит в наших отношениях». Это место письма подтверждает, что отношения братьев были вовсе не такими простыми и безоблачными, как их обычно изображают биографы. Николая сначала раздражали великосветские замашки брата, а позже — его всевозможные помещичьи затеи и проекты. Я думаю, что в лице Николая Левина («Анна Каренина») Толстой изобразил не брата Дмитрия, как обычно говорят, а соединил обоих братьев (как он делал это и в других случаях) — и больше взял от Николая, чем от Дмитрия. В том же письме к Сергею, которое я цитировал, он пишет, сопоставляя смерть Дмитрия и Николая: «С Митенькой были связаны воспоминания детства и родственное чувство только: а это был положительно человек для меня, которого мы любили и уважали положительно больше всех на свете». Чувства любви и особенно уважения (которое недаром выделено Толстым) не исключают сложности отношений. Это подтверждается теми страницами «Анны Карениной», где описывается приезд Николая Левина в имение к Константину. Здесь, по-видимому, использованы те бурные ссоры и споры между братьями, следы которых имеются в дневниках. Толстой рассказывает: «кротости брата Николая хватило не надолго. Он с другого же утра стал раздражителен и старательно придирался к брату, затрогивая его за самые больные места». Далее идет спор о рабочей силе — Константин старается доказать брату правильность своей идеи, а брат иронически «осуждает» ее и умышленно смешивает ее с коммунизмом: «Ты только взял чужую мысль, но изуродовал ее и хочешь прилагать к неприложимому... Там, — злобно блестя глазами и иронически улыбаясь, говорил Николай Левин, — по крайней мере, есть прелесть, как бы сказать, геометрическая — ясности, несомненности. Может быть, это утопия. Но допустим, что можно сделать из всего прошедшего tabula rasa: нет собственности, нет семьи, то итрудустрояется. Но у тебя ничего нет...». Константин начинает горячиться, «потому что в глубине души он боялся, что это была правда, — правда то, что он хотел балансировать между коммунизмом и определенными формами и что это едва ли было возможно. — Я ищу средства работать производительно и для себя и для рабочего. Я хочу устроить... — отвечал он горячо. — Ничего ты не хочешь устроить; просто, как ты всю жизнь жил, тебе хочется оригинальничать, показать, что ты не просто эксплуатируешь мужиков, а с идеей. — Ну, так ты думаешь, и оставь! — отвечал Левин, чувствуя, что мускул левой щеки его неудержимо прыгает. — Ты не имел и не имеешь убеждений, а тебе только бы утешать свое самолюбие. — Ну, и прекрасно, и оставь меня! — И оставлю. И давно пора, и убирайся к чёрту! и очень жалею, что приехал».
После приведенного выше материала можно с уверенностью утверждать, что эта сцена воспроизводит одну из действительных ссор между братьями. Как в «Истории вчерашнего дня», Толстой поднялся над собственными дневниками, сделав их материалом художественной обработки, так здесь Толстой с той беспощадностью, которую я и назвал выше «цинизмом» или «нигилизмом», использует интимный материал своих воспоминаний, не вошедший даже в дневники. Я особенно прошу обратить внимание на тот упрек, который больнее всего должен был подействовать на Толстого и запомниться ему на всю жизнь: «Ты не имел и не имеешь убеждений». Братья хорошо понимали друг друга именно потому, что они были и очень разные и очень сходные. Фет пишет о них: «я убежден, что основной тип всех трех братьев Толстых тождествен, как тождествен тип кленовых листьев, не взирая на все разнообразие их очертаний. И если бы я задался развить эту мысль, то показал бы, в какой степени у всех трех братьев присуще то страстное увлечение, без которого в одном из них не мог проявиться поэт Л. Толстой. Разница их отношений к жизни состоит в том, с чем каждый из них отходил от неудавшейся мечты. Николай охлаждал свои порывы скептической насмешкой, Лев уходил от несбывшейся мечты с безмолвным укором, а Сергей — с болезненной мизантропией»[257].
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 1852-1856
1
Еще в период работы над «Детством» у Толстого возникают планы новых вещей, а некоторые из них и пишутся. Кроме «Очерков Кавказа» он задумывает сначала «кавказский рассказ» (история семейства Джеми): «Очень хочется мне начать коротенькую кавказскую повесть, но я не позволю себе этого сделать, не окончив начатого труда»; потом, в мае 1852 г., начинает писать «письмо с Кавказа», которое продолжает в июне и июле — оно же, по-видимому, отделывается в ноябре («описание войны») и посылается 26 декабря 1852 г. Некрасову («Набег»). Кроме того, в мае же задумывается «другой роман», план которого «начинает обозначаться» в августе, — это то, что фигурирует в ноябрьских дневниках под названием «Роман русского помещика». «Отрочество» пока отложено.
Поскольку Толстой во всей своей работе исходит пока из «натуры», из личных наблюдений, он, естественно, должен выбрать одно из двух: либо военный, либо помещичий материал. Успех «Детства» окрыляет его надежды, но, вместе с тем, заставляет его сильно задуматься над дальнейшим. 26 ноября 1852 г. он, получив письмо от Некрасова с просьбой прислать что-нибудь и с предложением 50 руб. за лист, записывает в дневнике: «Мне дают 50 руб. сер. за лист, и я хочу, не отлагая, писать рассказ, о котор. начал сегодня. Я слишком самолюбив, чтоб написать дурно, а написать еще хорошую вещь едва ли меня хватит». О том же он пишет Некрасову 27 ноября: «Очень сожалею, что не могу тотчас исполнить вашего желания, прислав что-нибудь новое для напечатания в вашем журнале... Хотя у меня кое-что и написано, я не могу прислать вам теперь ничего: во-первых, потому, что некоторый успех моего первого сочинения развил мое авторское самолюбие и я бы желал, чтобы последующие не были бы хуже первого, во-вторых, вырезки, сделанные цензурой в Детстве, заставили меня, во избежание подобных, переделывать многое снова»[258]. В этот же день в дневнике записано: «Не идет Кавказский рассказ. Написал Некрасову и теперь успокоился на этот счет», а на другой день вынесено любопытное решение: «пробовал писать, не идет. Видно, прошло для меня время переливать из пустого в порожнее. Писать без цели и надежды на пользу не могу». К чему относится такая суровая оценка — «переливать из пустого в порожнее»? Очевидно — к «Детству». Здесь были сделаны усилия придать вещи более или менее традиционный «беллетристический» характер; теперь Толстого, по-видимому, тянет совсем в сторону от «беллетристики», к каким-то другим жанрам. И действительно — вслед за этим решено: отделать «описание войны», продолжать «Отрочество» как роман «поучительный» и писать «Роман русского помещика» как роман «догматический».
Мысль о каких-то военных очерках или рассказах должна была явиться у Толстого не только потому, что он сам в это время был на военной службе и участвовал в походах и «набегах», но и потому, что в литературе этих лет, рядом со всякими охотничьими рассказами и записками (С. Аксаков, И. Тургенев, J1. Ваксель и др.), стали появляться в журналах и отдельных изданиях и пользоваться большим успехом всевозможные военные очерки, воспоминания и «записки» — вплоть до разных «рассказов русского солдата»[259]. Помимо злободневного «общественного» интереса здесь был интерес и чисто-литературный — злободневности оказалось по пути с литературой. Батальный материал не так давно (в двадцатых и тридцатых годах) занимал в беллетристике и даже в поэзии очень видное место — Булгарин одно время славился именно как зачинатель этого жанра[260]. Рядом с этим Кавказ сделался любимым местом действия, пройдя через поэмы Пушкина, повести Марлинского, стихи и прозу Лермонтова.
Даже независимо от материала — в те годы военная среда была вообще основной культурной средой, и занятия литературой входили в программу ее деятельности — хотя бы в виде «досугов». Вышедший в 1825 г. в прекрасном издании (в двух частях) сборник «Калужские вечера», хотя и совершенно архаистический (если его сопоставить, например, с произведениями Пушкина), показывает, однако, что связь между военной службой и литературным дилетантством считалась тогда естественной и традиционной. «Калужские вечера» открываются любопытным предисловием редактора: «Во время квартирования 2-й гренадерской дивизии в городе Калуге (1817—1821) общество гг. офицеров согласилось в продолжение долгих зимних вечеров собираться между собою и читать некоторые свои произведения по части словесности (также доставляемые им пиесы от посторонних), без всякого хвастовства и притязания на право литераторов, а и того менее для снискания славы остроумных или ученых, единственно же для своей забавы и на досуге от должностей по службе. — Собрание таковых произведений представляется ныне на суд беспристрастной публике как бы в виде отчета и в самых забавах военного; человека, приобыкшего во всех своих деяниях и намерениях к гласной ответственности». Речь редактора, «читанная в кругу любителей русской словесности в городе Калуге» и служащая как бы программой сборника, перечисляет тех мудрецов, ораторов и писателей, которые занимались военным делом — начиная с «первейшего из завоевателей Юлия Цесаря» и Сократа, который «узнал все, что принадлежит до морской и сухопутной службы» и «умел править рулем, как самый лучший кормчий». Тут и Цицерон, и Эрцилл («писал и в стане и на море поэму свою Арау- кана»), и Гарциллас («пел стихи свои на развалинах Карфагена»), и Сервантец («тяжело был ранен в сражении Лепантском»), и Лопец-де Вега, и Кальдерон, и Флориан («был драгунским капитаном»), и Клейст («был гусарским полковником»), и Кернер — всемирная литература под особым углом зрения, «для сослуживцев моих на военном поприще». Во всем этом есть как будто скрытая вражда к «литераторам» как таковым и к новым направлениям литературы. Пушкин не упоминается нигде, а воздается хвала Державину, Дмитриеву, Хераскову, Фонвизину, Шишкову. Притом и язык и жанры сугубо архаистичны. Связь военной профессии с литературными «забавами» дошла, как традиция (через Лермонтова, В. Соллогуба и др.), до пятидесятых годов. Очень характерна одна фраза в письме товарища Толстого В. А. Иславина (12 августа 1852 г.): «Ты, я вижу, пустился в нравоописательные романы; пришли-ка нам сюда, посмотрим, как-то у вас там фейерверкеры сочиняют»[261].
Возвращение к военным темам и к описаниям Кавказа в литературной обстановке пятидесятых годов, должно было быть использовано для противопоставления новых «натуральных» тенденций старым, преимущественно стилистическим и сюжетным. Вместо поэм и новелл должны были явиться очерки и «записки», вместо фабул — описания, вместо условных героев-удальцов — обыкновенные люди, вместо напряженного лирического стиля — стиль полунаучный, корреспондентский, точно и детально знакомящий с фактами. Особенным успехом среди этой литературы пользовались «Записки об Аварской экспедиции на Кавказе 1837 года» Я. Костенецкого, печатавшиеся в «Современнике» (1850. № 10,11 и 12) и вышедшие отдельным изданием в 1851 г. Характерна рецензия на это сочинение в «Современнике» (1851. Т. XXVI) — ее, как и самое сочинение, наверное, читал Толстой: «Было время, когда о Кавказе писалось у нас довольно много, благодаря Марлинскому, которого успех порождал подражателей-прозаиков, и Пушкину, которого "Кавказский пленник" породил в свое время множество кавказских поэм. Несмотря на то, публика наша мало знала о Кавказе и неоткуда было почерпать ей сведений о нем; потому что все, что писалось тогда о Кавказе, относилось более к области фантазии, чем в самом деле к Кавказу. Местность Кавказа, нравы населяющих его разнообразных племен, жизнь русских посреди этих племен, самая природа Кавказа, — все это очень мало обращало на себя внимание тогдашних повествователей и поэтов. Да и не могло быть иначе, потому что большая часть их о Кавказе знала очень мало, только по слухам, никогда не бывав в нем или прожив три месяца в Пятигорске. Недостаток фактических сведений, обыкновенно, пополнялся красотами цветистого слога, сделавшегося до того неизбежным в кавказских повестях, что одно время кавказская повесть и высокий слог были синонимами в русской литературе. Только с недавнего времени начали, и то весьма редко, появляться сочинения о Кавказе, принадлежащие к такому разряду, каких нужно желать как можно более. Цветы красноречия заменились в них богатством фактов, собранных тщательно, в течение многих лет, на месте... Одним из первых сочинений о Кавказе, в котором высокий слог уступил наконец место фактам, было сочинение г. Костенецкого... Редакции "Современника", объяснившись с автором, легко было бы уничтожить некоторые строки, которые, может быть, не понравятся современному критику, ищущему во всем художественной целости и замкнутости, всюду преследующему идею; но она не сделала этого и не находила нужным, потому что сохранение некоторых добродушных черт, некоторых, по-видимому, излишних подробностей не только не умаляет достоинства сочинения, — напротив, оно от них выигрывает в степени доверия, получаемого читателем к рассказу автора». Здесь с достаточной ясностью, показывающей ясность самого вопроса, формулировано литературное значение этой новой «военно-кавказской» литературы. «Записки» Костенецкого содержат в себе элементы разнообразных жанров и стилей, не объединенные, а просто перемешанные. Жанр научной, географической и этнографической статьи («Географический очерк Дагестана», «Главнейшие племена, населяющие его» и т. д.) сменяется жанром журнального очерка: «Наконец мы выступили в поход 8 мая. В этот день как-то особенно прекрасно взошло солнце, и утро было тихое и очаровательное. Воздух был свеж и наполнен благоуханием трав и цветов; алмазная роса сверкала по зелени; соловьи пели в цветущих уже кустарниках; жаворонки щебетали в поднебесьи. Эта восхитительная картина природы располагала каждого к радости и порождала самые сладкие мечты. В каком-то восторженном состоянии был весь отряд. Не говорю уже о легковерной юности; но я приглядывался к самым степенным физиономиям — и в них не заметил никакого мрачного чувства: так все радовались походу и так обольстительны были надежды каждого! Об опасностях или смерти никто и не думал. Эта мысль редко приходит в голову кавказского воина даже в самом сражении, а уже тем менее при начале похода... Все были веселы, довольны, счастливы, как будто шли не на кровавый, а на веселый дружеский пир... Дорогою солдатам нескучно. Они или поют песни, или рассказывают свои похождения, сказки, анекдоты, шутят и толкуют о командирах. Между ними есть закаленные весельчаки, люди, у которых ни язык, ни ноги никогда не устают; и счастлива рота, которая имеет такого балагура. Она не знает, как время летит, и не заметит, как дойдет до привала. Скажет словцо — животики надорвешь; а как пойдет в плясовую, так всю усталость как рукой снимет». Здесь же — и остатки традиционной беллетристики («светской повести»), нечто вроде вставной новеллы: молодой поручик Б*** рассказывает автору трагическую историю своей любви: «я влюблен, и эта несчастная страсть, несмотря на отдаление, преследует меня еще с большей силой, нежели в Петербурге», — так начинает поручик свой рассказ; соперник обманул его при помощи подменного кольца, обман раскрывается, происходит ссора — «и я должен был уехать на Кавказ...». Но главное место занимает описание самого похода и природы.
Рецензент прав, указывая на то, что эти «записки» отступают от прежних «поэтических» описаний Кавказа. Это особенно сказывается в некоторых местах, где автор сам подчеркивает разницу: «Взобравшись на вершину, мы остановились ночевать. Дождь шел большой и холодный, и, покамест разбивали мокрые палатки, я лег на одну полу своей шинели, а другою плотно закутавшись, около часу выдерживал сильную атаку дождя, сопровождаемого громом и молнией. Я сильно был недоволен такою майскою аварскою погодой; но пуще всего надоедали мне облака, которые как раз под носом у меня проходили и осмеливались даже проникать до костей моих. От них несло таким холодом, каким только обдают нас стихи поэтов, которые летают туда за своими вдохновениями, и мне очень хотелось бы разочаровать наших юных мечтателей насчет воздушных стран, насчет жилища в облаках, куда они так рвутся мыслью и душой. Поверьте; мне, мои друзья! мне, в серой шинели на облаках лежавшему и всем телом дрожавшему, — что в них не было ни вечного рая, ни вечных радуг, ни даже упоительного эфира, а только слякоть, холод, сырость, гром, молнии. И только разве тогда с нами, и полагаю еще в первый раз, попало на эти поэтические облака несколько бочек настоящего эфирного спирта; но и тот так крепко был закупорен или так прилежно выпит, что, вероятно, ни одного его атома в них не осталось...». Далее указывается точно, от какой традиции отступает автор и над кем иронизирует: «В этом-то треугольнике, над пропастью, в углу, под горою Гакаро, виднелся
Хунзах со своими тусклыми саклями и башнями, тотХунзах, о котором так восторженно мечтают все читатели "Аммалат-бека", — тот Хунзах, о котором и мы слыхали так много чудесного... но об этом после — когда увидим его вблизи». После подробного, совершенно делового описания Хунзаха и его жителей автор пишет: «Они все магометане, хотя очень плохие. Богослужение отправляется у них на языке арабском, который даже редкий мулла понимает; следов же другой какой религии, особенно христианской, не осталось ни в каком наружном памятнике, — и то был только вымысел Марлинского, который изобразил такую эффектную сцену между Аммалат-беком и Салтанетой в развалинах одного древнего христианского храма. Кстати скажу здесь, что Марлинский никогда не был в Хунзахе, и описанная им его поэтическая местность нисколько не сходна с действительностью».
Есть в этих «Записках» Костенецкого и специальный кусочек, посвященный «храбрости», — то, что так интересовало Толстого, еще в июне 1851г. записавшего в дневнике несколько размышлений на эту тему («меня поразили 3 вещи: 1) Разговоры офицеров о храбрости» и пр.), а затем 31 мая 1852 г.: «писал о храбрости» (очевидно, — начало «Набега»), Костенецкий описывает сражение под деревней Гимри: «Тут для меня наступила решительная минута в моей жизни или по крайней мере в моем военном поприще. До сих пор я еще не мог знать себя, храбр ли я или трус, и мысль показаться последним, особливо в самом начале моих боевых подвигов, меня сильно пугала. Я жестоко боялся первой пули, — не собственно ее, а того страху, какой, говорят, она обыкновенно наводит на непривыкшего и которому непременно каждый новичок поклонится; а мне очень не хотелось отдавать ей такого невольного почтения, которое влечет за собой невыгодное мнение товарищей... как вдруг, покамест мы строились, пуля просвистала мимо меня в нашу колонну, и один какой-то рекрут ей поклонился. Смех раздался над несчастным; но я с изумлением смотрел на самого себя и душевно радовался, что я ей не поклонился. Это было для меня большим поощрением; я вдруг начал себя чувствовать храбрым как нельзя больше и уже с презрением слушал свист пуль, мимо меня пролетавших».
В том же «Современнике», открывшем поход на «цветистый» слог кавказских повестей, напечатана повесть П. Карловича «Предгорное ущелие» (1851. Т. XXVI. № 3). Она ближе стоит к беллетристике, чем «Записки» Костенецкого, но отступление от традиционной кавказской «романтики» в сторону «факта» и «простоты» проведено в ней совершенно отчетливо. Об этом свидетельствует уже начало, написанное в стиле популярного учебника географии: «Если б кто-нибудь, поднявшись на лодочке аэростата, мог окинуть одним взглядом владения наши на северном склоне Кавказа, он увидел бы, во-первых, одну обширную, безлесную и безводную степь, с востока и запада замкнутую Каспийским и Черным морями, к северу сливающуюся с равнинами Астраханской губернии и Донской земли, и, наконец, с южной стороны заключенною стеною Кавказа. Продолжая пристальнее вглядываться, наш предполагаемый наблюдатель заметил бы быстро скатывающиеся с гор две струи, которые, выбежав на равнину, вдруг поворачивают одна к северо-западу, другая к северо-востоку и продолжают течь почти параллельно главному направлению Кавказа. Эти две струи — Терек и Кубань». Далее — из области популярной этнографии: «Тут русский человек с смышленным своим видом, с русой бородкой, пришедший сюда из внутренних губерний и служащий где-нибудь при полку маркитантом; тут и ногаец безобразный и жалкий потомок властвовавших некогда в России татар, приземистый, сутуловатый, с китайскими глазами и сплюснутым носом, босой и оборванный; тут и горец, тоже босой и оборванный, но вооруженный с ног до головы, статный, развязный, суровый видом, дикий». Только после этих подробных, деловых, «фактических» описаний начинают выступать персонажи повести, среди которых — Ефим Иваныч Поклёв- кин, одной своей фамилией нарушающий «высокую» традицию, и капитан Кру- тобоков, «маленький, толстенький, румяненький», постоянно рассказывающий одни и те же анекдоты. Что касается жены Крутобокова, то она использована автором специально для иронии по адресу старой беллетристики: «Как-то раз попался ей под руку один старинный и очень пламенный роман: она прочла его с восхищением, много плакала и решилась читать, читать без конца. Романы Загоскина, Булгарина, Калашникова, Марлинского, вся беллетристика двадцатых и начала тридцатых годов была ею поглощена с жадностию. Она кинулась и на переводы: читала Вальтер-Скотта зевая, Бальзака с восхищением, Поль-де-Кока — с большою приятностью».
К этому примыкает и одна сцена — разговор г-жи Крутобоковой с гостями: « — А видели ли вы Салтанету?[262] — продолжала Дарья Петровна, обращаясь к Jle- вадину. — Нет; она должна быть теперь старухой и, вероятно, не похожа на такую, какою описана. Я видел другое лицо из того же романа — молочного брата Амма- лат-Бека: высокий, плечистый детина... — А! вы знаете его? — воскликнул Кру- тобоков.— Вот как о Кавказе пишут! хотя бы Марлинский ваш, например, называет человека Сулейманом, тогда как, вам известно, его зовут Уллу-беем. — Да, это ужасное невежество, — сказал Левадин, — зато ему и достанется ныне; вот и господин Эймунд им, кажется, недоволен. — Марлинский... — Молчите, Эй- мунд! — воскликнула Дарья Петровна. — Я вам сто раз говорила, чтоб вы не смели раскрывать рот про Марлинского. — Да то ли еще толкуют про Кавказ! — продолжал Иван Сидорыч: — Вот я вам в прошедший раз начал рассказывать про наводнение...».
После этих примеров, иллюстрирующих поворот от старых традиций «кавказской» беллетристики (особенно в «Современнике», систематически и сознательно проводящем эту мысль), соответственные места кавказских очерков Толстого («Набег», «Рубка лесу») не кажутся неожиданностью и входят в намеченную линию. Таков, например, в «Набеге» поручик Розенкранц: «Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинско- му и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму "героев нашего времени", Мулла-Нуров и т. п. и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов». Или в «Рубке леса» — разговор о Кавказе: «Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками — все это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д.». Интересно, что в такой трактовке Кавказа Толстой следует не просто своему личному чувству, а именно литературной тенденции, формулированной «Современником». Вне этого он пишет иначе и о Кавказе и о войне. 9 июля 1854 г., прочитав «Измаил- бея» Лермонтова, он находит очень хорошим начало и записывает в дневник: «Может быть это показалось мне более потому, что я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно хорош этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи: война и свобода».
Укажу кстати, что в «Предгорном укреплении» Карловича есть и литературный предок или «кузен» толстовского дяди Брошки, конечно, гораздо более скромный, не сознающий своей колоритности — гребенской казак Иван Бородатый: «В стороне раздавались одушевленные звуки лезгинки и мерное прихлопывание в ладони. На скрыпице, домашней работы, по шелковым струнам, беспощадно пилил изогнутым смычком седой казак в косматой шапке и желтой черкеске. Волоса на голове и борода этого казака были серебристо-белы, но лицо его было моложаво, свежо, румяно; глаза были бойки, веселы и несколько лукавы; вся фигура его дышала силой и отвагой. Он играл и припевал, и приплясывал порою, а в промежутке точил балы, острил и задевал то того, то другого из присутствующих; но никто и не думал сердиться, потому что Иван Бородатый — известный шутник и балясник. Густой кружок стоял вокруг него и, прихлопывая в ладони, не спускал глаз с старого балагура. — Ну, ты, Магамат! — говорил он чеченцу, который бойко выделывал ногами лезгинку: — гайда! гайда! живо! ай-да: кунак!.. Бойко, бойко, Магамат!.. Гоп тралла! Гоп тралла!.. А ты, Арина, что засмотрелась на меня? аль старик приглянулся?.. Да какой я старик! я ваших молодых за пояс заткну... И старик, пролетая мимо хорошенькой Арины, влепил звонкий поцелуй в румяные ее щеки». А вот и его автохарактеристика: «ведь вы знаете, Бородатому везде вольная дорога, куда глаз глянул; везде я дома!.. Был я и на море — на славном на Каспийском, ходил по лебедя; да мало что-то становится: всему нынче перевод! Был в Чечне, куда вашей милости — не во гнев будь сказано — и с пятью батальонами не пройти... а Бородатый один идет, и где ружьем, где прибауткой, где по-орлиному, а где и по- лисьему, — цел и невредим, да еще и вашей милости гостинца привез: пару куньих шкурок...».
«Кавказские очерки» были первоначально задуманы примерно в таком широком и свободном плане, в каком составлены «Записки» Костенецкого — быть может, даже не без их воздействия: «1) Нравы, народ: а) история Садо, Ь) рассказ Балты, с) поездка в Мамакай-Юрт. 2) Поездка на море: а) история немца, Ь) армянское управление, с) странствование кормилицы. 3) Война: а) переход, Ь) движение, с) что такое храбрость». К этой программе потом присоединено: «4) Рассказы Япишки: а) об охоте, Ь) о старом житье казаков, с) о его похождениях в горах». На деле все вышло иначе: первые два пункта отпали, третий образовал «Набег», а четвертый — вошел в «Казаков». При этой ломке программы, естественно, изменился и самый жанр — вместо «очерков» явилось нечто другое, ближе стоящее к «рассказу», чем предполагалось первоначально. Так, Толстой и сам замечает в записи от 7 декабря 1852 г., с некоторым, по-видимому, разочарованием: «Мне кажется, что все написанное очень скверно. Ежели я еще буду переделывать, то выйдет лучше, но совсем не то, что я сначала задумал». Рассказ был заново переписан — и не раз, пока, наконец, Толстой остался им доволен: «Окончил рассказ, он не дурен» (24 декабря).
В противоположность «Детству» — «Набег» написан «с целью»: вступление выдвигает общий вопрос о войне и храбрости. На фоне этого вопроса постепенно выступают отдельные персонажи рассказа и описываются события. В этом смысле
Толстой отступает здесь от обычной «беллетристики», никак не мотивирующей самой подачи того или другого материала. «Генерализация» понадобилась как конструктивная мотивировка, как точка зрения: это не просто рассказ, а наблюдение некоего «волонтера», ищущего ответа на свой вопрос. Это очень важно было Толстому именно потому, что в такой вещи, не опирающейся на фабулу, а строящейся на деталях, тон должен быть особо мотивирован. Вопрос о тоне, о «характере автора» — один из главных вопросов, над которыми задумывается Толстой в эти первые годы и пробует решать по-разному. Запись от 24 октября 1853 г. показывает, что Толстой ставил перед собой этот вопрос очень определенно: «Читая сочинение, в особенности чисто-литературное — главный интерес составляет характер автора, выражающийся в сочинении. Но бывают и такие сочинения, в которых автор аффектирует свой взгляд или несколько раз изменяет его. Самые приятные суть те, в которых автор как будто старается скрыть свой личный взгляд и вместе с тем остается постоянно верен ему везде, где он обнаруживается. Самые же бесцветные те, в которых взгляд изменяется так часто, что совершенно теряется». Именно в связи с вопросом о «характере автора» Толстой решил сделать «Набей» «рассказом волонтера». Об этом свидетельствует специальная запись: «Завтра начинаю переделывать "Письмо с Кавказа", я себя заменю волонтером». Это, очевидно, для того, чтобы мотивировать взгляд со стороны — право как на непрофессионально-военные «генерализации», касающиеся храбрости, смысла войны и пр., так и на детали, на «мелочность».
Толстой в дневниках часто употребляет слово «форма». Так, например, собираясь в 1858 г. описывать лето, он задумывается: «Какая форма выйдет». В отзыве о «Записках» брата Николая сказано: «У него много таланта, но форма не хороша». Что значило для него это слово — по крайней мере в начале пятидесятых годов? Им, по-видимому, покрывались понятия «тона» и конструкции вместе; оно соответствует понятию «жанра». Николай писал свою «Охоту на Кавказе» свободно, как очерки, не окрашивая своего повествования никаким особым авторским «тоном» и не задумываясь над последовательностью изложения. Для Толстого это — основные вопросы. Оставив мысль об «очерках», он с тем большим старанием обдумывает и переделывает свое «Письмо с Кавказа». В основу рассказа легла последовательность временная — по солнцу, как и у Костенецкого; но сверх этого отдельные элементы и эпизоды рассказа использованы и выдвинуты так, что они приобретают сюжетное значение, создавая акценты. Один акцент — смерть прапорщика Аланина, образующая как бы вершину рассказа; другой, чисто-стилистический, — повторение в конце, с некоторым вариантом, куска из начала второй главы (песни, барабан и подголосок шестой роты). При этом главные фигуры рассказа, выступающие поочередно один на фоне другого — капитан )Оюпов, поручик Розенкранц, прапорщик Алании и саксонец Каспар Лаврентьич — сведены вместе в последней главе: «Саксонец, Каспар Лаврентьич, рассказывал другому офицеру, что он сам видел, как три черкеса целились ему прямо в грудь. В уме офицера, поручика Розенкранца, слагался полный рассказ о деле нынешнего дня. Капитан Хлопов с задумчивым лицом шел перед ротой и тянул за повод белую лошадку. В обозе везли мертвое тело хорошенького прапорщика».
Так найдена была «форма» для «Набега». Но Толстой придает гораздо больше значения другой своей работе, над которой думаете июля 1852 г.: «Обдумываю план русского помещичьего романа с целью». В августе и сентябре план продолжает обдумываться и кое-что набрасывается. 1 октября записано: «Отпустил Шкалика[263]порядочно. Ежели я каждый день буду писать по стольку, то в год напишу хороший роман». 4 октября: «Разрешил вопрос о заключении романа: После описи имения, неудачной службы в столице, полуувлечения светскостью желания найти подругу и разочарования в выборах, сестра Сухонина остановит его. Он поймет, что увлечения его (не дурны), но вредны, что можно делать добро и быть счастливым, перенося зло». Но на другой день Толстой решает, что, оставаясь на Кавказе, он не в состоянии «описать крестьянский быт», — и роман откладывается: «Писать не принимаюсь серьезно. Нет уверенности». 19 октября Толстой опять решает взяться за роман: «он может быть не совершенство, но он всегда будет полезной и доброй книгой. Поэтому надо за ним работать и работать не переставая». И вслед за этим, рядом с программой «Очерков Кавказа», которые Толстой собирается писать «для образования слога и денег», записано «основание романа русского помещика»: «Герой ищет осуществления идеала счастия и справедливости в деревенском быту. Не находя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его наводит его на мысль, что счастие состоит не в идеале, а в постоянном жизненном труде, имеющем целью — счастие других».
Роман этот занимает в мыслях и планах Толстого особое место, являясь «догматическим», т. е. определенно тенденциозным, нравоучительным, и тем самым выходя за пределы обыкновенной «литературы». Когда он думает о нем, то, вслед за окончанием его, ему рисуется какая-то нелитературная, а практическая деятельность — как осуществление наделе тех тенденций, развитию которых будет посвящен роман. 3 августа 1852 г. записано: «В романе своем я изложу зло правления русского, и ежели найду его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического избирательного, соединенного с монархией правления, на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни». Позже, 11 декабря 1852 г., записано: «Решительно совестно мне заниматься такими глупостями, как мои рассказы, когда у меня начата такая чудная вещь, как "Роман помещикаЗачем деньги, дурацкая литературная известность. Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полезную вещь. За такой работой никогда не устанешь. А когда кончу, только была бы жизнь и добродетель, — дело найдется».
В предисловии к роману, написанном «не для читателя, а для автора», Толстой подробно развивает и распределяет мысли, которые должны лечь в его основу. Эти мысли разделены на «главные» и «побочные» — так, как разделяет композитор темы будущей симфонии: «Главное основное чувство, которое будет руководить меня в этом романе, — любовь к деревенской помещичьей жизни. Сцены столичные, губернские и кавказские все должны быть проникнуты этим чувством — тоской по этой жизни... Главная мысль сочинения: счастие есть добродетель... Побочные мысли: главные пружины человеческой деятельности 1) добрые: а) добродетель, Ь) дружба, с) любовь к искусствам; 2) злые: а) тщеславие, Ь) корысть, с) страсти, а1) женщины, Ы) карты, с1) вино». Затем — любопытная «отрицательная мысль», явно направленная против беллетристических традиций: «любовь, в романах составляющая главную пружину жизни, в действительности — последняя»[264].
Итак, помимо всего другого, Толстой хочет противопоставить обычному для этой эпохи типу романа — с любовной фабулой и с материалом из светской жизни — роман «деревенский», помещичий, и без любви. Косвенно это подтверждается тем, что 21 декабря 1852 г. Толстой записывает: «Читал хорошую статью Сенковского». Это, очевидно, статья, посвященная двум романам — «Племяннице» Е. Тур и ««Большой барыне» В. Вонлярлярского («Библиотека для чтения» 1852. Т. 116. Ноябрь), — статья ироническая, значительная часть которой направлена против набивших оскомину романов из светской жизни. Некоторые страницы этой статьи должны были очень понравиться Толстому и ободрить его — настолько они совпадали с его мыслями и намерениями: "Племянница" принадлежит к разряду романов of high life и занимается почти исключительно нравами и обычаями искусственной жизни богачей, праздностью, тщеславием, мотовством, суетою того класса людей, очень ограниченного во всех обществах, который именует себя большим светом. В числе больших светов есть, как видно из романа, один большой свет поменьше прочих — крошечный большой свет — который образовался в Москве из обломков подлинно-большого света, и надувается, что есть мочи, ветром и пустотою, чтобы казаться побольше. Все большие светы более или менее страдают праздностью и ее плачевными последствиями, но этот крошечный большой свет, по-видимому, уж решительно ничего не делает. Да и что прикажете ему делать? У него нет ни разнообразия стремлений, ни предметов высшего честолюбия, ни случаев к стяжанию богатства, ни даже служебных обязанностей, так спасительно отвлекающих от безделья по крайней мере на несколько часов в сутки. Он каждую зиму умирает от скуки и, рассеяния ради, разоряется на ложный блеск, которым даже и ослепить некого... Многим удивительно нравятся романные сюжеты из событий и обычаев большого света. Некоторые даже и не любят другого рода сюжетов, отзываются с презрением о них и о тех, кому случается избирать их (предпочтительно для повести, и требуют непременно картин из изящной или светской жизни, для потех своей гордости или любопытства. Я не полагаю, чтобы праздность была такой художественный предмет, как это многие воображают. Смотреть, как переливают из пустого в порожнее, для меня лично не представляет чрезвычайной занимательности». Сенковский рекомендует обратиться к «среднему свету»: «В деятельной и деловой жизни среднего света — самого многолюдного и самого кипучего — несравненно более разнообразия происшествий, живописных положений, необузданных страстей, резких характеров, любопытных стремлений, целей, занятий, потех и страданий, одним словом — художественного материала; и интерес повестей, которые относятся к этому свету, естественно превосходит интерес, приписываемый некоторыми, из личного тщеславия, искусственной жизни богачей».
Итак, Толстой хочет написать «нравоучительный помещичий» роман не только потому, что он сам помещик, озабоченный судьбой своего хозяйства, но и потому, что современная беллетристика, с ее светскими романами и повестями, не удовлетворяет его. Недаром обычное и самое увлекательное для него чтение — старая литература, авторы XVIII века, среди которых Руссо занимает первое место. В современных журналах он охотно читает статьи или такие вещи, как «Признания» Ламартина, «Литературный характер» Д'Израэли и пр. Кроме того, в 1853 г. он усиленно не только читает, но и штудирует русскую историю — в том числе Уст- рялова и Карамзина: «Взял историю Карамзина и читал ее отрывками. Слог очень хорош. Предисловие вызвало во мне пропасть хороших мыслей». Интерес к Карамзину не ограничивается этим, а идет глубже, подтверждая мысль о том, что Толстой в своей литературной работе идет к возрождению каких-то старинных жанров. 20 декабря 1853 г. он записывает: «Читая философское предисловие Карамзина к журналу "Утренний Свет", который он издавал в 1777 году и в котором он говорит, что цель журнала состоит в любомудрии, в развитии человеческого ума, воли и чувства, направляя их к добродетели, я удивлялся тому, как могли мы до такой степени утратить понятие о единственной цели литературы — нравственной, что заговорите теперь о необходимости нравоучения в литературе, никто не поймет вас. А право, не худо бы как в басне при каждом литературном сочинении писать нравоучение — цель его. В "Утреннем Свете" помещались рассуждения о бессмертии души, о назначении человека, Федон, жизнь Сократа и т. д. Может быть, в этом была и крайность, но теперь впали в худшую. Вот цель благородная и для меня посильная — издавать журнал, целью которого было бы единственно распространение полезных (морально) сочинений, в который принимались бы сочинения только с условием, что при них было нравоучение, печатание или непечатание которого зависело бы от воли автора. Кроме того, что без исключения из журнала этого была бы исключена полемика и насмешка над чем бы то ни было, по самому направлению своему он не сталкивался бы с другими журналами»[265].
Любопытно, что в записи того же дня Толстой, давно забросивший свой «Роман русского помещика» и работавший весь 1853 год над «Отрочеством» и другими вещами, возвращается к мысли о нем и снова принимается писать его, а «Отрочеству» выносит суровый приговор: «Отрочество из рук вон слабо — мало единства и язык дурен». О «Романе» же он пишет: «Одно, чем, как мне кажется, вознаградилось месячное бездействие, в котором я нахожусь — это тем, [что] план " Романа русского помещика" ясно обозначился. Прежде придумывая богатство содержания и красоту мысли, я писал наудачу. Не знал, что выбирать из толпы мыслей и картин, относящихся к этому предмету». Тем не менее работа над романом и на этот раз прерывается — вплоть до 1856 г., когда в дневниках снова фигурирует то «дневник помещика», то «роман помещика». 21 ноября 1856 г. записано: «у Боткина весь вечер, прочел "Роман русского помещика", решительно плохо, но напечатаю. Надо вымарывать». В записях конца ноября эта вещь носит уже название «Утро помещика», под каким она и появилась в «Отечественных записках» (1856. № 12). Четырехлетняя работа привела в конце концов к небольшому отрывку, который Толстой напечатал, по-видимому, больше для денег.
Основная причина этой неудачи, конечно, в том, что по отношению к этому роману Толстой никак не решил проблему «формы», а все время надеялся на то, что вещь будет спасена «необыкновенностью мысли». Между тем примитивно- тенденциозной вещи Толстой не мог написать уже по одному тому, что всякая мысль существовала для него рядом с другой или другими. Он не столько отдавался той или другой мысли, сколько изобретал ее и иногда любовался, но ненадолго. Большое количество отвлеченных мыслей, формул и правил в дневниках нисколько этому не противоречит, потому что всем им разительно противоречила сама жизнь Толстого, идущая наперекор. Это не «убеждения», а именно мысли, которые сам Толстой наблюдает со стороны и выбирает из них те, которые ему нравятся. Чтобы не быть голословным, я приведу запись Толстого от 15 ноября 1853 г., достаточно убедительную: «Отвлеченные мысли суть не что иное как способность человека в известном состоянии деятельности души, не прекращая этой деятельности, остановить на ней свое внимание и перенести это состояние души в воспоминание. Есть мысли, которые, проходя в уме, остаются незамеченными, есть другие, которые как будто оставляют более глубокий след, так что невольно стараешься уловить их (это те, которые я записываю)». Тут особенно замечательно и характерно для Толстого то, что он самое образование «отвлеченных мыслей» связывает с воспоминанием. Иначе говоря, они для него — не продукт мышления, а продукт вспоминания о мышлении, результат наблюдения и выбора; говоря еще иначе, они фиксируются Толстым не как «убеждения», не как абсолютные «истины», а как материал. Отсюда — два вывода: 1) Толстой может оперировать только теми «отвлеченными мыслями», которые уже отошли в «воспоминание», которые он может поэтому не просто высказать, как высказывает их мыслитель, а «уловить», не прекращая «деятельности души»; 2) Толстой может писать только тогда, когда материал прошел сквозь воспоминание и переработан им так, что на него можно смотреть «со стороны». Этими особенностями определяется многое в творчестве Толстого. Вспоминание для него — основной творческий процесс, захватывающий не только «картины», но и мысли. Недаром он сам употребил такое выражение — «придумывать» мысли. Отсюда — постоянная тоска по «довольству настоящим» и постоянные оглядки назад, зафиксированные в дневниках в виде целого ряда автохарактеристик." Вот одна (23 октября 1853 г.): «Довольствоваться настоящим! Это правило, прочитанное мною нынче, чрезвычайно поразило меня. Я живо припомнил все случаи в моей жизни, в которой я не следовал ему, например в ближайшем ко мне по времени случае в моей службе, я хотел быть юнкером-графом, богачом, с связями, замечательным человеком, тогда как самое полезное и удобное для меня было бы быть юнкером-солдатом. Как много интересного я тогда мог бы узнать в это время и как много неприятного избежал бы. Но тогда положение мое было ближе ко мне, поэтому-то я не так ясно видел его. Затронутые страсти (гордость, тщеславие, лень) давали другой вид положению и подсказывали уму другие размышления». Вот — другая (1854 г.): «Что я такое? Один из 4-х сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17 лет; без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил, человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни; наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов, и главное — привычек, а оттуда придравшихся к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в дунаевскую армию 26 лет прапорщиком почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без уменья жить в свете, без знания службы, без практических способностей, но — с огромным самолюбием. Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность. Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intoldrant) и стыдлив как ребенок. — Я почти невежда. — Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку, и то так мало. — Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, т. е. люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием, но есть вещи, которые я люблю больше добра — славу. Я так честолюбив, и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью — первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них».
Дело тут не в «двойственности», как принято говорить, а в двойном процессе или в двух процессах сознания, из которых один перерабатывает материал, доставляемый другим: один, «дневной» — процесс наблюдения, который требует от самого наблюдателя участия в деятельности, требуемой в данный момент; другой, «ночной» — процесс вспоминания, свободно оперирующий доставленным материалом. У Толстого соотношение этих процессов и сила каждого из них страшно обострены; это вносит своеобразные черты и в его жизнь, и в его творчество, и в их взаимодействие. Искусство для него есть способ вызывать воспоминания; об этом он говорит в ранней редакции «Детства», описывая игру матери на рояле: «Музыка не действует ни на ум, ни на воображение. В то время, как я слушаю музыку, я ни о чем не думаю и ничего не воображаю, но какое-то странное сладостное чувство до такой степени наполняет мою душу, что я теряю сознание своего существования, и это чувство — воспоминание. Но воспоминание чего? Хотя ощущение сильно, воспоминание не ясно. Кажется, как будто вспоминаешь то, чего никогда не было. Основание того чувства, которое возбуждает в нас всякое искусство, не есть ли воспоминание? Наслаждение, которое нам доставляет живопись и ваяние, не происходит ли из воспоминания образов? Чувство музыки не происходит ли из воспоминания о чувствах и переходах от одного чувства к другому? Чувство поэзии не есть ли воспоминание об образах, чувствах и мыслях?.. Для того, кто испытал чувство, выраженное музыкой, оно есть воспоминание, и он находит наслаждение в нем; для другого же оно не имеет никакого значения»[266]. Недаром Толстой так любил стихотворение Пушкина «Воспоминание», недаром начал с «Истории вчерашнего дня» и перешел к «Детству» — к воспоминаниям. И недаром, наконец, все его вещи более или менее «автобиографичны» — вплоть до «Декабристов». Чисто- исторической вещи, как задуманный им роман из эпохи Петра Великого, Толстой не мог написать, потому что «воспоминание» было тут ни при чем. «Война и мир» осуществилась потому, что ее военным фоном была Крымская кампания, а семейным — яснополянская жизнь.
Это — дополнение к тому, что я говорил в начале о «цинизме» и «нигилизме». Исключительное значение той «деятельности души», которую Толстой сам называет «воспоминанием», приводило его неизменно к «нигилизму», потому что превращало каждую мысль из «убеждения» в «материал». А в «жизни» было другое: «На мне всегда несколько отражается тон человека, с которым я говорю: он говорит напыщенно, и я тоже, он мямлит, и я тоже, он глуп, и я тоже, он говорит дурно по-французски, и я тоже» (запись 22 ноября 1853 г.). Вот наблюдение, которым схвачен «дневной» процесс — процесс жизни, не перешедший еще в область «воспоминания». Мы можем прибавить: с офицерами Толстой — офицер, хотя и странный; с помещиками — помещик, хотя и с фантазиями; с «толстовцами» — «толстовец», хотя и недостаточно последовательный; в творчестве — Толстой ни то, ни другое, ни третье.
2
1853-й год в творчестве Толстого — год опытов и неудач. «Роман помещика» брошен, «Отрочество» идет медленно и трудно, новые опыты или не удаются, или кажутся случайными и не удовлетворяют. С некоторым недоумением оглядываясь на себя, он записывает в дневнике 22 мая 1853 г.: «Долги мои все заплочены. Литературное поприще открыто мне блестящее. Чин должен получить; молод и умен. Чего кажется желать?»
Начатый в январе 1853 г. «очерк» или «рассказ» (в дневнике — «Святочная ночь», в рукописи — «Как гибнет любовь») в мае брошен. Как и «Роман русского помещика», рассказ этот должен был быть нравоучительным, но, как и там, проблема тона и герой не была решена. Как в «Утре помещика» отношение автора к герою из лирического и сочувственного переходит в ироническое и вещь кончается движением в сторону (Нехлюдов у рояля), так и здесь «цель» рассказа оказывается сбитой главой о цыганах и цыганском пении, развившейся в целый исторический и теоретический очерк с неожиданным авторским «я». Напрасно Толстой старается оправдать этот скачок и вернуться к фабуле: «Да извинят меня читатели, которые не интересуются цыганами, за это отступление; я чувствовал, что оно неуместно, но любовь к этой оригинальной, но народной музыке, всегда доставлявшей мне столько наслаждения, преодолела». Рассказ обрывается на следующей же главе, упершись в нравоучение.
Толстой берется за «Отрочество» и пишет сначала с охотой. Но вот 27 июля 1853 г. появляется запись: «Читал "Записки Охотника" Тургенева и как-то трудно писать после него». Проходит месяц — и мы читаем: «Решился бросить "Отрочество" и продолжать "Роман" и писать рассказы кавказские... Жалко бросать "Отрочество", но что делать? Лучше не докончить дело, чем продолжать делать дурно». Правда, работа над ним все-таки продолжается, но без того увлечения, которое нужно. 22 октября записано: «Отрочество опротивело мне до последней степени»; 23 октября, после прочтения в «Современнике» повести Жуковой («Наденька»): «Я берусь за свою тетрадь "Отрочества" с каким-то безнадежным отвращением, как работник, принужденный трудиться над вещью, которая, по его мнению, бесполезна и никуда не годна. Работа идет неаккуратно, вяло и лениво. Докончив последнюю главу, нужно будет пересмотреть все сначала и сделать отметки и начерно окончательные перемены. Переменять придется много. Характер "я" вял, действие растянуто и слишком последовательно во времени — а не последовательно в мысли. Например, прием в середине действия описывать для ясности и выпуклости рассказа прошедшие события, с моим разделением глав, совсем упущен».
Среди этой тягостной работы, диктуемой не столько увлечением, сколько упорством и желанием скорее послать что-нибудь «редактору», у Толстого вдруг возникает мысль «Записок маркера» (запись 13 сентября 1853 г.): «Мне кажется, что теперь только пишу по вдохновению, от этого хорошо». И на следующий день: «Пишу с таким увлечением, что мне тяжело даже: сердце замирает. Стрепетом берусь за тетрадь». 16 сентября рассказ уже кончен, а 17-го отправлен Некрасову в сопровождении следующего письма: «Посылаю небольшую статью для напечатания в вашем журнале. Я дорожу ею более, чем Детством и Набегом; поэтому в третий раз повторяю условие, которое я полагаю для напечатания — оставление ее в совершенно том виде, в котором она есть. В последнем письме вашем вы обещали мне сообразоваться с моими желаниями в этом отношении... Напечатать эту статью под заглавием, выставленным в начале тетради, или: Самоубийца. Рассказ маркера будет зависеть совершенно от вашего произвола»[267]. Ответа долго не было. В объявлении об издании «Современника» в 1854 году («Современник». 1853. № 11) среди повестей, обещанных редакцией, фигурирует, правда, «Рассказ маркера, повесть^. Н.», но 6 февраля 1854 г. Толстой, в ответ на свои запросы, получил от Некрасова письмо, которое должно было сильно расстроить его: «Ваших писем я получил не два, а одно; отвечал вам довольно скоро по получении рукописи («Записки маркера») по старому вашему адресу (на имя Н. Н. Толстого). Там я излагал и мнение об этой вещи, опрашивал вас в заключение — печатать ли все-таки эту вещь, или вы соглашаетесь на мои замечания? Итак, приходится мне теперь повторить эти замечания. Зап. марк. очень хороши по мысли и очень слабы по выполнению; этому виной избранная вами форма; язык вашего маркера не имеет ничего характерного — это есть рутинный язык, тысячу раз употреблявшийся в наших повестях, когда автор выводит лицо из простого звания; избрав эту форму, вы без всякой нужды только стеснили себя: рассказ вышел груб и лучшие вещи в нем пропали. Извините, я тороплюсь и не выбирал выражений, но вот сущность моего мнения об этом рассказе; это я счел долгом сообщить вам, прежде чем печатать рассказ, так как я считаю себя обязанным вам откровенностью за то лестное доверие, которым вы меня удостоили. Притом ваши первые произведения слишком много обещали, чтобы после того напечатать вещь сколько-нибудь сомнительную. Однако же я долгом считаю прибавить, что если вы все-таки желаете, я напечатаю эту вещь немедленно, мы печатаем много вещей и слабее этой, и если я ждал с этою, то потому только, что ждал вашего ответа. Жду его и теперь и надеюсь получить скоро с Отрочеством, которое может быть напечатано очень скоро, если вы не замедлите с его присылкою»[268].
Ответ Толстого неизвестен, но Некрасов потом переменил свое мнение и писал Толстому 17 января 1855 г.: «В 1 № "Совр." на 1855 год поместил я ваш рассказ "Записки маркера", в котором, кажется, я ошибался, в 1-м чтении он мне не понравился, о чем я вам и писал, но, прочитав его недавно, спустя почти год, я нашел, что он очень хорош и в том виде, как написан — по крайней мере был хорош в рукописи, потому что в печати и его таки оборвали — впрочем, существенного ничего не тронуто»[269].
Первоначальное мнение Некрасова было связано, вероятно, с тем, что «Записки маркера», в противоположность прежним вещам Толстого, написаны от лица определенного рассказчика, по образцу многих появившихся тогда рассказов из «простонародного» быта (в том числе — и Писемского). Правда, «Набег» был озаглавлен как «рассказ волонтера», но это было мотивировкой не стиля, а самого материала. Здесь же, после неудавшейся «Святочной ночи», Толстой решает проблему повествовательного тона тем, что стилизует всю вещь под особый сказ с характерным словарем, синтаксисом и интонациями. Но рассказ этим не исчерпывается, на что Некрасов, при первом чтении, не обратил внимания. Толстой в этой вещи ищет способа совсем обойти авторское повествование. Следом за рассказом маркера идет сразу письмо Нехлюдова, написанное совершенно в духе покаянных записей самого Толстого — вплоть до наблюдения за парадоксами душевной жизни: «Я думал прежде, что близость смерти возвысит мою душу. Я ошибался. Через четверть часа меня не будет, а взгляд мой нисколько не изменился. Я так же вижу, так же слышу, так же думаю; та же странная непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях, столь противоположные тому единству, которые, бог знает, зачем, дано воображать человеку. Мысль о том, что будет за фобом и какие толки будут завтра о моей смерти у тетушки Ртищевой, с одинаковой силой представляются моему уму». Таким образом, тон автора-рассказчика выключен из этого рассказа. Проблема «формы» разрешена сопоставлением двух лексически- противоположных стилей: рассказ маркера («со стороны») и документ, заменяющий нравоучение. Фабула сама по себе осталась как бы за кулисами, сюжет построен без помощи авторского повествования.
Этот новый опыт Толстого получает особенное значение, если принять во внимание, что в конце 1853 г. он усиленно занят теоретическими размышлениями, явившимися, очевидно, в результате неудачи с «Святочной ночью» и в связи с медленностью и трудностью работы над «Отрочеством». 25 октября 1853 г., уже после отсылки рукописи, Толстой записывает: «Я начинаю жалеть, что слишком поспешно послал "Записки маркера". По содержанию едва ли я много бы нашел изменить или прибавить в них. Но форма не совсем тщательно отделана». Именно вслед за этим идет ряд записей, свидетельствующих о том, что Толстой занят не столько писанием, сколько чтением и анализом. Он читает Пушкина, Карамзина, Писемского. 31 октября 1853 г. записано: «Я читал "Капитанскую дочку" и увы! должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара — не слогом — но манерой изложения. Теперь справедливо — в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы как-то». Как видно из этих слов, под «новым направлением» Толстой понимает уход от фабулы, замену ее психологическими «подробностями». На этом пути, однако, он сталкивается с теми затруднениями, о которых упоминал и раньше — когда писал о том, что им «упущен» в «Отрочестве» прием «в середине действия описывать прошедшие события». В «Записках маркера» Толстой сознательно обошел эту трудную для него задачу — задачу авторского повествования, которая в его системе оказывается тем более сложной, что он стремится к писанию «нравоучительных» вещей. В той же записи (31 октября) далее следует: «Читая рассказ какой-то английской барыни, меня поразила непринужденность ее приемов, которой у меня нет, и для приобретения которой мне надо трудиться и замечать». Возможно, что рассказ, о котором здесь говорится, — «Дядя Тим» Бичер-Стоу, напечатанный в «Современнике» (1853. № 9). В нем действительно есть именно та «непринужденность» повествования, которая так не давалась Толстому: «Имеете ли вы понятие о местечке Ньюбори в Новой Англии? Нет, бьюсь об заклад, что нет. Это одна из тех отдаленных деревень, куда ездят только желающие полюбоваться красотою или простотою природы... Теперь два слова о нравах и обычаях ньюборийских жителей... Не станем говорить о волокитствах Джемса: это было бы слишком длинно. Он влюблялся во всех женщин, и если бы все произведенные им впечатления не уничтожались одно другим, то бог знает, до чего довело бы его слишком нежное сердце. Но наконец, к нашему счастию, ветреный Джемс начал остепеняться, и его влюбчивое сердце не на шутку попалось в плен. Мы посвятим несколько страниц прославлению нашего героя, что же касается до героини, то... Но прежде позвольте... Видите ли вы там, вдали, домик, окрашенный темною краской? Вы, верно, знаете этот домик» и т. д. Эту непринужденность повествования имеет в виду Толстой, когда записывает 3 декабря: «У меня есть большой недостаток — неумение просто и легко рассказывать обстоятельства романа, связывающие поэтические сцены».
Другая забота Толстого — борьба с рутиной. В той же записи 31 октября читаем: «Часто в сочинении меня останавливают рутинные, не совсем правильные, основательные и поэтические способы выражения; но привычка встречать их часто заставляет писать их. Эти-то необдуманные, обычные приемы в авторстве, недостаток которых чувствуешь, но прощаешь от частого употребления, для потомства будет служить доказательством дурного вкуса. Мириться с этими приемами — значит идти за веком, исправлять их — значит идти вперед его». Прежде смущавшая Толстого медленность его работы кажется ему теперь достоинством: «Вот факт, который надо вспоминать почаще. Теккерей 30 лет собирался написать свой 1-й роман, а Алекс. Дюма пишет по 2 в неделю». (21 января 1854 г.)
1854-й год не вносит почти ничего нового в творчество Толстого, но зато много нового в его жизнь. Еще весной 1853 г. он подал в отставку — с тем, чтобы вернуться в Ясную Поляну и заняться хозяйством и литературой. Но война с Турцией помешала осуществлению этих планов — выходить в отставку было запрещено. Тогда Толстой решает перейти в Дунайскую армию и распрощаться со станицей Старогладковской, от которой взял все, что мог. В конце 1853 г. он пишет брату Сергею: «Когда я приеду? Знает один бог, потому что вот уже год скоро, как я только о том и думаю, как бы положить в ножны свой меч, и не могу. Но так как я принужден воевать где бы то ни было, то нахожу более приятным воевать в Турции, чем здесь, о чем и просил князя Сергея Дмитриевича, который писал мне, что он уже писал своему брату, но что будет, не знает»[270]. В январе 1854 г. Толстой выехал из Старогладковской, 2 февраля приехал в Ясную Поляну и, повидавшись с братьями и родными, уехал в Бухарест, а оттуда в лагерь под Силистрией. Литературная работа отступила на второй план: Толстой попал в обстановку настоящей войны и отдался новым настроениям и наблюдениям. Он целыми часами смотрит в подзорную трубу — «как люди убивают друг друга», и восторгается своим начальником: «Это великий человек, т. е. человек способный и честный, как я понимаю это слово, человек, который всю жизнь отдал на служение родине, и не ради тщеславия, а ради долга». Он мечтает о штурме Силистрии, а главная его мечта теперь — «быть адъютантом такого человека, как он, которого я люблю и уважаю от всей глубины моего сердца»[271].
В промежутке между военными обязанностями Толстой пишет понемногу «Записи фейерверкера». 9 июля он кончил их, но «так недоволен, что едва ли не придется переделать все заново или вовсе бросить, но бросить не одни "Записки фейерверкера", но бросить все литераторство, потому что ежели вещь, казавшаяся превосходною в мысли, выходит ничтожна наделе, то тот, который взялся за нее, не имеет таланта». В этот же день Толстой читает Пушкина и Лермонтова и, под впечатлением «Измаил-Бея», переносится в воспоминание о Кавказе. У Пушкина его поражают «Цыгане» — «которых, странно, я не понимал до сих пор». Под влиянием этих чтений он даже пробует сочинять стихи: «Посмотрим, что из этого выйдет».
Толстой выбит из своей прежней литературной колеи. Он уже совсем было приготовился к тому, чтобы стать писателем и забыть об офицерском чине, но Севастополь, куда он попадает в ноябре 1854 г., совершенно сбивает все его кавказские планы. Он — не «интеллигент», он — бравый военный и патриот, пишущий письма соответствующим языком: «Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: "Здорово, ребята!" говорил: "нужно умирать, ребята, умрете?" и войска отвечали: "умрем, ваше превосходительство, ура!" И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уже 22 ООО исполнили это обещание... Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде, 24-го, было 160 человек, которые раненые не вышли из фронта. Чудное время!.. Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то потомство поставит ее выше всех других... Только наше войско может стоять и побеждать (мы еще победим, в этом я уверен) при таких условиях. Надо видеть пленных французов и англичан (особенно последних): это молодец к молодцу, именно морально и физически, народ бравый. Казаки говорят, что даже рубить жалко, и рядом с ними надо видеть нашего какого-нибудь егеря: маленький, вшивый, сморщенный какой-то»[272].
Далекий от каких бы то ни было общественных интеллигентских настроений, начавших уже проявляться «в России»[273], Толстой решает приложить к делу свои мечты о «добродетели»: он вместе с приятелями-офицерами организует общество для содействия просвещению и образованию среди войск. От этого плана кружок переходит к другому — к плану журнала «Солдатский вестник». Это затеяно, конечно, из побуждений не просто филантропических, а и деловых — для борьбы с «вредными слухами» и для поддержания в войсках того, что называется «хорошим духом». Эта цель достаточно ясно выступает как в проекте журнала, проредактированном Толстым, так и в письме Толстого к брату Сергею (20 ноября 1854 г.): «Теперь расскажу, каким образом ты в печати будешь от меня же узнавать о подвигах этих вшивых и сморщенных героев. В нашем артиллерийском штабе, состоящем, как, кажется, я писал вам, из людей очень хороших и порядочных, родилась мысль издавать военный журнал, с целью поддерживать хороший дух в войске, журнал дешевый (по 3 р.) и популярный, чтобы его читали солдаты. Мы написали проект журнала и представили его князю. Ему очень понравилась эта мысль, и он представил проект и пробный листок, который мы тоже составили, на разрешение государя. Деньги на издание авансируем я и Столыпин. Я избран редактором вместе с одним господином Константиновым, который издавал "Кавказ" и человек опытный в этом деле. В журнале будут помещаться описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах. Подвиги храбрости, биографии и некрологи хороших людей и преимущественно из темненьких; военные рассказы, солдатские песни, популярные статьи об инженерном и артиллерийском искусстве и т. д.» В конце письма — возвращение к прежним мечтам и планам: «Писать не пишу, но зато испытываю, как меня дразнит тетенька. Одно беспокоит меня: я четвертый год живу без женского общества, я могу совсем загрубеть и не быть способным к семейной жизни, которую я так люблю»[274].
Для правильной оценки военных настроений и поступков Толстого надо еще принять во внимание, что он уже давно носит в сердце некоторую обиду за то, что его систематически обходят наградами, которых он напряженно ждет. Отсюда — некоторый, весьма легкий, конечно, «либерализм», который сказывается и в этом письме: «Все это еще предположения, до тех пор, пока не узнаем ответ государя, а я, признаюсь, боюсь за него: в пробном листке, который послан в Петербург, мы неосторожно поместили две статьи, одна моя, другая Ростовцева, не совсем православные». Письмо кончается характерным сообщением: «За Силистрию я, как и следовало, не представлен, а по линии получил подпоручика, чему очень доволен, а то у меня было слишком старое отличие от прапорщика, стыдно было...» Впрочем, в самой программе журнала никаких намеков на либерализм нет: «1) Распространение между воинами правил военной добродетели: преданности престолу и отечеству и святого исполнения воинских обязанностей; 2) распространение между офицерами и нижними чинами сведений о современных военных событиях, неведение которых порождает между войсками ложные и даже вредные слухи[275]*, о подвигах храбрости и доблестных поступках отрядов и лиц на всех театрах настоящей войны» и т. д. В том числе — «улучшение поэзии солдата, составляющей его единственную литературу, помещением в журнале песен, писаных языком чистым и звучным, внушающих солдату правильные понятия о вещах и более других исполненных чувствами любви к монарху и отечеству»[276].
Стремления Толстого к «нравоучительной» литературе, к писанию «с целью» получили неожиданное осуществление, хотя и не в том плане. Но Толстой уже настолько проникся военным духом, что ему чуть ли не все читатели вообще представляются военными людьми; 11 января он пишет Некрасову, предлагая «Современнику» печатать доставляемый им материал: «Основная мысль этого журнала заключалась в том, что ежели не большая часть, то верно большая половина читающей публики состоит из военных, а у них нет военной литературы, исключая официальной военной литературы, почему-то не пользующейся доверием публики и потому не могущей ни давать, ни выражать направления нашего военного общества. Мы хотели основать листок, по цене и по содержанию доступный всем сословиям военного общества, который бы, избегая всякого столкновения с существующими у нас военно-официальными журналами, служил бы только выражением духа войска». Мысль войти с военным материалом в «Современник» явилась после того, как в ответ на посланную программу пришел ответ, предлагающий офицерам печатать свои статьи в «Русском инвалиде». Сообщая об этом Некрасову, Толстой пишет: «Но по духу этого предполагавшегося журнала вы поймете, что статьи, приготовленные для него, скорее могут найти место в "Земледельческой Газете" или в каком-нибудь "Арабеске", чем в "Инвалиде". Поэтому-то я и прошу вас дать некоторым отделам — почти всем неофициальным место в вашем журнале, и не временное, а постоянное. Я бы ежемесячно взялся доставлять от 2 до 5 и более печатных листов статей военного содержания, литературного достоинства никак не ниже статей, печатанных в вашем журнале (я смело говорю это — ибо статьи эти будут принадлежать не мне), и направления такого, что они не доставят вам никакого затруднения в отношении цензуры»[277]. На первый раз Толстой обещает прислать: «Письмо о сестрах милосердия», «Воспоминания об осаде Силист- рии», «Письмо солдата из Севастополя».
Переход Толстого на положение «военного корреспондента» было явлением в своем роде типичным для русской литературы этих годов. Если несколько лет назад, как я указывал выше, русская «беллетристика» оказалась сдвинутой в сторону промежуточными жанрами («записки», автобиографии, мемуары и пр.), то теперь она оказалась под давлением извне, заставляющим ее решительно подчиниться «практическим» заказам отчасти военного, отчасти краеведческого характера. Именно к этому времени (1855 г.) относятся организованные морским министерством экспедиции на север, на Волгу и на юг для ознакомления с бытом жителей, занимающихся морским делом и рыболовством. К участию в этих экспедициях были привлечены молодые писатели, проявившие интерес к «народной жизни»: А. Н. Островский, А. А. Потехин, А. Ф. Потехин, А. С. Афанасьев-Чуж- бинский, С. В. Максимов, М. И. Михайлов и др. «Год на севере» Максимова, «Поездка в южную Россию» Афанасьева-Чужбинского, очерки Потехина, «Путевые очерки» Писемского, «Путевые письма» П. Якушкина, «Путешествие по Волге» Островского — вот что явилось на свет в результате этих экспедиций. Родилась целая «этнографическая школа» беллетристики, из которой частью вышел и Лесков, а военные корреспонденции нашли свое завершение в «Войне и мире». В этом наплыве очерков, путешествий, писем и корреспонденции совсем потонула и опустилась на дно старая беллетристика. В центрах стала брать верх публицистика, во главе которой постепенно начинают становиться новые люди. Эта перемена особенно сказалась к концу 1855 г., когда даже официальные органы временно приобрели характер общественных изданий. Н. Шелгунов пишет в своих «Воспоминаниях»: «Даже специальные издания того времени расширили свои программы и сделали это не из "моды", а потому что нельзя было иначе. После Парижского мира, когда прогрессивные стремления охватили официальную Россию и проникли в правительственные и высшие сферы, правительственные органы взяли на себя тоже воспитательную роль и стали печатать не только беллетристику и этнографию, но даже ввели отделы критики и политики. К таким официальным изданиям, перешагнувшим через свою специальность, принадлежали "Военный Сборник" и "Морской Сборник". "Военный Сборник" пригласил в сотрудники Чернышевского, а "Морской Сборник" уж и совсем выскочил из своей программы»[278]. С другой стороны, журналы, строившие свой бюджет до сих пор на отделе «словесности», оказались в еще более критическом положении, чем это было в 1851 — 1852 гг. Все надежды Некрасова — на Тургенева: «Скажу тебе коротко и ясно: "Современник" в плачевном положении! Материалу нет!.. Итак, без преувеличения — явись — во имя тех 2849 человек, которые уже подписываются на "Современник", — явись спасителем "Современника"! Любезный друг, для этого нам нужны две твои вещи: одна на конец года (т. е. в X или XI кн.), другая на начало (т. е. на 1-ю книжку). Это, разумеется, меньше чего нельзя, а если можно больше, то тем лучше»[279]. А между тем и Тургенев в это время, несмотря на работу над «Рудиным», которого он только что кончил, настроен уныло; 20 августа 1855 г. он пишет Дружинину, может быть, как всегда, несколько позируя: «Мне все что-то кажется, что собственно литературная моя карьера кончена. — Эта повесть[280] решит этот вопрос... Я напрасно сказал —литературная карьера — я хотел сказать карьера беллетриста — потому что я надеюсь умереть литератором и ничем другим быть не желаю»[281].
В начале 1855 г. Толстой еще работает над «Юностью», но потом работа эта отступает перед военными рассказами и очерками. Этот переход несколько беспокоит Толстого, не оставляющего своих старых планов — писать «Юность» и «Роман русского помещика». Получив письмо от Некрасова, в котором он просил присылать «военные статьи», Толстой записывает 20 марта 1855 г.: «Приходится писать мне одному — напишу Севастополь в различных фазах и идиллию офицерского быта». 6 июля: «Писал дневник офицера в Севастополе — различные стороны, фазы и моменты военной жизни. — И печатать его в какой-нибудь газете. Я думаю остановиться на этой мысли, хотя главное мое занятие должно быть Юность и Молодость, но это для денег, практики, слога и разнообразия». 27 марта Толстой начал писать «Севастополь днем и ночью», а 8 мая послал его Некрасову. Он всерьез занят делом поставки Некрасову военных статей — на развалинах неосуществившегося журнала возникает целая организация корреспондентов для «Современника». 30 апреля 1855 г. Толстой сообщает Некрасову: «Теперь мы все собрались и литературное общество падшего журнала начинает организоваться и, как я вам писал, ежемесячно вы будете получать от меня две, три или четыре статьи современного военного содержания. Лучшие два сотрудника, Бакунин и Ростовцев, еще не успели кончить своих статей»[282].
У самого Толстого были заготовлены две статьи — «Тревога» и «Дяденька Жданов и кавалер Чернов», которые, в конце концов, вошли в текст «Рубки лесу», начатой им еще на Кавказе (в 1853 г.) и законченной только теперь. «Рубка лесу» написана еще в полубеллетристической манере — недаром Толстой решил посвятить эту вещь Тургеневу, а Некрасов, описывая ее Тургеневу, прямо утверждает: «Знаешь ли, что это такое? Это очерк разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), то есть вещь доныне небывалая в русской литературе. И как хорошо! Форма в этих очерках совершенно твоя, даже есть выражения, сравнения, напоминающие "Записки Охотника" — а один офицер так просто Гамлет Щ. уезда в армейском мундире. Но все это далеко от подражания, схватывающего одну внешность»[283]. Мелькнувшая в 1853 г. запись о «Записках Охотника» («Читал Записки охотника Тургенева и как-то трудно писать после него») — именно тогда, когда начата была работа над «Рубкой леса» — явилась, очевидно, признанием факта: отныне начинается длинная и сложная история литературных и житейских отношений Толстого и Тургенева, закончившаяся разрывом в 1861 г.
Некрасов употребляет слово «форма» примерно в том же смысле, в каком оно употребляется Толстым: повествовательный тон и конструкция. Действительно «Рубка леса» именно этими своими элементами больше всего соприкасается с «Записками охотника» — это тот же жанр, хотя и использованный для другого материала. Как и в «Набеге», движение рассказа следует за движением солнца; как и там — один эпизод (смерть солдата Веленчука), подготовленный и выделенный с самого начала, получает своего рода сюжетное значение, как бы заменяя собой отсутствующие элементы завязки и развязки; как и в «Набеге», финал построен при помощи возвращения начальной ситуации (солдаты у костра) и повторения тех же стилистических элементов. Неумение «связывать поэтические сцены», в котором упрекал себя Толстой, преодолено здесь по-тургеневски: восклицанием Веленчука («Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои!») прервана «сцена»; следует длинное отступление, посвященное классификации и характеристике солдатских типов, после чего «сцена» возобновляется тем же восклицанием. Так у Тургенева — в «Певцах», в «Бежином луге», основная ситуация которого (разговоры ночью у костра) сходна с «Рубкой леса». По-тургеневски сделан и финал рассказа: лирический пейзаж, повторяющий начальные элементы, сменяется сжатой заключительной фразой, резко меняющей интонацию и как бы возвращающей читателя к действительности, тем самым останавливая рассказ: «Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова с его седыми усами, красною рожей и орденами на накинутой шинели, чьи-нибудь сапоги, голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная мгла, в воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова; а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря, храпения, бряцания ружей часовых и тихого говора вторили ей. — "Вторая смена! Макатюк и Жданов!" — крикнул Максимов. Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям»[284].
«Рубка леса» писалось как завершение старых планов — «очерков Кавказа». Отсюда — и родство этой вещи с «Набегом». Новые вещи складываются несколько иначе. Это отражается, прежде всего, на характере авторского тона. Первый севастопольский очерк (в дневнике он называется «Севастополь днем и ночью») написан в форме корреспонденции или обозрения, с характерной заменой авторского «я» обращенным к читателю «вы». Это дает автору право и возможность чувствовать себя свободно в распределении материала — он водит за руку предполагаемого зрителя и комментирует наблюдаемые сцены. Правда, общая схема построения — движение по солнцу («Утренняя заря только-что начинает окрашивать» — «Уже вечереет. Солнце пред самым закатом» и т. д.) — осталась та же; следы прежних приемов конструкции сохранились и в финале, но зато Толстой обходится здесь без выдвигания отдельных лиц и освобождается от своего «Нехлюдова», который претендовал на роль «героя» в «Романе русского помещика» и в «Записках маркера». Форма обозрения помогает Толстому сосредоточиться на самом тоне повествования. Но характерно, что проблема повествования решается здесь подменой: вместо повествования перед нами — мозаика описательных кусков, «путеводитель» по Севастополю. От простого обозрения эта мозаика отличается тем, что вся она скреплена одной тенденцией — противопоставить обычным батальным картинам («в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами») картину иную («войну в настоящем ее выражении, — в крови, в страданиях, в смерти...»), и притом так, чтобы эта картина не была односторонне утрированной («вы увидите ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища»). Так мозаика превратилась в «панораму», вглядываясь в которую через призму, приготовленную автором, вы видите разнообразные вещи, контрастирующие, но не противоречащие друг другу: «Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на грешные мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки — весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте». Эти контрасты, перенесенные Толстым в описание Севастополя из того же материала душевной жизни, которыми заполнялись дневники, приводят к тому, что батальный жанр теряет свои специфические «военные» черты. Фурштатский солдатик ведет себя в Севастополе (поит лошадей, таскает орудия) «так же спокойно, самоуверенно и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске»; «на четвертом бастионе, по словам офицера, нынче "плохо", но не от бомб и пуль — «ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно»; морской офицер, произнося ужасные слова («это каждый день этак человек семь или восемь»), «зевает и свертывает папиросу из желтой бумаги...» Сам Толстой записывает в дневнике 13 апреля 1855 г. — как раз тогда, когда он кончал свой первый севастопольский очерк: «Постоянная прелесть опасности наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самым образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более, что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет». Основной тон первого севастопольского очерка в конденсированном виде, как заготовка, имеется уже в записи от 7 декабря 1854 г.: «Когда я вышел на берег, солнце уже садилось за английскими батареями, кое-где подымались облачка дыму и слышались выстрелы, море было тихо, мимо огромных масс кораблей неслись ялики и шлюпки, на Графской играла музыка и долетали звуки труб какого-то знакомого мотива. Голицын и еще какие-то господа, облокотись на перила, стояли около набережной. Славно!»
Итак, придя к военным корреспонденциям, имеющим определенную «практическую» цель, Толстой пришел к литературе и стал к ней ближе, чем когда сидел над «Романом русского помещика». Важно уже то, что он почувствовал себя в эпохе. Он становится энергичнее и увереннее. 18 июня 1855 г. он посылает «Рубку лесу», а 19-го уже начинает писать второй севастопольский рассказ (в дневнике он называется сначала «10 мая», потом — «Весенняя ночь»), который кончает 4 июля. «Современник» охотно печатает Толстого и хвалит. 29 июня записано: «Действительно я, кажется, начинаю приобретать репутацию в Петербурге. "Севастополь в декабре" государь приказал перевести по-французски».
Второй севастопольский рассказ — уже не корреспонденция, а нечто гораздо более сложное и смелое. Первый очерк был общим этюдом, нащупывавшим новый тон. Во втором тон этот определился — и очень своеобразно. Автор здесь выступает как оратор, как проповедник — он не повествует и уже не описывает, а декламирует, проповедует. Речь его приподнята и патетична. Он стоит над событиями и людьми, которые действуют в своем обычном плане и не замечают, что за ними следит какой-то пристальный и суровый наблюдатель. Рассказ построен уже не на контрастах сцен или картин, как в первом очерке, а на контрастах тона, стиля. В связи с этим здесь явно противостоят друг другу два основных элемента, соотношением которых образуется самое сюжетное движение вещи: авторский монолог и диалоги (или «внутренние монологи») персонажей, сопровождаемые деловыми ремарками и комментариями. Эти элементы резко разобщены — как две контрастные темы. Толстой недаром занимался музыкой: в конструкции многих его вещей можно наблюдать аналогии музыкальным формам. Во втором севастопольском рассказе впервые появляется нечто вроде интродукции, позже так оригинально использованной в «Двух гусарах», а затем и в «Декабристах». Эта интродукция, ярко окрашенная ораторскими приемами, нужна Толстому для того, чтобы следующее затем сообщение фактов, лишенное всякой лирики и всякой торжественности, звучало не само по себе, а на фоне предыдущего. Он освобождает себя от повествовательных мотивировок, резко противопоставляя высокий тон ораторской речи — низкому тону «сообщения». Получается тот двойной смысл, та смысловая и тематическая многозначность, которая нужна Толстому. Это — новая форма того самого, что мы видели, например в «Записках маркера», где весь смысл вещи, весь его «сюжет», получался из сопоставления двух контрастирующих (не только стилистически, но и лексически) речевых слоев: маркерского «сказа» и патетического письма Нехлюдова.
«Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и из траншей на бастионы, и ангел смерти не переставал парить над ними. Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи — успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти. Сколько розовых гробов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же с невольным трепетом и страхом смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя, на черные, движущиеся по ним фигуры наших матросов, и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей с еще более разнородными желаниями к этому раковому месту. А вопрос, не решенный дипломатами, все еще не решается порохом и кровью».
Эта интродукция написана вся одним дыханием, одной интонационной фигурой, которая укреплена повторениями одних и тех же слов. Чтение стихов, и особенно Лермонтова, не прошло даром — в построении этого периода, в самом его синтаксисе видно использование стиховых форм. Высокая интродукция сменяется резко контрастирующим «деловым» тоном: «В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам». Так можно было бы и начать очерк, но тогда не было бы нужного фона — и эта самая фраза звучала бы совсем иначе. Следы интродукции пропадают не сразу — следующая за приведенной фраза устанавливает некоторую связь: «Светлое весеннее солнце вышло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город, на Николаевскую казарму и, одинаково светя для всех, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском». После этой, еще слегка приподнятой фразы начинается вполне деловой тон — сообщение о персонаже.
Интересно, что этот севастопольский очерк, как и «Детство», представляет собой описание двух дней, причем описание второго дня служит в то же время движением к финалу. В связи с этим, как и в «Детстве», границей между описаниями этих двух дней является особая главка (XIV), явно корреспондирующая с интродукцией, даже прямо повторяющая ее интонационное строение, только с конденсацией и усилением патетики: «Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни мертвых в Севастополе; сотни людей с проклятиями и молитвами на пересохших устах ползали, ворочались и стонали, одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта, — а все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря. Зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплывало могучее, прекрасное светило».
Ораторский, проповеднический тон дан здесь уже не только синтаксисом — он подчеркнут и высокой лексикой (уста, светило), и резкими смысловыми контрастами, начиная с общего, основного (смерть и солнце) и кончая детальными (трупы на цветущей долине). Также, как и в начале, следующая (XV) глава открывается деловым тоном, явно корреспондируя с первой фразой гл. II: «На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним аллеям из цветущих душистых белых акаций». Я отмечаю те слова, которые прямо взяты из начала второй главы; но и «акации» являются здесь не впервые — они взяты из начала третьей главы: «Внизу по тенистым пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы». Таким образом, здесь — явное сплетение основных словесных элементов начальных глав. Этот «музыкальный» принцип особенно определенно сказывается в финале, где возвращаются и заново сплетаются все звучавшие прежде основные темы: «Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена мертвыми телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу». Ораторская речь уже прямо переходит в проповедь, в «нравоучение». Исполнено то, о чем задумывался Толстой в 1853 г., когда читал статью о Карамзине. Второй севастопольский очерк — это новый жанр, явившийся из сочетания батального материала («корреспонденции») с декламационной, ораторской стилистикой, выделенной в ударных местах и развернутой в проповедь. Жанр «военного рассказа» вступил в соединение с элементами старинных «нравоучительных» или «поучительных» жанров, которые извлек Толстой из авторов XVIII в. — Руссо, Карамзина. От «Детства», через «Набег», «Записки маркера», «Рубку леса» и «Севастополь днем и ночью», Толстой пришел к новой для себя форме, решающей многие из тех проблем, которые он ставил себе в 1853 г. Только после этой вещи возможны стали в будущем такие, как «Два гусара» или «Три смерти».
Уже в «Рубке леса» Толстому удалось развернуть ряд отдельных сцен, не сосредоточенных вокруг «героя». Мотивировкой для такого построения служила вторая глава, прерывающая начатую у костра сцену подробной классификацией солдат, выдержанной в стиле исследования или учебника. Это сразу поставило автора вне персонажей, наблюдателем со стороны, хотя и участвующим в происходящих событиях. Однако мотивировка эта не давала Толстому достаточного художественного права на свободный анализ — некое «я» рассказчика заставляло автора характеризовать персонажей извне, а внутренний, «химический» анализ производить только на самом рассказчике. «Диалектика души» (выражение Чернышевского) показана здесь еще очень скромно: «Вы где брали вино? — лениво спросил я Волхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один — Господи, приими дух мой с миром, другой — надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро». Во втором севастопольском очерке никакого рассказчика, никакого «я» нет. Автор не отождествляет себя ни с каким персонажем и не участвует в событиях: он уже не наблюдатель, а проповедник, судья, голос которого не смешивается, а покрывает их и звучит в тишине, как голос уже не постороннего, а потустороннего существа. Это — новая мотивировка, являющаяся как бы новым освобождением от нее. После интродукции, устанавливающей этот звучащий сверху тон авторского голоса, Толстой имеет художественное право применить к своим персонажам мельчайший масштаб, никак не мотивируя особо своего анализа, потому что он уже мотивирован этим тоном. Это было для Толстого важным художественным открытием, последствия которого скажутся на всем дальнейшем творчестве. Поэтому я приписываю второму очерку такое центральное значение в движении Толстого от старых своих «форм» к новым.
Это освобождение сказывается на первых же страницах. Толстой дает сначала описание внешности офицера Михайлова — как наблюдатель со стороны, особенно подчеркивая сперва именно эту свою позицию: «Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чистого русского происхождения, или адъютант или квартирмейстер полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии». Но следом за этим позиция внезапно меняется — автор как бы отстраняет наблюдателя, умозаключающего по внешним признакам, и становится на его место: «Он, действительно, был офицер, перешедший из кавалерии, и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии, и жены его, бледной, голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы». Вот явилось то «думал», в праве на которое давно нуждался Толстой. Теперь для него открыты пути для полного, предельного анализа любого из персонажей, для самой беспощадной «диалектики души». Вот уже и текст письма, которое получил Михайлов, и воспоминания, и «внутренний .монолог», которого не было еще ни в «Набеге», ни в «Рубке лесу»: «Капитана я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк... подполковник... Анну на шею... полковник... — и он был уже генералом, удостаивающим посещения Наташу, вдову товарища, который, по его мечтам, умрет к тому времени». Тут в каждом слове чувствуется наслаждение автора своим новым правом — и Толстой пользуется им со всей свободой и со всей силой своего художественного «нигилизма».
Характеристика Михайлова — только невинное начало. Полностью метод Толстого развертывается дальше — в разговорах Михайлова с офицерами и в его «внутреннем монологе» перед выходом в ложементы. Вот зародыш многих его будущих страниц: «Наверное мне быть убитым нынче, — думал штабс-капитан, — я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам взялся. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшисецкий? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то, верно, представят, я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал: позвольте мне идти, ежели поручик Непшисецкий болен. Ежели не выйдет майора, то Владимира наверно. Ведь я уже тринадцатый раз иду на бастион. Ох, 13 — скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют» и т. д.
Дело тут не в самом этом «думал», которое можно найти у любого писателя и до Толстого, а именно в особом праве на него, которое утвердил здесь Толстой своим авторским тоном. У другого автора персонаж «думает» потому, что это — условность, которую допускает автор, — и персонаж поэтому думает неохотно, только делает вид, что думает; Толстой ведет себя со своими персонажами как властитель, как деспот — он заставляет их думать, он слышит все, что они думают, он подвергает их пытке, пока они не скажут всего, и это потому, что он — над ними, он страшен им, он имеет право видеть их насквозь.
Все действующие лица очерка (Михайлов, Праскухин, Калугин, Гальцин, Пест) поочередно проходят через эту «пытку» анализом. Самые диалоги, развернутые здесь больше, чем в предыдущих вещах, осложнены комментариями от автора, скрывающими их второй смысл. «— А знаете, Праскухин убит, — сказал Пест, провожая Калугина, который шел к нему. — Не может быть! — Как же, я сам его видел. — Прощайте, однако: мне надо скорее». «Я очень доволен, — думал Калугин, возвращаясь к дому, — в первый раз на мое дежурство счастие. Отличное дело: я жив и цел, представления будут отличные и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее». Толстой непрерывно вмешивается в то, что говорят его персонажи, и уличает их. Юнкер Пест рассказывает, как он заколол француза, — Толстой прямо и сурово заявляет: «Но вот как это было действительно», и «подвиг» превращается во что-то нелепое: «Пест был в таком страхе, что решительно не помнил, долго ли, куда и кто, что. Он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестел миллион огней, засвистело, затрещало что-то. Он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он споткнулся и упал на что- то. Это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил его с ног; другой человек кричал: "Коли его! что смотришь!" Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. "Ah Dieu!" закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза. Холодный пот выступил у него по всему телу, он трясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось одно мгновение: ему тотчас же пришло в голову, что он — герой». Тот же Пест рассказывает, как он разговаривал с французскими солдатами во время перемирия, — Толстой опять разъясняет: «В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего особенного... и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал». Калугин, князь Гальцин и один полковник ходят по бульвару и говорят о вчерашнем дне: «Главною путеводитель- ною нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а участие, которое принимал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное выражение, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали и огорчали каждого; но, сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека, это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью высказывать. Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело, с тем чтобы только каждый раз получать саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди».
Пытка анализом преследует персонажей и на краю гибели. Нигилистическая ирония Толстого сказывается здесь в том, что действительно убитый Праскухин думает, что он контужен и, падая, разбился в кровь, а легко раненный Михайлов прощается с жизнью: «Славу богу! я только контужен... Верно, я в кровь разбился, как упал, — подумал он... Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, а ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди. Михайлов, увидав бомбу, упал на землю, также, как Праскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала нера- зорванною... "Все кончено: убит", — подумал он, когда бомбу разорвало... и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. "Господи! прости мои согрешения", — проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь. Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. "Это душа отходит, — подумал он. — Что будет там? Господи! приими дух мой с миром...". Он был камнем легко ранен в голову». Этот иронический контраст использован и в совсем другом плане: маленькая девочка принимает бомбы за звезды — «Звездочки-то, звездочки так и катятся!.. Вон, вон еще скатилась. К чему это так? а, маынька?» — а Калугин и Гальцин, любуясь звездами, сравнивают их с бомбами: «А эта большая звезда — как ее зовут? — точно как бомба».
Как в начале очерка следы интродукции проникли в следующую за ней часть, так в конце финал, возвращающий к начальному тону, подготовлен особой сценой, специально выделенной тоже при помощи резкого контраста — и смыслового и стилистического. Шутливый французский разговор сурово прерывается голосом автора, звучащим, как окрик: «Но довольно». Следует описание того, как мальчик, возвращаясь домой с большим букетом полевых цветов, натыкается на страшный безголовый труп: «Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое местб. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь, в крепость». Так развернулся намеченный в середине контраст — «трупы на цветущей долине».
За всеми этими обличениями и ироническими контрастами стоит отрицание литературных шаблонов, намеченное еще в дневниках. Не такова природа, как ее описывают, не такова война, не таков Кавказ, не так выражается храбрость, не так люди любят, не так живут и думают, не так, наконец, умирают — таков нигилизм Толстого в его ранних формах. Близится самое роковое и вместе с тем неизбежное для Толстого «не то» — не таково искусство, как о нем пишут и думают.
Я уже говорил, что работа над севастопольскими очерками вернула Толстого к литературе — он стал серьезно думать о писательской деятельности. Второй рассказ выходит далеко за пределы просто военного очерка — война служит здесь как будто только поводом для того, чтобы, поставив своих персонажей в такое положение, при котором они напряженно «думают», обнажить всю «диалектику души». После этого очерка Толстой уже может сложить с себя звание военного корреспондента и явиться в «Современник» писателем на равных правах с другими. Эта перемена отражается и на чтении. В период работы над Севастопольскими очерками Толстой читает подряд несколько дней Теккерея (в подлиннике) — Henry Esmond, Vanity Fair, Pendennis; Бальзака — Le lys dans la vallde. Вероятно, еще раньше Толстой познакомился и со Стендалем, на влияние которого потом сам указывал. В письме к жене 1883 г. он пишет: «Читаю Stendhara: Rouge et Noir. Лет 40 тому назад я читал это, и ничего не помню, кроме моего отношения к автору: симпатия за смелость, родственность, но неудовлетворенность»[285]. Судя по словам Толстого, сказанным в 1901 г. Полю Буайе, Толстой читал Стендаля еще до Кавказа. Однако, в дневниках 1847-52 гг. о Стендале нет ни одного упоминания. В Севастопольских очерках следы знакомства со Стендалем (Chartreuse de Parme) несомненны. Сцена, например, с трупом резко напоминает одно место в романе Стендаля — когда Фабриций натыкается на обезображенный труп солдата и, по предложению маркитантки, трясет его за руку[286]. Но сравнительно скромный метод Стендаля получил в руках Толстого совсем другой характер, вступив в соединение с обличением и проповедью.
Второй очерк — решительный шаг Толстого в литературу, и он сам понимает это. 17 сентября 1855 г. он записывает в дневнике: «Вчера получил известие, что Ночь изуродована и напечатана. Я, кажется, сильно на примете у синих за свои статьи. Желаю впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть и тоже писать из пустого в порожнее — без мысли и главное без цели. Несмотря на первую минуту злобы, в которую я обещался не брать пера в руки, все-таки единственное, главное и преобладающее над всеми другими наклонностями и занятиями должна быть литература. Моя цель — литературная слава. Добро, которое я могу сделать своими сочинениями. Завтра еду в Каралез и прошусь в отставку». Через день, начав третий очерк («Севастополь в августе»), Толстой записывает: «Мне нужно во что бы то ни стало приобрести славу». И наконец — 10 октября: «Нахожусь в лениво-апатическом безысходном положении уже давно... моя карьера — литература — писать и писать! С завтра работаю всю жизнь или бросаю все, правила, религию, приличия — все».
О своей мысли «бросить армию совсем» Толстой писал Т. А. Ергольской 4 сентября 1855 г. — очевидно, под впечатлением падения Севастополя (27 августа). Но, помимо этого, военные планы и настроения стали уже отходить на второй план. 27 октября Толстой записывает: «Необходимо выйти из вредной для меня колеи военной жизни». Военное самолюбие, долго страдавшее, несколько удовлетворено — за сражение 4 августа 1855 г. он получил чин поручика. Большего ожидать было трудно — Толстой вел себя достаточно вольно, мало занимался службой, а иногда позволял себе быть дерзким с начальством. Он на положении «баши-бу- зука» — т. е. до некоторой степени «вольного офицера», который может и манкировать службой. П. Н. Глебов, артиллерийский полковник, писал в своих записках 13 сентября 1855 г.: «Как много, подумаешь, при главной квартире дармоедов — настоящие баши-бузуки. Теперь большая часть их толкается с утра до вечера по Бахчисараю; некоторые же отправились кавалькадой на горный берег. Майор Столыпин такой же баши-бузук; он служит в каком-то кавалерийском полку, а числится при главной квартире, не состоя ни при ком. На этом основании он и баклушничает, где ему хочется; теперь вот уже две недели, как живет в Бахчисарае ни при чем и ни при ком, а между тем получает жалованье и, вероятно, и награды. Такой же баши-бузук и граф Толстой, поручик артиллерийский; он командует двумя горными орудиями, но сам таскается везде, где ему заблагорассудится; 4 августа примкнул он ко мне, но я не мог употребить его пистолетиков в дело, так как занимал позицию батарейными орудиями; 27 августа опять пристал он ко мне, но уже без своих горных орудий; поэтому я и мог, за недостатком офицеров, поручить ему в командование пять батарейных орудий. По крайней мере, из этого видно, что Толстой порывается понюхать пороха, но только налетом, партизаном, устраняя от себя трудности и лишения, сопряженные с войною. Он разъезжает по разным местам туристом; но как только заслышит где выстрел, тотчас же является на поле брани; кончилось сражение, — он снова уезжает по своему произволу, куда глаза глядят. Не всякому удастся воевать таким приятным образом»[287]. Сколько здесь профессионального презрения к «налетчику» Толстому! Эта запись особенно драгоценна тем, что она сделана тогда же — когда этот «турист» не написал еще «Войны и мира» и никому не было известно, что он окажется «гением». А Толстой уже давно держит курс на другую «карьеру» и, в свою очередь, записывает 23 января 1855 года: «Одаховский, старший офицер, гнусный и подлый полячишка, остальные офицеры под их влиянием и без направления. И я связан и даже завишу от этих людей!» Этот самый Ю. И. Одаховский написал в 1898 г. свои воспоминания о Толстом, в которых много напутал, но служебное поведение Толстого он, вероятно, не раз им обиженный, изображает примерно так же: «Иногда Толстой куда-то пропадал — и только потом мы узнавали, что он или находился на вылазках, как доброволец, или проигрывался в карты... В Севастополе начались у графа Толстого вечные столкновения с начальством. Это был человек, для которого много значило застегнуться на все пуговицы, застегнуть воротник мундира, — человек, не признававший дисциплины и начальства. Всякое замечание старшего в чине вызывало со стороны Толстого немедленную дерзость или едкую, обидную шутку. Так как граф прибыл с Кавказа, то начальник штаба всей артиллерии Севастополя генерал Крыжановский (впоследствии генерал-губернатор) назначил его командиром горной батареи. Назначение это было грубою ошибкою, так как Лев Николаевич не только имел мало понятия о службе, но никуда не годился как командир отдельной части: он нигде долго не служил, постоянно кочевал из части в часть, и более был занят собой и своею литературой, чем службою»31. Курьезно, что в этих воспоминаниях проглядывает обида и на то, что Толстой нигде не изобразил его: «Впоследствии, читая произведение графа Толстого "Севастополь в августе", я многое воскресил в моей памяти и узнал многих товарищей по батарее, ловко описанных Толстым — Проценку и др. Но меня одного почему-то он там не описывает». Он не знал, что Толстой «описал» его по-своему, в дневнике.
В ноябре 1855 г. Толстой добился если не отставки, то «поручения» в Петербург — с прикомандированием к петербургскому ракетному заведению. 21 ноября он приехал в Петербург и записал в дневнике: «Я в Петербурге у Тургенева... Завтра пишу Юность и отрывок дневника».
з
В редакции «Современника» — событие. Среди писателей-интеллигентов, уже давно изучивших друг друга и успевших друг другу порядочно надоесть и много раз поссориться и помириться, появилось новое лицо — молодой офицер и граф, двадцатисемилетний Лев Толстой. Герой Севастопольской обороны, граф Толстой делает смотр русской литературе. Он выбрал очень удачный момент для ревизии: хотя «Современник» «идет» хорошо, но внутри его не все благополучно. «Дружеский кружок» начинает распадаться, разделяться на партии, отношения портятся. Некрасова начинают упрекать в «политике», в «штуках»; Дружинин готовится к организации своей партии и к переходу в «Библиотеку для чтения»; Боткин примыкает к нему; Тургенев еще колеблется, но чувствует, что его авторитет в «Современнике» падает, что появившиеся около Некрасова «разночинцы», Чернышевский и Добролюбов, берут верх и овладевают положением. В редакции «Современника» закипает настоящая, хотя и в миниатюрном виде, гражданская война. Толстой, еще не сбросивший с себя военной формы, попадает с одного фронта на другой. Он ведет себя тут таким же «баши-бузуком» — и бой, при его участии, принимает серьезный, артиллерийский характер.
«Вражда между прежними друзьями бывает обыкновенно самая раздражительная и ядовитая», — пишет А. Пыпин, вспоминая об этом времени. Некоторые признаки приближающейся вражды — и вражды не исключительно личной, а гораздо более глубокой, — появляются уже в конце 1854 г., и поводом оказывается тот же Толстой. Никто еще не может понять, что он за явление и к кому он примкнет. Либеральные настроения, охватившие в середине пятидесятых годов дворянскую интеллигенцию, сталкиваются с двумя противоположными тенденциями, одинаково значительными: радикальными, идущими от «разночинцев» и уже проникающими в «Современник», и охранительными, идущими сверху и распространяющимися, главным образом, в военной и в купеческой среде. В связи с этим процессом расслоения, подготовляющим образование партий и начало социальной борьбы, у каждой стороны обостряется сознание принадлежности к своему классу — личные отношения складываются уже под знаком не только общих чувств, симпатии или антипатии, но и под знаком особых социальных оценок. В спорах бывших друзей начинают выплывать «гражданские темы», обсуждению подвергаются уже вопросы не только бытия, но и вопросы «действительности», философские догматы уступают место «убеждениям». Это слово с конца сороковых годов (Белинский), становится термином, характерным для интеллигентского словаря так же, как в наше время характерным термином стало слово «идеология» (вместо недавних — «миросозерцание» или «мироощущение»). По всему фронту интеллигенции, до сих пор представлявшемуся более или менее единым, идет сложный процесс дифференциации, в котором важную роль играет новый момент — опора на свой класс. Вопросы о славянофильстве и западничестве отступают на второй план, сохраняя свое значение только в таких «архаистических» московских домах, как дом Аксаковых. В Петербурге об этом уже не спорят — проблемы национального «духа» сменились проблемами политической экономии, проблема «народности» — проблемой «мужика».
Как всегда бывает при таком социальном и идеологическом сдвиге, то, что прежде называлось «культурой», начинает падать — злободневность, интересы борьбы, «временные задачи» берут верх. Иначе говоря, одни элементы культуры уступают место другим, эпоха меняет традиции и срывает старые гербы, заменяя их новыми лозунгами. Сороковые годы были в жизни только что образовавшейся тогда заново русской интеллигенции годами идиллии по сравнению с тем, что сталось с нею к середине пятидесятых годов. Произошло расслоение, при котором «дворяне», прошедшие свой основной стаж в эпоху сороковых годов и привыкшие к «высоким» традициям, оказались на одной стороне, а «разночинцы», с их суровой провинциальностью и резкостью тона и убеждений — на другой. Это сказывается в целом ряде иногда мелких, бытовых, но от этого не менее характерных фактов. «Дворянская» группа, столкнувшись со всеми этими новыми и серьезными заботами, начинает особенно культивировать формы непринужденного, веселого, «дружеского» общения, как бы противопоставляя их суровому аскетизму и дидактизму «разночинцев». Кутежи, шумные обеды в ресторанах, всякого рода похождения, сопровождаемые шутками, эпиграммами и анекдотами, становятся обыкновенными, чуть ли не ежедневными занятиями литераторов из этой группы и оставляют свои следы в фельетонной литературе[288]. Развивается особая любовь к проявлениям веселости, беззаботности, дурашливости. Летом 1855 г. Дружинин, Боткин и Григорович съезжаются у Тургенева в Спасском. Прошло ровно десять лет с того знаменитого лета, когда в подмосковном Соколове, на даче Герцена, собрались «люди сороковых годов» (Грановский, Кетчер, Корш и др.) и выясняли свое миросозерцание. Теперь — нечто совсем другое: «У меня гостили Григорович, Дружинин и Боткин (пишет Тургенев Полонскому). Мы время проводили очень весело, разыграли на домашнем театре глупейший фарс собственного изобретения — и пр., и пр.»[289] Дружинин, вернувшись домой, собирается описать всю эту поездку в своем фельетоне и спрашивает разрешения. Тургенев отвечает: «Что касается вашего плана путешествия, то, разумеется, я совершенно согласен — и отдаюсь в ваше распоряжение, — но не примет ли публика все эти разоблачения несколько странно и криво?»[290] Боткин серьезно смутился таким игривым проектом своего приятеля — Дружинин упустил из виду, что у Боткина есть вторая и очень важная профессия, что его имя ему в некотором смысле «дороже стоит», чем Тургеневу: «А я должен просить у вас прощения, — пишет Боткин Дружинину 6 августа 1855 г., — видите, — во многих и многих отношениях для меня очень неловко, если мое имя явится в ваших фельетонах в Спб. Ведомостях, неловко по моему положению главы торгового дома в Москве. Обдумав это со всех сторон, я решился просить вас не печатать моего имени; обозначьте его одною буквою или поставьте вместо него какое-нибудь вымышленное имя. А то, находясь в значительных торговых делах, — я должен держать в строгости свое имя, в противном случае — это может произвести бурное впечатление на тот класс, с которым я связан по положению моему. Вы поймите меня и ради бога оцените мои причины и не сердитесь на меня»[291].
Это письмо характерно не только для Боткина, и слово «класс» появилось здесь недаром. Литература отброшена историей на задний план — она стала обыкновенным бытовым фактом. Круг ее воздействия невероятно сужается: писатели пишут друг о друге, превращаясь из авторов в литературных персонажей. Полемика принимает мелкий, «домашний» характер. Пасквиль становится самым распространенным жанром — он проникает и в рецензии, и в статьи, и даже в беллетристику — точно никаких других читателей, кроме самих же писателей, и никакого другого материала, кроме писательского быта, не существует. «Словесность», недавно переименованная в «беллетристику», постепенно теряет не только имя, но и самое свое лицо, уступая место публицистике. Даже самые, казалось бы, отвлеченные, «чистые» вопросы литературной критики приобретают характер общественной борьбы. Среди писателей, привыкших к другому положению и недавно смотревших на свое дело как на высокое служение, — паника. Одни экстренно создают новые «партии», группы и журналы, другие отходят от литературы и укрепляют свои жизненные позиции опорой на «класс» и какой-нибудь второй профессией, понимая, что борьба приобретает серьезный характер и выходит далеко за пределы того, что называлось «литературой». Период борьбы за «профессионализацию» писателя, начавшийся в тридцатых годах и создавший русскую журналистику, кончен. Писателю нужно заново решать проблему своей «независимости», если он хочет, чтобы занятие литературой сохранило значение «дела».
В связи с этим расслоением и сдвигом литературы возникают новые полемические темы, имеющие особый смысл. Среди них особенно характерным было противопоставление Пушкина и Гоголя, развернувшееся впоследствии в большой и страстный спор о «дидактике» и о «чистом искусстве». Дружинин и отчасти Боткин — за Пушкина против Гоголя, Тургенев и Анненков занимают среднюю позицию, а Некрасов, практически явно идущий в сторону «дидактики», тем самым оказывается против Пушкина.
Куда же станет Толстой? 6 ноября Некрасов пишет Тургеневу— в связи с появившимся «Отрочеством» Толстого: «...получил письмо от Вас. Петр. Боткина, который говорит, что Баратынский был пьяница, стихов которого печатать не стоило, а по поводу "Отрочества" замечает, что таланты бывают благородные и неблагородные и еще что-то, так что по этой классификации выходит, что Гоголь- писатель был подлец, а Влад. Ив. Панаев — благороднейший деятель литературы. Как это все свежо! К этим литературным аристократам причисляет он и Толстого, которым очень восхищается. Ты хочешь знать об "Отрочестве" — конечно, все его хвалят, с кем мне случалось говорить, но видят настоящую его цену немногие — ведь Дружинин не дурак, а что он найдет для себя в "Отрочестве"?»[292] Итак, Некрасов, еще до личной встречи с Толстым, склонен причислять его к своим, ссылаясь на «Отрочество» и видя в нем то, чего не могут видеть и понять ни Боткин, ни Дружинин. В 1855 г. появляется статья Дружинина о Пушкине (по поводу издания под ред. Анненкова), главный смысл которой — за Пушкина против Гоголя: «Один из современных литераторов выразился очень хорошо, говоря о сущности дарования Александра Сергеича: "Если б Пушкин прожил до нашего времени", выразился он: "его творения составили бы противодействие гоголевскому направлению, которое, в некоторых отношениях, нуждается в таком противодействии" Отзыв совершенно справедливый и весьма применимый к делу. И в настоящее время, и через столько лет после смерти Пушкина, его творения должны сделать свое дело... Что бы ни говорили пламенные поклонники Гоголя (и мы сами причисляем себя не к холодным его читателям), нельзя всей словесности жить на одних "Мертвых душах" Нам нужна поэзия. Поэзии мало в последователях Гоголя, поэзии нет в излишне-реальном направлении многих новейших деятелей. Самое это направление не может назваться натуральным, ибо изучение одной стороны жизни не есть еще натура. Скажем нашу мысль без обиняков: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением. Против того сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, — поэзия Пушкина может служить лучшим орудием»[293]. Этими словами Дружинин метил, между прочим, и в Тургенева, которого он вместе с Боткиным неоднократно упрекал в том, что его «сбил с толку Гоголь». Боткин 4 сентября 1855 г. отвечает на письмо Дружинина: «Это правда, что Тургенева сбил с толку Гоголь, и мне всегда казалось, что направление, избранное Тургеневым, не соответствует его таланту»[294].
Сам Тургенев, прочитав статьи Дружинина о Пушкине, пишет Боткину: «Я прочел их с великим наслаждением. — Благородно, тепло, дельно и верно. Но в отношении к Гоголю Дружинин не прав. То есть в том, что он говорит, Др. совершенно прав, — но так как Др. всего сказать не может, то и правда выходит кривдой. Бывают эпохи, где литература не может быть только художеством — и есть интересы высшие поэтических интересов. Момент самопознания и критики так же необходим в народной жизни, как и в жизни отдельного лица. А все-таки статья славная, и, когда ты будешь писать Др-ну, передай ему мое искреннее спасибо. Многое из того, что он говорит, нужно нынешним литераторам мотать себе на ус — и я первый знаю — ой le Soulier de Gogol blesse. Ведь это на меня Др. сослался, — говоря об одном литераторе, который желал бы противодействия гоголевскому направлению; — все это так, — но о Пушкине Др. говорит с любовью, а Гоголю отдает только справедливость, — что в сущности никогда не бывает справедливо»[295]. Итак, Тургенев занял в этом вопросе позицию «объективного историка», как и Анненков, который в статье своей «Замечательное десятилетие» (1880) обрисовывает своеобразное положение литературы к середине пятидесятых годов: «Наступил период обличений... Надо было приучаться жить без творчества, изобретательности, поэзии — и это делалось при существовании и полной деятельности таких художников, как Островский, Достоевский, Писемский, Тургенев, Лев Толстой и Некрасов, которые продолжали напоминать о "их" публике всеми своими произведениями. Критика пришла на помощь озадаченной публике. Известно, что вслед за первыми проблесками оживившейся литературной деятельности наступила у нас эпоха регламентации убеждений, мнений и направлений, спутавшихся в долгий период застоя... Всем старым знаменам и лозунгам, под которыми люди привыкли собираться, противопоставлялись другие и новые, но при этом постоянно оказывалось, что менее всего поддавалось регламентации именно искусство, бывшее всегда, по самой природе своей, наименее послушным учеником теорий. Подчинить его и сделать верным слугой одного господствующего направления удавалось только строгим религиозным системам, да и то не вполне, так как нельзя было вполне победить его наклонности менять свои пути, развлекать внимание капризными ходами, смеяться над школой и выдумывать свои собственные решения вопросов... Как ни строга была эта дисциплина, введенная критикой, но помешать обществу увлекаться неузаконенными образцами творчества она не могла. Тогда и явилось решение отодвинуть искусство вообще на задний план, пояснить происхождение его законов и любимых приемов немощью мысли, еще не окрепшей до способности понимать и излагать прямо и просто смысл жизненных явлений. Круг занятий, снисходительно предоставленных чистому художеству, намечен был с необычайной скупостью. Ему предоставлялась именно передача мимолетных сердечных движений, капризов воображения, нервных ощущений, оттенков и красок физической природы — всего, что лежит вне науки и точного исследования... По временам, конечно, еще возникали протесты против этой несправедливости к искусству и раздавались голоса, которые указывали на важность художнических литературных произведений в деле образования характеров, направления умов к нравственным целям, возвышения уровня мыслей, но они проходили бесследно»[296]. Вопрос о Пушкине и Гоголе, поднятый Дружининым, только начало этого процесса. Дружинин на некоторое время становится вождем протестующей против «регламентации» искусства партии. Главой противоположной партии постепенно утверждается Чернышевский.
Решительность Дружинина в отношении к «гоголевскому направлению» сначала смущает не только Тургенева, но и Боткина. Прочитав вышедшую тогда впервые вторую часть «Мертвых душ» и «Авторскую исповедь», Боткин пишет Дружинину (6 августа 1855 г.): «Нет, мы слишком поторопились решить, что гоголевское направление пора оставить в стороне, — нет и 1000 раз нет. Еще прежде чтения гоголевской "Исповеди" — я много думал об этом предмете — и пришел к этому заключению. По моему мнению, если русский писатель любит свою сторону и дорожит ее достоинством, — он не в состоянии впасть в идиллию. Нам милы ясные и тихие картины нашего быта, но они могут быть для нас только кратковременным отдыхом, потому что в сущности мы окружены не ясными и не тихими картинами. Нет, не протестуйте, любезный друг, против гоголевского направления: оно необходимо для общественной пользы, для общественного сознания. Я не хочу этим сказать, чтобы задушевный взгляд Пушкина на русскую жизнь был ненужным, — о, напротив! Но сохрани бог исключительно следовать одному из них»[297]. Ответ Дружинина раскрывает сокровенный смысл предпринятого им похода против гоголевского направления. Сначала он возражает Боткину: «Гоголя новых вещей я еще не получал, хотя знаю, что мое мнение о Гоголевском направлении, в применении к настоящей литературе, вовеки нерушимо. Вообще я упрям, как дьявол, и все, что ни вижу я, убеждает меня в том, что неодидактическое направление словесности, т. е. усилия к исправлению нравов и общества, может быть полезно для житейских дел, но никак не для искусства... Гоголь, по моему мнению, есть художник чистый, только его последователи из него делают какого-то страдальца за наши пороки и нашего преобразователя. Чуть Гоголь сам вдается в дидактику — он вредит себе... Сапог Гоголя жмет нам ногу потому, что он нам не по ноге; — этого мы знать не хотим и потому страдаем. Тургенева, например, Гоголь измучил, обессилил, стал ему поперек дороги». Далее следует поворот всего этого вопроса с пути теоретического на путь более практический, на котором Дружинин, очевидно, думает окончательно победить сопротивление Боткина. Все дело оказывается, собственно, не в Гоголе, а в «угрозе со стороны молодого поколения», вождем которого становится Чернышевский: «Взгляните теперь на все дело с другой точки зрения. За нами стоит молодое литературное поколение, для которого пахнущий клопами[298] есть крайняя правая сторона, для этих заносчивых и неосторожных юношей — Пушкин есть фетюк, Лермонтов — глупый офицер. Литература наша начинается с одного Гоголя. Эти юноши жаждут попасть в русские Берне и Гервеги, презирая всю осмотрительность. Если мы не станем им противодействовать, — они наделают глупостей, повредят литературе и, желая поучать общество, нагонят на нас гонение и заставят нас лишиться того уголка на солнце, который мы добыли себе потом и кровью. Нет, не верю я, чтобы вы искренно любили настоящее направление нашей словесности и оправдывали дидактику»[299].
Борьба с «дидактикой» была шифром — настоящий ее смысл был в борьбе с Чернышевским и с «молодым поколением», выражавшейся иногда (особенно в переписке друзей) в очень резких формах. Об этой борьбе вспоминал И. Панаев уже в 1861 г., когда основные ее фазы прошли и положение определилось: «Известно, что наше поколение по преимуществу обладало восторженностью, лиризмом и увлечением и беспрестанно слова и фразы принимало задело... Замечая притом, что новое поколение начинает довольно зло подсмеиваться над нашею изнеженностью, расслабленностью, над нашими романтическими выходками и лирическими возгласами, что оно начинает слишком уже выдвигаться вперед, во вред нам, и прокладывать себе новый, более строгий и прочный путь, мы, или по крайней мере некоторые из нас, ожесточились против нового поколения вообще и в особенности против самых ярких его представителей. Наше негодование должно было прежде всего, конечно, пасть на Добролюбова... Нам, без сомнения, было бы очень приятно, если бы один из представителей молодого поколения обнаружил перед нами такое благоговение, какое мы обнаруживали в нашей молодости перед тогдашними авторитетами... А Добролюбов не только не оказывал нам никакого внимания, даже просто не хотел замечать нас, не изъявлял желания быть нам представленным и отозвался о наших творениях так, как о самых безавторитетных произведениях... Но тут мы, — или, что все равно, некоторые из нас, — решили, что новое поколение, несмотря на свой действительно замечательный ум и сведения, поколение — сухое, холодное, черствое, бессердечное, все отрицающее, вдавшееся в ужасную доктрину, — в нигилизм. Нигилисты! Если мы не решились заклеймить этим страшным именем все поколение, то по крайней мере уверили себя, что Добролюбов принадлежал к нигилистам из нигилистов»[300]. Свидетельство Панаева, как человека «легкомысленного», беспринципного, игравшего во всем этом роль второстепенную и больше наблюдавшего, чем принимавшего участие, именно поэтому ценно; но, конечно, он упрощает — дело было не только в «изнеженности» или «расслабленности». Несомненен и важен факт, выдвигаемый и Дружининым и Панаевым, — встреча старых традиций с новыми лозунгами, осознанная как встреча «поколений».
Не всегда возрастная разница ощущается как разница поколений. Исторический возраст поколений бывает различным. Пушкин и Гоголь, несмотря на разницу в десять лет, не чувствовали себя людьми разных поколений; Гоголь «запоздал» — и потому для сороковых годов оказался чужим, тогда как при других исторических соотношениях деятельность его должна была бы развернуться только к середине сороковых годов. Десять лет, отделявшие его от Пушкина, были сброшены со счетов истории — они все равно (1841—1851) оказались бесплодными, роковыми и привели его к смерти. С другой стороны, почти такая же разница между Пушкиным и Жуковским (тринадцать лет) была разницей поколений, потому что середина двадцатых годов оказалась исторической границей. Литературные рождения, следующие в ближайшие за Гоголем годы (1811—1814), формируют промежуточное литературное поколение, которое рано гибнет — если не физически, то исторически (Лермонтов, Огарев, В. Соллогуб, И. Панаев). Действительное новое поколение, настоящая деятельность которого начнется к середине пятидесятых годов, рождается в начале двадцатых годов: Некрасов (1821), Достоевский (1822), Островский (1823), Салтыков (1826). Эта полоса рождений заканчивается Л. Толстым (1828). Кэтому поколению принадлежат и Дружинин (1821), и Чернышевский (1828). К 1856 г. это поколение вступило в бурный период «гражданской войны», в процессе которой радикальный лагерь «разночинцев» получил подкрепления со стороны более молодых своих представителей — как Добролюбов (1836 г.) и ряд новых беллетристов (Помяловский, Решетников, Слепцов, Левитов и др.).
Вопрос о Чернышевском и о молодом поколении — центральный вопрос для группы «Современника» в 1855—1856 гг. Чернышевский, приглашенный на вторые роли (рецензии, переводы, компиляции), в личных отношениях уступчивый, застенчивый и молчаливый, внезапно обнаруживает себя едким и враждебно настроенным уже в рецензии на книгу «Новые повести. Рассказы для детей» («Современник». 1855. № 3), превратившейся в памфлет на писателей, работающих в том же журнале. Вместо рецензии Чернышевский написал фельетон, в котором пародируются произведения Григоровича, Авдеева, Панаева и др. — отделы «словесности» и критики. Он описывает, как некая тетушка прочитала своим племянникам и племянницам «Новые повести», а они, желая быть благодарными детьми, решили сами написать повести и прочитать их тетушке и ее гостям. Следует самое чтение и обсуждение написанных детьми повестей. «Младшая писательница», Полина, читает повесть «Пять лет» — это пародия на «светские повести» дамского изделия (Жукова, Тур). Блестящий барон Гаугвиц ухаживает за Надиной, но боится ревности и насмешек красавицы Приклонской: «Мужчины любят суетно; их любовь — тщеславие, по крайней мере любовь таких мужчин, как барон». Надина выходит замуж за Вронского и потом признается барону, что любила его: «Ах, зачем не любят нас тогда, когда мы так готовы любить!» Повесть обсуждается (пародия на критику): «— Какой прекрасный слог! Какие нежные, тонкие штрихи! Как верно понят, как художественно воспроизведен характер Надины! Последняя сцена безукоризненно художественна!» — Таков был общий голос гостей. Некоторые прибавляли однако, что в повести мало непосредственности; что рефлексия вредит таланту и что даровитая Полина должна более заботиться о непосредственности и, если можно так выразиться, — девственной свежести образов; что иначе рефлексия сгубит ее талант и т. д. За восьмилетнею Полиною девятилетний Ва- ничка читает свой рассказ «Старый воробей», сюжет которого несколько похож на сюжет предыдущего рассказа: «Свирцов, un homme blasd, не обращает внимания на Catherine Буллинскую, но, когда робкая и небогатая девушка стала Катериною Васильевною Невзорцевой, блестящею и смелою дамою, он почел ее достойною дать занятие его утомленному, скучающему воображению». Невзорцева хохочет и предлагает ему остаться друзьями. «Все нашли, что характер Свирцова нарисован мастерскою рукою; некоторые даже прибавили: "вот истинный герой нашего времени, разоблаченный от фальшивой лермонтовской драпировки". Нашлись даже господа, которые решили, что по развитию мысли — в художественном отношении они не сравнивают, обращая внимание преимущественно на мысль, которая душа повести — что по развитию мысли Ваничка стоит выше Лермонтова». Другие господа начинают кричать о художественности: «Вы забываете художественность; мысль без художественности ничего не значит» и т. д. «Защита художественности не могла умолкнуть в течение десяти минут, и потому повесть Ванички осталась не обсужденною». Это, по-видимому, пародия на повести М. Авдеева. Затем читает Боренька рассказ «Черная долина (La Valine Noire)», с эпиграфом из Жорж- Санд — очевидная пародия на Григоровича и его повесть «Смедовская долина» («Современник». 1852. № 2). Чернышевский пародирует здесь «простонародный» язык Григоровича и в скобках указывает литературный источник: «У пастуха Ивана есть падчерица Марья. Однажды вечером, стирая белье на живописной речке (см. «Jeanne», роман Жоржа Занда), слышит подле себя вздох — это Федор, который служит батраком на соседнем пчельнике; Федор подходит к ней и, почесывая в затылке, исподлобья смотрит на нее. — Чаво ня видал, глаза-те уставил? — не без наивного кокетства спрашивает Марья, слегка краснея. — Эх, Машутка, больно тея полюбил-то! Уж во-как оно легко, ажио вот как колом стоит в сердце-то! — Ис- правды? Не пустое ли башь, Федька? — Эх, кабы в душу-то мне заглянула! Вот бы все на чистоту увидела, без прилыгу! Да чаво тее сказать? Во, бывало сижу на пчельнике-ти пчелок слушаю, как жужжат-то: больно хорошо таково, гармонии бы не слушал (см. Maitres Sonneurs, par George Sand)» и т. д. По поводу этой повести возникает «довольно жаркий спор о том, может ли простонародный быт дать содержание для художественного произведения. Некоторые говорили: не может; им возражали: может, и представляли, как неопровержимый пример, только что прочитанную повесть; но, прибавляли почти все защитники, только высокая художественность, до которой возвышается Боренька, только она и маскирует внутреннюю бедность содержания; иные впрочем не допускали "таких узких понятий" и предполагали, что для двух-трех повестей простонародная жизнь может дать содержание, несмотря на свое однообразие и даже пустоту». Старший, Петруша, читает повесть «Мой знакомец», пропитанную «самою едкою ирониею» (пародия, по-видимому, на Панаева); Петрушу хвалят за то, что он «нелицеприятно разоблачает недостатки общества», но некоторые находят, что «направление Петруши слишком едко».
Эта шутливая рецензия была первым выстрелом, открывшим гражданскую войну в «Современнике», которая привела к целому ряду ссор и разрывов. Масла в огонь подлила диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (10 мая 1855 г.), которая была направлена и против академической науки (даже внешней своей стороной — намеренное отсутствие цитат и ссылок), и против господствующей «эстетической» критики. Тут не выдержал и Тургенев, до сих пор относившийся к Чернышевскому благосклонно и видевший полное уважение и с его стороны. 10 июля 1855 г. он пишет Дружинину (скоро после свидания с ним и с Григоровичем в Спасском): «Ах, да! чуть-было не забыл... Григорович! je fais amende honorable... Я имел неоднократно несчастье заступаться перед вами за пахнущего клопами — (иначе я его теперь не называю) — примите мое раскаяние — и клятву —отныне преследовать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами!.. Я прочел его отвратительную книгу, эту поганую мертвечину, которую Современник не устыдился разбирать серьезно... Raca! Raca! Raca! — Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете»[301]. Правда, «клятва» осталась на бумаге, а «еврейское проклятье» оказалось не столь ужасным; прошел год — и Тургенев пишеттомуже Дружинину (30 октября 1856 г.): «Выдумаете, что пора уже возводить стены здания; я полагаю, что еще предстоит рыть фундамент. То же самое могу я сказать о статьях Чернышевского. — Я досадую на него за его сухость и черствый вкус — а также и за его нецеремонное обращение с живыми людьми...; но "мертвечины" я в нем не нахожу — напротив; я чувствую в нем струю живую, хотя и не ту, которую вы желали бы встретить в критике. — Он плохо понимает поэзию; знаете ли, это еще не великая беда; критик не делает поэтов и не убивает их; но он понимает — как это выразить? — потребности действительной современной жизни — и в нем это не есть проявление расстройства печени, как говорил некогда милейший Григорович, — а самый корень всего его существования. Впрочем, довольно об этом; я почитаю Чернышевского полезным; время покажет, был ли я прав. — Притом в «противовесие» ему — будете вы и ваш журнал; оттого-то я ему заранее радуюсь; вы помните, что я, поклонник и малейший последователь Гоголя, толковал вам когда-то о необходимости возвращения Пушкинского элемента в противовесие Гоголевскому. — Стремление к беспристрастию и к истине всецелой есть одно из немногих добрых качеств, за которые я благодарен природе, давшей мне их»[302]. Это, отчасти дипломатическое, отчасти «эклектическое», письмо доказывает только, что за границей (письмо написано из Парижа) Тургенев быстро охладевал и приходил в «добродушное» состояние, при котором самое «противовесие» превращалось для него в равновесие.
Возможно, что некоторую роль в этом неожиданном повороте от «еврейского проклятья» к русскому благодушию сыграло то, что Чернышевский в письмах к
Некрасову 1856 г. отзывался о Тургеневе с глубоким уважением и даже восторгом (о чем Некрасов сообщал ему). Некрасов, со своей стороны, восторженно отзывается о Чернышевском в письмах к Тургеневу: «Чернышевский просто молодец, помяни мое слово, что это будущий русский журналист, почище меня, грешного, и т. п.» (7 декабря 1856 г.)[303]. История всех этих отношений и самый их смысл настолько сложны, что требуют специального исследования — я здесь останавливаюсь только на тех моментах, которые помогут уяснить поведение Толстого в «Современнике».
Рецензия Чернышевского больше всего возмутила, по-видимому, Григоровича — недаром именно к нему обращено восклицание Тургенева: «Ах, да! чуть было не забыл... Григорович! je fais amende honorable...» Очевидно, друзья, собравшись в Спасском, не только веселились и сочиняли «глупейший фарс», но занимались и более серьезными делами — толковали о «Современнике» и обсуждали вопрос о Чернышевском. Тут-то Григорович, вероятно, и пустил вход прозвище — «клопо- воняющий господин». Но этим дело не ограничилось. В то время как Тургенев, после отъезда друзей, взялся за своего «Рудина», оказавшегося, в конце концов, не то апофеозом, не то пасквилем на Бакунина, Григорович написал явный пасквиль на Чернышевского, который, под названием «Школа гостеприимства», появился в «Библиотеке для чтения» (1855. № 9) — очевидно, с ведома и с одобрения Дружинина. Пасквиль этот был переделкой того самого «глупейшего фарса», который они придумали и разыграли в Спасском[304].
Некий помещик, Авенир Васильевич Лутовицын[305], проводивший лето всегда на даче под Петербургом, решает, наконец, поехать в свою деревню. По легкомыслию он приглашает навестить его в его деревенском «chateau de plaisance» всех своих приятелей и знакомых. Лутовицын с семьей приезжает в деревню — и впадает в отчаяние: его «chateau» в полном запустении, все запущено, развалено, на скотном дворе ни одной курицы, ни одной индейки, дома нет даже водки — а приятели вот-вот могут приехать. Жена набрасывается на него и называет «пустым человеком», а он все прислушивается — не звенят ли колокольчики по дороге: «Куда я их дену? всего вот одна эта комната... я никак не мог предполагать, чтобы впечатления детства были так обманчивы... Мне казалось, было, по крайней мере, десять комнат... И ведь дергала же нелегкая так упрашивать! и кого еще? кого? Добро бы пригласить одних коротких, а то звал просто всякого встречного-поперечного... сам теперь удивляюсь себе... этакой, право, мерзейший характер!.. Из всего этого выйдет только то, что я буду осрамлен, опозорен на весь Петербург... самая будущность моя пострадать может, вся жизнь скомпрометирована... О, боже мой, боже мой!..» Гости появляются один за другим — фарс начинается. Сперва — некий Щепетильников, которого хозяева угощают яичницей из гнилых яиц, потом — Бодасов, затем — Чернушкин, который, в противоположность другим, описан автором во всех подробностях: «Нимало не разделяя к нему ненависти Бодасова, я должен однако ж сказать, что наружность его была не совсем приятная. Одет он был довольно хорошо, слишком даже хорошо для дороги; но что такое одежда, когда главное дело — в человеке, в его нравственных качествах. Нравственные качества Чернушкина отпечатывались на лице его: ясно, что эти узенькие бледные губы, приплюснутое и как бы скомканное лицо, покрытое веснушками, рыжие, жесткие волосы, взбитые на левом виске, — ясно, что это все не могло принадлежать доброму человеку; но во всем этом проглядывала еще какая-то наглая самоуверенность, которая не столько светилась в его кротовых глазах, смотревших как-то вбок, сколько обозначалась в общем выражении его физиономии. Наружность его так поражала своею ядовитостью, что, основываясь на ней только, один редактор пригласил его писать критику в своем журнале; редактор особенно также рассчитывал на то, что Чернушкин страдал болью в печени[306] и подвержен был желчным припадкам; но расчеты редактора оказались неосновательными; после первого же опыта Чернушкин обнаружился совершенно бездарным, и ему отказали наотрез; этим и кончилось его поприще; из журнального мира он вынес только название "господина, пахнущего пережженным ромом" — и это совершенно несправедливо, потому что, по бедности своей, Чернушкин ничего не пил, кроме воды». Цель приезда Чернушкина к Лутовицыну «заключалась единственно в том, чтобы дышать свежим воздухом, не платя за дачу, даром спать и, особенно, даром есть; ибо Чернушкин был именно из тех людей, падких на даровые обеды, которые готовы завтракать с тенью Гамлета, обедать с привидением Банко и ужинать со статуею Командора, если б только эти почтенные мужи сделали им честь пригласить их».
Этим дело не ограничивается — Григорович мстит за статью и потому к общей характеристике прибавляет специальную. За обедом Чернушкин рассказывает анекдотцы из журнального мира: «В этих анекдотах Чернушкин ясно высказал свое презрение к литературе вообще и литераторам в особенности, припомнив тут же (мысленно, разумеется) кой-какие щелчки, полученные им в свое время от разных литераторов; он объявил наотрез, что не признает ни одного из них, потому что ни в одном не нашел серьезных дельных заложений; пораженный отсутствием этих заложений в литераторах, он написал статью о необходимости серьезных заложений в беллетристических писателях; но литераторы, по легкости ума своего, ничего не поняли, и, вместо пользы, статья принесла тот результат, что литераторы стали его бояться и даже бледнеть в его присутствии; стоило только показаться ему куда- нибудь, где находились литераторы, они мгновенно от него убегали. Он в самом деле казался таким храбрым в эту минуту, что присутствующие легко могли ему поверить. О литературе собственно выразился он еще презрительнее; Чернушкин, которому следовало бы лучше называться Рыжуткиным, начал, сказав: "вряд ли даже стоит говорить о ней" (никто между тем не просил его начинать), и кончил, сравнив очень остроумно литературу с чашкою кофе после обеда».
Как видно из этих цитат, ненависть к Чернышевскому приняла у Григоровича самый лютый характер — характер физиологического отвращения. В трактовке Григоровича Чернышевский уже не только «сухой» или «черствый», как его называли многие, но и бездарный, и пошлый, и наглый и т. д. Атмосфера сгущается до последней степени. Из «дружеского» литературного кружка, объединенного высокими стремлениями, редакция «Современника» превращается в сборище ненавидящих друг друга, точно делящих наследство «родственников». Развиваются сплет- ничество, хитрость, обман, коварство, измена, лесть. Некрасов мечется и боится за «Современник», Чернышевский выжидает и наблюдает. Он действует осторожно — как человек понимающий, что эта «склока» — результат разложения, а не серьезная борьба партий. В письмах 1856 г. к Некрасову он совсем не тот, каким можно себе его представить по отзывам врагов. 5 ноября 1856 г. он пишет Некрасову (в связи с изданием стихотворений): «Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении вашею тенденциею, — тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других, — притом же я вовсе не исключительный поклонник тенденции, — это так кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей. Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами, — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие права, как и поэзия мысли, — лично для меня первая привлекательнее последней, и потому, например, лично на меня ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею. "Когда из мрака заблужденья... Давно отвергнутый тобою... Я посетил твое кладбище... Ах, ты страсть роковая, бесплодная..." и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенности, — но только затем, чтобы сказать вам, что я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив, — политика только насильно врывается в мое сердце, которое живет вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею... Не думайте, что мне легко или приятно признать ваше превосходство над другими поэтами, — я старовер, по влечению моей натуры, и признаю новое только вынуждаемый решительною невозможностью отрицать его. Я люблю Пушкина, еще больше Кольцова, — мне вовсе нет особенной приятности думать: "поэты, которые доставили мне столько часов восторга, превзойдены" — но что ж делать? Нельзя же отрицать истины только потому, что она лично не совсем приятна. Словом, я чужд всякого пристрастия к вам — напротив, ваши достоинства признаются мною почти против воли, — по крайней мере с некоторою неприятностью для меня»[307].
Кто бы мог думать, не зная писем Чернышевского, что «Губернские очерки» Салтыкова, на самом деле, ему не по душе? В «Современнике» он напечатал об этой вещи большую хвалебную статью, правда, совершенно обойдя собственно-литературную сторону. В письмах к Некрасову 1856-1857 гг. читаем: «Губернские очерки» Салтыкова «написаны плохо, но замечательны содержанием... Они в сущности плохи, не думайте, что увлекаюсь политикою, — нимало, — он бесталанен и не всегда умен... Львов обещал Ив. Ив-у рассказы в роде Щедрина — это хорошо, даже очень хорошо — вероятно, таланта у него будет больше, нежели у Щ., который такового совершенно не имеет». Оказывается, Чернышевский в своем «домашнем» отношении к литературе — «старовер», почти «эстет», туго идущий на признание Некрасова и Салтыкова. Недаром он так доволен «Фаустом» Тургенева и с таким восторгом отзывается о Тургеневе вообще в письмах 1856-1857 гг.: «Как сметь чернить такого благороднейшего человека, как Тургенев? Это низко и глупо... как осмелиться оскорблять Тургенева, который лучше всех нас, и, каковы бы ни были его слабости (если излишняя доброта есть слабость), все-таки честнейший и благороднейший человек между всеми литераторами?» Отношение изменилось тогда, когда эпоха выдвинула со всей силой вопросы социальные и заново определила группировки, — в 1860 г. Тут Чернышевский повторил свой метод, использовав рецензию на ничтожную книжку («Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии») для резкого и едкого нападения на Тургенева. В 1855-1857 гг. Чернышевский, помимо всего, еще осторожен — его литературная судьба находится в руках людей другого, враждебного лагеря, другого социального положения. Даже о Григоровиче, несмотря на его пасквиль, он отзывается в письмах вполне благосклонно: «Да и Григорович, Толстой имеют право на уважение, и защищать их — обязанность добросовестности, а не один расчет». Отношения сплетаются в такой узел, распутать который очень нелегко. Ясно одно: в «Современнике», как и вообще в русской журналистике этих лет, неблагополучно, неспокойно. Сезон 1855/56 гг. обещает быть бурным.
В этот-то момент на квартире у Тургенева, прямо с дороги, появляется Толстой. 24 ноября 1855 г. Некрасов сообщает Боткину: «Не писал я тебе потому сначала, что хворал, а потом приехал — JI. Н. Т., то есть Толстой, и отвлек меня. Что это за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергичный, благородный юноша — сокол!., а может быть — и орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши. Тебе он верно понравится. Приехал он только на месяц, но есть надежда удержать его совсем. Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, но в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился. Читал он мне первую часть своего нового романа — в необделанном еще виде52. Оригинально, в глубокой степени цельно и исполнено поэзии. Обещал засесть и написать для первого номера Современника Севастополь в августе. Он рассказывает чудесные вещи. "Юность" еще не окончена»53.
По тону этого письма видно, как радуется Некрасов появлению этого свежего, пока еще независимого в своих отношениях, свободного от всякой журнальной дипломатии и политики человека в военном мундире. Он, редактор и известный поэт, даже как будто польщен тем, что Толстой «пожелал» его увидеть в тот же день.
Началась новая полоса жизни — и для Толстого и отчасти для «Современника».
4
Среди русских писателей, собравшихся около «Современника», из которых многие трудятся на литературном поприще уже больше десяти лет, Толстой выглядит необыкновенным удачником. Со времени появления «Детства» прошло всего около трех лет, а его имя ставят уже рядом с именами наиболее известных писателей. Еще до появления Севастопольских рассказов, когда Толстым напечатано всего четыре вещи («Детство», «Набег», «Отрочество» и «Записки маркера»), Анненков пишет статью[308], в которой сопоставляет Толстого с Тургеневым; статья кончается следующими словами о Толстом: «Судя даже по тому, что теперь имеем от него, мы уже с полным убеждением причисляем г. JI. Н. Т. к лучшим нашим рассказчикам и ставим его имя наряду с именами гг. Гончарова, Григоровича и Тургенева, именами, которые, конечно, останутся в памяти читателей и на страницах истории русской словесности и будут почтены добрым словом как там, так и здесь».
Понятно, что отзывы таких авторитетных в то время лиц, как Анненков, должны были укрепить Толстого в решении бросить военную службу и отдаться писательской деятельности. Это видно и по дневникам. В начале 1855 г. Толстой запоем играет в штос, проигрывает 2000 р., продает свой яснополянский дом на своз и заполняет дневник подробными вычислениями правил и «законов» игры, чтобы научиться выигрывать. В то же время, чтобы отличиться по службе, он занят проектом о переформировании батарей, за который ждет себе награды. Но 11 марта появляется запись: «Военная карьера не моя, и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне отдаться литературной, тем будет лучше». 27 марта, по прочтении «лестных» отзывов о «Записках маркера», новая характерная запись: «Предлагали мне через Невережского место старшего его адъютанта, и я, обдумав хорошенько, принял его — не знаю, что выйдет. Правду говорит Тургенев, что нашему брату, литераторам, надо одним чем-нибудь заниматься, а в этой должности я буду более в состоянии заниматься литературой, чем в какой-либо. Подавлю тщеславие — желание чинов, крестов — это самое глупое тщеславие особенно для человека, уже открывшего свою карьеру». Правда, игра в карты продолжается, но уже прямо с целью выиграть денег: Толстой уже не только вычисляет, но и упражняется — играет в штос один, сам с собой, и следит за всеми комбинациями. Он занят мыслями о будущем и новыми правилами поведения; одна запись (17 июля 1855 г.) особенно характерна: «3 правила: 1) Быть чем есть: а) по способности литератором, б) по рождению— аристократом; 2) Никогда ни про кого не говорить дурно и 3) Расчетливым в деньгах». Оглядываясь на свое прошлое, Толстой записывает 25 июля: «Да, на мне отразилось военное общество и выпачкало меня».
Появление в печати первого Севастопольского очерка («Современник». 1855. № 5) еще более упрочило литературное положение Толстого. Даже Ап. Григорьев, так небрежно отозвавшийся в 1852 г. о «Детстве», принужден теперь изменить свое отношение и в значительной степени взять свои слова назад: «Что касается до г. Jl. Н. Т. — то, читая его "Воспоминания детства", "Записки маркера" и кой-какие другие статьи — мы сначала удивлялись поспешности, с которой критики "Современника" и "Записок" придала большое значение этому писателю; к несчастью же, поспешность соединялась с неловкостью: выписывались и хвалились такие места, хоть бы например из "Записок маркера", которые совершенно ничтожны; что же касается до анализа впечатлений детства[309], то этот анализ показывал только отлично умного человека, а к художеству вовсе не относился. Но прочитавши небольшую статейку "Севастополь в декабре месяце", мы охотно подаем руку тем, которые, хотя и поспешно и неловко, но, вероятно, по убеждению придали большое значение этому таланту: много значит знать лично автора, знать хотя несколько его натуру — источник его творчества... "Севастополь" — картина мастера строго задуманная, выполненная столь же строго, с энергиею, сжатостью, простирающеюся до скупости в подробностях, — произведение истинно поэтическое и по замыслу, т. е. по отзыву на величавые события, и по художественной работе... В этом изображении все дышит суровой правдой — но в самой суровости колорита очевиден художнический прием. И с этих пор, конечно, все симпатии наши прикованы к прекрасному поэтическому дарованию, и мы готовы даже за невысказанные мысли извиниться перед рецензентами, ближе знающими, чего можно ожидать от дарования г. Л. Н. Т.»[310].
Недаром полковник Глебов сердился на Толстого и называл его «баши-бузуком». Адская бомбардировка почти не прекращается, в Севастополе — ад, четвертый бастион под непрерывным обстрелом, а Толстой ведет себя «туристом» — пишет и наблюдает. И пишет не только Севастопольские очерки, но и «Юность», точно вдохновляясь контрастом обстановки и своих мыслей. Даже патриотизм его ослабевает под напором экспериментаторского восторга — он радуется войне, как случаю собрать необыкновенный, редкостный материал. Вот запись от 13 апреля 1855 г., которая должна была бы ужаснуть и возмутить простое солдатское сердце полковника Глебова: «Тот же 4-ый бастион, который мне начинает очень нравиться, я пишу довольно много. — Нынче окончил "Севастополь днем и ночью" и немного написал "Юности"; постоянная прелесть опасности наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самым образам войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более, что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет». Вот другая, 10 июля: «В Севастополе пальба ужасная. Меня мучит. Пропасть есть мыслей для "Юности", записанных в записную книжку, скоро употреблю их не переписывая». Полковник Глебов весь занят мыслями о будущности Севастополя, Толстой — весь погружен в себя («правила») и свои писания. Ночью 25 августа, в самый жестокий для Севастополя момент, оба они одновременно пишут дневник. Глебов пишет: «Мы вчера ошиблись, предположив убыль в людях незначительную; напротив, она очень значительная: в один день вчера убыло из строя более 2 тысяч, считая же с 4-го августа по сегодняшний день, мы потеряли более 22 тысяч. Страшные потери. Канонада сегодня как будто еще сильнее вчерашней: целый день стрельба орудийная не умолкает. Теперь ночь, а бомбардировка адская не перестает. Что-то будет завтра? Все ждут штурма. Нехорошо только то, что сильный ветер поднялся. Боже сохрани, если буря разыграется и мост наш разорвет: беда во время штурма потерять сообщение с Северною стороною»[311] и т. д. Толстой записывает: «Сейчас глядел на небо. Славная ночь. Боже помилуй меня. Я дурен. Дай мне быть хорошим и счастливым. Господи помилуй! Звезды на небе. В Севастополе бомбардировка, в лагере музыка. Добра никакого не сделал, напротив обыграл Корсакова». Для Глебова оборона Севастополя — служба, профессиональное дело; для Толстого — случай наблюдать и изучать людей и жизнь в необыкновенном ракурсе.
Приехав в Петербург, Толстой, как «герой Севастопольской обороны», встретил восторженный прием не только среди литераторов, но и в высших сферах. «По способностям литератор, по рождению аристократ» — он начинает заново вести свой двойной образ жизни, удивляя своим поведением даже таких привычных эпикурейцев, как Дружинин. Он и здесь — тот же «баши-бузук». Петербургская жизнь и «Современник» для него — тот же Севастополь и четвертый бастион.
Литераторы встретили Толстого не только как «героя», но и как долгожданного «преемника Гоголя» — как несомненный «новый талант». Они принялись наперерыв ухаживать за ним, и боясь и ревнуя. У них как будто появилась мысль, что с приездом этого артиллериста положение в «Современнике» должно измениться — явилась новая сила, не только талант, но и граф. При всей своей «демократичности», которая возмущала Фета, они все же ненавидели Чернышевского как представителя вступающих в литературу «разночинцев» и втайне, быть может, надеялись, что Толстой, как человек независимый и новый, ликвидирует несносное положение в редакции и вернет власть тем, кто ее заслужил. Их ожидало, однако, разочарование — и с совершенно неожиданной стороны: Толстой оказался офицером и «аристократом» в такой степени, что они, интеллигенты, склонные к либерализму, ахнули.
Разобравшись в положении вещей и увидев, что творится в недрах «Современника», Толстой открыл артиллерийский огонь — но сначала не против Чернышевского, а против дворян-интеллигентов, и прежде всего против Тургенева с его «стремлением к беспристрастию и к истине всецелой». Эта черта Тургенева, которую он считал одним из немногих своих добрых качеств и за дарование которой благодарил природу, возбуждала негодование у людей иного темперамента и оценивалась ими как «дряблость». Время было такое, что от людей требовали определенной позиции: борьба шла не только за «убеждения», но и за власть, за влияние, за «местечко на солнце», как выразился Дружинин. Нужно было искать себе новую опору — укрепляться, готовиться к борьбе не на жизнь, а на смерть, собираться в наступление и подготовлять оборону. Для этого требовалось большое напряжение духовных сил, большая решительность и даже суровость, а в Тургеневе была только «душевность», податливость во все стороны. У него была своя «опора», свое «местечко», но не связанное ни с какими принципами, ни с какой позицией, — Париж, куда он удалялся всякий раз, как только борьба «противовесий» слишком давала себя чувствовать. Поэтому такие напряженно-принципиальные и суровые люди, как Хомяков или Константин Аксаков, не могли, при всем желании, сойтись с Тургеневым и, признавая в нем наличие литературного таланта, презирали его. Очень характерен, например, портрет Тургенева, нарисованный сестрою Константина, В. С. Аксаковой, в ее дневнике (25 января 1855 г.) и внушенный ей, конечно, братом: «Тургенев — огромного роста, с высокими плечами, с огромной головой, чертами чрезвычайно крупными, волосы почти седые, хотя ему еще только 35 лет. Вероятно, многие его находят даже красивым, но выражение лица его, особенно глаз, бывает иногда так противно, что с удовольствием можно остановиться на лице отца Гильфердинга. Тургенев мне решительно не понравился, сделал на меня неприятное впечатление. Я с вниманием всматривалась в него и прислушивалась к его словам, и вот что могу сказать. Это человек, кроме того, что не имеющий понятия ни о какой вере, кроме того, что проводил всю жизнь безнравственно и которого понятия загрязнились от такой жизни, это — человек, способный только испытывать физические ощущения; все его впечатления проходят через нервы, духовной стороны предмета он не в состоянии ни понять, ни почувствовать. Духовной, я не говорю в смысле веры, но человек, даже не верующий, или магометанин, способен оторваться на время от земных и материальных впечатлений, иной в области мысли, другой под впечатлением изящной красоты в искусстве. Но у Тургенева мысль есть плод его чисто земных ощущений, а о поэзии он сам выразился, что стихи производят на него физическое впечатление, и он, кажется, по тому судит, хороши ли они или нет; и когда он их читает с особенным жаром и одушевлением, этот жар именно передает какое-то внутреннее физическое раздражение, и красоты чистой поэзии, уже нечисты, выходят из его уст. У него есть какие-то стремления к чему-то более деликатному, к какой-то душевности, но не духовному; он весь — человек впечатлений, ощущений, человек, в котором нет даже языческой силы и возвышенности души, какая-то дряблость душевная, как и телесная, несмотря на его огромную фигуру»[312].
Как ни «партиен» и как ни преувеличен, по-женски, этот портрет, в нем схвачено что-то верное. Можно себе представить, как этот «душевный» человек должен был подействовать на Толстого, только что покинувшего Севастополь, огрубевшего, как он сам замечал, в военном обществе, «трудного», «тяжелого», пристально наблюдающего и экспериментирующего, подвергающего и себя и других безжалостной пытке анализом. Прошло немного времени — и Тургенев становится его жертвой. Толстой преследует его «убеждения», не дает ему проходу, дразнит и издевается. В редакции «Современника» — шум и крик. Толстой громит литераторов- дворян за их политические убеждения, а затем, точно для демонстрации, едет кутить к цыганам и играть в карты. «Вот все время так, — говорил с усмешкой Тургенев [Фету]. — Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты всю ночь; а затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой»[313]. У Фета есть также и описание одного из вечеров у Некрасова, «в нашем холостом литературном кругу», когда Толстой дразнил Тургенева: «— Я не могу признать, — говорил Толстой, — чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: "пока я жив, никто сюда не войдет". Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать суетность ваших мыслей и называете это убеждением. — Зачем же вы к нам ходите? — задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. — Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Б-й Б-й! — Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! и праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения»[314]. Спор был, как припоминает Фет, именно о политических убеждениях, и, как видно из реплик, собственно не о самом содержании этих убеждений, а о том, что называть убеждением и есть ли у Тургенева и его приятелей по журналу действительные убеждения — характернейший для Толстого спор. Фет прибавляет: «По всему, слышанному мною в нашем кружке, полагаю, что Толстой был прав, и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания».
Наткнувшись на либералов, Толстой оказывается жестоким реакционером, но не потому, что таковы, действительно, его «убеждения», а потому, что ему важно доказать и себе и им, что у них нет никаких убеждений, что они лицемерят, — характерный для Толстого нигилизм. Он живет «инстинктом» и презирает самую природу «убеждения», как чего-то, изобретенного интеллигентами для того, чтобы было о чем говорить. Он знает только «правила», которые выводит не из «убеждений», а из морального инстинкта, не меняющегося и не разрушающегося от того, что «правила» не исполняются. Толстой сам заметил это и записал в дневнике 11 июня 1855 г.: «Смешно 15-ти лет начавши писать правила, около 30 все еще делать их, не поверив и не последовав ни одному, а все почему-то верится и хочется».
Григорович, только недавно написавший свой пасквиль на Чернышевского и заключивший союз с Дружининым и Тургеневым против этой «змеи», теперь в восторге от этих скандалов. Захлебываясь и со слезами на глазах, он рассказывает Фету: «Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмет рукою горло и с глазами умирающей газели прошепчет: "не могу больше! у меня бронхит!" и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат. — "Бронхит, — ворчит Толстой вослед, — бронхит — воображаемая болезнь. Бронхит — это металл!" Конечно, у хозяина-Некрасова душа замирает: он боится упустить и Тургенева и Толстого, в котором чует капитальную опору "Современника", и приходится лавировать. Мы все взволнованы, не знаем, что говорить. Толстой в средней проходной комнате лежит на сафьянном диване и дуется, а Тургенев, раздвинув полы своего короткого пиджака, с заложенными в карманы руками, продолжает ходить взад и вперед по всем трем комнатам. В предупреждение катастрофы подхожу к дивану и говорю: "голубчик Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!" — Я не позволю ему, — говорит с раздувающимися ноздрями Толстой, — нечего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!»[315]
Самые темы этих споров и столкновений ясны уже из приведенных цитат, но вполне уясняются они из важного комментария, который дает Фет: «Хотя во время, о котором я говорю, вся художественно-литературная сила сосредоточивалась в дворянских руках, но умственный и материальный труд издательства давно поступил в руки разночинцев, даже и там, где, как, например, у Некрасова и Дружинина, журналом заправляет сам издатель. Мы уже видели, как при тяготении нашей интеллигенции к идеям, вызвавшим освобождение крестьян, сама дворянская литература дошла в своем увлечений до оппозиции коренным дворянским интересам, против чего свежий неизломанный инстинкт Льва Толстого так возмущался». Если кто-нибудь не поверит Фету, должен будет поверить Некрасову. Скоро после своего восторженного отзыва о Толстом, 7 февраля 1856 г., Некрасов пишет Боткину: «Вернулся Толстой[316] и порадовал меня: уж он написал рассказ[317] и отдает его мне на третью книжку. Это с его стороны так мило, что я и не ожидал. Но какую, брат, чушь нес он у меня вчера за обедом! Чёрт знает, что у него в голове! Он говорит много тупоумного и даже гадкого. Жаль, если эти следы барского и офицерского влияния не переменятся в нем. Пропадет отличный талант! А что он говорил собственно, то можешь все найти в Северной пчеле»[318].
Итак, коалиция «инстинктов» — против коалиции «убеждений». Толстой объединяется с Фетом не только против «разночинцев», но и против дворян-интеллигентов. 4 февраля 1856 г. в записи стоит: «Фет очень мил», а 7 февраля (в тот самый день, когда Некрасов писал о нем Боткину) записано: «Поссорился с Тургеневым». Помимо всего Толстого начинает очень скоро раздражать самый быт петербургской литературной жизни — эти редакционные обеды со сплетнями и профессиональными разговорами. Он то и дело говорит неприятности и ссорится то с тем, то с другим, а в марте вызывает на дуэль Лонданова; дуэль, благодаря стараниям Некрасова, не состоялась, но Толстой кипит раздражением и обдумывает новый план жизни: «Я решаюсь ехать в деревню, поскорей жениться и не писать более под своим именем».
К этому же времени относится начало сближения Толстого со славянофилами — не на почве убеждений, конечно, а скорее, на почве того же «инстинкта». Лесть Погодина, «приправленная славянофильством», его возмущает, но с Аксаковыми, Хомяковым или с Апполоном Григорьевым он чувствует себя хорошо. Помимо всего другого их сближает отрицательное отношение к «цивилизации», которое у Толстого развивается не столько как взгляд или убеждение, сколько как помещичий инстинкт, особенно громко заговоривший при столкновении с интеллигентами из «Современника». Именно в это время А. Григорьев, заботясь о дальнейшей судьбе «Москвитянина», старается заново формулировать основные тезисы младшего славянофильства и пишет 25 марта 1856 г. А. И. Кошелеву: «Вы хотите, восстановляя "Москвитянина", сохранить один из оттенков нашего общего направления, — оттенок, заметьте, несколько отличный от вашего, от старшего славянофильства. Главным образом мы расходимся с вами во взгляде на искусство, которое для вас имеет значение только служебное, для нас совершенно самостоятельное, если хотите — даже высшее, чем наука. Когда я говорю, что главным образом мы в этом расходимся, то говорю не совсем точно, — надо бы сказать, единственно в этом... В отношении к взгляду на народность различия наши могут быть, как мне кажется, формулированы в двух следующих положениях: 1) Глубоко сочувствуя, как вы же, всему разноплеменному славянскому, мы убеждены только в особенном превосходстве начала великорусского перед прочими и, следовательно, здесь более исключительны, чем вы, — исключительны даже до некоторой подозрительности, особенно в отношении к началам ляхитокому и хохлацкому. 2) Убежденные, как вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, — в классах, не тронутых фальшью цивилизации, мы не берем таковым исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую, извечную Русь» и т. д. Из этих общих различий вытекают некоторые последствия в отношении к литературе: «1) большее сравнительно с вами поклонение Пушкину и меньшее сравнительно с вами же поклонение Гоголю; 2) значительнейшая сравнительно с вашею оценкою оценка некоторых литературных явлений, настоящей минуты, как минуты нашей; что же касается до отрицательных пунктов, то здесь сходство простирается до тождества»[319].
Эта программа ясно показывает возможность объединения таких славянофилов, как А. Григорьев, с оппозиционерами из «Современника» — с Дружининым и Боткиным — против Некрасова и Чернышевского. Такие существенные пункты, как признание искусства «самостоятельным» или как возвышение Пушкина за счет Гоголя, явились, по-видимому, результатом общих бесед. «Современнику» грозит раскол, при котором Дружинин окажется в блоке с Григорьевым. Что такие планы были и что при этом были надежды на отход к «славянофилам» целого ряда писателей, раздраженных на «политику» Некрасова, показывает позднейшее письмо А. Григорьева к Погодину (27 сентября 1857 г.), в котором читаем: «Насчет "Москвитянина" вот что-с. Если Вы серьезно думаете о нем, то имейте в виду, что коалиция "Современника" расстраивается, что Островский, Толстой и Тургенев могут быть нашими»[320]. Что касается Дружинина, то он в это время уже стоит во главе «Библиотеки для чтения» и деятельно переписывается с Григорьевым как со своим сотрудником.
Многое в этих программах, убеждениях и делениях на партии Толстому чуждо и не интересно — он, по сравнению с А. Григорьевым или Дружининым, «башибузук», лишенный всяких «убеждений» и крепкий только своим «инстинктом». Но эти люди ему больше нравятся, и он охотно проводит время именно в этой компании. Если характерная для А. Григорьева симпатия к замоскворецкому купечеству должна оставлять его холодным, то внимание к крестьянству находит в его душе отклик — и он готов стать, хотя бы на время, славянофилом. Правда, толку от этого мало, потому что все, что имеет характер «убеждения», раздражает его и вызывает отпор. 8 мая записано: «Вечером сидел у Оболенского с Аксаковым и Киреевским и др. славянофилами. Заметно, что они ищут врага, которого нет. Их взгляд слишком тесен и не задевающий за живое, чтобы найти отпор». В течение одного дня он может превратиться из западника в славянофила или обратно. Он сам записывает 21 мая 1856 г.: «Обедал у Аксаковых. Познакомился с Хомяковым. Остроумный человек. Спорил с Константином [Аксаковым] о сельском чтении, которое он считает невозможным. Вечером у Горчаковых с Сергеем Дмитриевичем спорил о совершенно противном. С. Д. уверял, что самый развратный класс — крестьяне. Разумеется, я из западника сделался жестоким славянофилом».
Общее мнение о Толстом, мелькающее в переписке 1856 г., — что он «дикий». Но все чувствуют в нем огромную, не только литературную, но и моральную силу, жизнеспособность — и потому все стараются, каждый на свой лад, взять его под свое руководство, под свою власть. Кому удастся дрессировать этого буйного «дикаря» и превратить его в послушного интеллигента, разделяющего те или другие убеждения и аккуратно сотрудничающего в соответствующем журнале? Тургенев, как мы видели, очень скоро потерял всякую власть над ним; их отношения образуют целый сложный и длинный роман, но руководить Толстым Тургеневу не удалось. Боткин с самого начала 1856 г., вместе с Фетом, чувствует тягу к Толстому и сближается с ним, несмотря на отзывы Некрасова о направлении его мыслей: «Поклонись Толстому: я чувствую к нему какую-то нервическую, страстную склонность» (Некрасову 28 марта 1856 г.); «я жду не дождусь видеть Толстого, к которому, чувствую, привязанность моя молча и независимо от всякого сознания, — растет в глубину» (ему же 19 апреля). Некрасов относится к нему профессионально: «Милый Толстой! Как журналист[321], я ему обязан в последнее время самыми приятными минутами, да и человек он хороший, а блажь уходится» (Боткину, 5 апреля 1856 г.). Чернышевский смотрит на Толстого примерно так же: «На днях приедет Толстой и привезет "Юность" для 1 № "Совр." Я побываю у него, — не знаю, успею ли получить над ним некоторую власть, — а это было бы хорошо и для него и для Совр.» (Некрасову, 5 ноября 1856 г.).
Но главное руководство Толстым сосредоточивается в 1856 г. в руках Дружинина, власть которого над ним разделяют Боткин и Анненков. Именно в это время, в марте 1856 г., Дружинин становится редактором «Библиотеки для чтения» и вступает в союз с Ann. Григорьевым. «Современнику» угрожают со всех сторон — и старый «Москвитянин», и новый «Русский вестник», и омолодившаяся «Библиотека для чтения». Некрасов волнуется и советуется с Боткиным, который занимает в этом вопросе позицию двойственную и не разделяет пока безусловной ненависти Дружинина к Чернышевскому. У Некрасова возникает характерный стратегический план — пригласить в «Современник» Ann. Григорьева; Боткин отвечает ему 19 апреля 1856 г.: «Сегодня у меня был Ann. Григорьев — он не прочь от участия в Современнике и даже, кажется, желает этого, — но ему, видите, хочется иметь орган для своих мнений. Он готов взять на себя всю критику Современника, но с тем, чтобы Чернышевский уже не участвовал в ней. На это, кажется, едва ли можно согласиться: положим, что Григорьев несравненно талантливее Черныш., — но последний несравненно дельнее. Он готов даже переехать в СПБ. Что ты на это скажешь? При твоем контроле Григорьев был бы кладом для журнала: это единственный человек, у которого есть то, что нужно для журнала и чего, кроме него, нет ни у кого. При том он во всем несравненно нам ближе Чернышевского. Переговори-ка об этом с Тургеневым, — а право, об этом стоит подумать»[322]. Итак, борьба с Чернышевским продолжается. Толстой, очевидно, под влиянием Дружинина, относится к нему в этот период очень враждебно; в письме от 2 июля 1856 г. он упрекает Некрасова по поводу статьи о «Русской Беседе», написанной Чернышевским. «Хотя совершенно согласен с мыслью, выраженной однако неясно и неловко, за что скверно-матерно обругали Филиппова да и всех да еще говорят: мы хотим, чтобы спор был благородный. Это похоже на то, что: «честью тебя прошу, И потом я совершенно игнорирую и желаю игнорировать вечно, что такое
постуляты и категорические императивы. Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружин, из нашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в
"Совр.", а теперь срам с этим [323] господином. Его так и слышишь тоненький,
неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более оттого, что говорить не умеет и голос скверный. — Все это Белинский! Он-то говорил во всеуслышание, и говорил возмущенным тоном, потому что бывал возмущен, а этот думает, что для того, чтобы говорить хорошо, надо говорить дерзко, а для этого надо возмутиться. И возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза. Не думайте, что я говорю о Б., чтобы спорить. Я убежден, хладнокровно рассуждая, что он был, как человек, прелестный и, как писатель, замечательно полезный; но именно от того, что он выступил из ряду обыкновенных людей, он породил подражателей, которые отвратительны. У нас не только в критике, но и в литературе, даже просто в обществе, утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым очень мило. А я нахожу, что очень скверно. Гоголя любят больше Пушкина. Критика Белинского — верх совершенства, ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов. А я нахожу, что скверно, потому что человек желчный, злой не в нормальном положении. Человек любящий — напротив, и только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи. — Поэтому ваши последние стихи мне нравятся, в них грусть и любовь, а не злоба, т. е. ненависть. А злобы в путном человеке никогда нет, и в вас меньше, чем в ком-нибудь другом. Напустить на себя можно, можно притвориться картавым и взять даже эту привычку. Когда это нравится так. А злоба ужасно у нас нравится. Вас хвалят, говоря: он озлобленный человек, вам даже льстят вашей злобой, и вы поддаетесь на эту штуку»[324].
Здесь многое, как, например, фразы о Пушкине и Белинском, вдохновлено, несомненно, Дружининым. Ополчаясь на «злобу», Толстой громит русскую интеллигенцию и созданную ею публицистику — он желает ее «игнорировать». Во главе этого похода становится Дружинин — «Библиотека для чтения» превращается в боевой орган, собирающий около себя целую группу, настроенную против Чернышевского. Дружинин последовательно переходит от нападения на «гоголевское направление» к нападению на Белинского и его «заветы». Толстому, за поведением которого он следит не менее пристально, чем другие, он советует специально изучить Белинского, потому что «на этом пункте будет у вас огромное разногласие». Борьба принимает характер регулярного артиллерийского боя.
В ответ на «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевского (Современник. 1855. № 12; 1856. № 1,2,4, 7, 9-12) Дружинин печатаете «Библиотеке для чтения» (1856. № 11 и 12) программную «Критику гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения». Чернышевский, прозрачно намекая на Дружинина, пишет: «Зачем мы приводим буквально столько отрывков из грубых рецензий Н. А. Полевого? Затем, что они имеют одно несомненное достоинство: связность, логичность, последовательность в образе суждений. Надобно же нам видеть, с какими понятиями об искусстве необходимо связаны упреки Гоголю в односторонности направления, — упреки, которые до сих пор повторяются людьми, не понимающими их значения, не понимающими, что кто называет Гоголя односторонним и сильным, должен в такой же степени односторонним и сильным называть и Лермонтова, находить, что "Герой нашего времени" — произведение грязное и гадкое, что романы Диккенса и Жорж-Санда не только отвратительны, но и слабы в художественном отношении, слабее последнего нелепейшего водевиля, уродливее последнего фарса... Важно иногда бывает знать происхождение мнения и первобытный, подлинный вид, в котором оно выразилось, — часто этого бывает довольно, чтобы вполне оценить годность этого мнения для нашего времени, — часто оказывается, что оно принадлежит неразрывно к системе понятий, невозможных в наше время. Самую жалкую фигуру представляют не те люди, которые имеют ошибочный образ мыслей, а те, которые не имеют никакого определенного, последовательного образа мыслей[325], которых мнения — сбор бессвязных отрывков, неклеящихся между собою». Реабилитируя и выдвигая Надеждина (Не- доумко), как предшественника Белинского, Чернышевский оправдывает резкость его нападений на «пушкинский период» и пользуется случаем ответить Дружинину и его единомышленникам на упреки в грубости и жестокости тона: «Удивительное дело — наши литературные да и всякие другие понятия. Вечно предлагаются вопросы, почему земледелец пашет поле грубым железным плугом или сошником! Да чем же иначе можно вспахать плодородную, но тяжелую на подъем почву? Ужели можно не понимать, что без войны не решается ни один важный вопрос, а война ведется огнем и мечом, а не дипломатическими фразами, которые уместны только тогда, когда цель борьбы, веденной оружием, достигнута?» Далее следует защита «критики гоголевского периода», уже определенно направленная против мнений Дружинина и его единомышленников. Любопытно здесь одно примечание, которым Чернышевский точно намекает на то, что по-настоящему, с полной откровенностью, его личные мнения и мнения его врагов высказываются не в статьях, а в переписке и разговорах: «Вообще надобно заметить, что отрицание, выражающееся печатным образом, принимает формы гораздо менее жесткие, нежели те, которыми облекается оно в разговорах и частной переписке». Если Чернышевский знал, что Дружинин, Тургенев, Григорович и Толстой называют его в своих письмах «клоповоняющим господином» (а он мог знать об этом от Некрасова), то он имел полное основание сделать такое примечание и тем самым дать понять своим врагам, что он знает их «непечатные» отзывы о себе. Кончает свою работу Чернышевский прямым нападением на партию Дружинина, нарочно указывая в примечании, что в этом месте «нас занимает настоящее, а не давно минувшее». Он обвиняет теоретиков «чистого искусства» в том, что они, на самом деле, «хотят подчинить литературу исключительно служению одной тенденции, имеющей чисто житейское значение», что они — «эпикурейцы», жизнь которых «ограничивается тем горизонтом, который обнимается поэзиею Анакреона и Горация: веселая беседа за умеренным, но изысканным столом, комфорт и женщины, — больше не нужно для них ничего. Само собою разумеется, что для таких темпераментов равно скучны все предметы, выходящие из круга эпикурейских идей; они хотели бы, чтоб литература ограничивалась содержанием, которым ограничивается их собственная жизнь. Но прямо выразить такое желание значило бы обнаружить крайнюю нетерпимость и односторонность, и для прикрытия служат им фразьг о чистом искусстве, независимом будто бы от интересов жизни». Развитию этой мысли, дискредитирующей группу Дружинина, посвящен весь конец этой последней главы.
Работа Чернышевского — не академическая, а злободневная, вся построенная на аналогиях и намеках. Пробегая историю русской журналистики и полемики, Чернышевский учится методам борьбы и придает своему нападению определенный смысл — не просто литературной, но социальной борьбы. Слово «эпикурейцы» употреблено, конечно, вместо слова «дворяне».
Статья Дружинина — отчасти ответная, отчасти программная. Она написана с явным намерением противопоставить «сухому», «жесткому», партийному и взволнованному тону Чернышевского — тон гораздо более спокойный[326], проникнутый широтой и терпимостью взглядов, а в отношении к «критике гоголевского периода», страстно пропагандируемой Чернышевским, — тон независимый, тон исторического анализа, отдающего справедливость, но признающего самое явление как таковое — фактом прошлого, и только. Прямо на Чернышевского метят следующие слова Дружинина, отступающие от общего уравновешенного тона статьи в сторону полемики: «Но как бы велики ни были заслуги старой критики, как бы мы сами ни сознавали ее заслуги для нашего собственного развития, мы никогда и ни за что не поддадимся тому критическому фетишизму, о котором говорилось недавно. Все наши инстинкты возмущаются, когда нам по несчастию приходится в наше время, через десять лет после того, как окончился упомянутый нами период, встречать рабские, бледные, сухие, бездарные копии старого оригинала...[327]Вообразите себе, что все новые писатели, явившиеся за эти десять лет, не могут сообщить публике ничего нового, может лишь один какой-нибудь дикий труженик, лишенный всякой литературной зоркости». И дальше: «Вполне ценя и уважая всех наших товарищей по делу современной русской критики, мы не можем не признаться однако же в комических впечатлениях, иногда производимых на нас некоторыми из отчаянных поклонников старой критики. Разве мы не видали, и много раз, критических статей о деятельности старых русских писателей, от Дружинина до Гоголя, статей, в которых просто и открыто высказывалась мысль такого рода: "сказанный писатель уже превосходно оценен критиками сороковых годов; не имея возможности сказать от себя ничего хорошего, приводим выписки из рецензии, писанной около двадцати лет назад" Не стыдимся признаться, что подобные отзывы, плод бессилия, соединенного с упрямым фетишизмом, возбуждали в нас не один только смех, но вместе со смехом и порядочную досаду. Вместе с шутливым запросом новому критику: "А что же ты будешь говорить о писателях, явившихся после критики сороковых годов?" Мы готовы были спросить, и гораздо строже: "Для чего же ты взялся за перо, новый критик, не имея ни силы, ни желания сказать что-либо, кроме повторения старых литературных выводов?". Под "новым критиком" здесь, конечно, подразумевается Чернышевский, наполнивший свои статьи выписками из Надеждина и Белинского, а под "критикой сороковых годов" — прежде и главнее всего Белинский, против возвеличения которого направлена вся эта статья Дружинина. Против Белинского направлен и упрек в несправедливом отношении к "талантам второго разряда" — в пример Дружинин приводит Марлинского: "До сих пор Марлинский еще нуждается в хладнокровной оценке, до сих пор ценители, истинно признающие в нем, при всех его недостатках, и дарование и силу истинной поэзии, еще не могут решиться поднять свои голоса в защиту лучших вещей Марлинского. Так силен был удар, ему нанесенный, так полезны были последствия этого удара для дела упрощения русского повествовательного слога. А между тем через много лет после критической статьи о "Повестях Марлинского"[328], признавая важность и пользу этой статьи, мы не можем не читать ее с самым тяжелым чувством. В ней, чуть ли не в первый раз, выказался тот дух исключительной нетерпимости, который со временем, под влиянием неблагоприятных обстоятельств наложил темное пятно на критику, нами теперь разбираемую».
Итак, «идеологической» и «партийной» точке зрения на «критику гоголевского периода» Дружинин противополагает точку зрения историческую и не хочет следовать заветам Белинского. «Дидактической» теории, которая довела Белинского до «столь грубого непонимания поэзии, какое он выказал в своем отзыве о Татьяне Пушкина», Дружинин противопоставляет теорию «артистическую», согласно которой «искусство служит и должно служить само по себе целью». По отношению к настоящему положению получается почти обратное: Чернышевский, воспитанный на Пушкине и втайне предпочитающий его, выдвигает поэзию Некрасова по мотивам историческим, считаясь с характером эпохи и новыми задачами искусства; Дружинин, борясь с «дидактикой» в искусстве и критике, становится на «идеологическую» точку зрения и выдвигает «артистическую» теорию как абсолютную, «неопровержимую». Позиция Дружинина ослаблена еще тем, что его нападение на Чернышевского имеет личный характер и сопровождается намеками на его «бездарность», тогда как Чернышевский, говоря об «эпикурейцах», имеет в виду целый социальный слой, против влияния которого он и выступает.
Тем не менее (или вернее — именно поэтому) Дружинин делается главой значительной литературной группы, угрожающей «Современнику». Чуть ли не основную роль в этой группе — не как «идеолог», конечно, а как «новый» и «несомненный» талант — играет Толстой. Некрасов, считавший его своим и, конечно, гордившийся тем, что напечатал его первое произведение, пишет 30 декабря 1856 г. характернейшее письмо Тургеневу, целиком посвященное вопросу о Дружинине, Толстом и Чернышевском: «За наступающий год нельзя опасаться — покуда есть в виду и в руках хорошие материалы, а что до подписки, то она будет, несомненно, хороша, но жаль, если союз пойдет на разлад. Что сказать о Толстом, право, не знаю. Прежде всего он самолюбив и неспособен иметь убеждение — упрямство не замена самостоятельности; потом, ему еще хочется играть роль повыше своей; Панаева он не любит, и как этот господин хвастливостью и самодовольствием мастерски умеет поддерживать к себе нерасположение, то, верно, теперь не любит еще более; при нынешних обстоятельствах, естественно, литературное движение сгруппировалось около Дружинина — в этом и разгадка. А что до направления, то тут он мало понимает толку. Какого нового направления он хочет? Есть ли другое — живое и честное — кроме обличения и протеста? Его создал не Белинский, а среда, оттого оно и пережило Белинского, а совсем не потому, что "Современник" — в лице Чернышевского — будто бы подражает Белинскому[329]. Иное дело — может быть, Чернышевский недостаточно хорошо ведет дело, — так дайте нам человека или пишите сами. Больно видеть, что Толстой личное свое нерасположение к Чернышевскому, поддерживаемое Дружининым и Григоровичем, переносит на направление, которому сам доныне служил и которому служит всякий честный человек в России. А с чего приплетены тут денежные соображения? После этого я вправе сказать, что Толстой переходит на сторону Дружинина, чтоб скорее попасть в капитаны. И последнее правдоподобнее. Не знаю, как будет кушать публика г...о со сливками, называемое дружининским направлением, но смрад от этого блюда скоро ударит и отгонит от журнала все живое в нарождающемся поколении, а без этих сподвижников, еще готовящихся, — журналу нет прочности. Однако все это ясно для нас, но не для Толстого. Чем его удержать? Не удержит его покуда хоть то, что он — при обстоятельствах доныне не изменявшихся — подписал наше условие? Заставить журнал дать ложное обещание публично — поступок нехороший. Думаю на днях написать к нему. О Дружинине ты думаешь верно — своя рубашка к телу ближе»[330].
Итак, не Тургенев и не Некрасов становятся руководителями Толстого, а Дружинин. Тургенев этим явно уязвлен. Дружинину он пишет 5 декабря 1856 г.: «Вы, говорят, очень сошлись с Толстым — и он стал очень мил и ясен. Очень этому радуюсь. Когда это молодое вино перебродит, выйдет напиток достойный богов»[331], а Толстому — 8 декабря: «Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым — и находитесь под его влиянием. Дело хорошее — только, смотрите, не объешьтесь и его. — Когда я был ваших лет, на меня действовали только энтузиастические натуры; но вы другой человек, чем я — да, может быть, и время теперь настало другое»[332]. Однако и Тургенев, по крайней мере в этом письме, собирается поддерживать журнал Дружинина, а не Некрасова: «А что "Современник" в плохих руках — это несомненно... надеюсь кончить в скором времени рассказ для Др., — а для "коалиции" — (которая действительно не представляет ничего "величественного") — ничего». Из этого же письма видно, что Толстой сходится и с Анненковым: «Вы видаете Анненкова теперь? Помните, как он вам не нравился? А теперь вы, я надеюсь, убедились, что он человек и умный и хороший. Чем больше вы его будете знать, тем он станет вам дороже, поверьте мне».
Дружинин, Боткин и Анненков — вот тот «бесценный триумвират», к которому примыкает Толстой. По его дневникам видно, что с осени 1856 г. он чаще всего видится именно с ними. Роман со славянофилами скоро оборвался; 20 января 1857 г. Толстой пишет Боткину: «Славянофилы тоже не то. Когда я схожусь с ними, я чувствую, как я бессознательно становлюсь туп, ограничен и ужасно честен, как всегда сам дурно говоришь по-французски с тем, кто дурно говорит[333]. Не то, что с вами, с бесценным для меня триумвиратом Б[откиным], Ан[ненковым] и Дружининым], где чувствуешь себя глупым оттого, что слишком многое понять и сказать хочется, этого умственного швунга нету»[334].
Однако толстовское «не то» начинает действовать и по отношению к «триумвирату». Тургенев был по-своему прав, когда предвидел, что Толстой скоро «объестся» Дружининым. От «интеллигенции» — и радикальной, каковы Чернышевский и Некрасов, и консервативной, каковы «славянофилы» — Толстой, ища «умственного швунга», уходит к «артистической» партии, отстаивающей независимость искусства. Но этой независимости Толстому мало. И в этом кругу он скоро начинает чувствовать власть «убеждений», дух журнальной партийности — больше всего в Дружинине. В дневнике конца 1856 г. появляются записи, указывающие на то, что отношения его с Дружининым начинают портиться, а вместе с этим Толстой начинает испытывать раздражение к журнальной атмосфере вообще — его опять тянет куда-то в сторону. 7 ноября: «вечером Дружинин и Анненков, немного тяжело с первым». 8 ноября: «Был у Дружинина и Панаева, редакция Современника противна». 10 ноября: «С Дружининым поехал к Ольге Тургеневой. Дружинин стыдится за меня». 13 ноября: «в 4-м часу к Дружинину, там Гончаров, Анненков, все мне противны, особенно Дружинин, и противны зато, что мне хочется любить, дружбы, а они не в состоянии». 15 ноября: «История с Современником, я высказал отчасти свое мнение... Собрание литераторов и ученых противно и без женщин не выйдет». 20 ноября: «Обедал у Дружинина. Там Писемский, который, очевидно, меня не любит, и мне это больно. Дружинин отказался слушать меня, и это меня покоробило». 22 ноября: «Обедал у Панаевых. Потом у Краевского до вечера. Литературная подкладка противна мне до того, как ничто никогда противно не было». 23 ноября: «Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве, ужасно высоко и чисто». И наконец — характерная запись 7 декабря: «Прочел 2-ую статью Дружинина. Его слабость, что он никогда не усумнится, не вздор ли это все». Иначе говоря, «слабость» Дружинина, в глазах Толстого, в том, что и у него есть то, что называлось в это время «убеждением», и от чего Толстой отшатывается, как от заразы. Он ценит и в себе и в других постоянное присутствие мысли — «не вздор ли это все», мысли, способной поколебать всякое «убеждение» и удерживающей человека в состоянии нигилистической «свободы», при которой он действует уж не по «убеждению», а по «инстинкту».
Приближается момент, когда и «бесценный триумвират» потеряет для Толстого свою цену. Другом Толстого останется из всех литераторов один Фет — наименее «литератор» и человек, живущий и действующий тоже по «инстинкту».
Позже, в 1860 г. (в статье «О народном образовании») Толстой дает замечательную формулировку своему нигилизму, своему презрению к «убеждениям», «направлениям», «теориям» и т. д. Он сравнивает «догматическую школу средних веков, в которых истины несомненны», с нашей школой, «в которой никто не знает, что есть истина»; твердые основания может дать только религия, но в наше время «образование религиозное составляет только малую часть образования». Философия не имеет твердых оснований: «Все философы отыскивают законы добра и зла: отыскав эти законы, они, касаясь педагогики (все не могли не касаться педагогики), заставляют образовывать род человеческий по этим законам. Но каждая из этих теорий, в ряду других теорий, является не полною и вносит только новое звено в сознание добра и зла, лежащее в человечестве». Отсюда делается вывод, который многое разъясняет в поведении Толстого и может служить эпиграфом ко всей книге о нем: «Всякий мыслитель выражает только то, что сознано его эпохой, и потому образование молодого поколения в смысле этого сознания совершенно излишнее, — сознание это уже присуще живущему поколению».
«Сознание эпохи» — это и есть для Толстого «инстинкт», факт для него почти биологический, «присущий» каждому новому поколению уже тем самым, что оно живет в определенной эпохе. В Толстом это «сознание эпохи» страшно сильно — им он действует в борьбе с интеллигентами, руководящимися «убеждениями», и им же спасает самого себя, эволюционируя и меняясь до неузнаваемости вместе с изменением эпох. Толстовский нигилизм, его «неспособность к убеждению» (по словам Некрасова), должен быть понят тоже как появление «сознания эпохи» — и именно эпохи пятидесятых годов, с ее социальными сдвигами, расслоениями, кризисами и т. д. Наступает другая эпоха — и нигилизм этот, сохраняя свою общую основу, вступает в противоречивое, но тем более характерное для Толстого соединение с догматизмом. Но об этом речь будет впереди.
5
Еще до отъезда из Севастополя в Петербург Толстой начал писать третий очерк — «Севастополь в августе 1855 года». Закончил он его уже в Петербурге, в декабре 1855 г. Перемена жизни и знакомство с петербургскими литераторами, естественно, сказались на этой вещи.
«Севастополь в августе» — вещь промежуточная и оттого расходящаяся в разные стороны. Военный материал полностью лег во втором очерке, написанном еще в тот период, когда для Толстого живы были мысли о военном журнале. Теперь все это отошло в прошлое — он уже не военный корреспондент и даже почти не военный человек, а сотрудник «Современника», известный (хотя пока больше в кругу литераторов) писатель. Третий очерк пишется поэтому отчасти как повторение, а отчасти как отход в сторону. Он гораздо более мозаичен и кусковат, чем прежние вещи Толстого. Психологические детали явно отрываются от собственно военного материала, описания и характеристики людей приобретают вид отдельных этюдов, конструкция теряет прежние прозрачные очертания, персонажи толпятся, теснят друг друга и, показавшись крупным планом, исчезают иной раз без следа.
Зато это первая вещь, в которой начинают явственно обозначаться отдельные персонажи. Недаром среди толпы персонажей, наполняющих этот очерк, выделены двое, на противопоставлении которых он и построен — братья Козельцовы. Намек на это был дан уже во втором очерке — в контрастном противопоставлении Михайлова и Праскухина; но там этот контраст был как бы функцией общего стилистического контраста (иронии и пафоса), а здесь он начинает приобретать самостоятельный характер — как метод обрисовки и подачи героев. Толстой местами впадает здесь даже в традиционный повествовательный тон, в беллетристическую терминологию — точно несколько растерявшись при виде того, что этот очерк складывается как-то по-новому, что в нем начинают перевешивать элементы какого-то незнакомого ему жанра. «Не будем рассказывать, сколько еще опасностей, разочарований испытал наш герой в тот вечер: как вместо такой стрельбы, которую он видел» и т. д. Проповеднический тон, с такой силой развернувшийся во втором очерке, здесь почти отсутствует — некоторые отзвуки его можно заметить в конце, но они звучат только как реминисценции из двух прежних очерков: «Севастополь все тот же с своею недостроенною церковью, колонной, набережной... — все тот же красивый, праздничный Севастополь» и т. д. Конструктивной роли этот тон здесь не играет — материал беспорядочно рассыпан по всему пространству очерка, точно собранный из остатков и брошенный наудачу. В этой манере есть что-то от Теккерея, которого Толстой усиленно читает в 1855 г. Ему, по-видимому, хочется освободиться от строгих конструктивных форм, которых он добивался прежде. Следуя примеру Теккерея, он дает простор описательным деталям и расширяет объем вещи, не заботясь о протягивании через нее повторяющихся мотивов и о скреплении концовкой, как раньше. Вещь явно перерастает свои собственные рамки, являясь, скорее всего, этюдом большой формы — в стиле теккереевских романов, не столько движущихся, сколько складывающихся мозаикой.
Недаром в военном рассказе внезапно оказался посторонний и сам по себе как будто лишний элемент — «семейный». Почему два погибающих офицера — братья? Толстой внезапно сталкивает их на станции (меньшой даже не сразу узнает старшего) и быстро, еще до начала боя, заставляет их попрощаться и разойтись в разные стороны, после чего они уже не встречаются. Очевидно — это мотивировка параллелизма, на котором построен очерк, но мотивировка, появившаяся со стороны, из каких-то других запасов, и свидетельствующая только о том, что очерк этот — вещь промежуточная, переходная. Не будь этого — мотивировка родством была бы использована иначе. Это — намек на прорастание какого-то другого жанра, в котором семейное начало окажется уже не внешней мотивировкой, а существенным элементом построения. Здесь сделан первый шаг к тому своеобразному сочетанию двух жанров — батального и семейного, — которое осуществлено в «Войне и мире». Сочетание это здесь еще не осознано как жанровое: элементы не дифференцированы и соотношение их не использовано, но самое внедрение семейного признака тем более характерно — как зародыш. В данном случае оно явилось как будто вынужденным — заменой других конструктивных скреплений, но эта роль осталась невыполненной. Критик, осуждающий Толстого за то, что вместо общей картины приступа, сражения и отступления он дает уголок картины и заставляет нас смотреть, как «чувства испуга, гордости и отчаянной храбрости меняются в душе благородного юноши», не замечает даже присутствия здесь двух братьев и предлагает Толстому назвать рассказ не «Севастополь в августе», а «Прапорщик Володя Козельцов под Севастополем»[335]. По-своему он прав — поскольку жанр военного рассказа здесь явно сдвинут под напором психологического материала. Начинает обрисовываться типичный толстовский герой, душевная жизнь которого текуча и парадоксальна: «чувства испуга, гордости и отчаянной храбрости меняются в душе благородного юноши», говорит с недоумением критик.
Следы чтения Теккерея сказываются здесь еще и в той «объективности» тона, которой до сих пор не было. Патетический лиризм, которым был окрашен второй очерк, здесь снят совершенно, — тоже, по-видимому, в виде опыта. Вышеприведенная фразао герое звучит совсем по-теккереевски. Позже, в мае 1856 г., Толстой много раз задумывается над этим вопросом и заносит в свою записную книжку интересные формулировки, в которых фигурирует и Теккерей: «Первое условие популярности автора, то есть средства заставить себя любить, есть любовь, с которой он обращается со всеми своими лицами. От этого Диккенсовские лица — общие друзья всего мира; они служат связью между человеком Америки и Петербурга; Теккерей и Гоголь верны, злы, художественны, но не любезны...[336] Теккерей до того объективен, что его лица с страшно умной иронией защищают свои ложные, друг другу противоположные взгляды... Хорошо, когда автор только чуть-чуть стоит вне предмета, так что беспрестанно сомневаешься, субъективно или объективно».
Три Севастопольские очерка в целом — это этюды к «Войне и миру». Здесь подготовлены и отдельные детали, и некоторые лица, и разнообразные «тональности», и даже сплетение батального жанра с семейным. Не хватает еще осознания конструктивных особенностей и возможностей большой формы, не хватает еще и материала и условий для такой работы. Толстому надо пройти еще через ряд вещей и через отказ от журналов и даже от литературы, чтобы почувствовать себя хозяином не только в Ясной Поляне, но и в области русского романа.
Военный период, пережитый Толстым, оказался очень важным для его литературной карьеры. «Детство» обратило на него внимание литераторов, «Севастопольские рассказы» сделали его известным военным писателем. Это было очень важно в годы крымской кампании: штатский литератор, продолжающий жить в Петербурге и сотрудничать в журналах, чувствовал себя неловко, как бездельник или трус. Даже Некрасов писал 30 июня 1855 г. Тургеневу: «Хочется ехать в Севастополь. Ты над этим не смейся. Это желание во мне сильно и серьезно — боюсь, не поздно ли уже будет»[337]. Толстой, которого в Севастополе называют «туристом» и «баши-бузуком», находит в Петербурге другой, более сочувственный прием — и именно как военный, как «герой». Толстой сам впоследствии иронически опишет и этот прием и самого себя в первой главе «Декабристов»: «Великое, незабвенное время возрождения русского народа! как тот француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в великую французскую революцию, так и я смею сказать, что кто не жил в 56 году в России, тот не знает, что такое жизнь. Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из деятелей того времени. Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о крымской войне сочинение, приобретшее ему великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки прибыл в центр государства, в ракетное заведение, где и пожал лавры своих подвигов. Он видел восторг обеих столиц и всего народа и на себе испытал, как Россия умеет вознаграждать истинные заслуги. Сильные мира сего искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе, и для того, чтоб узнать от него подробности войны, рассказывали ему свои чувствования. Поэтому пишущий эти строки может оценить то великое, незабвенное время».
Но этот иронический тон характеризует уже другие годы и другого Толстого — разочаровавшегося в петербургских литераторах, бросившего журналы и уехавшего в Ясную Поляну. Это — одна из постоянных оглядок назад, давших впоследствии «Исповедь». Зимой 1855-1856 гг. Толстой еще не иронизирует, а радуется своему успеху и живет бурно, шумно, гордо расхаживая в своей военной форме по комнатам «Современника». О нем пишут в журналах и приветствуют его именно как нового военного писателя. Дружинин пишет о нем в 1856 г.: «Граф Толстой, в своих рассказах о Севастополе, важен как человек военный, как счастливейший представитель образованнейшей части нашего достославного воинства. Он попал в Крым не в виде зрителя и живописца по приглашению, не в виде туриста, любящего сильные ощущения, даже не в виде литератора, явившегося на поле борьбы за новым вдохновением. Наш новый нувелист и дорогой товарищ — русский офицер, начавший свою службу на Кавказе, много ночей спавший у костра, рядом с артиллерийскими солдатами, видавший в свою жизнь военные дела и уже присмотревшийся к той картинности военного быта, которая всегда неотразимо поражает незнакомых с жизнью воина... Все общее, случайное, даже давно уже отброшено нашим нравоописателем военного быта; все типическое, оригинальное, самостоятельное, прямо вытекающее из характера русского человека, предназначенного на военную деятельность, дает пищу графу Толстому, как поэту и как простому рассказчику. Оттого нам как нельзя более понятна та завидная популярность, какою пользуется наш писатель JI. Н. Т., то есть граф Толстой, между образованнейшими классами военного сословия. Может быть, он сам не догадывается о размерах этой популярности; по нашему собственному опыту, довольно многостороннему по этой части, ее размеры, увеличиваясь со всяким днем, достигли самой завидной степени. Огромная часть читателей, служивших в военной службе, горячо интересуется дарованием нового повествователя. Служащая молодежь читает произведения его с жадностью»[338].
В следующей своей статье о Толстом (по поводу отдельного издания — «Военные рассказы») Дружинин еще подробнее и точнее подарит о том же: «До сих пор между нашими литераторами было весьма мало настоящих военных людей... Сколько ни читай книг, сколько ни встречай офицеров в гостиной, сколько ни гляди на казармы и на солдат во время ученья, военной жизни (точно так же, как и всякой другой жизни) не узнаешь из таких праздных наблюдений. Лермонтов, сам служивший офицером и бывавший под пулями, сделал многое, но мы лишились этого человека, едва успев насладиться его первыми созданиями. После Лермонтова пришло время рутины, ничем не оправдываемой и ничем не извиняемой... Старосветские литераторы в офицере изображали непременно красавца и удальца, первого любовника, Вельского или Лидина; повествователи нового поколения бросались в противоположную крайность. Каждый рисовал не с натуры, а от себя, по мастерскому выражению Брюллова, и эта рисовка от себя происходила от того, что из художников никто не изучал натуры, а бродил в сумерках своего сокровенного самосознания... С появлением «Рубки леса» слава образцового военного рассказчика окончательно утвердилась за графом Толстым, в то же самое время печатавшим свои «Очерки Севастополя». Сильный талант, наблюдатель и мастер, истинный воин по службе и призванию, — сказались читателю самому недальновидному... И когда осада кончилась, и когда автор «Рубки леса» вернулся к нам не только целый и здоровый, но еще с «Севастополем в августе», он был встречен в Москве и Петербурге как один из первых русских писателей и чуть ли не единственный знаток поэзии военного быта»[339]. Здесь столько приветствий и комплиментов, что статья сбивается почти на тон рекламы — так восторженно был принят Толстой даже столь солидными литераторами, каков Дружинин. Интересно, что Чернышевский в своей статье того же времени, как будто нарочно, совершенно оставляет в стороне то, о чем так распространяется Дружинин — что Толстой военный, что он сам герой Севастополя и пр. Но о статье Чернышевского нужно будет сказать ниже.
Толстого рвут на части: обсуждают каждый его шаг, спорят и ссорятся из-за него, требуют от него материала, ухаживают, стараются «удержать», льстят, воспитывают и т. д. А между тем Толстой, покончив с Севастополем, еще не знает, что ему делать дальше и о чем писать. Вот он — уже литератор, свободный от военной службы, которая так тяготила его в последнее время, но что значит «быть литератором»? Он кутит вместе с другими и сильнее других, играет в «китайский биллиард» и, как всегда, проигрывает большие деньги, обедает с писателями, спорит о Шекспире и Жорж-Санд, посещает славянофилов, говорит о крестьянском вопросе. Но «журнальным писакой» он сделаться не хочет, а как сделаться настоящим писателем?
Пока он заканчивает раньше начатые вещи и быстро пишет новые, распределяя их по всем трем журналам — чтобы никого не обидеть: «Современник», «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки». Так явились: «Утро помещика» («Отечественные записки». № 12), «Встреча в отряде с московским знакомым» («Библиотека для чтения». 1856. № 12) и «Юность» («Современник». 1857. № 1). Кроме того, в феврале 1856 г. он пишет «Метель» («Современник». 1856. № 3), а в апреле — «Два гусара» («Современник». 1856. № 5).
Замысел «Метели» — не новый: в январе 1854 г. Толстой проплутал целую ночь в степи — «и мне пришла мысль написать рассказ Метель», записано в дневнике.
По материалу эта вещь возвращает нас к «Детству» (воспоминания), по методу — к «Истории вчерашнего дня». Метель служит здесь развернутой мотивировкой для того, чтобы переплести факты действительности с сонными видениями. Весь рассказ строится на обостренном восприятии деталей, — проходящих в двух планах. Дружинин сопоставляет его, между прочим, с некоторыми страницами «Записок охотника» и со стихотворениями Фета: «Но ни Фет, ни Тургенев не давали своим вещам того размера, который придан "Метели". Их прекрасные опыты выигрывали от своей краткости, ибо в вещах, преисполненных тонкого поэтического интереса, одна страница, не достигающая цели, предположенной автором, есть пятно на всем произведении... С прозой, вроде "Метели", ее автор должен обращаться как с стихотворением, и причина тому весьма понятна»[340]. Сравнение «Метели» со стихотворением интересно тем, что им схвачена особенность ее конструкции, ее «сюжета», в основе своей орнаментального: простая канва расшита узором, который интересен именно сплетением подробностей, а не фабулой. Сюжет строится по аналогии с законами стихового сюжета — не на главных для прозы элементах, а на второстепенных. Толстой здесь доводит до предела то, что в других его вещах являлось как эпизод. Получается нечто похожее на фугу, сплетающую две самостоятельные темы, которые можно слушать и вместе, и отдельно. Употребляя современные термины, можно сказать, что здесь Толстой впервые ясно вступал на путь «линеарного» письма, при котором каждый элемент является одновременно и связанным и самостоятельным. При таком построении мотивировка освобождается и становится одной из тем (дорога), «подробности» получают особый и очень значительный смысл, конструкция складывается не по законам фабульной новеллы, а иначе. Сюжет получается из самого тематического узора.
Не удивительно, что такая «линеарная» вещь показалась растянутой, утомительной, перегруженной подробностями. Дружинин пишет: «Начало вьюги, описание обоза, сон, наконец рассвет и прибытие на станцию — все это способно привести в сумасшедший восторг всякого читателя, чующего поэзию; но, к сожалению, это одни слабосвязанные эпизоды, между которыми сам автор часто выказывает свое собственное утомление. Во всем рассказе есть подробности ненужные... Он иногда бьет дальше своей цели и ошибается не вследствие бедности, а вследствие обилия подробностей. Его собственные впечатления не смутны и не сбивчивы, но часто чересчур изобильны, во вред общему ходу рассказа. Описание лошадей с их спинами, физиономиями, кисточками на сбруе, колокольчиками, изображение извозчиков со всеми частями их наряда, совершенно верны, но местами излишни».
«Метель» есть, в сущности, вещь архаистическая, возрождающая, хотя и в новой функции, старинный «описательный» род. В этом смысле она может быть соотнесена не столько с тургеневскими страницами, сколько со страницами Аксакова, тоже, конечно, архаиста. Любопытно, что Аксаков обратил внимание именно на «Метель» Толстого и писал 12 марта 1856 г. Тургеневу: «Скажите, пожалуйста, графу Толстому, что "Метель" — превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих: не один раз испытал я ужас зимних буранов и однажды потому только остался жив, что попал на стог сена и в нем ночевал. Скажите ему, что подробностей слишком много; однообразие их несколько утомительно»[341].
К 1856 г. у Толстого наметилось уже несколько литературных линий, которые он может то комбинировать, то выделять. Их можно довольно точно перечислить: линия мемуарная, линия «военная», линия «догматическая» или нравоучительная («Роман русского помещика»), линия «семейная». До сих пор они выступали более или менее раздельно — теперь наступает момент, когда надо начать их сплетать, подготовляя, таким образом, переход к большой форме. Опыт «линеарной» или фугообразной конструкции, предпринятый Толстым в «Метели», свидетельствует о том, что такого рода переход, действительно, намечен. Еще яснее свидетельствует об этом появление «Двух гусаров».
Дружинин пишет: «В "Двух гусарах" просто и почти жестко передаются события, из которых легко сделать два романа». И действительно — здесь две как будто самостоятельных истории, два разных сюжета, связанные, на первый взгляд, совершенно внешне: эпизод с отцом и эпизод с сыном. Первоначальное название повести и было — «Отец и сын». Если в «Метели» мотивировка оказалась самостоятельной темой, то здесь она использована как «идея» и вынесена за скобки — повесть сама по себе освобождена от всякой мотивировки и подана примитивно, как простое сопоставление, сравнение, параллелизм. Здесь есть нечто от притчи — тем более, что сопоставление сделано с определенной тенденцией. Естественно, что такого рода «форма» или жанр потребовал опять появления «автора» — как это было во втором севастопольском очерке. Перед нами — особая интродукция, замечательная по своему стилю и строению. Это один обширный период, но написанный уже не проповедническим тоном, а тоном повествователя- мемуариста. «Мемуарная» линия Толстого должна была, в конце концов, привести его к истории — хотя бы не с целью восстановления той или другой эпохи, а для того, чтобы дать ход самому стилю. Первый шаг к этому и сделан в «Двух гусарах»: «В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов- женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, — в те наивные времена, когда» и т. д. К этой интродукции, окрашенной тоном иронии, Толстой пришел через Гоголя и Теккерея, о которых именно в 1856 г. он и записал в своей книжке: «Теккерей и Гоголь верны, злы, художественны, но нелюбезны». Толчок для такого рода интродукции он мог найти в разных романах Теккерея — между прочим в начале «Ньюкомов»: «Было время, когда солнце светило ярче, нежели светит с некоторых пор в этой последней половине девятнадцатого столетия, когда жилось несравненно бойчее и приятнее, когда трактирные вина казались превосходными, а трактирные яства — верхом кулинарного искусства; когда чтение романов доставляло неизреченные наслаждения, а тот день, когда выходила книжка толстого ежемесячного журнала, считался праздничным и ожидался с великим нетерпением... Тогдашние женщины были в тысячу раз красивее нынешних, а уж театральные гурии в особенности: эти волшебные существа отличались такою сверхъестественной прелестью, что стоило только раз взглянуть на них, и уж сердце начинало усиленно биться, а для того чтобы взглянуть во второй раз, люди не ленились в течение получаса проталкиваться до входа в партер. В те дни портные сами приходили на дом к человеку и трудились ослеплять его новыми картинками с изображением пестрых жилетов» и т. д.
Как и в Севастопольском очерке, интродукция эта откликается дальше — при переходе от первой части ко второй: «Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарилось, еще более родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дурного старого погибло, много прекрасного, молодого выросло, и еще больше недоросшего, уродливого, молодого появилось на свет божий». Как и начало — это написано в тоне скорее статьи, чем повести: авторский голос, как и в Севастопольском очерке, звучит сам по себе, отдельно и независимо от героев. Возможно даже, что построение этого перехода ко второй части явилось у Толстого реминисценцией из статьи Б. Алмазова 1851 г., в которой читаем: «Много воды утекло с тех пор; много совершилось великих событий в области литературы, науки и художества; много явилось новых знаменитостей; много затмилось старых; много поблекло и облетело лавровых венков, много терновых обратилось в лавровые и обратно»[342]. Эта характерная конструкция, дающая очень определенный тон авторскому голосу, пригодилась Толстому, все время размышлявшему о формах повествования.
Я уже говорил в первой части о многослойности толстовских построений — о том, что смыслы его вещей и отдельных кусков существуют только в сопоставлениях. «Два гусара» дают резкий, даже несколько утрированный пример — даже не сопоставления, а почти геометрического наложения. У иного автора не было бы никакой интродукции, и рассказ кончался бы отъездом первого гусара из города К. Никто бы не потребовал продолжения, прочитав заключительную сценку первой части: «Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая о Лухнове, ни о вдовушке, ни о Стешке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К.» Получилась бы замкнутая новелла, по жанру своему несколько напоминающая новеллы тридцатых годов. Для Толстого это невозможно. Ему нужно, чтобы вещь имела особый смысл — поверх лиц и эпизодов; ему нужны сопоставления или противопоставления, ему нужно, чтобы один эпизод выступал на фоне другого. Вместо прежней циклизации новелл («Повесть Белкина») мы имеем здесь их наложение — как переход к большой форме нового стиля. И вот — почти каждому этюду первой новеллы Толстой противопоставляет аналогичный по ситуации, но противоположный по характеру эпизод во второй новелле.
Естественно, что внимание критиков и читателей направилось именно на сопоставление и сравнение двух фигур — отца и сына, и на отыскание скрытого смысла всей вещи. В. Боткин пишет Некрасову 15 мая 1856 г.: «Я прочел "Двух гусар" с редким удовольствием. Какая свежесть и сочность колорита; но твердостью рисунка отличается только старый гусар и вообще первая половина повести. Во второй половине есть страницы удивительные, например преферанс со старухою и ее замешательство, — ночь Лизы перед прудом и луною (сцена, исполненная совершеннейшею поэзией); — но рисунки молодого гусара и особенно Лизы несколько смутны и не имеют определенной и живой индивидуальности; черты их как-то общи, особенно черты Лизы. Старый гусар — полный тип, — но молодой и Лиза далеки от типов»[343]. Толстой сам записал 16 мая: «пришел Фет и Трусон. Последний прелестно сказал, что второй гусар писан без любви». Этим Толстой сам признает, что второй гусар написан у него по-теккереевски, тогда как первый — несколько по-диккенсовски. Английский биограф Толстого, Aylmer Maude, находит в «Двух гусарах» сходство с вещами Чарльза Ливера (Lever)[344]. Во всяком случае в **
этой вещи проглядывает, несомненно, английская ориентация Толстого, усилившаяся, вероятно, под влиянием Дружинина, именно в эти годы пропагандировавшего английскую литературу. Именно в 1856 г. Дружинин особенно выдвигает Теккерея и пишет специальную статью о его «Ньюкомах». То, что Дружинин писал о Теккерее, должно было очень заинтересовать Толстого: «Всякий эффект, всякое ухищрение, всякая речь для красоты слова противны его природе, по преимуществу честной и непреклонной. Подобно Карлейлю, с которым Теккерей сходствует по манере, наш романист ненавидит формулы, авторитеты, предрассудки, литературные фокусы. У него нет подготовки, нет эффектов самых дозволенных, нет изысканной картинности, нет даже того, что, по понятиям русских ценителей изящного, составляет похвальную художественность в писателе. Оттого Теккерей любезен не всякому читателю, не всякому даже критику. У него солнце не будет никогда садиться для украшения трогательной сцены; луна никак не появится на горизонте во время свидания влюбленных; ручей не станет журчать, когда он нужен для художественной сцены; его герои не станут говорить лирических тирад, так любимых самыми безукоризненными повествованиями... Теккерей гибелен многим новым и прекрасным повествователям; после его романа их сочинения всегда имеют вид раскрашенной литографии»[345]. Помимо всего, самое появление мотивировки родством, при помощи которой Толстой связывает две части своей повести и которая развернется потом, в «Войне и мире», в целую сложную систему семейных и родственных связей, роднит его вещи именно с английскими романами — особенно с хрониками Теккерея вроде его «Ньюкомов».
Но откуда явилась ирония, получившая во второй части «Двух гусаров» характер своего рода пасквиля на новое поколение? Недаром Дружинин говорит, что ему случалось слышать жалобы «на предубеждения графа Толстого в пользу старого времени», предубеждение, будто бы высказавшееся в «Двух гусарах». Если принять во внимание все то, с чем встретился Толстой в редакции «Современника», — все эти разговоры о «сухом», «черством» молодом поколении, то вряд ли ошибочным будет предположение, что «Два гусара» написаны с некоторой злободневной тенденцией и скрывают в себе отклики той бурной полемики, в которой Толстой принял близкое участие. Сама тема повести — противопоставление двух поколений — родилась, как я думаю, в этой атмосфере ссор и борьбы. Толстой как архаист, как человек, сопротивляющийся «Современнику» и «современности», нарочно берет, для противопоставления, эпоху 1800-х годов. Вопрос о «разночинцах» сам по себе — в том виде, как он беспокоил Дружинина, Тургенева или Григоровича, Толстому не важен, потому что он человек «инстинкта», а не «убеждения»; ему гораздо важнее общий дух эпохи, каким он ему представляется, — вот этот-то «дух», проникнутый «злобой», о которой он писал Некрасову, эта эпоха всяческих «вопросов», над которыми он иронизирует в первой главе декабристов, все это ему чуждо и неприятно, всему этому он противопоставляет «те наивные времена», времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда и т. д. Недаром Толстой занял в этой «интеллигентской» среде особую позицию, сделав ее даже позой и придав ей несколько вызывающий характер, — позицию «наивности», «дикости». Он удивляет своими выходками всех — и Дружинина, и Тургенева, и Некрасова, и Чернышевского. Дружинин называет его «баши-бузуком», Некрасов считает, что в вопросе о направлении «он мало понимает толку», Чернышевский говорит, что он по своим понятиям «дикий человек» и т. д. Но зато каждый старается подействовать на него в своем духе, перетянуть его на свою сторону, воспитать в своем направлении, «получить над ним некоторую власть», как выражается Чернышевский.
С вопросом о поколениях неразрывно связан в это время вопрос, о котором говорилось выше — вопрос о Пушкине и Гоголе. «Два гусара» скрывают в себе отклик и на это. Турбин-отец — не только человек пушкинской эпохи, описанной в интродукции (которая, кстати сказать, несколько архаизует эпоху двадцатых годов), но и типичный пушкинский герой, тогда как молодой Турбин, появление которого в К. точно датировано маем 1848 г., ругает слугу и говорит об отце почти так, как герои Гоголя. Можно сказать, что в «Двух гусарах» сделано сопоставление Дубровского с Хлестаковым — явно не в пользу второго. Это сопоставление проскальзывает иногда почти цитатно. Молодой Турбин написан явно по следам Гоголя. Вот в «Иване Федоровиче Шпоньке» помещик Сторченко, приехав на постоялый двор, укладывается спать: «— Хорошенько, хорошенько перетряси сено! — говорил Григорий Григорьевич своему лакею... Эй, хлопче! Куда же ты, подлец? Поди сюда, поправь мне одеяло. Эй, хлопче, подмости под голову сена!., да поправь, подлец, хорошенько одеяло!» Из этой и других подобных гоголевских сцен смонтирована сцена в «Двух гусарах» — только в другом ракурсе и без гротескного освещения: «— Иоган!— крикнул он на камердинера, — опять бугор по середине сделал! Как ты не умеешь постелить хорошенько! — Иоган хотел поправить. — Нет, уж не надо теперь... А халат где? — продолжал он недовольным голосом. Слуга подал халат. Граф, прежде чем надевать его, посмотрел полу. — Так и есть, не вывел пятна. То есть можно ли хуже тебя служить! — прибавил он, вырывая у него из рук халат и надевая его. — Ты, скажи, это нарочно делаешь?.. Чай готов?.. — Я не мог успевать, — отвечал Иоган. — Дурак!» И дальше по поводу рома: «Скотина!.. Ступай!.. Только ты один умеешь меня выводить из терпения». Характерен и разговор Турбина с товарищем об отце; Турбин ведет себя как столичный Анучкин: «Как-то всегда совестно за папашу покойного: всегда какая-нибудь история скандальная или долг какой-нибудь. От этого я теперь не могу встречать этих отцовских знакомых». В сценах игры в карты и ухаживания заЛизой Турбин ведет себя как Чичиков или Хлестаков — только облагороженный и лишенный гротескности: «— А какое должно быть наслаждение, — сказал он, задумчиво вглядываясь в темные аллеи, — провести такую ночь в саду с существом, которое любишь». Это — прием Хлестакова, только поставленного на ноги, лишенного «легкости в мыслях». Никакой «фантастики», никакого фарса здесь уже нет — анекдот превращен в чисто-бытовой эпизод, расчета на смех нет. Развязку берет на себя товарищ Турбина Полозов: «— Граф Турбин! вы подлец! — крикнул Полозов и вскочил с постели».
Дружинин усиленно старается доказать и другим и самому Толстому, что он, Толстой, — «один из бессознательных (курсив мой. — Б. Э.) представителей той теории свободного творчества, которая одна кажется нам истинною теориею всякого искусства... Для него как будто не существовало прошлого; все мелкие грешки нашей словесности: ее общественный сантиментализм, ее робость перед новыми путями ее одностороннее стремление к отрицательному направлению, наконец, остатки старого дидактического педантизма, отнявшие столько силы у наших современных деятелей, — нимало ее отразились на таланте нового повествователя... Теперь для нас не может быть сомнения в дальнейшем направлении всей деятельности графа Толстого. Он навсегда останется независимым и свободным творцом своих произведений. Ему нечего бояться литературной рутины: он не будет писать сантиментальных диссертаций на современные темы, и, вместе с тем, не станет изображать какого-нибудь журчания ручейка, если его собственное настроение не повлечет его к журчащему ручью с непреодолимою силой»[346]. Позже, в 1861 г., Дружинин, говоря о романе Лоуренса «Гей Ливингстон» и защищая его от нападок критики, пишет: «И в целом и в мелочах новый писатель поперечил литературной рутине и литературным обычаям более законным, чем рутина. Политические понятия его принадлежали к разряду неистово-отсталых, с примесью небольшого числа мнений, достойных сумасбродного радикала. Уже одно это совмещение крайностей показывало авторскую юность». Здесь Дружинин говорит как будто не только о Лоуренсе, но и о Толстом, каким он явился после Севастополя. Дальше намек становится еще яснее: «Все это очень странно; но зато в романе есть что-то, говорящее про молодость и свежесть, про артистическую независимость и про пленительное доверие к своей силе, без которого юность человека не в юность. Что бы ни говорили иные рецензенты, мы стоим за Лоуренса и в лице его за всех молодых лейтенантов литературы, бурно врывающихся в ее область с своими бойкими романами. Иногда и нашествие вандалов бывает полезно. Никогда не преклонимся мы перед новизною только за то, что она нова и задорна, но всегда наше сочувствие было открыто всему юно-талантливому. Всю нашу жизнь мы глядели на дальний горизонт, поджидая появления новых и сильных деятелей; мы радостными словами всегда встречали смелых новых людей, если только они были действительно новы и имели право быть смелыми. Нам противен книжный забияка, из чужих книг и собственного мышления создающий себе подобие оригинальности и рвущийся озадачить мир эксцентрическими выходками; но когда в литературу, с юношескою пылкостью, врывался деятель действительно живший и жизнью выработавший себе многое, хотя совершенно не согласное с установившимся литературным типом, мы радостно его приветствовали и ждали от него многое»[347]. Это неожиданное отступление в сторону самозащиты и оправдания, явившееся, вероятно, ответом на какое-нибудь очередное нападение, ясно говорит о том моменте, когда в литературу вступил Толстой — и Дружинин приветствовал его.
«Два гусара» довольно явно противоречили теории Дружинина, поскольку в них просвечивала тенденция и даже некоторая «дидактика». Но Дружинин отвергает ее: «Эта мысль есть мысль несомненно независимого художника, но никак не дидактика или современного моралиста; всякий ясно видит, что во всем произведении нет ни пристрастия, ни преднамеренного поучения. Старый гусар не принесен в жертву молодому, и если молодой гусар оказывается непривлекательной персоною, то из этого не следует, чтоб его пороки были оправданием отцовских недостатков. Равным образом видим мы, что граф Толстой, рисуя два типические лица, вовсе не представляет их образцами целого данного сословия или относится к ним с слишком общей точки зрения. Эта слишком общая точка зрения есть ахиллесова пята дидактивов, всегда готовых олицетворить в данном герое свои туманные симпатии к целому разряду смертных. Старые гусары не все сняты в отце Турбине, молодые гусары вовсе не представлены в лице Турбина-младшего, — напротив того, каждое из двух лиц живет своей собственной индивидуальной жизнью, раз- нобразною, как всякая жизнь человеческая. Автор вовсе не утверждает, что кутила старого времени прекраснее скромника времен новых, он никак не отнимает у себя права, может быть, в последующем своем произведении, взглянуть на тот же самый предмет, с какой ему захочется точки зрения. К обоим своим героям он относится без гнева и пристрастия. Для него оба Турбина — типы, взятые из известного общества, изобилующего самыми разнообразными типами. Нельзя относиться к своим героям с большим спокойствием, скажем более, с большим артистическим бесстрастием». И дальше, в связи с развитием «теории независимого и свободного творчества», Дружинин говорит по поводу второй части повести: «Ясно, что граф Толстой, рисуя личность молодого графа Турбина, нисколько не метил на роль учителя или обличителя современных слабостей. Он не вдался в сантиментальность по поводу изящного, но испорченного юноши, не громил его каким-нибудь страстным дифирамбом, не обличал в его лице всего современного юношества, не бичевал в его особе никаких современных пороков». Однако и Дружинин должен признать некоторый злободневный смысл этой повести: «Сухость, великая язва поколения нашего, никогда еще не была воплощена в нашей легкой литературе так сильно и так отчетливо!»[348].
Дружинин, прибегая к натяжкам и противореча сам себе, старается истолковать Толстого как воплощение своей теории; Чернышевский совершенно игнорирует вопросы, которые волнуют Дружинина, и говорит о другом — об особенностях толстовского анализа, противопоставляя Толстого Пушкину, наблюдательность которого «имеет в себе нечто холодное, бесстрастное... Эта наблюдательность — просто зоркость глаза и понятливость. У новых наших писателей такого равнодушия вы не найдете; их чувства более возбуждены, их ум более точен в своих суждениях... Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее изданного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем. Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертых— анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином». Далее Чернышевский вступает в полемику с теми, кто упрекал Толстого за отсутствие в «Детстве» и в «Отрочестве» картин общественной жизни: «Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения... И люди, предъявляющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества! Удивительно, как не ищут они в "Илиаде" — Макбета, в Вальтер-Скотте — Диккенса, в Пушкине — Гоголя. Надобно понять, что поэтическая идея нарушается, когда в произведение вносятся элементы, ей чуждые, и что, если бы, например, Пушкин в "Каменном госте" вздумал изображать русских помещиков или выражать свое сочувствие к Петру Великому, "Каменный гость" вышел бы произведением нелепым в художественном отношении»[349]. Статья Чернышевского, вероятно, понравилась Толстому; по крайней мере, в дневниках конца 1856 г. появляются записи, указывающие на перемену отношения: «К Панаеву, там Чернышевский мил» (18 декабря), «пришел Чернышевский, умен и горяч» (И января). Это совпадает с некоторым охлаждением к Дружинину, а главное — ко всей «литературной подкладке». 23 ноября 1856 г. записано: «Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве, ужасно высоко и чисто». Не так давно, в марте 1855 г., Толстой соглашался с Тургеневым, что «нашему брату литераторам надо одним чем-нибудь заниматься», т. е. литературой, а теперь, в записной книжке 1856 г. он иронизирует: «Тургенев ничем не хочет заниматься под предлогом, что художник неспособен».
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 1856-1860
1
От всей группы «литераторов» Толстой отличается именно тем, что он не «интеллигент» и не может быть литератором в том смысле, в каком они считают это не только возможным, но и необходимым. Среди них он выглядит чужим — не то военным, не то помещиком, не то просто светским человеком, отсталым «автодидактом», «вандалом». Он готов спорить обо всем, но с тем, чтобы оскорбить чужие «убеждения — и только. «Был обед Тургенева, в котором я, глупо-оскорбленный стихом Некрасова, всем наговорил неприятного. — Тургенев уехал. Мне грустно тем более, что я ничего не пишу» (5 мая 1856 г.); «обедал у Боткина. Григорьев и Островский, я старался оскорбить их убеждения. Зачем? не знаю» (3 ноября). Не успел он войти в среду литераторов, как его уже тянет прочь от нее — в какой-то другой быт, другое дело, далекое от литературы. Отойдя от военной службы, он возвращается к своим помещичьим делам и, нашумев в Петербурге, уезжает весной в Ясную Поляну. Литература на некоторое время отходит на второй план, превращается, главным образом, в заготовки, которыми наполняется записная книжка 1856 г. Среди этого сырья есть вещи, необыкновенные по своей совершенно ребяческой наблюдательности, свежести и наивности. Недаром Толстого тянет к простому, примитивному — он враждебен всякому «интеллектуализму», он всякому интеллигенту предпочтет простого мужика, с которым будет говорить о делах, а не об убеждениях. Тех, интеллигентов, он насмешливо называет «умными», во всей русской интеллигенции не видит ничего, кроме искусственной «злобы», а в деревне наслаждается подлинной жизнью и деятельностью — хозяйством, охотой, природой, и всем пишет, что «отлично жить на свете». 1 октября 1856 г. он пишет Е. П. Ковалевскому, повторяя то, о чем в июле писал Некрасову: «Я открыл удивительную вещь (должно быть, я глуп, потому что когда мне придет какая-нибудь мысль, я ужасно радуюсь), — я открыл, что возмущение, склонность обращать внимание преимущественно на то, что возмущает, — есть большой порок и именно нашего века. Есть два-три человека, которые только возмущены, и сотни, которые притворяются возмущенными и потому считают себя вправе не принимать деятельного участия в жизни. Разумеется, я говорю не про вас и про Блудовых, но из литературного кружка есть много таких наших общих знакомых. Но даже ежели человек искренно возмущён, так был несчастлив, что все наталкивался на возмутительные вещи, то одно из двух: или, ежели душа не слаба, действуй и исправь, что тебя возмущает, или, что гораздо легче и чему я намерен держаться, умышленно ищи всего хорошего, доброго отворачиванием от дурного, а право, не притворяясь, можно ужасно многое любить и горячо любить не только в России, но у самоедов»[350].
Вот главное «правило», которое Толстой вывез из Петербурга. Замечательнее всего, что тирада эта находится в письме, первая часть которого описывает его неудачи в деревне и свидетельствует о некоторой панике. Дело в том, что 30 марта 1856 г. Александр II, обращаясь к московскому дворянству, сказал, что со временем освобождение крестьян «должно случиться». Эта фраза облетает всю Россию и проникает в самые глухие деревенские углы. Помещики начинают волноваться. 22 апреля 1856 г. Толстой записывает: «Мои отношения с крепостными начинают сильно тревожить меня». До отъезда в Ясную он занят составлением проекта освобождения и в связи с этим посещает К. Д. Кавелина, Н. А. Милютина, составляет докладную записку министру внутренних дел, едет к товарищу министра. Проект Кавелина он называет «прелестным» и применительно к нему составляет свой, по которому вся земля, находящаяся в пользовании крестьян, переходит в полную собственность общины на условиях постепенного выкупа; с заключением этого условия крестьяне освобождались от всяких повинностей помещику: барщины, столовых, дворовой службы, оброков и пр. Толстой написал речь, с которой решил обратиться к крестьянам; она начиналась словами: «Господь бог вложил мне в душу мысль отпустить вас всех на волю».
28 мая 1856 г. Толстой приезжает в Ясную со своим проектом и собирает сходку. Результат — неожиданный: речь Толстого не произвела на крестьян никакого впечатления. 3 июня записано: «Вечером сходки не было. Но узнал от Василья, что мужики подозревают обман, что в коронацию всем будет свобода, а я хочу их связать контрактом. Что это сделка, как он выразился». Толстой и испуган и оскорблен. 9 июня он пишет набросок письма к Д. Н. Блудову, в доме которого часто бывал в апреле 1856 г. Здесь рассказана история его неудач: крестьяне, к его удивлению, не только отказались, но «еще, как бы подтрунивая, спрашивали, не отдам ли я им еще всю и свою землю»; в его предложениях они видят «одно желание обмануть, обокрасть их». Толстой пишет Блудову для того, чтобы сообщить ему «два факта чрезвычайно важные и опасные: 1) что убеждение в том, что в коронацию последует общее освобождение, твердо вкоренилось во всем народе, даже в самых глухих местах, и 2) главное, что вопрос о том, чья собственность помещичья земля, населенная крестьянами, чрезвычайно запутано в народе и большей частью решается в пользу крестьян и даже со всей землею помещичьею. «Мы ваши, а земля наша». Деспотизм всегда рождает деспотизм рабства. Деспотизм королевской власти породил деспотизм власти черни. Деспотизм помещиков породил уже деспотизм крестьян; когда мы говорили на сходке, чтобы отдать им всю землю, и я говорил, что тогда я останусь без рубашки, они посмеивались, и нельзя обвинять их, так должно было быть. Виновато правительство, обходя везде вопрос, первый стоящий на очереди». Положение кажется Толстому грозным. Он готов даже на то, что, вопреки «исторической справедливости», всю землю признают собственностью крестьян: «Теперь не время думать об исторической справедливости и выгодах класса, нужно спасать все здание от пожара, который с минуты на минуту обнимет. Для меня ясно, что вопрос помещикам теперь поставлен уже так: жизнь или земля»[351].
Такова первая часть письма. Но это еще не все. Как раньше — в спорах с славянофилами Толстой был западником, а в разговоре с Горчаковым оказался славянофилом, так теперь — в проекте и в первой части письма он, по крайней мере на практике, примыкает к либералам, считая возможным отдать крестьянам землю, а дальше вдруг пишет: «И признаюсь, я никогда не понимал, почему невозможно определения собственности земли за помещиком и освобождения крестьян без земли? Пролетариат! Да разве теперь он не хуже, когда пролетарий спрятан и умирает с голоду на своей земле, которая его не прокормит да и которую ему обработать нечем, а не имеет возможности кричать и плакать на площади: "дайте мне хлеба и работы". У нас почему-то все радуются, что мы будто доросли до мысли, что освобождение без земли невозможно и что история Европы показала нам пагубные примеры, которым мы не последуем. Еще те явления истории, которые произвел пролетариат, произведший революции и Наполеонов, не сказал свое последнее слово, и мы не можем судить о нем как о законченной историческом явлении. (Бог знает, не основали он возрождения мира к миру и свободе.) Но главное, в Европе не могли иначе обойти вопроса, исключая Пруссии, где он был подготовлен. У нас же надо печалиться тому общему убеждению, хотя и вполне справедливому, что освобождение необходимо с землей. Печалиться потому, что с землей оно никогда не решится. Кто ответит на эти вопросы, необходимые для решения общего вопроса: "по скольку земли?" или "какую часть земли помещичьей? Чем вознаградить помещика? в какое время? Кто вознаградит его?" Это вопросы неразрешимые или разрешимые десятилетними трудами и изысканиями по обширной России. А время не терпит, не терпит потому, что оно пришло исторически, политически и случайно». На первый взгляд письмо это может показаться причудливым сочетанием самых консервативных идей («освобождение без земли») с самыми радикальными («пролетариат»); на самом деле смысл его и проще и сложнее.
Чтобы понять это письмо Толстого (а это необходимо для понимания многого другого), надо развернуть некоторый специальный исторический комментарий[352]. В вопросе об «освобождении» крестьян сложно переплетались экономические нужды дворянства с его политическими интересами, образуя самые разнообразные и неожиданные комбинации. Самый убежденный «крепостник» мог в области чисто-политических вопросов вести себя как крайний «либерал», предъявляющий к правительству требования разных «свобод». К этому могли еще присоединяться различные «идеологические» оттенки, характерные для дворянской интеллигенции, представителем которой был, например, Кавелин. Вне политики и вне идеологии вопрос об «освобождении» был вопросом о ликвидации барщинного труда и о замене его наемным. Решение этого вопроса разделило дворянство на две чисто- экономические группы: феодальную и буржуазную. Первая настаивала на сохранении за помещиками земли, вторая заботилась об обеспечении капиталом и рабочими руками, соглашаясь на некоторые уступки в земельном вопросе. В борьбе этих групп между собой возникли две характерные проблемы, из которых одна выдвигалась как «опасность» для феодалов, другая — как «камень преткновения» для буржуазной группы: для феодалов — неизбежное образование «бездомников» или «сельских пролетариев»; для буржуазной группы — трудность осуществления «выкупа» наделе: Эти вопросы составляют главную тему споров, записок и статей 1856-1860 гг.
Феодальная точка зрения ясно выражена в записке князя П. П. Гагарина. Гагарин утверждает, что «дарование помещикам права освобождать крестьян без условий и без земли есть мера самая благодетельная, так как она упрочивает за помещиками право земельной собственности»; что касается «сельского пролетариата» (под «пролетарием» Гагарин понимает просто «безработного»), то от этой «опасности» Гагарин отмахивается очень легко: «Сельского пролетариата нигде не было и быть не могло, а в России количество земли так значительно, что землепахарь не может опасаться не иметь работы». Помимо всего, такая точка зрения характерна для дворянской «знати», для «сановников», заинтересованных в сохранении своей политической власти, связанной с экономическим могуществом. Так, к князю Гагарину совершенно примыкает гр. Киселев, с той разницей, что он, как более осведомленный и понимающий в крестьянском деле, учитывает и опасность «пролетариата» и трудность «выкупа», а потому: «даровать полную свободу 22 миллионам крепостных людей обоего пола не должно и невозможно. Не должно потому, что эта огромная масса людей не подготовлена к законной полной свободе; невозможно потому, что хлебопашцы без земли перешли бы в тягчайшую зависимость землевладельцев и были бы их полными рабами или составили пролетариат, невыгодный для них самих и опасный для государства... Надел крестьян землею или сохранение за ними той, которую они имеют от помещиков, невозможно без вознаграждения, а вознаграждение едва ли доступно в финансовом отношении. Посему я полагаю, что вопрос о полной свободе подымать не следует». Гагаринский способ освобождения, формулирует М. Покровский, «был, не только субъективно, наиболее консервативным».
Что касается буржуазной группы, то она, настаивая на освобождении с землей, угрожает своим противникам именно тем, что иначе «бывшие крепостные впали бы в крайнюю нищету и обратились в бездомников и бобылей — нечто в роде сельских пролетариев, которых у нас покуда, слава богу, очень мало, — или они стали бы толпами выселяться в другие губернии и края империи». Автор этой записки, Кавелин, выставляет три обязательных пункта: 1) «крепостных следовало бы освободить вполне, совершенно, из-под зависимости от их господ»; 2) крестьян «надлежало бы освободить не только со всем принадлежащим им имуществом, но и непременно с землею»; 3) главное: «освобождение может совершиться во всяком случае не иначе, как с вознаграждением владельцев». Ко всему этому надо еще присоединить, конечно, идеологическую агитацию за отнятие земли у помещиков и передачу ее в «общины», которую вела интеллигенция, также боявшаяся образования «пролетариата» и смотревшая на этот класс как на «язву», как на явление «вырождения», которого Россия должна и может избежать (Чернышевский, Лавров).
Все эти вопросы дебатируются и в журналах (не говоря о специальных, как «Сельское благоустройство» и «Журнал землевладельцев») — особенно в «Русском вестнике», предоставившем страницы своей «Современной летописи» опубликованию разных записок и проектов. В 1858 г. здесь напечатан целый ряд такого рода статей, посвященных вопросу о способах «улучшения быта крестьян». Журнал этот имеет для нас особый интерес еще и потому, что в это время Толстой, отошедший от «Современника», начинает печататься в «Русском вестнике».
Статья В. Безобразова («Благотворительность и общественная экономия в деле улучшения быта крестьян» — «Русский вестник». 1858. Кн. 2. Январь) устанавливает наличность двух воззрений: «С одной стороны, непреодолимое стремление хозяина извлечь из подвластных ему земледельцев как можно более материльных для себя выгод, без малейшей заботливости о выгодах земледельцев. С другой стороны, стремление улучшить благосостояние земледельца, с забвением необходимых экономических выгод хозяйства для владельца». Протестуя против последнего, «благотворительного» воззрения, Безобразов предлагает смотреть на все дело, как на «экономическую сделку, которая обеспечивает выгоды помещиков и крестьян, согласна с честью последних и, конечно, нисколько не противна чести первых... Мы даже думаем, что иной путь и не возможен, чтобы выйти с успехом из настоящего дела; но возможны увлечения умов в разные стороны, а они-то и могут если не окончательно расстроить дело, то много затруднить и задержать его. Весьма важно вникнуть в него внимательно, и со стороны частного хозяйства, и со стороны администрации и государственных финансов, как в экономическую сделку, которую необходимо совершить, не медля и не спеша, но как можно скорее; едва ли не это одно и может пособить делу». Смотря на весь вопрос с исключительно экономической точки зрения, Безобразов настаивает на там, что государству нужны дворяне-хозяева.
Редакция «Русского вестника» особенно требует изучения всего разнообразия отношений и протестует против установления общих норм, не считающихся с существующим положением дела. Из двух повинностей, барщины и оброка, редакция считает оброк ближе подходящим к «предложенной цели для улучшения быта помещичьих крестьян» и предлагает «капитализацию» его посредством банков. На необходимости учета разнообразий настаивает и В. Безобразов, особенно подчеркивая то, что в хлебородных местностях (вольный труд должен повысить производительность и увеличить прибыли хозяев, тогда как имения, в которых доход основан на заработках и промыслах, находящихся вне этих имений, должны при этом пострадать — «для помещиков таких имений реформа необходимо должна быть связана с вознаграждением». В вопросе о вознаграждении или выкупе особенно сложен момент оценки, чему и посвящена особая редакционная статья («Русский вестник». 1858. Кн. 2. Март).
Остановлюсь еще на двух статьях «Русского вестника», одна из которых — «Несколько мыслей об улучшении быта крестьян» (там же) — принадлежит тульскому помещику П. Сумарокову (автору «Деревенских писем», 1864). Статья эта и приложенный к ней «проект договора» служат образцом компромиссного решения основного вопроса — освобождать ли с землей или без земли. Сумароков признает, что, «с одной стороны, действительно, слишком дико и нелепо в XIX столетии, в благоустроенном государстве, представить себе крестьянина, освобожденного от крепостного права, но в то же время поставленного в такое положение, что у него нет клока земли, на котором он мог бы приютиться; что он должен или выпросить этот клок у правительства, или идти снова в работники к помещику на таких условиях, какие помещик заблагорассудит ему предложить. Так многие смотрят на положение крестьянина, уволенного без земли, и оно в действительности может быть таково, если бы безземельное увольнение совершилось безусловно. С другой стороны, увольнение крестьян с выкупом земли тоже представляет множество неудобств и затруднений: 1) огромную финансовую операцию[353]; 2) если выкуп совершится с полным количеством земли, владеемой ныне крестьянами, он будет или слишком убыточен для помещиков, или слишком обременителен для крестьян; 3) в тех местах, где земля не имеет стоимости, выкуп самых усадеб должен быть слишком высок» и т. д. Сумароков считает, что избежать всех этих камней преткновения можно только тем, что положить в основу «порядок уже существующий» и придать освобождению крестьян «характер чисто добровольной сделки», и для примера прилагает «Проект договора». Первая статья договора — «Я, помещик, со дня подписания сего договора, лишаю себя всех крепостных прав над упомянутыми моими крестьянами и отпускаю их вечно на волю». Статья третья — «Надел крестьян землей и следующая с нее рента»: крестьянам предоставляется вся та земля пахотная и луговая, которой они до сих пор пользовались, за что они обязаны платить помещику «положенный, по общему нашему согласию, оброк», или в счет оброка отбывать ему различные работы. Таким образом получается, как формулирует сам автор договора, «надел крестьян землей с вечною рентой». Сумароков отстаивает необходимость сохранить «нравственное, патриархальное влияние, которым мы столько лет руководили наших крестьян и которое теперь нужнее для них, чем когда-нибудь».
Автор другой статьи («Несколько слов о годовом заработке крестьянского тягла» — там же) — И. Шатилов, тоже помещик Тульской губернии. Он, как и Сумароков, делит все толки и суждения на два разряда: «Одни видят разрешение вопроса в даровании личной свободы без земли, сочувствуя устройству Остзейских губерний и забывая, что русский крестьянин не латыш, а они не немцы-завоеватели. Другие... сознают неизбежность освобождения крестьян с землею и понимают, что для сохранения интересов всех сословий утрата земли одним из них в пользу другого должна быть вознаграждена, но при вопросе кем и в какой мере, встречаются опять и у этой стороны большие разногласия. Не станем опровергать первое мнение: близорукая мысль сделать из 12 миллионов людей бездомных батраков не может возбудить сочувствие «и в одном человеке, истинно любящем свое отечество, а исполнение ее не может найти содействия в правительстве... Незнакомый с юридическими тонкостями, крестьянин сознает инстинктивно, что, как живая сила, он настолько принадлежит помещику, насколько ему, крестьянину, принадлежит пользование землею, с которой он кормится и отбывает государственные повинности, и это понятие, выраженное в народной поговорке: "мы ваши, а земля наша", так вкоренилось в нашем крестьянине, что внушить ему правоту и пользу освобождения без земли — задача неисполнимая». Далее Шатилов переходит к трудному вопросу о вознаграждении: «Правительство, с своей стороны, предположило вознаграждение денежное или трудовое за ту частичку поземельной собственности, надел которою становится, так сказать, для нас, помещиков, обязательным. Но кто заплатит нам за уступленные крестьянам земли, вот вопрос, над разрешением которого остановились многие». Указывается целый ряд трудностей, мешающих осуществлению денежного выкупа, и выдвигается вместо него «трудовой заработок»: «Коль скоро мы примем за основание реформы мысль трудового выкупа, то постепенность переходного состояния выльется сама собою, и великая задача настоящего времени разрешится сообразно предначертаниям правительства, на основании прочном и честном, и даже раньше определенного двенадцатилетнего срока».
Теперь можно вернуться к Толстому. На фоне приведенного материала вопросы, выдвинутые им в письме к Блудову, оказываются знакомыми и типичными: вопрос об освобождении с землей или без нее, вопрос о «вознаграждении», вопрос о «пролетариате». Какова же позиция Толстого? Надо еще иметь в виду, что письмо обращено к человеку, твердо отстаивающему принцип выкупа не только б 1856 г., но и позже. В дневнике П. А. Валуева, под 10 октября 1860 г., описано первое заседание главного комитета: «Граф Блудов немедленно высказался в пользу выкупа, не разбирая, как его произвести и какими способами его обеспечить. Князь Гагарин говорил (по-видимому, не совсем удачно) в пользу безусловного применения добровольных соглашений... Затруднительность выкупа, с финансовой точки зрения, подтвердил Чевкин и министр финансов. Против обязательного выкупа высказался великий князь (Константин Николаевич) и почти все члены. Граф Блудов один защищал его. Ланской молчал».
В основном вопросе — с землей или без земли — Толстой стоит на «феодальной» точке зрения, на точке зрения «гагаринского способа», т. е. наиболее консервативного. Если он и соглашается признать часть земли или даже всю за крестьянами, то только потому, что «надо спасать все здание от пожара» — в чем виновато правительство. «Историческая справедливость» сама по себе требует признания собственности на землю за помещиками. Упрекая правительство в промедлении и нерешительности, Толстой косвенно упрекает и Блудова, и славянофилов вообще в том, что они своими рассуждениями, направленными против Европы (история Европы показала нам пагубные примеры), затянули дело и довели его до такого состояния, когда вопрос поставлен ясно: жизнь или земля. Толстой, как и в других случаях, оказывается политическим «фрондером» и в этом смысле «либералом», в экономическом же вопросе презирает всякую «идеологию» и рассуждает как «хозяин». Недаром он начал переговоры с крестьянами сначала предложением идти вместо барщины на оброк, потом, после отказа, предложил «заработки» («трудовой заработок» Шатилова), а когда и на это последовал отказ — предложил выйти в обязанные работой по три дня в неделю, чтобы через двадцать четыре года они получили вольную с полною собственностью на свою землю. Что касается «пролетариата», то именно для «феодальной» группы (Гагарин) характерно отсутствие боязни перед этой опасностью и даже некоторое бравирование тем, что «пролетариат» (понимаемый по- гагарински — как безработный) не страшен. Оригинальность Толстого (он тоже, по-видимому, понимает слово «пролетариат» по-гагарински) выражается здесь только в том, что он, наслышанный о теориях западных социалистов, выдвигавших пролетариат как новый революционный класс, пользуется этим соображением, чтобы отвести угрозу, идущую со стороны русских социалистов. Здесь — обычный для Толстого, повторившийся потом в «Войне и мире», ход использовать результаты западной радикальной мысли для борьбы с русским радикализмом. В данном случае идеи социалистов использованы (правда, наивно, но иначе и быть не могло) и повернуты против Чернышевского и всех, говоривших о «язве». Если вчитаться в текст письма и учесть адресата, то в словах Толстого о «пролетариате», несмотря на их кажущуюся серьезность, можно заметить некоторую иронию, следы раздражения: есть же, мол, люди, которые утверждают, что пролетариат — «основа возрождения мира к миру и свободе». Это подкрепляется той небрежностью, звучащей иронично, с которой Толстой говорит: «пролетариат, произведший революцию и Наполеонов».
Такая прибавка красноречиво свидетельствует о том, что «пролетариат» явился здесь со стороны — не как мысль Толстого, а как образец существующих мнений, может быть и нелепых, но не более, чем нелепо, с точки зрения Толстого, обратное — боязнь пролетариата. Ему нужно сказать одно: «Пролетариат? Не страшно!» Таким образом, никаких внутренних противоречий, никакой особенной причудливости письмо Толстого не содержит, как не содержит оно, впрочем, и никакой теоретической системы убеждений, никакой, в этом смысле, идеологии. Оно продиктовано испугом и раздражением — раздражением помещика, которому мешают быть хозяином и не принимают даже его «благотворений».
В России пятидесятых годов, особенно после Крымской кампании, революционный класс — крестьянство, и потому русская радикальная партия, конечно, настаивает на отнятии всей помещичьей земли в пользу крестьян, организованных в общины. Толстой, составивший свой первоначальный проект в духе Кавелина, резко меняет позицию, когда сталкивается на месте с настроением крестьян. Он обвиняет правительство в том, что оно медлит, и, напуганный, согласен на все. Крестьянские волнения в эти годы приняли, действительно, такой угрожающий характер, что (как указывал А. И. Кошелев) самые ярые крепостники «готовы были на самые невыгодные условия освобождения, лишь бы развязаться с крепостным правом». Дворянство было напугано призраком крестьянской революции, новой пугачевщины. Южные районы (Киевская, Полтавская губ.) уже поднимались, чтобы двинуться в Крым, в «Таврию», где будто бы на горе сидел царь и раздавал крестьянам волю. «В одном случае в ответ на уверения предводителя дворянства Херсонской губ., что царь не издавал никакого манифеста и указа о переселении в Крым, он получил в ответ такую отповедь: "Да на что нам царь; пройдем в Крым, мы выберем себе короля, — изберем себе атамана, и тогда увидите, что вы с нами сделаете,,>>.
Что Толстой был очень сильно напуган, свидетельствует не только письмо его к Блудову, но и выше цитированное письмо к Е. П. Ковалевскому (от 1 октября 1856 г.), в котором он пишет: «Планы мои об обязанных крестьянах не удались до сих пор, но я не теряю надежды и может быть сделаю-таки скоро почти так, как хотел. Не удалось главное от убеждения, откровенно распространенного в народе, что в коронацию, а теперь к новому году, будет свобода всем с землею и со всей землею. У нас главная беда не только дворяне, привыкшие с закрытыми дверями и по-французски говорить об освобождении, но правительство уже так секретничает, что народ ожидает освобождения, но на данных, которые он сам придумал. Имея самое смутное понятие о собственности земли и желая иметь ее, народ везде решил, что освобождение будет со всей землею. И это убеждение выросло сильно, и ежели будет резня с нашим кротким народом, то только вследствие этого незнания своих настоящих отношений к земле и помещику; а правительство секретничает изо всех сил и воображает, что это внутренняя политика, и ставит помещиков в положение людей заслоняющих, интериентирующих от народа милости свыше. И кончится тем, что нас перережут. Как я занялся делом в подробности и увидел его в приложении, мне совестно вспомнить, что за гиль я говорил и слушал в Москве и Петербурге от всех умных людей об эмансипации. Когда-нибудь расскажу всем все и покажу журнал моих переговоров с сходкой. Вопрос стоит вовсе не так, как полагают умные: как решить лучше? (ведь мы хотим сделать лучше, чем во Франции и Англии), — а как решить скорее». Уже не рассуждая здесь о «пролетариате», Толстой просто называет «гилью» все теории «умных» и стоит на исключительно-практической точке зрения. Это и характерно для него — как для человека, враждебно относящегося ко всяким «убеждениям».
Через два года, когда первоначальный испуг прошел, Толстой делает запись в дневнике (19 июня 1858 г.): «Весь в хозяйстве. Сражение в полном разгаре. Мужики пробуют, упираются. Грумонские пасмурны, но молчат. Я боюсь самого себя. Прежде незнакомое мне чувство мести начинает говорить во мне; и месть к миру. Боюсь несправедливости». «Грумонские» — это крестьяне того самого «Угрюмова», куда отец Толстого ссылал непослушных. Именно ко времени этой записи относится, вероятно, эпизод, рассказанный М. П. Кулешовым по воспоминаниям крестьян. Толстой как-то раз заглянул в Угрюмово и, пораженный нищетой этого поселка, решил помочь, дав «угрюмовцам» земли в аренду. Спустя некоторое время он, проходя по лесу, услышал стук топоров и направился к просеке. «Угрю- мовцы безжалостно рубили его деревья и складывали на пошевни... Льва Николаевича поразил недобросовестный поступок мужиков, и, ничего не сказав им, он скрылся в чаще леса... На следующее утро Лев Николаевич побывал в Угрюмове и, созвав мужиков, укоризненно сказал им: "Для вашего благополучия я вам делал больше, чем нужно. И вы не оправдали моего доверия. После этого ко мне никогда не обращайтесь за помощью" Возмущенный поступком угрюмовцев, Лев Николаевич всегда обходил это сельцо»[354].
К этому же лету 1858 г. относится и набросок «Лето в деревне», начало которого дает очень много для понимания позиции Толстого как помещика. Кстати, здесь сам Толстой называет себя «маленьким помещиком», что очень важно, — особенно если принять во внимание, что у нас распространено мнение о Толстом (порожденное, очевидно, слишком быстрым умозаключением от величины его романов) как о крупном помещике. Толстой пишет: «Много все говорили о будущем освобождении крестьян, и я говорил не меньше других. Понятно, что этот вопрос занимает всех, в особенности же нас, маленьких помещиков, живавших в деревне, родившихся в деревне и любящих свой уголок. Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его».
Подведем итоги всему этому экскурсу в область крестьянского вопроса. Здесь — узел многих сложных, неясных и, вместе с тем, очень важных для понимания исторического Толстого проблем, освещение которых требует особых детальных исследований. Я пытаюсь разобраться только в той части этих проблем, которая помогает уяснить общий смысл позиции Толстого в эти годы, и притом только в той мере, какая необходима для уяснения его литературной карьеры.
Толстой в эти и ближайшие годы выглядит неудачником в среде своих знакомых и товарищей, делающих ту или другую — общественную, ученую, литературную, чиновничью или военную карьеру. Он — уже не военный, почти уже не литератор, чиновником он быть не способен, а остальные карьеры для него заведомо закрыты. Единственная для него теперь жизненная «опора» — занятие хозяйством, т. е. дело, на взгляд «света», в котором вращался Толстой, низкое, простое. Это, несомненно, о себе пишет Толстой в «Анне Карениной», когда изображает Левина, приехавшего в Москву из деревни («на выставку телят», как было в журнальной редакции): «В глазах родных [Кити], он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который директор байка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди». В тридцать лет Толстой оказался, действительно, без всякой «колеи», без всякого «положения» — каким-то отщепенцем, чудаком. Среди литераторов он, несмотря на общее признание, выглядит отсталым дикарем, неспособным иметь убеждения (а это считалось главным), среди «общества» — неудачником, неспособным сделать светскую карьеру. Помещичье дело для него — не то, что для столичных дворян, делающих служебную карьеру и наезжающих в свои имения только для приведения в порядок денежных дел; для Толстого — это опора не только в материальном, но и в моральном смысле: единственная деятельность, которая делает его положение независимым, а это для него — главное, как это некогда было главным для Пушкина, искавшего, в других исторических условиях, независимости от «вельмож» и от «публики». Говоря о Толстом, надо помнить, что он — не просто помещик, а помещик, который хочет быть писателем, но не «литератором». Позиция его в крестьянском вопросе, при всей его типичной «классовости», отличается своеобразием, которое и надо выяснить, потому что оно-то именно и возвращает нас от Толстого-помещика к Толстому-писателю, строящему свой новый литературный быт.
В решении крестьянского вопроса Толстой оказался в рядах «феодальной» группы, наименее «идеологической» и, тем самым, наиболее «классовой». Он даже не хочет знать того, о чем говорят все кругом, — что наступает век «промышленности», что не время хлопотать о сохранении дворянского сословия. Речь откупщика В. А. Кокорева, поднимавшая вопрос об участии купечества в новом экономическом устроении крестьянского быта[355] и, тем самым, ярко свидетельствовавшая об укреплении нового, промышленного класса, идущего на смену дворянству, привела Толстого в бешенство: «Куда девалось мое олимпическое спокойствие, когда я прочел эту речь. Речь эта всем нравится. Куда мы идем? Это ужасно. Я убеждаюсь, что у нас нет не только ни одного таланта, но ни одного ума. Люди, стоящие теперь впереди и на виду, эти идиоты и нечестные люди»[356]. Недаром Толстой еще в 1847 г. задумывался над вопросом об исчезновении «аристократии рода» и писал в дневнике: «Дай бог, чтобы в наше время благородные поняли свое высокое назначение, которое состоит единственно в том, чтобы усилиться». Он готов на союз с мужиком, как с «работником», — у них если не общие интересы, то общее дело, и притом мужик — никак не конкуренция дворянину; но промышленник, откупщик — это тот самый «класс», который обедняет дворянина и создает серьезную угрозу.
В той же «Анне Карениной» Толстой с большим пафосом и с большой ненавистью изображает барышника Рябинина, покупающего у Облонского лес. Левин взбешен этой сделкой не меньше, чем Толстой взбешен был речью Кокорева: «я лакею не подам руки, а лакей во сто раз лучше его. — Какой ты, однако, ретроград! А слияние сословий? — сказал Облонский. — Кому приятно сливаться — на здоровье, а мне противно». И дальше: «Ты скажешь опять, что я ретроград или еще какое страшное слово; но все-таки мне досадно и обидно видеть это, со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу и, несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу... И обеднение не вследствие роскоши. Это бы ничего; прожить по-барски — это дворянское дело, это только дворяне умеют. Теперь мужики около нас скупают земли, — мне не обидно. Барин ничего не делает, мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику. Но мне обидно смотреть на это обеднение по какой-то, не знаю как сказать, невинности. Тут аристократ-поляк купил за полцены у барыни, которая живет в Ницце, чудесное имение. Тут отдают купцу в аренду за рубль десятину земли, которая стоит десять рублей. Тут ты, без всякой причины, подарил этому плуту тридцать тысяч... У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, пожалуй, не будет!»
Позиция Толстого — это позиция не крепостника вообще, а крепостника-ана- хрониста или архаиста, позиция патриархального аристократа-агрария. Для Толстого еще нет понятия «класса» или, если есть, то только по отношению к «барышникам» и «откупщикам», как понятие низкое, а живо и полно значения для него понятие «сословия». Он знает только дворянина и мужика, как две сущности, неразрывные, соотносительные, предполагающие одна другую. Все промежуточные состояния — купец, рабочий, интеллигент — для него или вовсе не существуют, или существуют как зло, с которым надо бороться или, если можно — игнорировать. Поэтому «буржуазная» дворянская группа, идущая навстречу «промышленности», ему враждебна — он может примкнуть только к «феодальной» группе. Среди помещиков, как и среди литераторов, он — воинствующий архаист, отстаивающий патриархальные формы жизни и труда. Все современные формы деятельности, порожденные развитием города, он презирает — как что-то призрачное или фальшивое: «Он [Левин] презирал все другие открытые ему деятельности и считал одну земледельческую деятельность серьезною и настоящею, и любил ее одну. Ему бы ничего не оставалось, если бы он разочаровался в ней».
Важно еще иметь в виду, что толстовская позиция не осознается им самим как архаистическая и потому не имеет характера последовательной положительной идеологической системы, а заострена, главным образом, отрицаниями и потому, в основе своей, нигилистична. Анненков очень верно заметил: «Он искал пояснения всех явлений жизни и всех вопросов совести в себе самом, не зная и не желая знать ни эстетических, ни философских их пояснений, не признавая никаких традиций, ни исторических, ни теоретических, полагая, что они выдуманы нарочно, людьми для самообольщения или для обольщения других»[357]. В сущности говоря, Толстой стоит спиной ко всей русской культуре после двадцатых годов и живет больше своеобразной пересадкой некоторых западных традиций и течений, выбирая среди них именно то, что наиболее чуждо русской интеллигенции нового времени. Рядом с Руссо он использует, как будет видно ниже, некоторые тенденции западного свободомыслия (Прудон, Мишле, литература против Наполеона I), поворачивая их так, что они оказываются направленными против русского радикализма и получают тот же нигилистический или архаистический характер. Самое важное для Толстого — иметь право и силу сказать в ответ на любое утверждение (в том числе и свое собственное, что видно в дневниках): «не то». В положительной части его позиция неуловима и подвижна — за исключением самых общих «истин», нарочито примитивных, которые имеют вид догматов, «правил». Ему важно иметь иллюзию постоянной независимости не только от других, но и от самого себя: «Право, я никогда не думал, кто я. Я — Константин Левин, больше ничего» (отвечает Левин Облонскому в ответ на отнесение его к числу «ретроградов»). Ему важно поэтому превратить все, что он делает и думает, в факты своей «совести» и из нее строить весь мир.
Характерно, что Толстой никогда не учился и не мог учиться, как другие; он — принципиальный «автодидакт» в том смысле, что в каждый данный момент он читает и обдумывает только то, что ему нужно для своей работы или для решения вставшего перед ним вопроса. Атак как эти вопросы, большею частью, не выходят за пределы морали, то многие области и проблемы культуры совершенно закрыты для Толстого и кажутся ему, как и многие формы деятельности, не существующими, призрачными или фальшивыми. Так называемый культурный человек, эрудит, «следящий» за наукой и впитывающий в себя разнообразные знания, для Толстого — человек загадочный, если не шарлатан или почти идиот. Так, для Левина загадка — Свияжский: «он не мог сказать дурак потому, что Свияжский был, несомненно, не только очень умный, но очень образованный и необыкновенно просто носящий свое образование человек. Не было предмета, которого бы он не знал; но он показывал свое знание, только когда был вынуждаем к этому... Левин старался понять и не понимал и всегда, как на живую загадку, смотрел на него и на его жизнь». Когда Свияжский говорит ему об одной очень интересной статье: «Оказывается, что главным виновником раздела Польши был совсем не Фридрих Великий», и рассказывает вкратце «эти новые, очень важные и интересные открытия», Левин, слушая, спрашивает себя: «Что там в нем сидит? И почему, почему ему интересен раздел Польши?» Когда Свияжский кончил, Левин невольно спросил: — Ну, так что же? — Но ничего не было. Было только интересно то, что "оказывается". Но Свияжский не объяснил и не нашел нужным объяснить, почему это было ему интересно».
Конечно, цитатами из романа, даже самого автобиографического, ничего доказать и даже комментировать без проверок и оговорок нельзя — уже по одному тому, что объективированное самим автором и отнесенное им к персонажу, очевидно, не совпадает с тем, что принадлежит самому автору и не может быть, при всем его желании, объективировано до конца. Но если учесть пристальность толстовского самонаблюдения и постоянные его тенденции фиксировать свои прежние настроения и состояния, чтобы пользоваться ими для создания своих главных персонажей, то некоторое право такого иллюстрирования возможно — с оговоркой, что в этих цитатах, как и в приведенных мною, характеристика несколько утрирована. Мне важно иллюстрировать только этими цитатами основные положения. При этом речь идет преимущественно о конце пятидесятых годов, а первые части «Анны Карениной», как я думаю, построены в отношении Левина на материале пережитого Толстым именно в эту эпоху и потому, пожалуй, не менее достоверны, чем были бы достоверны воспоминания Толстого о самом себе.
«Крепостничество» Толстого, которое он не скрывал, должно было бы давно оттолкнуть от него таких людей, как Чернышевский, Некрасов; между тем, они, даже возмущаясь («Чёрт знает, что у него в голове!»), неизменно квалифицируют высказываемые Толстым взгляды не как неприемлемую для них, но понятную в устах «крепостника» систему определенных убеждений («идеологию»), а как «чушь», как проявление какого-то дикого, почти детского упрямства, и потому не теряют надежды на «исправление». Они, очевидно, улавливали в его поведении и позиции те черты своеобразия, которые я определил выше как «патриархальный аристократизм», — черты, придававшие всем его высказываниям характер сумасбродства, сословной фанаберии, которая, в обстановке пятидесятых годов, выглядела уже как фантастический анахронизм, как простая отсталость, а не реальная, деловая позиция помещика-крепостника. Они, действительно, смотрели на него как на талантливого, но недоразвитого ребенка («мальчишка по взгляду на жизнь», как писал Чернышевский Тургеневу), которого надо только хорошо воспитать и образовать, чтоб из него получился прекрасный и полезный обществу человек. К его выпадам никто не относится серьезно, как к «убеждениям», — все ждут какой-то перемены, какого-то момента, когда Толстой вдруг перебесится или, как выразился Тургенев, когда это молодое вино «перебродит». Когда Толстой едет за границу, все выражают надежду, что это путешествие образует его и сбросит ту умственную шелуху, которая мешает ему правильно мыслить. Чернышевский, например, пишет А. С. Зеленому в апреле 1857 г.: «Толстой, который по своим понятиям[358] был очень диким человеком, начинает образовываться и вразумляться (чему отчасти причиною неуспех его последних повестей) и, быть может, сделается полезным деятелем». Некрасов, узнав о том, что Толстой, по возвращении из заграницы, ругает Россию, с радостью пишет ему — как учитель исправившемуся ученику: «Ну, теперь будете верить, что можно искренно, а не из фразы ругаться, — и таких посылок: "он потому на стороне освобождения крестьян, что у него нет таковых" не будете делать даже и в шутку».
Здесь, кстати, цитируется очень характерный и недвусмысленный выпад Толстого, который другому, конечно, не мог бы быть прощен — двери «Современника» должны были бы навсегда закрыться для такого «крепостника». На подобные выпады Толстого смотрели сквозь пальцы не только потому, что признавали его талантливым и ценили его сотрудничество, но и потому, что от него можно было всего ожидать — ведь он же, офицер и крепостник, написал Севастопольские очерки, в которых столько смелости и столько «правды», как говорил Некрасов. Как это могло случиться? Очевидно, — «убеждений» у Толстого нет, а есть только «понятия», которые, при его искренности и впечатлительности, должны меняться.
Надо еще принять во внимание, что Толстой высказывал свои «понятия» всегда в пылу стычек, нападая на других и стараясь «оскорбить их убеждения», а сила натиска и разоблачения у него была большая, и он, беспощадный и острый наблюдатель, ослаблял силу противника тем, что забирался в самую его душу, оставляя «убеждения» на поверхности и демонстрируя нравственные недостатки. Вопрос об «убеждениях» уступал место вопросу о нравственных законах, о «правилах», а здесь Толстой был в своей стихии, и победить его на этих позициях было мудрено. Перед лицом моральных «истин» все оказывались фарисеями — и Толстой вел себя как Лютер. Как и следовало ожидать, — надежды на исправление не оправдались: у Толстого, вместо «убеждений», была своя позиция, крепкая своей архаистичностью, с которой он не сходил и не мог сойти никогда, потому что она имела историческое значение — и он это чувствовал. Герцен, познакомившийся с ним в Лондоне в 1861 г., говорит то же, что и другие, и так же надеется на будущее: «Толстой — короткий знакомый (пишет он Тургеневу); мы уж и спорили; он упорен и говорит чушь, но простодушный и хороший человек... Только зачем он не думает, а все, как под Севастополем, берет храбростью, натискам». Ему же он пишет после отъезда Толстого: «Гр. Толстой сильно завирается подчас; у него еще мозговарение не сделалось после того, как он покушал впечатлений»[359]. А сам Толстой писал в 1862 г. в письме к А. А. Толстой — по поводу произведенного у него обыска: «у меня раз лежали неделю все эти прелести — прокламации и "Колокол", и я так и отдал, не прочтя. Мне это скучно, я все это знаю и презираю не для фразы, а от всей души»[360].
Хорошей иллюстрацией к поведению Толстого и к вопросу о природе его «крепостничества» может служить XXVII глава третьей часта «Анны Карениной». Здесь Левин оказывается перед лицом двух противоположностей: «чрезвычайно либерального» Свияжского и некоего «помещика с седыми усами» — «закоренелого крепостника, деревенского старожила, страстного сельского хозяина». Помещик считает положение хозяйства безнадежным, потому что «при уничтожении крепостного права у нас отняли власть». Свияжский возражает, но дальше «приемных комнат» своего ума не идет и обрывает разговор именно тогда, когда вопрос ставится по существу. Левин чувствует себя ближе к «крепостнику», но именно потому, что тот, как «хозяин», говорит о самом деле и говорит страстно и пристрастно — «как все люди, самобытно и уединенно думающие». Его взгляды неприемлемы для Левина, но он находит в них много «верного», тогда как все, что говорит Свияжский, — для него пустые фразы. Характерен конец этого разговора: «—Отчего вы думаете, — говорил Левин, стараясь вернуться к вопросу, — что нельзя найти такого отношения к рабочей силе, при которой работа была бы производительна? — Никогда этого с русским народом не будет. Власти нет[361], — отвечал помещик. — Как же новые условия могут быть найдены? — сказал Свияжский, поев простоквашу, закурив папиросу и опять подойдя к спорящим[362]. Все возможные отношения к рабочей силе определены и изучены, — сказал он. — Остаток варварства — первобытная община с круговой порукой — сама собой распадается, крепостное право уничтожилось, остается только свободный труд, и формы его определены и готовы, и надо брать их. Батрак, поденный, фермер — и из этого вы не выйдете. — Но Европа недовольна этими формами. — Недовольна и ищет новых. И найдет, вероятно. — Я про то только и говорю, — отвечал Левин. — Почему же нам не искать с своей стороны?» И следует характерный финал — Свияжский забрасывает Левина эрудицией (это, конечно, переживал сам Толстой в разговорах с «умными»): «Шульце-Деличееское вправление... Потом вся эта громадная литература рабочего вопроса, самого либерального, Лассалевского направления... Миль- гаузевское устройство — это уже факт, вы верно знаете. — Я имею понятие, но очень смутное... Но к чему же они пришли? — Виноват... — Помещики встали, и Свияжский, опять остановив Левина в его неприятной привычке заглядывать в то, что сзади приемных комнат его ума, пошел провожать своих гостей».
Я недаром упомянул выше о Лютере. Анненков назвал ум Толстого «сектантским», и Тургенев скорбел, что Толстому не хватает умственной «свободы». В этом «сектантстве», в этой «несвободе» была, конечно, и своеобразная сила Толстого, позволившая ему пронести через целый ряд таких сложных эпох свое творчество. Достоевский — тоже сектант, но противоположного полюса, впитавший в себя национальные традиции и тенденции, развернутые именно русской интеллигенцией сороковых годов. Толстой, как я уже указывал, обходит эти традиции, эту разночинную «интеллигентскую» культуру; он — охранитель дворянской культуры, ее воинствующий рыцарь, гордый знанием «нравственных законов», которые заменяют ему придуманные интеллигентами «убеждения», «направления», «теории». Отсюда и нигилистичность и архаистичность его позиции: он отрицает все достижения русской интеллигенции и строит свою систему (если не убеждений, то понятий) на тех основах, которые характерны для конца XVIII века (Новиков, Радищев, Карамзин). А так как русская дворянская культура недостаточна и несамостоятельна, то огромное значение для него приобретает запад. Руссо, Стерн, Стендаль и т. д. — все это мобилизуется взамен русских традиций и используется в нужном для Толстого направлении. Можно прямо сказать, что Толстой, по своим источникам, по своим традициям, по своей «школе» — наименее русский из всех русских писателей.
Помимо Руссо или Стендаля — есть совпадения, подражающие своим сходством, до сих пор не изученные и даже не замеченные. Кому, например, принадлежат эти слова: «Наблюдения, сделанные мною, привели меня к убеждению, что было бы безрассудно искать благосостояния человечества в политических переворотах и революциях. Его нельзя ожидать и от государственных людей или правительственных мер, словом, внешняя перестройка общества не поведет ни к чему. Учреждения, страдающие внутреннею порчею, будут заменяться такими же, если еще не худшими учреждениями, пока корень этой порчи будет жить в сердце людей и народов. Избавление лежит в нравственном перевороте, который может быть совершен только силою, присущею христианским началам». Всякий уверенно скажет, что это — цитата из Толстого, а между тем это — цитата из проповеди американского богослова и общественного деятеля Уильяма Чаннинга (Channing). И это вовсе не «влияние», а гораздо более значительный факт родства. Не только проповеди Чаннинга, но и его юношеская записная книжка поражает сходством с записями Толстого, хотя в этом случае никаких разговоров о «влиянии» или «заимствовании» не может быть. Вот несколько цитат из записной книжки Чаннинга: «Читать легко, но мыслить трудно. Только посредством размышления мы можем так усвоить себе мысли других, что они сольются с нашими мыслями и сделаются частию нас самих. Мое несчастие состоит в том, что я много читал и мало думал; теперь я буду делать наоборот, потому что я предпочитаю ясность и определенность понятий поверхностному знанию, как бы обширно оно ни было... Порядок и последовательность необходимы при знаниях, и, когда однажды составлен план для них, не должно отступать от него ни под каким видом, как бы это дорого ни стоило. Я хочу во что бы то ни стало достигнуть ясности понятия... Гораздо лучше размышлять самому, чем прибегать к другим и узнавать их мысли об известном предмете. Таким образом мы откроем истину там, где она ускользнула от нас, если бы мы взглянули на предмет с точки зрения, заимствованной у других. Наши правила не должны зависеть ни от воспитания, ни от привычек; я хочу наблюдать сам, прежде чем воспользуюсь чужими наблюдениями... Умственная независимость — самый верный путь к истине. Быть может, количество знания будет меньше, зато качество его будет лучше... Я должен опасаться, чтобы желание быть оригинальным и самостоятельным не увлекло меня и не привело к заблуждению. Честолюбие так же пагубно, как и предрассудки; любовь к истине есть единственное правило, которое должно руководить мною, и только те истины, которые непосредственно касаются жизни, достойны особенного изучения. Я рожден для деятельности, и мое назначение состоит в том, чтобы быть полезным обществу, стараясь распространить истинные понятия о религии и этим совершенствуясь в них; следовательно, мне должно стараться воспринять главнейшие ее истины, а не теряться в хаосе энциклопедических знаний, которые до сих пор только сбивали меня с настоящего пути... Так как я сознаю, что ум мой полон предрассудков и предубеждений во всем, что касается политических вопросов, то я не буду ни с кем говорить о них по крайней мере год, исключая самых близких друзей. То же самое я сделаю и в отношении истории, и буду молчать обо всем, чего не знаю основательно»[363].
Культура каждой эпохи слагается на основе соотношений и взаимодействий тех элементов, которые выдвигаются заново и действуют под знаком «современности», с теми, которые удерживают или возрождают старинные традиции, противореча первым, сопротивляясь им и осложняя духом «архаистичности» попытки вырваться из истории. Архаистические элементы есть в любом произведении искусства, но они не всегда одни и те же, неодинакова их функция и не всегда они в данной системе являются решающими. Иногда их роль второстепенная, пассивная; иногда именно на них делается нажим. Писемский, например, делает нажим на архаи- стичность некоторых элементов стиля («грубость»), перенося этот принцип из области стиха (Катенин) в прозу; от него идет Лесков, работающий уже по принципу архаистической стилизации, делающий свою речь витиеватой, играющий стилистическими пластами. Толстой архаизирует другие элементы прозы, тоже следуя за стихом (Тютчев) и поглощая его, — элементы самой конструкции, жанра, сюжета; он разлагает вещь на куски, строит мозаику «подробностей», сцепляет их «генерализациями» — то ораторскими, то лирическими, то философскими, расшатывая перегородки, отделяющие «беллетристику» от других жанров, и т. д. Фабула исчезает, герой становится «свободным».
Можно сказать, что художественное творчество Толстого родилось из этого архаистического пафоса — как демонстрация против «современности»; поэтому оно в основе своей нигилистично, вдохновлено отрицанием «убеждений», по отношению к которым у него всегда готов вопрос — «не вздор ли это все?», и, напротив, утверждением примитивных абсолютных «истин», существующих вне истории и вклиняющих человека в природу. «Много людей умерло, много родилось, много выросло и состарилось» — вот ответ Толстого на всевозможные политические, экономические и социальные теории «умных». В этой общей системе понятным становится и «крепостничество» Толстого, как частное проявление его демонстративной позиции, позиции Дон Кихота, защищающего от натиска «современности» традиции и принципы исчезающей дворянской культуры и придающего им характер патриархального величия. Достоевский был совершенно прав и замечательно точен, когда в 1871 г. писал Н. Страхову: «А знаете, ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. Решетниковы ничего не сказали. Но все- таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художническом слове, уже не помещичьего, хотя и выражают в безобразном виде»[364]. Это писалось незадолго до того, когда началась историческая схватка Толстого с «Решетниковыми», кончившаяся противопоставлением «Власти тьмы» — «Власти земли», схватка, в которой Толстой вел себя уже не как Дон Кихот, а как Наполеон.
2
Помещичьи дела и заботы сильно отвлекли Толстого от литературы, но, с другой стороны, они выступили на первый план и на время заполнили жизнь Толстого, отчасти именно потому, что с литературой у него — заминка. И, пожалуй, не столько с литературой самой по себе, сколько с осознанием самого литературного дела. Он заканчивает «Юность», но больше потому, что обещал ее «Современнику» и нуждается вденьгах. Окончив «Юность», он пишетб ноября 1856 г. Панаеву: «...никому не читав из нее ни строчки, я нахожусь в сильном волнении, стоит ли она того, чтоб печатать ее, и послал ее одному господину, на суд которого я положился». Этот «господин» был Дружинин, которого Толстой еще продолжает считать главным своим литературным судьей. Дружинин ответил письмом, большая часть которого занята советами по части слога:«... вы сильно безграмотны, иногда безграмотностью нововводителя и сильного поэта, переделывающего язык на свой лад и навсегда, иногда же безграмотностью офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком- нибудь блиндаже... Главное только — избегайте длинных периодов. Дробите их на два и на три, не жалейте точек... С частицами речи поступайте без церемонии, слова: что, который и это марайте десятками. При затруднении берите фразу и представляйте себе, что вы ее кому-нибудь хотите передать гладким разговорным языком». Это наставническое письмо вряд ли могло обрадовать Толстого, но и вряд ли было принято им во внимание. Что касается Боткина, то он хотя и похвалил «Юность», но тоже, по-видимому, с оговорками, судя по ответу Толстого (20 января 1857 г.): «Благодарствуйте за ваш суд о Юности, он мне очень, очень приятен, потому что, не обескураживая меня, приходится как раз по тому, что я сам думал, — мелко».
Одновременна с работой над «Юностью» — у Толстого много планов и набросков: он пробует писать комедию, возобновляет работу над «Казаками», начинает писать роман «Отъезжее поле», обрабатывает «Утро помещика» и т. д. Значительное место занимает и чтение: Пушкин, Теккерей («Ньюкомы»), Гоголь («Мертвые души»), Диккенс, Мольер, Островский, Гончаров («Обыкновенная история»), Шекспир (переводы Дружинина), Ауэрбах, Тургенев. Суждения его очень неровны и переменчивы, что связано с общей неустойчивостью его мыслей и настроений в это время. О «Дневнике лишнего человека» Тургенева записано 17 мая 1856 г.: «Ужасно приторно, кокетливо, умно и игриво», а о «Фаусте» его же — 28 октября: «Прелестно». Так же переменчивы и личные отношения с Тургеневым. К концу года, как я уже говорил, литературная среда становится для Толстого все более неприятной. К этому присоединяется еще разрыв с В. Арсеньевой, в которую Толстой считал себя влюбленным и собирался жениться. 1856-й год, после «Двух гусар», оказался хлопотливым, утомительным, путаным и трудным. Зиму 1856/57 г. Толстой живет рассеянно и мало работает. У него даже является план — уехать опять на Кавказ; Тургенев удивлен: «Вы мне пишете, что даже нынешнюю зиму в Петербурге не доживете. Что у Вас за мысль ехать на Кавказ? Скорее брата вашего надобно оттуда вытащить». 20 января 1857 г. Толстой пишет Боткину из Москвы: «Езжу я здесь в свет, на балы; и было бы весело, ежели бы не одолевали мен я умные. В той же комнате сидят милые люди и женщины, но нет возможности добраться до них, потому что умный или умная поймали вас за пуговицу и рассказывают вам что-нибудь. Одно спасенье танцевать, что я и начал делать, как это да может показаться вам странным»[365]. В январе 1857 г. Толстой, как и многие другие, воспользовавшись разрешением выезда за границу, выехал в Париж, оттуда переехал в Швейцарию, затем побыл в Германии и 30 июля 1857 г. вернулся в Россию.
Весь парижский период проходит под знаком встреч с Тургеневым и работы над новой вещью — «Альбертом» (первоначальное название — «Пропащий»). Отношение к Тургеневу меняется изо дня в день; выступает на первый план то разница натур, то разница возрастов, то разница исторических позиций, разница литературных поколений. Толстой все время точно теряется и никак не может понять Тургенева, переходя от самых резких оценок и почти презрения к оценкам другого рода. То Тургенев, по его мнению, «просто тщеславен и мелок», то «добр и слаб ужасно», то «ни во что не верит, вот его беда, не любит, а любить любит», «мил, но просто устал и невер», «мною ложно был понимаем, он такой, но не плох», то — «дурной человек, по холодности и бесполезности, но очень художественно умный и никому не вредящий», то вдруг (на следующий день): «Нет, я бегаю от него. Довольно, я отдал дань его заслугам и забегал со всех сторон, чтобы сойтись с ним, невозможно», а спустя некоторое время, перед отъездом в Женеву (8 апреля), — полная перемена: «Заехал к Тургеневу. Оба раза, прощаясь с ним, я, уйдя от него, плакал о чем-то. Я его люблю. Он сделал и делает из меня другого человека». Одно ясно: Толстой находится все это время под сильным давлением чувства уважения к Тургеневу как к большому художнику, и, раздражаясь, желая освободиться от этого чувства, не может.
Характерна одна из первых записей (26 февраля н. ст.): «Пришел Тургенев, с ним обедал и краснел». 8 марта Толстой вместе с Тургеневым уехали из Парижа в Ди- жон — и Толстой записывает: «Вчера писал слишком смело. Я с ним смотрю за собой. Полезно. Хотя чуть-чуть вредно чувствовать всегда на себе взгляд чужой и острый, свой деятельнее». В это же время (10 марта 1857 г.) Тургенев пишет из Ди- жона Анненкову: «Но вообразите себе, что я здесь не один. Со мной поехал Толстой, который обрадовался случаю уединиться, чтобы привести к окончанию начатую им большую повесть. Несмотря на жесточайший холод, царствующий в комнате гостиницы, в которой мы остановились, холод, заставляющий нас сидеть не близ камина, но в самом камине, на самом пылу огня — он работает усердно, и страницы исписываются за страницами. Я радуюсь, глядя на его деятельность. Что же касается до меня, то из прилагаемого несомненного, хотя не размазанного г.... вы можете усмотреть, в каком плачевном состоянии находится моя творческая фантазия. С неимоверным трудом выдавил я давно затасканный лимон, эти последние капли из себя. Сделайте с этим "Вторым днем"[366], что хотите. Присовокупите его к первому и напечатайте или назначьте на мирную могилу на дне ватер-клозета — это совершенно в вашей воле; но во всяком случае передайте Дружинину, что если бы не желание исполнить свое слово и очистить его перед публикой — я бы ни за что не дал бы себе труда переписывать такую дребедень». К этому письму делает приписку Толстой: «Я пишу т. е. свою повесть с удовольствием и надеждой, хотя это не спокойная уверенность, но слава богу далеко не та уж нескромность наслаждения в искреннем или неискреннем саморугании Тургенева»[367]. В этот же день Толстой записал в дневнике: «Тщеславие Тургенева, как привычка умного человека, мило. За обедом сказал ему, чего он не думал, что я считаю его выше себя». Отношения изменились к худшему после 13 марта, когда записано: «Тургенев скучен. Хочется в П.[ариж], он один не может быть. Увы! он никого никогда не любил. Прочел ему Пропащего, он остался холоден, гуляя, ссорились».
«Альберт» — первая крупная и характерная неудача Толстого. Дело в том, что Толстой, сам еще ясно не сознавая этого, разрабатывает жанры, стоящие в стороне от современной журнальной беллетристики. Его историческая миссия — создание нового «высокого» искусства. Просто «рассказ» или «повесть» Толстой никак не может написать, как не может построить вещи на любовной фабуле — в этом он убедился уже на опыте своей ранней вещи «Как гибнет любовь». Толстовский сюжет строится на сопоставлениях, на противопоставлениях, на наложении эпизодов, наконец, — как в «Двух гусарах». Ему нужна поэтому «мысль» или даже тенденция, и нужен анализ, нужны «подробности» — старая его проблема «генерализаций» и «мелочности», характерная для него как для архаиста, живо ощущающего литературу XVIII века. Для того чтобы построить вещь, ему нужна, в качестве основной сюжетной опоры и в качестве основного тона повествования, какая-нибудь «абсолютная» моральная истина, с высоты которой он обозревает все совершающееся, видит каждое душевное движение своего персонажа и, когда нужно, выступает со своим авторским голосом. Естественно, что каждая такая «истина», хотя бы и в скрытом виде, злободневна для Толстого, часто связана с его личной жизнью (отсюда автобиографичность) или с событиями, в которых он принимал участие. Так, «Два гусара» выросли из борьбы и споров о новом поколении.
К концу 1856 г., вместе с вопросами политического и социального устройства России, которые пока волнуют Толстого, главным образом, своей практической стороной, особую злободневную значительность приобретает вопрос об искусстве.
Толстой, хотя и примыкает к «бесценному триумвирату», но ценит в его программе преимущественно критическую, отрицательную часть, направленную против «умных»; положительная часть, как всякая система «убеждений», а не «истин», ему и неясна и чужда. Тем острее и мучительнее для него вопрос об искусстве, тем нужнее ему поставить его так, чтобы решение его было построено на какой-нибудь моральной истине, лежащей глубже всяких «убеждений» того или другого лагеря. Для него художественное творчество, в противовес и Чернышевскому и Дружинину, есть именно абсолютное проявление моральной деятельности, самым своим существованием уничтожающее и отрицающее все убеждения, направления и т. д. Это — его историческая позиция, позиция воинствующего архаиста, которая дала ему возможность и силу провести свое творчество, хотя и с кризисами (так, конечно, и должно было быть при этой позиции) через ряд эпох.
Итак, Толстому нужен теперь материал, чтобы сказать «истину» об искуестве при помощи самого искусства. В начале января 1857 г. Толстой с увлечением и восторгом читает о Пушкине: «Я только теперь понял Пушкина... Обедал у Боткина с одним Панаевым, он читал мне Пушкина, я пошел в комнату Боткина и там написал письмо Тургеневу, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными поэтическими слезами. Я решительно счастлив все это время. Упиваюсь быстротой морального движения вперед и вперед». Интерес к Пушкину и к его жизни явился, несомненно, в связи с вопросом об искусстве (Дружинин) и с тем, что Толстой стал «думать» об искусстве ужасно высоко и чисто. Недаром явилось здесь и письмо Тургеневу, как «высокому» художнику и «малейшему последователю» (как он сам называл себя) Пушкина. Это записано 4 января, а 5-го Толстой знакомится с опустившимся и несчастным, но замечательным скрипачом, Кизеветтером — и вот 7 января появляется запись: «История Кизеветтера подмывает меня», а 8 января другая: «Пришел Кизеветтер. Он умен, гениален и здрав. Он гениальный юродивый». Толстому нужен именно такой, «юродивый», чтобы оставить в стороне все «умные» разговоры, чтобы стать по ту сторону если не добра и зла (дальше будет и это), то вопросов о смысле, цели и т. д. 12 января записано нечто вроде тезисов или сжатой программы: «Три поэта. 1) Жемчужников, есть сила выражения, искры мало, пьет из других. 2) Кизеветтер, огонь и нет силы. 3) Художник ценит и того и другого и говорит, что сгорел... Русский добросовестный художник в конце злится на того, кто видит притворство, и на Жемчужникова, и говорит: тот, кого мы видим в соплях, царь и велик, он сгорел, а ты не сгоришь. Говорят, Севастопольские герои все там остались, а здесь герои не все. Дар огромный, надо осторожно обращаться с ним, сожжешь других и себя, и сам заплакал». Из этой программы видно, что рядом с «юродивым» музыкантом в рассказе должен действовать некий художник, разъясняющий «истину»[368].
Начат был рассказ (в марте 1857 г.) как полемический трактат в диалогической форме. Следы этого остались и в последней редакции, но первоначальная тенденция в ней значительно ослаблена. В ранней редакции, кроме Делесова, есть художник Нехлюдов и некий Аленин, знаток музыки и писатель; во время музыкального сеанса на квартире Делесова они ведут спор об Альберте. Аленин считает, что «таких господ надо в исправительные дома сажать или заставлять улицы мести», а Нехлюдов произносит длинные тирады в защиту Альберта, доказывая, что «это не пьяный немец, а это падший гений», «человек, сгоревший оттого священного огня поэзии, которому мы все служим», т. е. «от огня счастия поэзии»: «он жжет других, этот огонь, так трудно тому, кто носит его в себе, не сгореть самому». Але- нин спрашивает, какую пользу принес он обществу «этим огнем, как вы выражаетесь»; Нехлюдов отвечает: «Пользу обществу? Вот они, ваши суждения. Он и знать не хочет вашего общества и вашей пользы и всех этих пустяков. Он делает то, что ему свыше положено делать» и т. д. Следует опять длинная речь Нехлюдова на тему о том, что «мы рабы, а он царь», на что Аленин иронически замечает: «Не могу понять, почему тот артист, который воняет, лучше того, который не воняет». Следует новая тирада Нехлюдова, отдельные фразы которой сохранились в последней главе печатной редакции: «Не лучше, а достоин любви, высокого сожаления и почтения. Искусство! — величайшее проявление могущества в человеке. Оно — не игрушка, не средство для денег, репутации; оно дается избранным. Оно поднимает избранника на такую непривычную человеку высоту, на которой голова кружится и трудно удержаться здравым. Искусство есть следствие неестественного напряжения, порывов борьбы. Борьба с богом, вот что такое искусство — да. Один офицер говорил мне, что нет Севастопольских героев, потому что все герои лежат там на кладбище. И тут, и в искусстве есть на одного уцелевшего сотни гибнущих героев, и судьба их та же... Вы не сопьетесь небось, вы книжку об искусстве напишете и камергером будете, — заключил он, обращаясь снова к Аленину».
Толстой — архаист, отстаивающий здесь высокое назначение искусства и трактующий его как «следствие неестественного напряжения», даже как «борьбу с богом», реставрирует старый, заношенный, до-тургеневский мотив, широко бытовавший в литературе тридцатых годов (Одоевский, Полевой, Кукольник и др.): гениальный художник, гибнущий среди непонимающей и издевающейся над ним толпы. Он рискует уже превратиться из архаиста в эпигона — и это очень характерно для Толстого конца пятидесятых годов, растерявшегося среди обступающих его направлений, влияний, руководств и т. д.
Рассказ пишется под сильным давлением не только «бесценного триумвирата», но и Тургенева, «чужой и острый взгляд» которого пристально следит в это время за Толстым. 13 марта 1857 г. Толстой читает ему первую редакцию — Тургенев «остался холоден», и рассказ отложен. Только в мае Толстой берется снова за него и пишет заново сначала. 24 июня он читает эту новую редакцию Боткину, но и ему рассказ не нравится — и Толстой соглашается: «Действительно, это плохо». Следующий момент работы — уже сентябрь, в Ясной Поляне. Рассказ залежался, значительно утерял для Толстого свою первоначальную остроту — Делесов начинает выдвигаться за счет Альберта, вещь сбивается на другой стиль, на другой жанр. В промежуток между июнем и сентябрем написан «Люцерн», который можно считать вариантом и поправкой к неудающемуся «Альберту», в значительной степени поглотившей в себе всю полемику и злободневность и притом гораздо более смелой. После июньской неудачи с «Альбертом», во время работы над «Люцерном», Толстой записывает в дневнике (11 июля 1857 г.): «Дописал до обеда Люцерн. Хорошо. Надо быть смелым, а то ничего не скажешь, кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного». Весьма вероятно, что «грациозным» здесь обозначен именно «Альберт» — сего эстетическими диалогами и общей «музыкальностью» материала.
«Альберт» уже не пишется, а дописывается — скорее из упорства, чтобы отделаться от мешающей, залежавшейся вещи. В этом отношении необыкновенно характерен один факт, относящийся именно к этому (сентябрьскому) периоду работы над «Альбертом». 15 сентября 1857 г. в дневнике записано: «Бросился писать и написал отличные 4 листика горячие». Эти четыре листика — обширное и совершенно уводящее в сторону от главной линии воспоминание Делесова о своей юношеской любви. Альберт и вся основная тема рассказа совершенно забыты — вместо этого неожиданно развернут посторонний, не связанный с рассказом материал, возвращающий нас к «Юности» или к ненаписанной «Молодости». Получился кусок, по яркости и смелости стоящий всего «Альберта». Делесов, слушая игру Альберта, плачет: «Но о чем и зачем заплакал тот, который лежал на диване? Вот о чем и зачем он плакал. Ему теперь было 35 лет, он был очень богат, и ему давно уже и всегда и везде было скучно. Быть скучающим человеком сделалось как бы его общественным положением. И всегда особенно было ему скучно и вместе грустно там, где надо было веселиться. Кроме того, у него была плешивая голова, и волосы продолжали лезть, ревматизмы в ногах, и геморрой в пояснице. Каждым днем своим от утра до вечера он был недоволен, как будто раскаянье мучило его, и не только он, несмотря на доброе сердце, не мог любить кого-нибудь, он сам был себе невыносимо противен. А было время, когда он был молод, хорош собой, когда он любил и других и от себя ждал чего-то необыкновенно прекрасного. Первые звуки Меланхолии по какому-то странному сцеплению впечатлений живо перенесли его к тому славному старому времени». Следует картина домашнего бала, на котором он танцуете Лизанькой Тухмачевой. Здесь Толстой дает простор своему настоящему языку, своей «смелости»: «А вот и барышня из всех барышень, она, Лизанька Тухмачева, в розовом платьице с оборками. Чудное платьице! Хорошо и холстинковое, в котором она по утрам; но это лучше, во-первых, потому что оно на ней, и, во-вторых, потому что открывает ее чудную с жолобком сзади шею и пушистые, непривычные к обнажению руки. Она, не переставая, беспрестанно улыбается, почти смеется; но какой радостью и ясностью сияет эта розовая улыбка на ее раскрасневшемся, вспотевшем личике. Блестят белые зубы, блестят глаза, блестят розы щек, блестят волосы, блестит белизна шеи, блестит вся Лизанька ослепительным блеском. Да, она вспотела, и как прелестно вспотела! Коротенькие вьющиеся волосики на висках и под тяжелой косой лоснятся и липнут, на пурпурных щеках выступают прозрачные капли, около нее тепло, жарко, страстно. Он уже раз двадцать танцевал с ней вальс, и все мало, все еще и еще, вечно, вечно чего-то от нее хочется невозможного». Я цитирую только кусок для образца — полностью эти четыре листика, написанные совершенно в сторону и так и непригодившиеся, принадлежат к самым замечательным страницам Толстого. Толстому уже самому ясно, что с «Альбертом» — положение безнадежное. Работа продолжается, но уже с сознанием того, что вещь плохая и что ее нужно дописать только для того, чтобы освободить место для других. 18 сентября 1857 г., через 2 дня после «отличных четырех листиков», в дневнике записано: «Писал довольно много, но вся вещь плохая. Хочется свалить ее поскорее»; 22 сентября: «Писал довольно; но решительно плохо». 25 ноября Толстой окончательно пересматривает «Альберта» («Вся вторая половина слаба») и 26-го посылает Некрасову, но сам недоволен и на другой же день записывает: «Очень недоволен я теперь "Погибшим"; но не поеду в Петербург, подожду корректуры». Есть указания на то, что 30-го он даже послал телеграмму с просьбой вернуть рукопись.
Некрасов написал Толстому 16 декабря 1857 г.: «Милый, душевно любимый мною Лев Николаевич, повесть вашу набрали, я ее прочел и по долгу совести скажу вам, что она нехороша и что печатать ее недолжно». Приговор Некрасова аргументирован очень точно и определенно: «Главная вина вашей неудачи в неудачном выборе сюжета, который, не говоря о том, что весьма избит, труден почтило невозможности и неблагодарен. В то время как грязная сторона вашего героя так и лезет в глаза, каким образом осязательно до убедительности выказать гениальную сторону? а коль скоро этого нет, то и повести нет. Все, что на втором плане, очень впрочем хорошо, т. е. Делесов, важный старик и пр., но все главное вышло как-то дико и ненужно». Некрасов почти держит сторону Аленина — потому что вещь вышла просто тенденциозной: «Как вы там себе ни смотрите на вашего героя, а читателю поминутно кажется, что вашему герою с его любовью и хорошо устроенным внутренним миром — нужен доктор, а искусству с ним делать нечего. Вот впечатление, которое произведет повесть на публику, ограниченные резонеры пойдут далее, они будут говорить, что вы пьяницу, лентяя и негодяя тянете в идеал человека, и найдут себе много сочувствователей... да, это такая вещь, которая дает много оружия на автора умным, а еще более глупым». Некрасов предоставляет решение Толстому и кончает советом: «Эх! пишите повести попроще. Я вспомнил начало вашего казачьего романа, вспомнил двух гусаров — и подивился, чего вы еще ищете — у вас под рукою и в вашей власти ваш настоящий род, род, который никогда не прискучит, потому что передает жизнь, а не ее исключения, к знанию жизни у вас есть еще психологическая зоркость, есть поэзия в таланте — чего же еще надо, чтоб писать хорошие — простые, спокойные и ясные повести?»[369] В это же время Некрасов пишет Тургеневу (25 декабря 1857 г.): «О журнале скажу, что серьезная часть в нем недурна и нравится, но с повестями беда. Нет их. Островский после долгого бездействия прислал слабую вещь, а Толстой такую, что пришлось ему ее возвратить!» Январский номер «Современника», вопреки традиции, пришлось открыть статьей Чернышевского — и Толстой обратил на это внимание: «Насчет 1-го номера доложу вам искренно, что он очень плох. Кавеньяк политич. и хорошая статья стоит впереди так же, как в Рус. вестнике; это-то и производит неприятное впечатление. Современник должен и имеет право иметь свои традиции»[370].
Итак, неудача с «Альбертом» — полная. Сделав героем повести, посвященной вопросу об искусстве, музыканта, Толстой впал в банальность и в тенденциозность. Он не возражает, но оправдывается и сопротивляется — отзыв Некрасова, конечно, и огорчил, и обидел его. Он отвечает 18 декабря: «Я вам писал, что я доволен был этой вещью; читал ее переделанной одному старику Аксакову, который остался ею очень доволен; но теперь я верю вам; хотя и не согласен; тем более, что ее у меня нет и что вы серьезного против ничего не говорите. Печатать ее теперь нельзя; потому что, как я писал вам, надо в ней исправить и изменить многое. 30 числа я еще просил вас прислать мне ее назад. Напрасно вы не прислали. Что это не повесть описательная, а исключительная, которая по своему смыслу вся должна стоять на психологических и лирических местах и потому не должна и не может нравиться большинству, в этом нет сомнения; но в какой степени исполнена задача, это другой вопрос. Я знаю, что исполнил ее сколько мог (исключая матерьяльной отделки слога). Эта вещь стоила мне год почти исключительного труда, но, как вижу, для других будет казаться не то — и потому лучше предать ее забвению, за что и благодарю вас очень и очень. — Пришлите мне только, пожалуйста, рукопись или корректуры, чтобы, пока свежо, еще исправить что нужно и спрятать все подальше»[371].
Толстой недаром противополагает здесь «Альберта», как вещь лирического характера, повестям «описательным», — он в это время настойчиво пробует себя в лирическом жанре и даже пишет нечто в роде «стихотворения в прозе», не без влияния, по-видимому, тургеневской прозы. Эта маленькая вещь — «Сон», первую редакцию которого Толстой набросал 24 ноября 1857 г., а вторую, написанную 31 декабря, послал в письме к Боткину, прибавив: «Ежели Тургенев еще с вами, то прочтите это ему и решите, что это такое, дерзкая ерунда или нет». Толстой явно находится на распутье и не может заново включить себя в поток литературы. Он готов занять позицию презрения к публике, позицию гордого одиночества. Характерно, что в письме к Некрасову он намекает на свое безразличие к «большинству», на суд которого ссылается Некрасов. Вопрос этот, вместе с вопросом об искусстве, стоит в центре 1857-58 гг.
История «Альберта» этим не кончается. Получив повесть обратно, Толстой сейчас же опять переделывает ее. 26 декабря записано: «Переправка музыканта. Напечатаю»; 21 января 1858 г. Толстой сообщает Некрасову: «Повесть свою спрятал, но придумал еще в ней переделки, которые сообщу вам когда-нибудь, когда будем вместе», а в феврале он опять переделывает ее и 17-го извещает Некрасова, что пошлет ему «две штуки на выбор, из коих одна есть тот же несчастный всеми забракованный музыкант, от которого я не мог отстать и еще переделал». Работа продолжается вплоть до 10 марта («Доканчивал Музыканта»), но в печати повесть появляется только в августовской книжке «Современника». Впечатление, как и ожидал Некрасов, было отрицательное. М. Лонгинов писал Некрасову 25 августа 1858 г.: «Альберта Л. Н. Толстого я прочел и, признаюсь, сожалею, что напечатано такое произведение, нимало не соответствующее славе его превосходного таланта. Впечатление это почти общее в Москве, где у него столько личных друзей и почитателей его дарования»[372].
Еще до «Альберта» в сентябрьской книжке «Современника» 1857 г. появилась вещь Толстого под названием: «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн». Об этой вещи он пишет Боткину (21 июля н. ст. 1857 г.): «Меня в Люцерне сильно поразило одно обстоятельство, которое я почувствовал потребность выразить на бумаге... Из него вышла чуть не статья, которую я кончил, которой почти доволен и желал бы прочесть вам... Покажу Тургеневу, и ежели он апробует, то пошлю Панаеву». «Обстоятельство», о котором говорит Толстой, записано в дневнике под 7 июля 1857 г.: «Ходил в Privathaus. Возвращаясь оттуда, ночью — пасмурно — луна прорывается, слышно несколько славных голосов, две колокольни на широкой улице, крошечный человек поет тирольские песни с гитарой и отлично. Я дал ему и пригласил спеть против Швейцергофа — ничего, он стыдливо пошел прочь, бормоча что-то, толпа, смеясь, за ним. А прежде толпа и на балконе толпились и молчали. Я догнал его, позвал в Швейцергоф пить. Нас провели в другую залу. Артист пошляк, но трогательный. Мы пили, лакей засмеялся и швейцар сел. Это меня взорвало — я их обругал и взволновался ужасно». Толстой недаром называет эту вещь «статьей» — это нечто среднее между корреспонденцией и фельетоном. Сюда вошло все то, что никак не помещалось и не могло поместиться в «Альберте». Это — освобождение от «Альберта», а вместе с тем и от тургеневского «взгляда», прыжок в другой стиль, в другой жанр.
В «Альберте» никак не была решена проблема жанра или «формы», выражаясь языком Толстого, а расчет на «лирические места» оказался неверным; в «Люцерне» отброшена беллетристичность, нет ставки на героя и его «психологию», а вместо этого дан простор авторскому голосу — так, как это было в первом Севастопольском очерке. Злободневность никак не шифрована, а наоборот — подчеркнута и местом действия, и датой, и материалом, и самой темой. Толстой, как настоящий публицист, вводит сюда даже самый свежий газетный материал, используя жанр передовой статьи: «Что англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китайцы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую монету; что французы убили еще тысячу кабилов за то, что хлеб хорошо родится, родится в Африке и что постоянная война полезна для формирования войск; что турецкий посланник в Неаполе не может быть жид и что император Наполеон гуляет пешком в Plombifcres и печатно уверяет народ, что он царствует только по воле народа» — это все злободневный материал, взятый Толстым из газет: борьба Англии за сбыт своего опиума в Китае, политика Франции в Марокко и, наконец, знаменитые прогулки пешком Наполеона III в курорте, о которых специально сообщалось в газетах, чтобы создать впечатление полного политического благополучия и спокойствия.
Вместе с тем вопрос об искусстве и художнике остался, но из плана прямой эстетической полемики, развернутой при помощи защитительных речей, как это было в «Альберте», он перенесен в план гораздо более широкий — в план вопроса о цивилизации, о добре и зле, о государстве, о морали, «Убеждениям» противопоставлены абсолютные «истины», не зависящие ни от времени, ни от цивилизации. От обороны, предпринятой в «Альберте» демонстрацией гениального юродивого, Толстой переходит к нападению, превращая маленькое происшествие с нищим и нисколько не гениальным певцом («артист пошляк») в событие мирового значения, «которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами». Бедный странствующий певец не унижен до положения «юродивого» и не сублимирован до гениальности — никакой «романтики», отдающей банальностью, здесь нет. Некоторые детали как будто взяты из «Альберта», но повернуты обратной стороной, так что «Люцерн», действительно, выглядит вариантом, освобожденным от романтических тенденций. Альберт, приготовляясь играть, «поднял голову, выставил вперед дрожащую ногу, тем же, как и прежде, пошлым жестом откинул волосы и, подойдя к скрипачу, взял у него скрипку... Губы его сложились в бесстрастное выражение, глаз не было видно; но узкая костлявая спина, длинная белая шея, кривые ноги и косматая черная голова представляли чудное, но почему- то вовсе не смешное зрелище». Здесь нарочно подчеркнуты противоречия, чтобы подготовить основной полемический парадокс: юродивый — гений. В «Люцерне» эти противоречия, как и самый парадокс, сняты: «Маленький человечек был, как оказалось, странствующий тиролец. Он стоял перед окнами гостиницы: выставив ножку, закинув назад голову и бренча на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню... Певец, сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький черный сюртук, волосы у него были черные, короткие и на голове была самая мещанская, простая, старенькая фуражка. В одежде его ничего не было артистического, но лихая, детская веселая поза и движения с его крошечным ростом составляли трогательное и вместе забавное зрелище». Второй текст выглядит прямо как поправка к первому — поправка, продиктованная резким поворотом всей темы.
Поворот этот связан с поворотом в самом отношении Толстого к западной культуре. Сначала (парижский период) Толстой оглушен, ошеломлен, растерян. 5 апреля 1857 г. он пишет Боткину: «Я круглая невежда; нигде я не почувствовал это так сильно, как здесь... наслаждения искусствами, Лувр, Versailles, консерватория, театры, лекции в College de France и Сорбон, а главное социальной свободой, о которой я в России не имел даже понятия». Но на другой день, после виденной им казни (утром 6 апреля), он заканчивает письмо уже совсем в другом настроении и тоне, подготовляющем тон «Люцерна»: «Наглое, дерзкое желание исполнять справедливость, закон бога. Справедливость, которая решается адвокатами, которые каждый, основываясь на чести, религии и правде, говорят противоположное. С теми же формальностями убили короля, и Шенье, и республиканцев, и аристократов... Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатации, но главное для развращения граждан. А все-таки государства существуют и еще в таком несовершенном виде. — И из этого порядка в социализм перейти они не могут. Так что же делать тем, которым это кажется таким, как мне?.. Я понимаю законы нравственные, законы морали и религии, необязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность, я чувствую законы искусства, дающие счастие всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего. Это я почувствовал, понял и сознал нынче... с нынешнего дня я не только никогда не пойду смотреть этого [т. е. казни], никогда не буду служить нигде никакому правительству»[373]. На другой же день Толстой бежит из сразу опротивевшего ему Парижа в Женеву и там записывает 25 мая в своей книжке: «Все правительства равны по мере зла и добра. Лучший идеал — анархия».
В письме к Боткину уже сопоставлены «законы нравственные» и «законы искусства» — формула, из которой развился «Люцерн». Здесь природа, мораль и искусство (и характерно, что именно примитивное искусство, почти сливающееся с природой) вступают в силу против «политических законов», против государства и цивилизации. Надо полагать, что к давнишнему толстовскому «руссоизму» (кстати — «Люцерн» написан именно в Женеве) здесь присоединились веяния новых социальных идей и учений, с которыми Толстой познакомился во Франции и которые впоследствии, во время второй его поездки за границу (1860-61) серьезно привлекут к себе его внимание. Есть основания думать, что в 1857 г. он уже читал Герцена, слышал об учении Прудона и об исторических работах Мишле. 30 апреля 1857 г. записано: «Целый день читал историю революции». За границей Толстой отдыхает от сложных и противоречивых настроений, которые владели им на родине. Здесь он впервые начинает думать без намерения оскорбить чьи-либо «убеждения» и показать себя «дикарем».
В «Люцерне» Толстой дает полный простор своим архаистическим тенденциям. Это — не только фельетон, но и программная речь, манифест, которым он подводит итоги всему пережитому в Петербурге после Севастополя. Здесь окончательно утверждается приоритет «инстинкта» над «убеждениями» — нигилизму «умных» противопоставлен другой нигилизм, который отбрасывает, как ложь, всю область «политики» и выдвигает другие, «натуральные законы». Именно этого термина добивается Толстой в разговоре с странствующим певцом и радостно хватается за него. В словах маленького тирольца звучат «законы нравственные» и «законы искусства»: «Что ж это такое? богатым жить можно, как хотят, a un pouvre tiaple, как я, уж и жить не может? Что ж это за законы республики? Коли так, то мы не хотим республики, не так ли, милостивый государь? Мы не хотим республики, а мы хотим... мы хотим просто... мы хотим... — он замялся немного: — мы хотим натуральные законы». Именно в этой вещи Толстой употребляет такие характерные и значительные для него слова, как «первобытный» и «инстинктивный»: «Отчего эти люди в своих палатах, митингах и обществах горячо заботящиеся о состоянии безбрачных китайцев в Индии, о распространении христианства и образования в Африке, о составлении обществ исправления всего человечества не находят в душе своей простого первобытного чувства человека к человеку?.. Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной ассоциации?» А следом за этими вопросами идет ряд утверждений, показывающих весь размах толстовского нигилизма и оправдывающих самое применение к Толстому этого термина. Здесь ясно видно, как самый «морализм» Толстого вырастает из его нигилизма, от разрушительного действия которого спасается только стремление к выполнению нравственных законов, вложенных в нас «Всемирным Духом», и искусство, как способ многозначных построений и «сцеплений». Все остальное — «воображаемое знание», в котором нет ничего незыблемого, абсолютного. Толстому важно добиться такой позиции, при которой оказалось бы возможным и естественным парадоксальное сочетание того, что считается — реакционным», с тем, что идет дальше всякого «радикализма», — позиции воинствующего архаиста, отвергающего самые эти деления. Этим он создает себе опору для новой деятельности вне тех программ, с которыми имел дело в России, и возможность художественного творчества вне журнальной беллетристики.
Вот та программа, которая не могла уместиться в «Альберте» и потребовала особой Ъещи и особого жанра, возвращающего нас к ораторским, проповедническим страницам второго Севастопольского очерка: «Несчастное, жалкое создание человек со своею потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой — неблаго. Проходят века, и где бы что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблага. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива! Ложна односторонностью по невозможности человека обнять всей истины и справедлива по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом, вечно движущемся, бесконечном, бесконечно перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет миллионов, других подразделений совсем с другой точки зрения, в другой плоскости. Правда, вырабатываются эти новые подразделения веками, но и веков прошли и пройдут миллионы. Цивилизация — благо, варварство — зло; свобода — благо, неволя — зло. Вот это- то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие, запутанные факты? У кого так велик ум, чтобы хотя в неподвижном прошедшем обнять все факты и свесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не оттого, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу. И этот-то один непогрешимый, блаженный голос заглушает шумное, торопливое развитие цивилизации».
«Люцерн» — это первый «моралистический» трактат Толстого, подготовляющий и разрыв его с журнальной литературой, и увлечение педагогической работой в деревне, и переход к новым вещам. Ему нужно решить не столько проблему искусства вообще, сколько проблему своего творчества, проблему своего дальнейшего пути. Еще до отъезда за границу он начал думать об искусстве «ужасно высоко и чисто», а это для него неразрывно связано с другим — «отделаться с журналами». В этом стремлении к созданию нового «высокого» искусства, идущего в разрез с так называемой "современностью" и не ставящего себе целью обслуживание читательских масс, выражается архаистичность толстовской позиции, в этом же — и историческая его миссия. «Люцерн», написанный как фельетон, близок к старинным дидактическим жанрам и выглядит, если присмотреться, отрывком из какого- нибудь «путешествия», написанного публицистом XVIII века. Связь «Люцерна» с жанром эпистолярных «путешествий» (вроде хотя бы Радищевского «Путешествия») подтверждается не только внешними признаками («Из записок князя Нехлюдова», место и дата), но и внутренними. Еще до «Люцерна» Толстой начал писать «дневник путешествия», который, как видно по сохранившимся отрывкам и по записям в дневнике, должен был быть особой вещью; с другой стороны, «Люцерн», как я уже указывал, возникает отчасти из писем к Боткину, что сознает и сам Толстой, когда 9 июля 1857 г. (во время работы над «Люцерном») пишет Боткину: ... я говорил уже вам, что многое за границей так ново и странно поражало меня, что я набрасывал кое-что с тем, чтобы быть в состоянии возобновить это на свободе. Ежели вы мне посоветуете это сделать, то позвольте писать это в письмах к вам. Вы знаете мое убеждение в необходимости воображаемого читателя. Вы мой любимый воображаемый читатель. Писать вам мне так же легко, как думать, я знаю, что всякая моя мысль, всякое мое впечатление воспринимается вами чище, яснее и выше, чем оно выражено мною. — Я знаю, что условия писателя другие, да бог с ними — я не писатель»[374].
Последнее признание очень знаменательно и вырвалось не случайно — полный смысл его раскроется в ближайшие годы. Мысль «отделаться с журналами» была, очевидно, тоже выражением не случайного настроения. Толстому нужно поставить свое творчество в особые условия, непохожие на «условия писателя», чтобы осуществить заданную ему историей миссию. Он должен вырваться из литературного круга и создать себе независимую деятельность вне литературы — именно для того, чтобы стать писателем в том смысле этого слова, как он его понимает. Литературный «профессионализм» для него невозможен и неприемлем. Не без связи, вероятно, именно с этими размышлениями 23 июля 1857 г. (по окончании «Люцерна») в дневнике появляется запись: «Главное — сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне для всего околотка и целая деятельность в этом роде. Главное, вечная деятельность». Слово «деятельность» подчеркнуто Толстым именно потому, что им обозначено нечто противоположное «профессии» — и особенно профессии литератора, который, по словам Тургенева, «не должен заниматься ничем другим». Стремление вернуть литературе ее высокое назначение и смысл приводит Толстого к поискам особой «деятельности», связанной с его «второй профессией» — профессией помещика.
Обдумывая свой дальнейший путь, Толстой возвращается к некоторым своим прежним литературным проектам: продолжение «Юности», «Отъезжее поле», «Казаки». Особенно характерно возвращение к «Казакам», оставленным еще в 1853 г. Первая мысль о возобновлении этой вещи явилась в 1856 г. — в связи с чтением «Охоты на Кавказе» Николая Толстого. 12 июня 1856 г. записано: «... получил записки от Николеньки. Читал их. Прелестно»; 13 июня — «Вот эпический талант громадный»; 14 июня — «Начинаю любить эпический легендарный характер. Попробую из казачьей песни сделать стихотворение». Незадолго до этого, 7 июня, Толстой читает поэмы Пушкина и записывает: «Цыгане прелестны, как и в первый раз, остальные поэмы, исключая Онегина, ужасная дрянь». Именно к 1856 г. относится, по-видимому, редакция «Казаков», в которой Ерошка заменен другим лицом — старшим казаком, ничего общего с Ерошкой не имеющим. Так, вероятно, хотел обойти Толстой совпадение с «Охотой на Кавказе» Николая. Но работа остановилась, и Толстой опять взялся за «Казаков» только в апреле 1857 г., уже за границей и после появления «Охоты на Кавказе» в печати. К этому моменту относится попытка написать «Казаков» ритмической прозой. 29 апреля записано: «Чуть- чуть написал прозой Казака», а 30-го: «Написал немного поэтического Казака, который мне показался лучше, не знаю, что выбрать». Этот опыт скоро оставлен, а работа идет одновременно над разными вещами: «Альберт» («Поврежденный»), «Люцерн», «Отъезжее поле», «Казаки». 21 июля 1857 г. записано: «Я решительно разбрасываюсь и оттого ничего не сделаю». 23 июля, по окончании «Люцерна», Толстой решает сосредоточиться на двух вещах — «Казаки» и «Отъезжее поле», и формулирует: «Совсем другое — казак — свеж как библейское предание, и Отъезжее поле комизм живейший, концентрировать — типы и все резкие». У Толстого было, по-видимому, намерение направить свою литературную работу по двум линиям, одна из которых («Казаки») должна была дать нечто вроде эпической поэмы (Пушкин), другая же — воплотиться в форме бытового романа в духе Гоголя и Диккенса. Новым толчком в работе над «Казаками» явилось чтение «Илиады». Еще в июне 1857 г. Боткин, возмущаясь «современным политическим и религиозным хаосом» во Франции и находя единственное спасение «в мире искусства», писал Толстому: «Есть со мной и Илиада — тоже благодатный бальзам от современности». 15 августа, уже вернувшись в Россию, Толстой записывает: «Читал Илиаду. Вот оно! Чудо!.. Переделывать надо всю Кавказскую повесть», и 17-го: «Илиада заставляет меня совсем передумывать Беглеца».
С этого момента работа над «Казаками» начинается заново. Теперь Толстого беспокоит самый сюжет этой вещи, залежавшейся с 1852 г. и требующей полной переделки. В новой стадии Толстому необходимо, чтобы в основе «Казаков» была какая-нибудь «мысль». Он старается выбрать наиболее подходящую и 18 августа записывает: «Не могу писать без мысли. А мысль, что добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо — недостаточны. Еще хорошо, ежели бы проникнуться последним — один выход». Очень характерно для Толстого это состояние выбора мысли, совершенно аналогичное выбору жанра или материала. Одна из этих мыслей — «что те же страсти везде» — ведет прямо к «Цыганам» Пушкина, как цитата из финала: «И всюду страсти роковые». Позже, в ноябре, Толстой все еще обдумывает сюжет: «Надо начать драмой в Казаке» (11 ноября); «Эврика! для казаков — обоих убили» (14 ноября). Работа продолжается в 1858 г. — и снова прерывается почти до 1862 г.
Поездка за границу была бегством — от России с ее правительством, которое Толстой презирает и фрондирует так же, как некогда его отец[375], от журналов с их политикой и полемикой, от крестьян, которые мешают ему быть помещиком и пр. Начинается новая эпоха — и Толстому нужно заново ориентироваться в ней и найти свое место. После заграницы Россия производит на него тяжелое впечатление. 8 августа 1857 г. записано: «Прелесть Ясная — хорошо, и грустно. Но Россия противна, и чувствую, как эта грубая лживая жизнь со всех сторон обступает меня». 18 августа 1857 г. он пишет А. А. Толстой: «В России скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши то же происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Поверите ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине, и теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни... Благо, что есть спасенье — мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанностей»[376]. 21 октября 1857 г. он пишет Боткину: «Невольно всю дорогу я строил планы будущей жизни... Про отвращение, возбужденное во мне Россией, мне страшно рассказывать. Дела по имению, в котором еще прошлого года'я начал освобождение, шли плохо и главное остановились, так что требовали личного труда — идти вперед по начатой дороге или все бросить»[377].
Небезразлично было для Толстого и то, что литературный его успех стал падать. «Юность» прошла незамеченной, а «Люцерн» был встречен полным недоумением. Сам Толстой пишет 11 октября 1857 г. Некрасову: «Нынче получил я сентябрьский Совр... какова мерзость и плоская мерзость вышла моя статья в печати и при перечтении. Я совершенно надул себя ею да и вас кажется... Что будет у вас да и есть уже в октябре? На меня же, пожалуйста, больше не рассчитывайте, надоело мне писать ковыряшки, да еще скверные»[378]. Следом за этим потянулась длинная история с «Альбертом», который явился в печати через год, и тоже не имел успеха. 30 октября 1857 г. Толстой записал в дневнике: «Хочу сидеть дома и писать, Петербург сначала огорчил, а потом совсем оправил меня. Репутация моя пала или чуть скрипит, и я внутренне сильно огорчился; но теперь я спокойнее, я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно; а там что хочет говори публика. Но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда — Пусть плюет да алтарь».
О своих петербургских литературных впечатлениях Толстой пишет Боткину 1 ноября 1857 г. Здесь — целый ряд оценок, фактов и признаний, характеризующих общее настроение Толстого после поездки за границу. Об Анненкове он говорит с иронией, хотя и добродушной: «Анненков весел, здоров, все так же умен, уклончив и еще с большим жаром, чем прежде, ловит современность во всем, боясь отстать от нее. Действительно плохо ему будет, ежели он отстанет от нее. Это одно, в непогрешимость чего он верует. Дружинин так же умен, спокоен и тверд в своих убеждениях». После заграницы петербургская литературная жизнь, за один этот год сильно изменившаяся, ошеломляет Толстого: «Вообще надо вам сказать, новое направление литературы сделало то, что все наши старые знакомые и ваш покорный слуга сами не знают, что они такое, и имеют вид оплеванных. Некрасов плачет о контракте нашем, Панаев тоже, сами уж и не думают писать, сыплют золото Мельникову и Салтыкову и все тщетно... Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время (и не для России теперь, а вообще), что во всей Европе Гомера и Гёте перечитывать не будут больше. Ведь все это смешно, а ошалеешь, как вдруг весь свет вас уверяет, что небо черное, когда вы его видите голубым, и невольно подумаешь, хорошо ли сам видишь». О себе Толстой сообщает, что он «не изменил своего взгляда», и прибавляет: «Слава боту, я не послушал Тургенева, который доказывал мне, что литератор должен быть только литератор. Это было не в моей натуре. Нельзя из литературы сделать костыль, хлыстик, пожалуй, как говорил В. Скотт. Каково бы было мое положение, когда бы, как теперь, подшибли этот костыль. Наша литература, т. е. поэзия, есть если не противозаконное, то ненормальное явление (мы, помнится, спорили с вами об этом) и поэтому построить на нем всю жизнь — противозаконно. Тургенев, я думаю, с вами; поэтому вы прочтите ему это письмо»[379].
Смысл последней, несколько загадочной фразы, очевидно, тот, что «чистое искусство», как явление исключительное и непосредственно с «жизнью» не связанное, не может быть профессией, деятельностью, потому что существует только для немногих. Так понял Боткин, который отвечает: «Пусть Щедрины, Мельниковы и tutti quanti пишут свои обличительные рассказы: они нужны как пробуждение самосознания, которого в обществе еще не было, или, вернее, — оно было только в малейшем меньшинстве его. Вы говорите, что поэзия у нас — ненормальное явление: нет, она нормальна, но только для этого же меньшинства. Да и где же поэтическое произведение существует для большинства?» Далее Боткин успокаивает Толстого и объясняет ему странности «нашей журнальной беллетристики» особым положением России после Крымской войны, ужаснувшей ее «неспособностью, безурядицей и всяческим воровством». Это, конечно, не могло успокоить Толстого, презирающего политику и привыкшего решать вопросы жизни радикально, по «инстинкту», без оглядки на убеждения и на «современность». Раз почувствовав себя выброшенным из той литературы, в которой только что занял первое место, и выброшенным потому, что настало другое время, — Толстой не может ни оставаться «непоколебимым», как Дружинин, ни пребывать в величавом неподвижном ожесточении, как Тургенев, ни «ловить современность» и находиться в состоянии «туманной подвижности», как Анненков, ни успокаивать себя «причинами», как Боткин. Наступал момент, когда время требовало от Толстого решительных поступков и решительной позиции.
Отныне вопрос именно о выборе деятельности вне литературы становится для Толстого центральным.
Первым шагом к этому был отход от «Современника». Некрасов уже в середине 1857 г. начинает беспокоиться за судьбу своего журнала, видя охлаждение к нему со стороны главных сотрудников. 27 июля 1857 г. он пишет и Толстому и Тургеневу, обоим жалуясь и на бедность материала и на жалкое положение литературы вообще. Толстому он пишет: «Ни от кого из участников ничего нет — 1 -е отд. Совр. из рук вон плохо, а между тем, при 9 кн. нужно выпустить объявление о подписке на 1858 год. С какими глазами?.. Пожалуйста, выручите, а то ей-богу окончательно руки опустятся»[380]. Тургеневу он пишет подробнее: «В литературе движение самое слабое. Все новооткрытые таланты, о которых доходили до тебя слухи, сущий пуф. Эти Водовозовы и пр. едва умеют писать по-русски. Гений эпохи — Щедрин — туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин. Публика в нем видит нечто повыше Гоголя! Противно раскрывать журналы — всё доносы, на квартальных да на исправников — однообразно и бездарно!.. Я до сей поры еще не решил, что делать с "Современником". Не могу поверить, чтоб, набивая журнал каждый год повестями о взятках, можно было не огадить его для публики, а других повестей нет... Чернышевский малый дельный и полезный, но крайне односторонний, — что- то вроде если не ненависти, то презрения питает он к легкой литературе и успел в течение года наложить на журнал печать однообразия и односторонности. Бездна выходит книг, книжонок, новых журналов, спекулирующих на публику, — обо всем этом не говорится в журнале ни слова! Не думаю, чтоб это было хорошо. Ведь публика едва ли много поумнела со времен Белинского, который умел ее учить и вразумлять по поводу пустой брошюры. И много таких упущений, обмертвивших журнал. Приезжай поскорее — надо придумать общими силами. Без тебя толку не будет. Говорю это не шутя. Только ты один умеешь и можешь навести меня на разум и заставить работать»[381].
В качестве средства повысить первый отдел журнала Некрасов решил разослать главным участникам, недавно заключившим «условие» помещать свои произведения исключительно в «Современнике» (Григорович, Островский, Тургенев, Толстой), особый «циркуляр», в котором упрекает их в бездеятельности — «следствием чего было: а) бесчисленные толки в публике, неблагоприятные как для гг. участников, так и для журнала, б) охлаждение к журналу, в) бедность беллетристического отдела в журнале, сравнительно с прежними его годами, — что все вместе может привести журнал к падению и потере подписчиков, если настоящее положение дел будет продолжаться, то есть: если гг. участники соединенными силами и не теряя времени не исправят первого отдела журнала и не докажут тем публике, что недеятельность их была случайная, не угрожающая продолжаться постоянно, как теперь публика начинает думать это. В настоящее время, когда скоро необходимо будет выпускать в свет объявления об издании журнала в следующем году — время, когда публика издавна привыкла встречать в нем произведения любимых своих писателей, редакция не имеет не только ни строки ни от одного из господ участников, но даже ни одного верного и срочного обещания, на которое бы могла прочно рассчитывать. При увеличении числа журналов и мерах, принимаемых другими редакциями к обеспечению себя, ныне невозможно, несмотря на готовность редакции к большим пожертвованиям, достать что-либо хорошее у других интересующих публику писателей. Т. обр., журнал ввиду приближающейся подписки находится в самом жалком положении. При недеятельности гг. участников он будет в необходимости довольствоваться посредственными материалами и окончательно убедить публику во мнении, что он лишился возможности поддерживать свое достоинство, утвержденное за ним многими годами. Для предупреждения этого необходимы меры решительные и немедленные, и эти меры находятся в руках гг. участников. Редакции необходимы для четырех последних книжек нынешнего года и четырех первых следующего восемь произведений гг. участников, т. е. по два от каждого, и в такие сроки, чтоб эти произведения непрерывно одно за другим являлись в журнале, начиная с сентябрьской книжки. Извещая о сем, редакция покорнейше просит гг. участников: 1) Немедленно доставить то, что у них изготовлено. 2) Определить точно сроки доставления своих дальнейших произведений. Употребляя с своей стороны все возможные старания к поддержанию журнала, делая значительные и непредвиденные (при заключении условий с гг. участниками) издержки на улучшение других его отделов, редакция надеется, что и гг. участники с своей стороны позаботятся о поддержании журнала, с достоинством которого, кроме материальных выгод, связана их собственная добрая слава, как людей, печатно обязавшихся перед публикой содействовать его успеху»[382].
Положение оказалось непоправимым. Отношения между «Современником» и ближайшими его участниками стали принимать определенно-враждебный характер. Толстой, еще до получения «циркуляра», пишет Некрасову сухое письмо, в котором прямо говорит: «союз наш ни к чёрту не годится. Все, что мы с вами говорили об этом в Пет., справедливо было, а теперь явились еще две новые причины. Во-первых, то, что мне хочется печатать в другие журналы; во-вторых, то, что вы мне не присылаете расчета дивиденда, вот полтора месяца. Из всего этого я вывел решение разорвать союз»[383]. Еще до получения этого письма Некрасов, посылая Толстому «обращение редакции», пишет: «Дело не в деньгах, но в том, чтоб мне были развязаны руки, и в упрощении отношений, так как легкость взгляда некоторых участников на прежнее наше условие делала его обязательным только для ред. Современника. Этому надо было положить предел». Толстой отвечает на это так же сухо: «Что я вполне согласен на разрыв союза, вы убедитесь из моего прежнего письма». «Альберт» был последней вещью, которую Толстой напечатал в «Современнике»; с 1859 г. он становится сотрудником «Русского вестника», куда затем переходит и Тургенев, порвавший все отношения с «Современником». В письме к Фету от 1 августа 1859 г. он говорит уже о «вонючем цинизме» Некрасова и называет его «злобно зевающим барином, сидящим в грязи». Так кончилась история, начавшаяся еще в 1856 г.
з
1858-й год в жизни Толстого — год всевозможных экспериментов, опытов и проектов. А. А. Толстая пишет в воспоминаниях: «Всего вероятнее, что в то время он смотрел еще на себя как на дилетанта, сам не ожидая, что из него выйдет. Иначе как мог бы он беспрестанно увлекаться совершенно посторонними предметами?..
Проекты рождались в его голове как грибы. В каждый приезд он привозил новый план занятий и с жаром изъяснял свою радость, что, наконец, попал в настоящее дело. То был поглощен пчеловодством, то облесением всей России, то чем-либо другим...»[384] В ответ на слова Толстого в письме к Боткину — «Слава богу, я не послушай Тургенева» и т. д. — Тургенев пишет Анненкову, который сообщил ему о лесных проектах Толстого: «Удивили вы меня известием о лесных затеях Толстого! Вот человек! с отличными ногами непременно хочет ходить на голове. Он недавно писал Боткину письмо, в котором говорит: "Я очень рад, что не послушался Тургенева, не сделался только литератором". В ответ на это я у него спрашивал — что же он такое: офицер, помещик и т. д.? Оказывается, что он лесовод. Боюсь я только, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту; в его швейцарской повести уже заметна сильная кривизна»[385].
Толстой ищет деятельности, заново приглядываясь к тому, что делается в России. Рядом с хозяйственными проектами возникает, как средство бороться с политикой и спастись от нее, идея нового журнала. Сама по себе такая идея очень типична для этих лет, когда каждый новый день плодил новых литераторов и когда литература стала совсем бытовым фактом, но у Толстого мысль о журнале явилась, конечно, в связи с потребностью определить заново свою литературную позицию. Он — уже не «военный писатель», а между тем время требует, чтобы он или стал «литератором», как «Щедрины, Мельниковы и tutti quanti», или нашел бы особый путь, особое положение, которое сообщило бы его литературной работе новый смысл, а ему — новое авторское лицо. Давление исторического пресса в этот момент настолько сильно, что среднего, неопределенного положения не может быть. Безотносительный «художественный» материал, не окрашенный никаким специальным «отношением», вовсе пропадает. Принципиальным становится самый выбор «предмета», против чего протестует А. Григорьев в своем обзоре: «Не за предмет, а за отношение к предмету должен быть хвалим или порицаем художник. Предмет почти что не зависит даже от его выбора: вероятно, граф Толстой, например, более всех других был бы способен изображать великосветскую сферу жизни и выполнять наивные ожидания многих, страдающих тоскою по этим изображениям, но высшие задачи таланта влекут его не к этому делу, а к искреннейшему анализу души человеческой». Действительно, от Толстого давно уже ждут романа или повести «с любовью», а он упорно воздерживается от этого, хотя в дневнике уже не раз фигурирует план чего- то подобного. Еще недавно, в военных рассказах, и предмет и отношение к нему явились как бы сами собой — теперь положение гораздо сложнее. Изменились самые социальные функции литературы — в ее эволюции произошел скачок: вмешалась «история» со всеми своими сложными и разнообразными связями.
В начале 1858 г. Толстой еще не создает всей сложности этого нового положения. Он видит только «небывалый кавардак, поднятый вопросом эманципации», и страшный напор политики: «Политическая жизнь вдруг неожиданно обхватила всех. Как бы мало кто ни был приготовлен к этой жизни, всякий чувствует необходимость деятельности». Уже ясно Толстому и другое: «Изящной литературе, положительно, нет места теперь для публики». Но вывод из всего этого пока делается такой: «Что бы вы сказали в теперешнее время, когда политический грязный поток хочет решительно собрать в себя все и ежели не уничтожить, то загадить искусство, что бы вы сказали о людях, которые бы, веря в самостоятельность и вечность искусства, собрались бы и делом (т. е. самим искусством в слове) и словом (критикой) доказывали бы эту истину и спасали бы вечное, независимое от случайного, одностороннего и захватывающего политического влияния? Людьми этими не можем ли быть мы? Т. е. Тургенев, вы, Фет, я и все, кто разделяют нас и будут разделять наши убеждения. Средство к этому, разумеется, журнал, сборник, что хотите. Все, что является и явится чисто художественного, должно быть притянуто в этот журнал. Все русское и иностранное являющееся художественное должно быть обсужено. Цель журнала одна: художественное наслаждение, плакать и смеяться. Журнал ничего не доказывает, ничего не знает. Одно его мерило — образованный вкус. Журнал знать не хочет ни того, ни другого направленья и потому, очевидно, еще меньше хочет знать потребностей публики. Он не подделывается под вкус публики, а смело становится учителем публики в деле вкуса, но только вкуса»[386]. Боткину Толстой предлагает стать редактором этого журнала.
Этот проект подготовлен «Альбертом» и «Люцерном»; организация такого журнала представляется Толстому настоящей «деятельностью», направленной против «политики». Это для него — дело, требуемое «законами нравственными» и «законами искусства». Боткин и Тургенев, однако, оказались не столь решительными и храбрыми. 6 января 1858 г. Боткин пишет Фету: «Да неужели вы с Толстым не шутя затеваете журнал? Я не советую, — во-первых, в настоящее время русской публике не до изящной литературы, а во-вторых, журнал есть великая обуза — и ни он, ни ты не в состоянии тащить ее. Я думаю впрочем, что вы уже оставили эту мысль. Пусть окончит Толстой свой роман[387]: он подействует на вкус публики лучше десятка всяческих журналов. Поверьте, высшая красота и поэзия всегда достояние самого малого меньшинства, и стихи гр. Растопчиной гораздо понятнее для массы читателей, нежели стихи Тютчева или Пушкина. Там всегда было, так и будет, и с этим надо примириться»[388]. Несколько позже Тургенев написал Толстому в том же духе: «Боткин показал мне ваше письмо, где вы с таким жаром говорите о намерении основать чисто-художественный журнал в Москве. Политическая возня вам противна; точно, дело грязное, пыльное, пошлое; — да ведь и на улицах грязь и пыль, а без городов нельзя же»[389].
Журнал так и не состоялся, а Толстой, спасаясь от политики в занятиях хозяйством, пробует писать «чисто-художественные» вещи. В том же письме к Боткину (4 января 1858 г.), где развит проект журнала, Толстой посылает ему маленькую вещь, по поводу которой сообщает: «Изящной литературе, положительно, нет места теперь для публики. Но не думайте, чтобы это мешало мне любить ее теперь больше, чем когда-нибудь. — Я устал от толков, споров, речей и т. д. В доказательство того при сем препровождаю следующую штуку, о которой желаю знать ваше мнение. Я имел дерзость считать это отдельным и конченным произведением, хотя и не имею дерзости печатать». В дневнике он называет эту вещь «Николенькин сон», в письмах к А. А. Толстой — просто «Сон». Толстой серьезно увлечен этим лирическим наброском; в дневнике 31 декабря 1857 г. о нем записано: «Никто не согласен, а я знаю, что хорошо». Стилистически этот набросок восходит к «Альберту», над которым Толстой еще продолжает работать, и именно к финальной части повести Альберту кажется, что он в огромной зале стоит на возвышении: «Несмотря на то что в зале никого не было, Альберт выпрямил грудь и, гордо подняв голову, стоял на возвышении так, чтобы все могли его видеть. Вдруг чья-то рука слегка дотронулась до его плеча; он обернулся и в полусвете увидал женщину. Она печально смотрела на него и отрицательно покачала головой. Он тотчас же понял, что то, что он делал, было дурно, и ему стало стыдно за себя... Она взяла его за руки и повела вон из залы». Можно даже думать, что этот финал «Альберта» представляет собой один из вариантов «Она» и явился позже, чем редакция, посланная Боткину. Здесь, помимо стиля, — те же основные элементы: «Звук моего голоса был прекрасен... Я один стоял на колеблющемся возвышении... Восторг, горевший во мне, давал мне власть над безумной толпой, власть эта, казалось мне, не имела пределов... Вдруг я почувствовал сзади себя чужое счастье и принужден был оглянуться. Это была женщина. Без мыслей, без движений, я остановился и смотрел на нее. Мне стало стыдно за то, что я делал». Позже, в 1863 г., Толстой опять хотел напечатать «Сон» как отдельную вещь и послал ее И. С. Аксакову от имени некой Натальи Петровны Охотницкой, приятельницы Т. А. Ергольской; Аксаков ответил Охотницкой, не подозревая, что на самом деле он отвечает Толстому: «Статейка ваша "Сон" не может быть помещена в моей газете. Этот "Сон" слишком загадочен для публики, его содержание слишком неопределенно, и может быть вполне понятен только самому автору. Для первого литературного опыта слог, по моему мнению, недурен, но сила вся не в слоге, а в содержании»[390].
Вещь эта могла бы, вероятно, быть интерпретирована в чистобиографическом или психологическом плане — как своеобразное «прозрение» в свою собственную судьбу, о которой в это время напряженно думает Толстой. Он видит себя на возвышении, окруженный толпой, которая, затаив дыхание, слушает его, а возвышение, колеблясь, поднимается все выше и выше. И вот вдруг он видит женщину, которая медленно движется посередине толпы, не соединяясь с нею, и смотрит на него с кроткой насмешкой и любовным сожалением: «Она не понимала того, что я говорил; но не жалела о том, а жалела обо мне... Ей никого не нужно было, и от этого-то я чувствовал, что не могу жить без нее... С ее появлением исчезли и мысли, и толпа, и восторги; но и она не осталась со мною. Осталось одно жгучее безжалостное воспоминание». Так, стремясь уйти от «политики», Толстой углубляется в проблему собственной судьбы. Мысли об искусстве и гениальности («Альберт») приводят к опоэтизированию самого себя.
«Альберт» и «Сон» — произведения, выпадающие из литературы. У всякого, внимательно следящего за Толстым, должна была бы явиться мысль, что литературное поприще Толстого кончено (как она явилась, вероятно, у Некрасова) — если бы не было «Люцерна», который, при всей его «кривизне», свидетельствует о жизнеспособности Толстого — о том, что он не может замкнуться в пределы «эстетики», как это вышло впоследствии с Боткиным. Год, целиком посвященный борьбе за «законы искусства» и провозглашению его высокого смысла, кончился «Сном» — пора отойти к «законам нравственным», к «догматическому» роду, к «дидактике». В середине января 1858 г. Толстой начинает писать «Три смерти».
Путь к этой вещи намечен «Двумя гусарами»: жанр уточнен до пределов притчи, для чего взят и соответствующий «предмет». Возвращен тот самый голос автора («отношение к предмету»), на основе которого построены были и второй Севастопольский очерк и «Два гусара»; заново использована и конструкция наложения — использована именно с тем, чтобы тенденция, в «Двух гусарах» тщательно замаскированная, выступила здесь на первый план не как прибавочная оценка читателя, а как основной элемент конструкции, как «тема», как «мысль».
Судя по дневникам, Толстой колебался, кончать ли эту вещь смертью дерева или ограничиться сопоставлением смерти барыни и мужика. Дерево, в конце концов, осталось — не как третья параллель, а как способ скрещения двух других. В «Двух гусарах» линии оставлены разомкнутыми — их соотношение намечено пунктиром (мотивировка родством); здесь соотношение более сложное. Первая глава начинается словами: «Была осень»; остановка кареты с барыней у станции вводит в рассказ вторую линию — смерть мужика. Третья глава начинается словами: «Пришла весна»; вся она занята описанием смерти барыни, получающим особыйчсмысл (как это было и в «Двух гусарах») на фоне предыдущего. Последняя глава смыкает эти две линии. Получается то, что нужно Толстому — вещь с «мыслью», которую он сам излагаете письме к А. А. Толстой (1 мая 1858 г.): «Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево.— Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить? В обещания будущего христианства она верит воображением и умом, а все существо ее становится на дыбы, и другого успокоенья (кроме ложно-христианского) нету, — а место занято. Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно, именно потому что он не християнин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза. "Une brute", вы говорите, да чем же дурно une brute? Une brute есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни. Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво — потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет. — Вот моя мысль, с которой вы, разумеется, не согласны, но которую оспаривать нельзя, — это есть и в моей душе и в вашей»[391]. Особенно характерно последнее заявление, утверждающее «мысль» не как убеждение, а как абсолютный закон, который нельзя «оспаривать».
После «Сна» и окончательной отделки «Альберта» Толстой опять занялся «Казаками». В его работе, идущей одновременно по разным линиям, иногда и по материалу и по жанру очень разным, все время образуются остатки — начала и куски вещей, отложенных по тем или другим причинам в сторону. Некоторые из этих вещей так и погибли, оставшись необработанными (как «Отъезжее поле»); иные послужили материалом для последующих вещей и нашли себе там приют; иные, наконец, застрявшие на неподвижной точке и опереженные другими, вновь возникшими, явились в печати в виде куска, фрагмента: так вышло с «Утром помещика» («Роман русского помещика»), так отчасти получилось с «Казаками». Характерно это потому, что Толстой с самого начала работает вне чисто беллетристических жанров, собирая материал и складывая его мозаикой, без фабулы, без «героя». Концы его вещей выглядят поэтому часто не концом, а остановкой. Многие вещи Толстого могли бы кончаться иначе, могли бы еще продолжаться (как «Семейное счастье», как «Война и мир»), могли бы, наконец, кончиться раньше (как «Анна Каренина»). Вплоть до «народных рассказов» Толстой двигается путем смешения и обхода твердых жанров. При этом ни одна из малых вещей Толстого не представляет собой замкнутой беллетристической формы, за исключением, пожалуй, рассказа «Три смерти» — каждая может либо разрастись, либо войти в состав большой формы. Все эти малые вещи проходят на фоне задуманных или начатых больших. Вещи Толстого естественно стремятся не то что к циклизации, а к слиянию, к поглощению. Каждая его большая вещь представляет собою не начало, а скорее завершение предыдущих, получающих смысл этюдов: так, «Война и мир» поглотила в себе Севастопольские рассказы и «Семейное счастие»; «Анна Каренина», по крайней мере в линии Левина, развернула то же «Семейное счастие» и поглотила начатый «Роман русского помещика»; «Власть тьмы» явилась завершением всей линии «народных рассказов»; «Воскресение» было художественным итогом религиозно-философских и публицистических статей.
Ранняя история «Казаков» освещена мною в первой части. Выделившись из общего замысла «Очерков Кавказа», вещь эта должна была, по-видимому, сохранить характер этнографической хроники, содержащей в себе рассказы Епишки, описание жизни и нравов казаков и т. д. Прерванная в самом начале, работа эта лежала до 1856-1857 гг., когда «Охота на Кавказе», перечитанная Толстым и отданная в «Современник», возбудила желание вернуться к этому материалу и по-своему использовать его. Толстой хочет придать теперь этой вещи характер эпической «поэмы», трактуя основные персонажи как «легендарные характеры», пробуя писать метрической прозой, ассоциируя свою вещь с «Цыганами» Пушкина, ставя себе образцом «Илиаду». В связи с этим идет разработка фабульных положений, обду- мывается финал («Эврика/для казаков — убили обоих»), выбирается «мысль». В этот период в центре, очевидно, должна была стоять уже Марьяна, а «убить обоих» относилось к Лукашке и Оленину. Интересно, что к этому же времени в дневнике пропадает название «Беглец», которое прежде двоилось с названием «Казак». План, очевидно, изменился, заново определился состав персонажей, их отношения и судьба. Нельзя не заметить своеобразной связи с «Цыганами» в том, что фабульной основой вещи, приводящей к какому-то общему выводу (вроде — «И всюду страсти роковые»), сделались отношения трех лиц — Марьяны, Лукашки и Оленина, роли которых аналогичны пушкинским — Земфиры, цыгана и Алеко. При этом сопоставлении Брошка выглядит необходимым четвертым персонажем — вывернутым наизнанку, как бы спародированным «старым цыганом»[392].
Работа, однако, оказалась трудной — и Толстой опять прерывает ее до марта 1858 г. Новое увлечение связано, по-видимому, с общей тенденцией этого момента — уйти от «политической жизни» в «мир искусства», работать над вещью, никак с современностью не связанной, погрузиться в чисто-художественный» материал. На этом особенно настаивают и друзья Толстого — Фет, Боткин. Отталкивание от политики и от злободневности подтверждается не только письмами этого времени, о которых была речь выше, но и одной характерной записью в дневнике (21 марта 1858 г.): «Я весь увлекся Казаками. Политическое исключает художественное, ибо первое, чтобы доказать, должно быть односторонне». Фабула опять обдумывается и переделывается. Особенно затрудняет Толстого (что и характерно) финал: «уяснил себе конец романа. Оф[ицер] должен разлюбить ее» (14 апреля). Судя еще по тому, что важным моментом в фабуле должно было быть «бегство в горы» (13 апреля — «Заколодило на бегстве в горы»), надо думать, что вместо «убили обоих» в этой редакции Лукашка бросает Марьяну, а Оленин женится и разочаровывается. Как бы то ни было, характерно именно то, что при устойчивом и значительном материале отдельных сцен и характеров фабула «Казаков» претерпевает самые резкие изменения и повороты. 29 апреля Толстой перечитывает свой кавказский дневник и записывает 30-го: «Напрасно я воображал, что я такой милый там мальчик. Напротив, а все-таки как прошедшее очень хорошо. Много напомнило для кавказского романа. В романе дошел до второй части, но так запутанно, что надо начинать все сначала или писать вторую часть». Работа опять замедлилась и остановилась— вплоть до 1860 г.
Неудача с «Альбертом», неудача со «Сном», неудача с «Казаками». Мысль о журнале оставлена. Толстой уезжает в деревню и погружается в хозяйственные дела. Еще в письме к Боткину от 4 января 1858 г. Толстой, осуждая и отрицая политическую деятельность, пишет: «Хотят звезды или славы, а выходит государственная польза, а государственная польза выходит зло для всего человечества. А хотят государственной пользы, выходит кому-нибудь звезда, и на ней останавливается. Glaubst du schieben und wirst geschoben. Вот что обидно в этой деятельности. И коли понял этот закон, хорошенько всем существом понял, то такая деятельность уже становится невозможной. То ли дело срубить лес, построить дом и т. д.». К этой деятельности и обращается Толстой, отвернувшись от журналов и от того, что называется «литературой». 12 декабря 1858 г. в дневнике записано: «Литература, которую я вчера понюхал у Фета, мне противна, т. е. я думаю, что, начав литературное поприще при самых лестных условиях общей 2 года одержанной похвалы и почти первого места, без этих условий я не хочу знать литературу, т. е. внешней, и слава богу. Надо писать тихо, спокойно, без цели печатать».
Итак, Толстой выбыл из литературы — по крайней мере «внешней». Правда, окончательное и мотивированное решение явилось несколько позже, но первый шаг уже сделан: прервана связь с «Современником» и центр деятельности переносится в деревню. Это — первый толстовский «кризис», имеющий, как и последующие, вовсе не исключительно-индивидуальный, психологический смысл, а гораздо более глубокий — исторический. Это был кризис эпохи — переход к шестидесятым годам: кризис социальный, поставивший всех перед рядом новых фактов и проблем. Еще недавно Толстой думал о «чисто-художественном» журнале, прошло два-три месяца — мысли этой как не бывало. Он, хотя и с тяжелым чувством от неудач и одиночества, бросает город и литературу и принимается за помещичьи дела. Скоро его примеру последует и Фет, убедившись, как он сам пишет, «в невозможности находить материальную опору в литературной деятельности».
Здесь очень удачно употреблено слово «опора». Писатель не профессионального типа, не слившийся с журналом, каковы Толстой или Фет, должен в этот момент искать себе опору вне литературы. Это — давление времени, заставляющее кристаллизоваться и принять определенные социальные и экономические формы то, что до сих пор было зыбко. Популярное прежде представление о писателе как о «свободном художнике», «артисте» окончательно исчезает: литература превратилась в «прессу», «писатель» как бы поступил на службу к читателю. Н. Шелгунов говорит о начале шестидесятых годов: «Отношения между читателем и писателем установились теперь вполне практические, осязательные, так сказать, земные, утилитарные». Толстой разумеет именно это, когда пишет Боткину, что он — «не писатель». Опорой для Толстого и Фета, игнорирующих новое положение писателя и литературы и ищущих независимости, служит возвращение в свой «класс», в свое хозяйство». Самое объединение Толстого с Фетом — факт не случайный: это — своего рода «классовое» объединение, за которым стоит целый ряд исторических условий. Должны пройти годы, прежде чем Толстой найдет для себя новый выход, тоже исторически-характерный, — и на педагогическом журнале «Ясная Поляна» появится эпиграфом то же изречение Гёте: «Glaubst du schieben und wirst geschoben». Сила Толстого — в том, что он умеет сознавать этот закон истории.
Литература — та самая «внешняя», с которой порвал Толстой — переживала кризис, и не тот, о котором в любой момент любят говорить критики, пользуясь любым случаем, а действительный, свидетельствующий о серьезном переломе в самом положении литературы: кризис самого «делалитературы». В то самое время, как Толстой уехал в Ясную Поляну, И. Панаев пишет М. Лонгинову (2 май 1858 г.): «В самом деле, никогда русская литература не была еще в таком плачевном состоянии, как теперь: Тургенев не пишет, потому что в год произвести Асю не значит писать, заниматься делом, литературою серьезно, Толстой — судя по его последнему творению, пошел в драконы, как говорит Гофман про какого-то штатс-рата. Григорович истощился, Островский по крайней мере ослабел. Щедрин весь высказался. Писемский вдался в рутину и так далее... Что ж тут делать?.. А новых талантов нет. Вот тут и занимайся искусством для искусства!»[393]
В журналах появляются статьи, специально посвященные вопросу о новом положении литературы и писателя. Такова, например, статья Н. Ахшарумова «О порабощении искусства», напечатанная в «Отечественных записках» (1858. № 7) с характерным примечанием редакции: «Хотя мы и несогласны с некоторыми выводами этой статьи, тем более, что в ней много как бы недосказанного, однако ж помещаем ее в журнале, полагая, что, проникнутая горячим, честным убеждением, она может вызвать на небесплодное размышление о вопросе весьма важном в настоящее время для нашей литературы». Статья Ахшарумова — не столько протест, сколько констатирование неблагополучия в литературе. Главная ее ирония направлена против так называемой реальной школы, т. е. школы, идущей от Гоголя. По мнению Ахшарумова, для русской литературы наступили «черные дни»: «В такие дни порабощение искусства становится горькою необходимостью и свидетельствует об упадке народного духа, о нервическом его раздражении. Общество как больной, у которого в мыслях постоянно вертится одно: опасность и тягость его настоящего положения не может говорить двух минут о чем-нибудь постороннем и, само того не замечая, сворачивает постоянно свой разговор на болезнь... В больной литературе озлобленная сатира является тогда на сцену с одной стороны, а с другой — возникают в большом числе идиллические очерки быта здоровых детей не так, как он есть сам по себе, а так, как его понимает больной старик, завидующий ребенку. Наконец, одним из любимых развлечений больного общества становятся печатные выходки разных эмпириков и шарлатанов, которые громко кричат на разные голоса, каждый о своем особом, вернейшем и единственном средстве вылечить его от болезни в самое короткое время». Однако Ахшарумов признает, что «увядание» искусства не есть признак смерти для самого народа: «Как ни печально увядание искусства в народе и как ни обидны для современников несомненные признаки его в данную минуту, но все это не дает им права делать какие-нибудь мрачные и безвыходные пророчества насчет будущей участи целого народа, который редко бывает болен весь, а обыкновенно хилеет и отживает в лице самой малочисленной доли своей — в лице так называемых образованных классов общества».
О том же и приблизительно в том же духе говорит Б. Алмазов в своем «Взгляде на русскую литературу в 1858 г.», особенно настаивая на том, что упадок литературы вовсе не свидетельствует об упадке общества. Интересна самая характеристика того положения, в котором находится русская литература: «Направление современной нашей литературы заключается в самом живом и горячем сочувствии к общественным вопросам и равнодушии к вопросам чисто-литературным и ученым. Это направление, начавшее так заметно овладевать нашей литературой три года тому назад и совершенно господствующее в ней теперь, уже давно подготовлялось. Еще в начале пятидесятых годов показались в литературе яркие признаки теперешнего ее направления; но то были признаки отрицательные. Ибо что иное, как не признаки скорого литературного переворота, представляла деятельность первой половины текущего десятилетия? Молчание большей части писателей; скудная производительность и какая-то неохота к деятельности остальных; редкое появление новых деятелей; бесцветность критики; словом, почти всеобщая апатия — вот характеристические черты тогдашней литературы». Далее Алмазов подробно говорит о том, что самое понятие «литературы» в разные эпохи бывает разным: «Бывают в ней периоды, когда господствует одно поэтическое и художественное направление, вытесняя всякое другое. Бывает и наоборот, — что дух утилитаризма завладевает литературой, проникает все сферы ее деятельности и подчиняет себе даже и поэтические произведения. То и другое направление — крайности и, разумеется, всякий бы желал, чтобы в литературе в одно время и процветала поэзия и разрешались общественные вопросы. Но такиеpia desideria не очень часто исполняются...»
Прошло десять лет со времени горячих споров вокруг вопроса о «художестве» и «беллетристике». Теперь понятие «литературы» стало еще шире, так что потребовался новый термин для захвата той полубеллетристической «обличительной» литературы очерков и фельетонов, которыми стали заполняться отделы «словесности» в журналах. Такой термин появился несколько позже — вместе с подведением итогов всему процессу перегруппировки и перераспределения литературных понятий.
Во «Внутреннем обозрении» Г. Елисеева («Современник». 1864. № 3) говорится о «двух литературах», из которых одна — «литература высших умственных потребностей и наслаждений», другая — «обыденная литература», «литература ежедневных текущих общественных явлений, нужд, вопросов... Литературу обыденную ошибочно представляют в форме только публицистики. Напротив, она действует всеми родами и всеми формами словесного искусства — и прозой, и холодным рассуждением, и красноречивым убеждением, и патетическим увещанием, и историческим повествованием, и описанием, и беллетристикой, и сатирой, и насмешкой, одним словом — всем». В этом же «обозрении» подробно говорится и о той перемене, которая произошла в понятии «литератор» и в самом социальном составе писательского круга. «Точно будто прорвалась какая плотина, — и нахлынувший через нее бурный поток унес с собою не только тень оставшейся у них [у прежних литературных деятелей] прежней господственности и авторитетности в литературе и науке, но и сокрушил все составленные ими понятия о литературной деятельности, которые они считали непреложными и священными. В звании литераторов и писателей явились люди не только без ученых степеней, без дипломов, без аттестатов, не писавшие прежде ни одной строки, но даже таких профессий, которые не имели ничего общего ни с литературою, ни с наукою: откупщики, конторщики, бухгалтеры, столоначальники, офицеры, помещики, студенты, семинаристы, мещане, крестьяне — просто ужас! Столпотворение вавилонское! О дисциплине какой бы то ни было нечего было и думать. Все это не хотело знать никакой дисциплины. Говорило не о материях важных, как было доселе, а бог знает о чем, — о чем прежде и говорить вовсе считалось неприемлемым; говорило, не обращая никакого внимания ни на благопристойность языка, ни на красоту его; уважения к литературным авторитетам, печатно известным с незапамятных времен, не оказывало никакого. И между тем все это читалось и слушалось со вниманием, какого и сотой доли не удостоивались прежде ученые и поэтические произведения. Число подписчиков на газеты и журналы увеличилось вдруг втрое, вчетверо против прежнего в самое короткое время. Что было делать литературным деятелям прежнего времени с этою толпою непризнанных? Игнорировать ее? Но это было невозможно. Игнорировать такую толпу значило отречься от всякого своего дальнейшего значения. Отрицать ее способности к литературному служению потому, что она не имеет аттестатов, дипломов и т. п., как отрицаема была способность быть критиком в Белинском? Но если подобные клики не могли помешать успеху одинокого Белинского, то что они могли значить для толпы, завладевшей всей литературой и торжествовавшей свою победу?.. Сделаться руководителем толпы, стать во главе ее? Об этом нечего было и думать. Разнохарактерная и разносоставная толпа, выражавшая в различных частях своих разнородные стремления целой России, почти в одном только и сходилась, что не жаловала прежней учености и прежних литературных деятелей. Оставалось, значит, одно — смешаться с толпою и действовать здесь в качестве обыкновенных рядовых, на одинаковом положении и правах с откупщиками, конторщиками, бухгалтерами, городничими, семинаристами, недоучившимися студентами и tutti quanti. Это был жестокий удар, какого никогда не испытывали доселе мои бедные Честертоны, воспитанные в традициях и воззрениях на литературу совсем другого рода... Все, что мы говорили о литературе обыденной, мы говорили, однако же, вовсе не с тою целию, чтобы выхвалять составляющий ее и действующий в ней в настоящее время персонал. Лица, бывшие и действовавшие в ней с самого начала, лица, действующие в ней теперь, — явления случайные; они явились на поприще действия, повинуясь духу времени и требованиям жизни. Важно само дело — совершившийся факт появления литературы обыденной, литературы всего общества, высвобождения литературного слова из рук касты».
Те вопросы, которые Елисеев ставит от лица «литературных деятелей прежнего времени», стояли, действительно, пред каждым из них. Игнорировать? Отрицать? Сделаться руководителями? Случилось то, чего боялся Дружинин еще в 1855 г., когда писал Боткину. «Эти юноши... наделают глупостей, повредят литературе и, желая поучать общество, нагонят на нас гонение и заставят нас лишиться того уголка на солнце, который мы добыли себе потом и кровью».
Толстой выбирает сначала первое — «игнорировать», но игнорировать всю вообще «внешнюю» литературу, т. е. бросить литературную деятельность и, отступив на старые позиции хозяйственной деятельности, писать «без цели печатать». Свою литературную позицию Толстой выразил в речи, сказанной им 4 февраля 1859 г. в заседании Общества любителей российской словесности, членом которого он был выбран. Толстой назвал себя «односторонним любителем изящной словесности», а по поводу злободневного вопроса об обличительной литературе сказал, повторяя мысль Боткина: «Увлечение это было благородно, необходимо и даже временно справедливо. Для того чтобы иметь силы сделать те огромные шаги вперед, которые сделало наше общество в последнее время, оно должно было быть односторонним... Но как ни благородно и ни благотворно было это одностороннее увлечение, оно не может продолжаться, как и всякое увлечение. Литература народа есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отражаться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития... Как ни велико значение политической литературы, отражающей в себе временные интересы общества, как ни необходима она для народного развития, есть другая литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные создания народа, литература, доступная человеку всякого народа и всякого времени, и литература, без которой не развивался ни один народ, имеющий силу и сочность»[394].
Чтобы понять это выступление Толстого, надо принять во внимание не только переписку Толстого с Боткиным 1857-1858 гг. и историю работы над «Альбертом», но и то, что основной партией Общества любителей российской словесности были тогда славянофилы, настроенные общественно и, конечно, не сочувствовавшие тенденциям Толстого, нарочно резко, почти полемично подчеркнутым в этой речи. Ответная речь А. С. Хомякова, тогдашнего председателя Общества, была ответом славянофилов, старавшихся, по-видимому, привлечь Толстого к себе. В ответ на толстовское противопоставление «временного» и «вечного» Хомяков утверждает, что «случайное и временное в историческом ходе народной жизни получает значение всеобщего, всечеловеческого», что «в словесности вечное и художественное постоянно принимает в себя временное и преходящее»; в пример он приводит Толстому — его самого: «Вы идете верно и неуклонно по сознанному и определенному пути; но неужели вы вполне чужды тому направлению, которое назвали обличительною словесностью? Неужели хоть бы в картине чахоточного ямщика, умирающего на печке в толпе товарищей, по-видимому, равнодушных к его страданиям, вы не обличили какой-нибудь общественной болезни, какого-нибудь порока? Описывая эту смерть, неужели вы не страдали от этой мозолистой бесчувственности добрых, но непробужденныхдуш человеческих? Да, — и вы были и вы будете невольно обличителем». Хомяков недаром взял для примера «Три смерти». Эта вещь, на фоне тогдашней «простонародной» и обличительной литературы, выглядела одновременно и как примыкающая к ней и как ей противопоставляемая. Житейские отношения, составляющие обычный предмет обличительных повестей, отброшены — барыня и мужик взяты в категориях не социальных, а моральных, что и типично для Толстого. Вместо журнального очерка, упирающегося в вопрос об изменении политических и социальных условий, Толстой пишет притчу: берет евангельский жанр[395] и влагает в него «языческий» смысл. Эта вещь первоначально и должна была, по-видимому, называться «Дерево». Чичерин и Корш, которым Толстой читал ее в рукописи, нашли, что она должна быть «погрубее», т. е. ближе к «действительности», к реальным вопросам; Толстой, записав в дневник это их пожелание, решает — «Вздор».
Хомяков понял связь этой вещи Толстого с «обличительной» литературой, но не понял, что связь эта — полемическая. Полемичен не только ее смысл, но и самый жанр, как всегда у Толстого. Характерно, что о дереве Хомяков не упоминает, а говорит только о смерти ямщика, в которой видит изображение «мозолистой бесчувственности добрых, но непробужденных душ человеческих». Между тем для Толстого самое важное — смерть дерева, потому что оно умирает не только «спокойно», как мужик, но еще при этом — «честно и красиво», «не лжет, не ломается, не боится, не жалеет». Жанрам современным противопоставлен жанр архаический — не тенденциозный, а нравоучительный, басенный; «временным интересам» противопоставлены «вечные, общечеловеческие интересы». Как в «Двух гусарах» Толстому было важно, для переключения злободневности в высокий «общечеловеческий» план, написать эти слова — «много людей умерло, много родилось, много выросло и состарилось, еще более родилось и умерло мыслей», так в «Трех смертях» переключение это сделано самым жанром и раскрыто в письме к А. А. Толстой: «Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон».
«Три смерти» — зародыш новой линии, которая выступит на первый плаи и отодвинет остальные позже, в восьмидесятых годах. Толстой вернется тогда к этому жанру сознательно и твердо в борьбе с литературой «народников» — по обычному своему методу: примыкая и противопоставляя, используя и полемизируя, отрицая и утверждая, переключая «современное» в категорию «вечности», социальное — в моральное, очерк — в притчу, наконец драму — в мистерию («Власть тьмы»).
4
Пока Толстому еще неясно его будущее — он на распутье. Наступают решительные годы, определяющие его дальнейшую судьбу и работу, 1859-1862: разрыв с литературой, поездка за границу, организация школы в деревне. Начало 1859 г. — это промежуток, когда решения еще не приняты, а старое положение уже исчерпано. После «Альберта» и «Люцерна» надо или написать что-то новое, большое, значительное, или отойти от литературы. «Казачий роман» затянулся, потерял свежесть; его нужно превратить в «эпос», а для этого нужно другое положение, нужны какие-то другие условия работы, которых у Толстого еще нет. В этом промежутке, как попытка заполнить его, возникает почти внезапно и торопливо повесть «Семейное счастье».
Уже давно критики, обсуждая творчество Толстого, удивлялись, что он обходит тему любви и не дает женских фигур. Во второй половине пятидесятых годов вопрос о женщине стал выдвигаться рядом с другими общественными вопросами и приобрел характерную социальную окраску — как вопрос не столько о любви, сколько о браке, о семье, о правах женщины и т. д. На этот «социальный» заказ эпохи Тургенев стал отвечать своими повестями, модернизуя старую светскую повесть материалом злободневных общественных проблем. Но, оставаясь, по существу, на почве литературных традиций тридцатых годов, Тургенев обходит основные темы и вопросы — вопросы брака, семьи, отношений мужа и жены: его девушки никак не могут выйти замуж. Толстого эти повести раздражают; 19 января 1858 г. в дневнике записано: «Ася дрянь». Не менее раздражительно должно было на него подействовать «Дворянское гнездо», о котором он знал уже в конце 1858 г. С другой стороны, вопрос о браке и семейной жизни для Толстого не только злободневен вообще, но совершенно личен: мечта о «семейном счастье» преследует его уже давно — как что-то очень для него важное, как то, без чего он не может ни жить, ни работать. И для него это именно вопрос не о «любви» только, а о чем-то гораздо ббльшем. Как и во многом другом, личная жизнь Толстого совпадает здесь с жизнью эпохи — и тем острее, чем сложнее его отношение к современности, его борьба с ней на ее же территории.
Еще до отъезда за границу Толстой, после целого ряда других попыток «влюбиться», стал ухаживать за своей соседкой по имению В. Арсеньевой. Его письма к ней показывают, что на первом плане для него стоит вопрос не о любви (он, как видно по дневникам, то «влюблен», то совсем холоден), а о другом: «так случилось, что Храповицкий и Дембицкая[396] как будто бы любят друг друга (я, может быть, лгу перед самим собою, но опять в эту минуту я вас страшно люблю). Итак, эти люди с противоположными наклонностями будто бы полюбили друг друга. Как же им надо устроиться, чтобы жить вместе?» И далее следует подробный проспект будущей семейной жизни — вплоть до денежных расчетов, соображений относительно количества комнат в квартире и этажа (4 комнаты в пятом этаже), гостей, занятий и пр. и пр. Зиму (5 месяцев) можно проводить — один год за границей (чтобы не отставать от века), другой в Петербурге, а остальное время жить в деревне: «Я бы готов был всю свою жизнь жить в деревне. У меня бы было три занятия: любовь к Д. и заботы о ее счастии, литература и хозяйство, так, как я его понимаю, т. е. исполнение долга в отношении людей, вверенных мне». Внешняя картина семейной жизни дополняется внутренней: «Г-н Храп, будет исполнять давнишнее свое намерение, в котором г-жа Храп., наверно, поддержит его, — сделать, сколько возможно, своих крестьян счастливыми, — будет писать, будет читать и учиться, и учить г-жу Храп., и называть ее "пупунькой". Г-жа Храп, будет заниматься музыкой, чтением и, разделяя планы г-на X., будет помогать ему в его главном деле. Я воображаю ее в виде маленького Провидения для крестьян, как она в каком-нибудь попелиновом платье, с своей черной головкой, будет ходить к ним в избы и каждый день ворочаться с сознанием, что она сделала доброе дело, и просыпаться ночью с довольством собой и желанием, чтобы поскорее рассвело, чтобы опять жить и делать добро, за которое все больше и больше, до бесконечности, будет обожать ее г-н Храповицкий. А потом снова они поедут в город, снова поведут умеренную, довольно трудную жизнь с лишениями и сожалениями, но зато с сознанием того, что они хорошие и честные люди, что они изо всех сил любят друг друга, и с добрыми друзьями, которые их будут сильно любить обоих, и каждый со своим занятием. Может быть, им случится когда-нибудь в извозчичьей старой карете, возвращаясь от какого-нибудь скромного приятеля, проехать мимо освещенного дома, в котором бал и слышен оркестр Штрауса, играющий удивительные вальсы. Может быть, г-жа Храп, при этом глубоко вздохнет и задумается, но уж она должна привыкнуть к мысли, что этого удовольствия никогда уж ей не испытывать. Зато г-жа Храп, может быть твердо уверена, что редкий, редкий, а может быть ни один из всех, кому она завидует на этом бале, ни один никогда не испытывал ее наслаждений спокойной любви, дружбы, прелести семейной жизни, дружеского кружка милых людей, поэзии, музыки и главного наслаждения — сознания того, что недаром живешь на свете, делаешь добро и ни в чем не имеешь упрекнуть себя. У каждого свои наслаждения, которые даны человеку, — наслаждения добра, которое делаешь, чистой любви и поэзии, Tart. Но, избрав раз эту дорогу, надо, чтобы Храп, твердо верили, что это — лучшая дорога и что по другой им не нужно ходить, чтобы они поддерживали один другого, останавливали, указывали бы друг другу овраги и с помощью религии, которая указывает на ту же дорогу, никогда бы не сбивались с нее. Потому что малейший faux pas разрушает все и уже не поймаешь потерянного счастия. A faux pas этих много: кокетство, вследствие его недоверие, ревность, злоба, и ревность без причины, и фютильность, уничтожающая любовь и доверие, и скрытность, вселяющая подозрение, и праздность, от которой надоедают друг другу, и вспыльчивость, от которой говорят друг другу вещи, порождающие вечных мальчиков, и неаккуратность, и непоследовательность в планах, и, главное, нерасчетливость, тароватость, от которой путаются дела, расположение духа портится, планы разрушаются, спокойствие пропадает, рождается отвращение друг к другу — и прощай!»
«Любовь» для Толстого (а тем более — «влюбленность») — это только какое-то временное и неустойчивое состояние, какая-то стадия, приводящая к семейной жизни, но далеко не разрешающая ее проблемы. Семейное счастие устраивается не любовью, а «правилами», которые всегда у Толстого в запасе. В письме к Ар- сеньевой он возвращается к тому «франклинову журналу», которым пользовался в ранних дневниках. Вместе со своим веком, хотя и по-своему, он имеет тенденцию снизить, упростить самое понятие «любви», совлечь с нее всякую романтику, раскрыть механизм ее зарождения и развития. Это видно уже по цитированному письму к В. Арсеньевой, но с особенной ясностью тенденция эта выступает в письме к А. А. Толстой (18 августа 1857 г.), где развернута целая теория любви: «В Дрездене еще совершенно неожиданно встретил К. Львову. Я был в наилучшем настроении духа для того, чтобы влюбиться: проигрался, был недоволен собой, совершенно празден (по моей теории любовь состоит в желании забыться, и поэтому так же, как сон, чаще находит на человека, когда недоволен собой или несчастлив). К. Львова — красивая, умная, честная и милая натура; я изо всех сил желал влюбиться, виделся с ней много, и никакого... Что это, ради бога? Что я за урод такой? Видно, у меня недостает чего-то. И вот чего, мне кажется: хоть крошечной порции fatuite. Мне кажется, что большая часть влюбляющихся людей сходятся вот как: видятся часто, оба кокетничают и, наконец, убеждаются, что влюбили в себя респективно один другого; а потом уже в благодарность за воображаемую любовь сами начинают любить». Здесь особенно замечательно и характерно для Толстого выражение «желал влюбиться». Любовь, оказывается, какой-то взаимный самообман чувств, который временно «находит» на человека — как сон. Совсем другое — семейная жизнь. Той же «бабушке» (А. А. Толстой) Толстой пишет в апреле 1858 г. о своем приезде в деревню: «чем ближе я подъезжал к деревне, тем мне все грустнее и грустнее становилось мое будущее одиночество. Так что, приехав в деревню, мне показалось, что я вдовец, что недавно жило тут целое мое семейство, которое я потерял. И действительно, это семейство моего воображения жило там. И какое прелестное семейство! Особенно жалко мне старшего сына! И жена была славная, хотя и странная женщина. Вот, бабушка, научите, что делать с собой, когда воспоминания и мечты вместе составят такой идеал жизни, под который ничто не подходит. Все становится не то, и не радуешься и не благодаришь бога за те блага, которые он дал, а в душе вечное недовольство и грусть. "Бросить этот идеал", скажете вы. — Нельзя. Этот идеал не выдумка, а самое дорогое, что есть для меня в жизни. Без него я и жить не хочу». Это «воображаемое семейство» — то самое, о котором Толстой писал Т. А. Ергольской еще в 1852 г.
Вопрос о женщине и о семейной жизни — вопрос эпохи. На эти темы пишутся статьи, трактаты, повести, романы. Не только беллетристы, но самые серьезные теоретики, публицисты и историки уделяют серьезнейшее внимание этому вопросу. И так не только в России — во Франции этот вопрос, вместе с вопросами политического и социального переустройства, стоит не менее, а пожалуй более остро, хотя и совсем иначе. В России либеральная часть интеллигенции отстаивает «эман- ципацию» женщины, требует равноправия, хлопочет о женском образовании и т. д. Во Франции — совсем другое положение и совсем другие лозунги. Франция к этому времени уже прошла полосу «жорж-сандизма», боровшегося против предрассудков буржуазной семьи; злободневным там был в это время вопрос уже не о «гражданском браке», как в России, а об оздоровлении семейной жизни, об отношениях мужа и жены по существу. Полемика приняла бурный характер особенно потому, что среди радикалов и «свободомыслящих» обнаружилась тенденция доказать при помощи не только исторической, но и физиологической аргументации, что женщина — существо совершенно отличное от мужчины и что ее настоящая сфера — семейная жизнь. В пределах этого резко выраженного воззрения были разные оттенки, унижающие или возвышающие значение женщины для мужчины (жены для мужа), но основная предпосылка объединяла очень многих и звучала как новый лозунг, призывающий к организации и укреплению семьи.
Среди этой обширной литературы 1858-1859 гг. особенное значение имели две книги, нашумевшие во Франции и своеобразно оцененные в России: знаменитый труд Прудона «De la Justice dans la Revolution et dans l'Eglise» (1858), две части которого (X и XI 6tudes) посвящены вопросу о женщине и браке, и ответная на них книга Мишле «L'Amour» (1858), за которой последовала его же другая — «La Femme» (1859). Книга Прудона вызвала целый поток литературы. Он сам говорит в письме к своему знакомому о «потоке рапсодий» («Pavalanche des rapsodies») на тему о любви и женщине, направленных «против свирепых покушений этого человека, который, сказав: Бог — это зло, собственность — это кража, лучшая власть — это анархия, взялся утверждать, что величие женщины — в ее красоте, а свобода — в ее послушании. Сделаем вывод: женщина в семье — это 49 %, почти половина; в государстве — ничто»48. И о том же в другом письме: «Читали ли вы книгу Мишле о любви? И книгу Жюльетла Мессин против меня? И книгу Луи Журдан о «Женщине и любви»?... Это целое вооруженное восстание против моей книги, в которой я, не отрицая
** Correspondance de P.-J. Proudhon. Paris: Lacroix, 1875. Т. IX. C. 17. — В подлиннике: «Cela fait pendant к Pavalanche des rapsodies surl'Amour et la Femme, en opposition aux tentatives f6- roces de cet homme qui, apr&s avoir dit: Dieu c'est le mal, la propri6t6 c'est le vol, le meilleur des gouver- nements c'est l'anarchie, s'avisa de soutenir que la grandeur de la femme dtait dans la beautd, et sa liberty dans l'obdssance. Concluons: la femme dans la famille est 49 %, pres de moitid; dans la citё, rien».
любви, дерзнул сказать, что она должна быть подчинена справедливости[397]. В позднейшей своей работе, вышедшей уже после смерти («La Pornocratie ou les femmes dans les temps modernes»), Прудон отвечает своим двум врагам из женского лагеря — писательницам: J. d'H*** (очевидно — Jenny d'H6ricourt) и J. L*** (вероятно — Juliette la Messine, о которой в письме).
Одна из первых стычек Толстого с петербургскими писателями была по вопросу о Жорж-Санд, которой они поклонялись. Как рассказывает Григорович, Толстой на обеде в «Современнике» не выдержал и объявил, что «героинь ее романов, если б они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам». Тогда он еще не знал, что у него есть неожиданный и не менее бурный единомышленник — Прудон. В 1858 г. Толстой мог уже узнать или прочитать в книге Прудона, о которой я говорил выше, об его отношении не только к женскому вопросу, но и специально к произведениям Жорж-Санд. В XI части этой книги Прудон поместил специальный обзор французской литературы с точки зрения вопроса о женщине, и одна глава целиком посвящена Жорж-Санд. Прудон пишет: «До последнего времени я был знаком с г-жею Санд только по отрывкам, которые встречал в газетах и журналах; признаюсь, эти отрывки возбудили во мне резкое чувство антипатии к автору. Друзья, мнение которых должно было бы для меня быть очень авторитетным, уверяли меня, что мое предубеждение несправедливо и ошибочно. Г-жа Санд, говорили они, писатель большого ума, и, что еще важнее, она хорошая женщина. Почитайте — вы должны будете признать это». Прудон принялся читать ее главные произведения: «Вначале это чтение возбудило во мне ужасный гнев; я не находил достаточных проклятий и оскорблений по адресу этой женщины — я называл ее лицемерной преступницей, язвой республики, дочерью маркиза де Сад, достойный удел для которой — гнить остаток своей жизни на кладбище, а между тем ею восторгались, ее хвалили пуритане. Однако я ошибался, если не по отношению к книгам, то по отношению к их автору. Более внимательное изучение меня успокоило». Вину Прудон переносит на других: «ее возлюбленные сделали ее эмансипированной\ пусть на них и лежит ответственность за это». Но к произведениям Жорж-Санд Прудон сохранил свое отвращение. Как женщина эмансипированная, она славит любовь и только любовь, превращая ее в идеал жизни, окружая ореолом: «Собрание романов г-жи Санд — это венок, сплетенный в честь любви». Преклонение перед свободой любви приводит ее к порицанию брака, а это возмущает Прудона, для которого брак и семья — основа общества. Сделав обзор произведений Жорж-Санд и не найдя в ней ничего, кроме проповеди свободной любви, Прудон кончает обращение к автору: «Ах, г-жа Санд! Вы были когда-то хорошей девушкой; бросьте писать, и вы сможете еще быть хорошей женщиной». Идея равноправия и эмансипации, по мнению Прудона, губит женщину: «Судьбу женщины можно определить так: вульгаризация науки и искусства чувством, развитие справедливости истинной любовью, которая — в браке». Что касается «свободной женщины», то это миф, который надо уничтожить[398].
Русские публицисты отнеслись одинаково сурово и и книге Прудона, и к книге Мишле, считая, что принципиальной разницы между ними нет — обе книги отвергают принцип равноправия, настаивают на коренном отличии женской природы от мужской и защищают идею брака от жорж-сандовской свободной любви. В этих вопросах они, действительно, сходятся. Мишле, как и Прудон, уделяет много внимания анализу физиологических особенностей женщины и их влиянию на ее психику; оба они совершенно отрицают общественное значение женщины и считают настоящей сферой ее деятельности — семью. Мишле озабочен падением нравственности и уменьшением числа браков; одна из главных задач его книги — реабилитировать идею брака и семьи. Понятно, что в русской журналистике, отстаивающей противоположные принципы, книга Мишле не могла найти сочувствия и рассматривалась как «сентиментальный» вариант к книге Прудона, в некоторых отношениях еще более неприемлемый, потому что написан с претензией на «поэтичность». Обе книги были признаны реакционными, отсталыми и восприняты как какой-то нелепый анахронизм, свидетельствующий о полном разложении нравов во Франции[399].
В этой атмосфере напряженного интереса к вопросу о женщине и семейной жизни явилась, очевидно, и у Толстого мысль — написать роман о «семейном счастье». Необходимый ему для каждой вещи автобиографический материал есть — пережитый «роман» с В. Арсеньевой, переписка с которой иногда кажется прямо конспектом или программой будущего произведения. Остается найти литературный материал, подходящий к тенденциям Толстого. Этот материал и могли дать ему, помимо других, книги Прудона и Мишле. Он, как и в других случаях, опирается на западную либеральную публицистику, чтобы использовать ее против неприемлемых для него идей, проповедуемых в русской либеральной прессе. Книги Прудона и Мишле в общем согласовались с его собственными идеями и настроениями уже по одному тому, что проникнуты духом отвлеченных моральных «истин» («La Justice» Прудона) и, тем самым, идут в разрез с «общественным» духом русской публицистики. Если книга Прудона, как общая и резко полемическая, могла послужить толчком к написанию романа, то книга Мишле должна была пригодиться прямо как материал и даже помочь построить фабулу.
По всем признакам, Толстой взялся за работу только в январе 1859 г., а в апреле роман уже появился в «Русском вестнике». 16 февраля 1859 г. Толстой, после большого перерыва, записывает в дневнике: «Все это время работал над романом и много успел, хотя не на бумаге. Все изменил. Поэма. Я очень доволен тем, что в голове. Фабула вся неизменно готова». Слова «не на бумаге» указывают, скорее всего, на то, что Толстой в это время собирал материал, обдумывал и читал; слово «поэма» дает основание думать, что именно книга Мишле («L'Amour»), написанная с большим лирическим и поэтическим подъемом (за что, между прочим, ему и досталось от русских критиков), оказалась главной, заставившей Толстого переменить какой-то свой первоначальный замысел.
Злободневность и скрытая полемичность этого романа, обращенная против любовных романов (Жорж Санд) и защитников женской «эмансипации», сказывается еще в том, что собственно любовная часть фабулы отодвинута на второй план, а традиционный момент любви и центральная сцена любовных романов — объяснение — не только ослаблены, но прямо высмеяны. Мало того, что будущий муж героини — человек немолодой, друг ее покойного отца, появляющийся в романе в качестве не жениха, а опекуна и воспитателя; вся «любовная» часть романа уложена в первые 4 главы — как интродукция, и венчание не заканчивает его, как развязка, а скорее наоборот — открывает, служа завязкой для дальнейшего. Отступление от обычного канона и замена любовной фабулы фабулой семейной подчеркнуто в сцене разговора Сергея Михайлыча с Машей о любви: «Что такое за открытие, что человек любит? Как будто, только он это скажет, что-то защелкнется, хлоп — любит. Как будто, как только он произнес это слово, что-то должно произойти необыкновенное, знамения какие-нибудь, из всех пушек сразу выпалят. Мне кажется, — продолжал он, — что люди, которые торжественно произносят эти слова: "я вас люблю", или себя обманывают, или, еще хуже, обманывают других... Когдая читаю романы, мне всегда представляется, какое должно быть озадаченное лицо у поручика Стрель- ского или у Альфреда, когда он скажет: "Я люблю тебя, Элеонора!" и думает, что вдруг произойдет необыкновенное; и ничего не происходит ни у нее, ни у него, те же самые глаза и нос, и все то же самое». Этот поворот сделан намеренно — с тем, чтобы сразу «отвести» банальную тему любви и сосредоточиться на другой теме и на другом материале. В соответствии с таким намерением самое венчание описано без всякого лиризма, без всякой «поэтичности» — наоборот, оно изображено как что-то странное, непонятное (с точки зрения героини), почти так, как волонтер в «Набеге» описывает войну: «Я не могла молиться и тупо смотрела на иконы, на свечи, на вышитый крест ризы на спине священника, на иконостас, на окно церкви, и ничего не понимала... Мы поцеловались с ним, и этот поцелуй был такой странный, чуждый нашему чувству. "И только-то", — подумала я». Вместо чувства нежности — являются «чувства оскорбления и страха». Первая часть романа кончается разъяснением, что «страх этот — любовь новая и еще нежнейшая и сильнейшая, чем прежде. Я почувствовала, что я вся его и что я счастлива его властью надо мною». Итак, любовь прежних романов, любовь-влюбленность, перипетиям которой посвящались целые тома, совершенно изъята и осмеяна, а вместо нее поставлена какая-то другая любовь и притом, что очень важно и характерно, новая любовь эта («страх») отнесена только к героине и ею высказана.
С особенным сочувствием должен был Толстой отнестись к тенденции Мишле трактовать любовь конкретно и прослеживать ее видоизменения. Любовь, по мнению, Мишле, это не драма в одном акте, а последовательность (succession), часто очень длинная, разнообразных страстей, которые питают жизнь и обновляют ее. «Если выйти за пределы высоких классов (classes blasdes), нуждающихся в трагедиях, в резких переменах, выставленных напоказ, то видно, что любовь продолжает оставаться самой собой, иногда на протяжении всей жизни, с разными степенями интенсивности, с внешними изменениями, которые не меняют основы. Несомненно, пламя горит, только изменяясь, увеличиваясь, уменьшаясь, усиливаясь, варьируя форму и цвет. Но природа предусмотрела это. Женщина меняет свои аспекты без конца; в одной женщине их тысяча. И воображение мужчины тоже варьирует точку зрения». Мишле набрасывает и схему этих изменений. Сначала мужчина, старший семью или десятью годами, господствует над своей гораздо более молодой подругой и любит ее почти как свою дочь; скоро она догоняет его — материнство и хозяйственность увеличивают ее значение, и муж начинает любить ее как сестру; наконец, работа и усталость ослабляют мужчину, и он начинает любить жену, деловую и серьезную, как свою мать. Любопытен комментарий Мишле: «Вот к чему сводится у простых людей этот большой и страшный вопрос о превосходстве одного пола над другим, столь волнующий, когда речь идет о людях сотте ilfaut. Это, по преимуществу, вопрос возраста». Характерно, что Толстой, точно следуя этому указанию, описывает в «Семейном счастии» жизнь простых и даже не очень зажиточных помещиков, подчеркивая притом враждебное отношение мужа к светской жизни; еще характернее, в связи с книгой Мишле, то, что роман построен именно на видоизменении чувства любви — от первоначальной стадии, когда она, еще совсем девочка, чувствует страх и «счастлива его властью», к той, которой заканчивается эта вещь: «С этого дня кончился мой роман с мужем, старое чувство стало дорогим, невозвратимым воспоминанием, а новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту...». По поводу этой заключительной фразы Боткин пишет Толстому: «В последней фразе я сделал маленькую перемену, вычеркнув слово "роман", которым она характеризует вторую половину, семейную и материнскую, своей жизни, ибо слово "роман" не идет к таким отношениям». Однако Толстой восстановил это слово, влагая в него, очевидно, несколько иной смысл, чей Боткин, как и должно быть с точки зрения Мишле.
Одно из основных положений Мишле — муж должен воспитать свою жену, «создать» ее: «II faut que tu crdes ta femme», так называется одна из глав книги. Она верит и слушает его, она хочет начать совершенно новую жизнь, она отдает себя целиком. Так и построено начало «Семейного счастия». Она — девочка, привыкшая с детства любить и уважать Сергея Михайловича: «он для меня имел значение по одному слову, сказанному при мне мамашей. Она сказала, что такого мужа желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно; герой мой был совсем другой. Герой мой был тонкий, сухощавый, бледный и печальный. Сергей же Михайлович был человек уже немолодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый». Он ведет себя сначала как воспитатель, а она, проникаясь его взглядами и стремлениями, меняется именно так, как это для него нужно: «Я же скоро поняла, что ему было надо. Ему хотелось верить, что во мне нет кокетства. И, когда я поняла это, во мне, действительно, не осталось тени кокетства нарядов, причесок, движений; Но зато явилось белыми нитками шитое кокетство простоты, в то время как я еще не могла быть проста». Выйдя замуж, она сначала живет только мыслью о нем — именно так, как изображает это и Мишле: «Я читала, занималась и музыкой, и мамашей, и школой; но все это только потому, что каждое из этих занятий было связано с ним и заслуживало его одобрения; но только мысль о нем не примешивалась к какому-нибудь делу, руки опускались у меня, и мне так забавно казалось подумать, что есть на свете что-нибудь кроме его... Только он один существовал для меня на свете, а его я считала самым прекрасным, непогрешимым человеком в мире; поэтому я и не могла жить ни для чего другого, как для него, как для того, чтобы быть в его глазах тем, чем он считал меня».
Первые семейные сцены происходят оттого, что муж не делится с женой всем, что он переживает. Чтобы развлечь жену, муж едет с ней в Петербург, где она попадает в светское общество. Туг появляется «кузина мужа, княгиня Д., немолодая светская женщина». Это — совершенно французский персонаж, фигурирующий и в книге Мишле и появляющийся именно в тот момент, когда отношения мужа и жены начинают портиться. Начальный интимный период жизни кончен. Правда, у Мишле новый период начинается позже, уже после появления детей, но Толстой, вообще пишет свой роман сжато, почти как конспект, обходя такие моменты, как роды, кормление и пр., на чем Мишле останавливается с особым вниманием, потому что книга его пишется отчасти как руководство.
Муж, занятый своими делами, своей специальностью, неизбежно «опускается», как говорит Мишле, в глазах жены — он уже не «homme», а адвокат, доктор, архитектор, и т. д... Между тем она вступает в период расцвета своих физических и душевных сил. Около нее появляется какая-нибудь подруга, которая, видя, в чем дело, содействует ее «успехам» в обществе и сближает ее с каким-нибудь интересным молодым человеком. Так подготовляется «адюльтер».
У Толстого за это дело берется княгиня Д.: она «говорила мне лестные вещи, кружившие мне голову». Жена едет на бал: «Общее суждение, составившееся обо мне на этом бале и переданное мне кузиной, состояло в том, что я совсем непохожа на других женщин, что во мне есть что-то особенное, деревенское, простое и прелестное. Этот успех так польстил мне, что я откровенно сказала мужу, как бы я желала в нынешнем году съездить еще на два, на три бала, "с тем, чтобы хорошенько насытиться ими", прибавилая, покривив душой». Эта история кончается ссорой с мужем и изменением отношений: «Нам уже не так хорошо было наедине, как прежде. Были вопросы, которые мы обходили, и при третьем лице нам легче говорилось, чем с глазу на глаз». Проходит три года, в течение которых супруги продолжают жить в Петербурге. Рождается первый ребенок: «Первое время материнское чувство с такою силою охватило меня и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня; но через два месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга. Муж, напротив, со времени рождения нашего первого сына стал прежним, кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность и веселье перенес на ребенка». Ребенок этот нужен Толстому только для того, чтобы здесь указать на перемену, происшедшую в Сергее Михайловиче после его появления. Дальше о нем не упоминается вплоть до конца III главы, когда он понадобился опять-таки не сам по себе, а для концовки. Он оказывается почему-то с мужем в Гейдельберге, куда приезжает жена после своего приключения с маркизом Д.; слова мужа оскорбляют ее: «Я сказала, что пойду посмотреть ребенка, и вышла от него. Мне хотелось быть одной и плакать, шгёкать, плакать...» Для финала Толстому понадобился новый ребенок (по всей ситуации, он должен быть совсем маленьким), который рождается в начале гл. IV, о чем упомянуто так же бегло, вскользь, как и о первом, а первый вовсе исчезает, как будто его и не было. Оба эти ребенка играют здесь не фабульную и даже не психологическую, а сюжетную роль, заменяя собою другую, более банальную концовку — пейзажем.
Роман вообще схематичен и беден материалом, и это очень симптоматично. Боткин писал Толстому (13 мая 1859 г.): «... по самой задаче своей вещь эта требовала большей обработки и обдуманности, требовала конца, несомненно, более развитого, а не такого проглоченного, каким он оканчивается». Схематичность оказывается и в том, что персонажи романа, за исключением главных, которым даны имена (но не даны фамилии), названы буквами — княгиня Д., леди С., знакомая JI. М., маркиз Д., принц М. Недостаток литературного материала пополняется материалом воспоминаний: так явилась сцена с табаком, рассказанная потом в «Воспоминаниях детства» (об отце), а здесь характеризующая Сергея Михайловича: «Маменькин лакей, Дмитрий Сидоров, большой охотник до трубки, регулярно каждый день после обеда, когда мы бывали в диванной, ходил в мужнин кабинет брать его табак из ящика; и надо было видеть, с каким веселым страхом Сергей Михайлыч на цыпочках подходил ко мне и, грозя пальцем и подмигивая, показывал на Дмитрия Сидорова, который никак не предполагал, что его видят»[400].
Эта схематичность и бедность материала, столь необычная и нехарактерная для Толстого, свидетельствует о его переходном состоянии. Потеряна установка литературной работы: отойдя от журнала, который, при всем своеобразии позиции Толстого, все же определял направление его работы и поддерживал в нем ощущение писательского дела, Толстой оказался оторванным от литературы, одиноким дилетантом, сохранившим, однако, желание быть писателем. Он пишет «Семейное счастие», точно соперничая с Тургеневым, но и неизбежно подчиняясь ему в тех местах, где сделан нажим на стиль. Самая «форма» романа — записки женщины о своей жизни — явилась, по-видимому, в результате замены конкретного материала стилем («поэма»); лишним толчком к этому могли послужить и книга Мишле, и повести Тургенева. Так получились неорганические сочетания стилей: рядом с чисто-толстовской предметностью и конкретностью деталей, не согласующейся с формой записок, оказываются лирические пейзажи в духе Тургенева или Тютчева. «Сад уже был весь в зелени, и в заросших клумбах уже поселились соловьи на все Петровки. Кудрявые кусты сирени кое-где как будто посыпаны были сверху чем-то белым и лиловым. Это цветы готовились распускаться. Листва березовой аллеи была вся прозрачна на заходящем солнце». Это мог написать и Тургенев, но дальше пишет уже Толстой: «Дурачок Никон ездил с бочкой перед террасой по дорожке, и холодная струя воды из лейки кругами чернила вскопанную землю около стволов георгин и подпорок». Затем — опять Тургенев: «Отовсюду сильнее запахло цветами, обильная роса облила траву, соловей защелкал недалеко в кусте сирени и затих, услыхав наши голоса; звездное небо как будто опустилось над нами». Потом — Тютчев: «И царственно спокойно раздавались эти голоса в ихнем, чуждом для нас ночном мире». И рядом — собственное, толстовское: «Садовник прошел спать в оранжерею, шаги его в толстых сапогах, все удаляясь, прозвучали по дорожке».
Боткин писал Толстому, что «неудача вышла от неясности первоначальной мысли, от какого-то напряженного пуританизма в воззрении», что мысль романа «осталась нераскрытою». Действительно, неясно даже название романа — звучит ли оно иронически или нравоучительно. Неясно и то, почему роман написан от лица женщины и в форме записок. Можно только предполагать, что тенденция, несомненно, руководившая Толстым, заставила его сосредоточить роман на эволюции отношений жены к мужу — от первоначальной стадии подчинения, через легкомысленное увлечение флиртом, к новому чувству «любви к детям и к отцу моих детей», т. е. выполнить схему, намеченную в книге Мишле. Произошло неорганическое сочетание не только стилей, но и жанров. В главе, описывающей бал с принцем, и в другой, изображающей пребывание супругов «на водах», можно видеть следы старой «светской повести», а рядом с этим можно, кроме книги Мишле, видеть следы использования английского семейного романа, и именно дамского (Бронтё). Сергей Михайлович временами похож на какого-нибудь из тургеневских героев, наконец благополучно женившегося. Вот разговор, который легко мог бы встретиться в любой повести Тургенева — хотя бы в «Дворянском гнезде»:«— Вот хорошо! тридцать шесть лет, уж и отжил, — сказала Катя.— Да еще как отжил, — продолжал он, — только сидеть и хочется. А чтобы жениться, надо другое. Вот спросите-ка у нее, — прибавил он, головой указывая на меня. — Вот этих женить надо. А мы с вами будем на них радоваться». Тут сымитирована даже интонация тургеневского героя. И по-тургеневски же звучит последняя глава — возвращение в старый покровский дом (нарочно затеян ремонт в Никольском, чтобы герои под конец оказались в том доме, где начался роман), наполненный «девичьими мечтами». И эти грустные размышления героини, окончательно подпавшей под «влияние» тургеневских романов, в которых девушки не выходят замуж: «А все то же: тот же сад виден в окно, та же площадка, та же дорожка, та же скамейка вон там над оврагом, те же соловьиные песни несутся от пруда, те же сирени во всем цвету, и тот же месяц стоит над домом, и все так страшно, так невозможно изменилось. Так холодно все то, что могло быть так дорого и близко».
Толстой был в это время до такой степени не уверен в своей литературной работе и так растерялся, что, как видно из его письма к Боткину, собирался печатать этот роман под псевдонимом. До появления в печати Толстой отстаивал его и не соглашался с Боткиным; когда первая часть вышла в «Русском вестнике» и получились корректуры второй, Толстой вдруг ужаснулся. 3 мая 1859 г. он пишет и Боткину, и А. А. Толстой, и записывает в дневнике, называя роман «постыдной мерзостью», гадостью, не только авторским, но и человеческим пятном. «Я теперь похоронен и как писатель и как человек... Во всем слова живого нет. — И безобразие языка, вытекающее из безобразия мысли, невообразимое»,— пишет он Боткину. А. А. Толстой — о том же: «я не могу опомниться и, кажется, больше никогда писать не буду». Явилась даже мысль уговорить Каткова не печатать вторую часть, но это было уже невозможно.
Итак, к неудаче с «Альбертом», со «Сном» и с «Казаками» прибавилась новая и очень болезненная неудача — с «Семейным счастием». Этот последний опыт ясно показал самому Толстому, что надо что-то предпринять, что он очутился на каком- то ложном пути или, вернее, на распутье. У него не оказалось никакого дела, которое питало бы собой литературу, — так, как это было на Кавказе или в Севастополе. Он почувствовал себя в каком-то пустом промежутке: литература, о которой он думал «ужасно высоко и чисто», никому не нужна, а гордое одиночество, заполненное хозяйственными заботами, хозяйство ради хозяйства, для него невозможно. Возникает трудная и сложная проблема исторического поведения — построения своей судьбы в условиях своего «времени», которое виновато, но обижаться на него или судиться с ним нельзя, потому что оно сильнее, оно — история. Если оно враг — значит, надо выработать стратегический план, а не рассчитывать только на свои силы и храбрость, не брать натиском, как было до сих пор.
Начинается выработка плана. Хозяйство — само собой: это «опора», дающая независимость. В ответ на письмо Фета, в котором он сообщает о своем намерении купить имение и заняться хозяйством, Толстой пишет (23 февраля 1860 г.): «Ваше письмо ужасно обрадовало меня, любезный друг Афанасий Афанасьевич. Нашему полку прибудет, и прибудет отличный солдат. Я уверен, что вы будете отличный хозяин». Любопытны в этом письме и практические советы Толстого — что купить Фету: «есть рядом со мною, межа с межой, продающееся имение в 400 дес. хорошей земли, и к несчастью еще с семьюдесятью душами скверных крестьян. Но это не беда, крестьяне охотно будут платить оброк, как у меня, 30 рублей с тягла; с 23 тягол — 690 и не менее ежели не более должно получиться при освобождении, и у вас останется 40 дес. в поле, в четырех полях неистощенной земли и лугов около 20 десятин, что должно давать около 2.000 рублей дохода, итого 2.500 руб.». Толстой рекомендует Фету купить это имение еще и потому, «что у вас есть во мне вечный надсмотрщик»[401]. Эта часть письма написана уверенным в себе хозяином, настоящим помещиком, отличающим «скверных крестьян» (вроде тех, очевидно, которые жили в Угрюмове) от каких-то других.
Но в том же письме есть и вторая часть, «писательская». Ведь их уход в деревню и занятие хозяйством есть факт литературно-бытового значения. Они не просто помещики, а помещики с горя, но горе это надо взять на себя как воинскую повинность, и использовать если не для штурма, то для стратегического отступления. Недаром Толстой выражается военными терминами — помещиков называет «полком», а Фета «солдатом»; недаром в дневнике 1858 г. он описывает свое положение в деревне словами: «Сражение в полном разгаре». Сражение идет не только с крестьянами, но и с современностью. Толстой ругает Тургенева (особенно «Дворянское гнездо») и Островского: «Гроза Островского есть плачевное сочинение, а будет иметь успех. Не Островский и не Тургенев виноваты, а время; теперь долго не родится тот человек, который бы сделал в поэтическом мире то, что сделал Пушкин. А любителям антиков, к которым и я принадлежу, никто не мешает читать серьезно стихи и повести и серьезно толковать о них. Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немного тому, что мы знаем»[402].
Толстой вступает в новый период «чудачеств», которые заставляют заново насторожиться его товарищей. Тургенев пишет Фету: «А Лев Толстой продолжает чудить. Видно, так уж написано ему на роду. Когда он перекувырнется в последний раз и станет на ноги?» В ответ на письмо Толстого, в котором он просит не вносить его в список литераторов, членов Литературного Фонда, Дружинин пишет ему большое письмо, стараясь успокоить и убедить: «На всякого писателя набегают сомнения и недовольства собою, и, как ни сильно и ни законно это чувство, никто еще из-за него не прекращал своей связи с литературой, а всякий писал до конца». Дружинин утверждает, что «в 30 лет оторваться от деятельности писателя — значит лишить себя половины всех интересов в жизни». Особенно интересна следующая часть письма, в которой Дружинин, наперекор мнению Толстого, старается доказать, что литература имеет теперь огромное значение посреди русского общества: «Англичанин или американец может расхохотаться тому, что в России не только 30-летние люди, но седовласые помещики 2000 душ потеют над повестью в 100 страниц, которая появилась в журнале, пожирается всеми и возбуждает на целый день толки в обществе. Каким художеством ни объясняй этого дела, его не объяснишь художеством. То, что в других землях дело празднословия, беззаботного дилетантизма, — у нас выходит совсем другим. У нас дела сложились так, что повесть — эта потеха и мельчайший род словесности — выходит чем-нибудь из двух: или дрянью, или голосом передового человека в целом царстве. Мы, например, все знаем слабости Тургенева, но между самой его дрянной повестью и самыми лучшими романами госпожи Евгении Тур55, с ее полуталантом, — целый океан. Публика русская по какому-то странному чутью выбрала себе у толпы писателей четверых или пятерых глашатаев и ценит их как передовых людей, не желая знать никаких соображений и выводов. Вы частью по талантам, частью по светским [светлым?] качествам вашего духа, а частью просто по стечению счастливых обстоятельств стали в такое благоприятное отношение к публике. Стало быть, тут уходить и прятаться нельзя, а надо работать, хотя бы до истощения сил и средств».
Дружинин рассуждает как типичный журналист, профессионал и общественник, хотя и враждебный к «Современнику». Как видно по этому письму, он уже сильно отошел от позиции 1856 г. — время заставило его повернуться лицом к публике и признать ее требования, потому что писательское дело было для него делом профессиональным. Уход Толстого для него все равно что дезертирство— вопрос не личный, а принципиальный. Он старается подействовать на него самыми разнообразными соображениями, не понимая, что для Толстого весь вопрос стоит совсем в иной плоскости: «Вы член литературного круга, по возможности честного, независимого и влиятельного, который десять лет при гонениях и невзгодах (и несмотря на свои собственные пороки) твердо держит знамя всего, что либерально и просвещенно, и выносит весь этот гнет похабства житейского, не сделавши ни одной подлости. При всей холодности света и необразованности и смотрения свысока на литературу, этот круг награжден почетом и нравственной силой». Наконец — еще один довод: «Оторвавшись от круга литературного и предавшись бездеятельности, вы соскучитесь и лишите себя важной роли в обществе»[403].
Толстой давно записал в дневнике о Дружинине, что ему никогда не приходит в голову мысль, «не вздор ли это все». Он сам, наоборот, постоянно оглядывается на свою деятельность с этим вопросом и постоянно повторяет себе — «не то». Ни один из доводов Дружинина не мог показаться ему серьезным, требующим внимания. Период подчинения Толстого взглядам «бесценного триумвирата», и Дружинина больше всего, прошел. Теперь Толстому гораздо ближе Фет. Это сказывается и на литературных оценках. Боткин в восторге от «Грозы» Островского: «Это лучшее произведение его, — пишет он Фету, — и никогда еще он не достигал такой силы поэтического впечатления». А Фет, как и Толстой, отнесся отрицательно и вызвал письмом своим недоумение у Тургенева: «Фет! помилосердствуйте! Где было ваше чутье, ваше понимание поэзии, когда вы не признали в "Грозе" удивительнейшее, великолепнейшее произведение русского, могучего, вполне овладевшего собою таланта? Где вы нашли тут мелодраму, французские замашки, неестественность? Я решительно ничего не понимаю и в первый раз гляжу на вас (в этого рода вопросе) с недоумением. Аллах! какое затмение нашло на вас?»
Объединение Толстого с Фетом — это новая литературно-бытовая группировка, новая принципиальная позиция, направленная против «служения» литературе, о которой с таким пафосом говорит Дружинин, еще не вполне понимая их решение. Очень характерно, что одновременно с письмом Толстому он пишет и Фету, ссылаясь здесь на другие соображения: «Насчет вашего намерения не писать и не печатать более скажу вам то же, что Толстому: пока не напишется чего-нибудь хорошего, исполняйте ваше намерение, а когда напишется, то сами вы и без чужого побуждения измените этому намерению... Эти два или три года и Толстой и вы находитесь в непоэтическом настроении, и оба хорошо делаете, что воздерживаетесь... В решимости вашей и Толстого, если я не ошибаюсь, нехорошо только то, что она создалась под влиянием какого-то раздражения на литературу и публику. Но если писателю обижаться на всякое проявление холодности или бранную статью, то некому будет и писать, разве кроме Тургенева, который как-то умеет быть всеобщим другом»[404].
В решимости Толстого, конечно, сыграло некоторую роль «раздражение на литературу», но совсем не в том смысле, как понимал это Дружинин и как это, может быть, было справедливо по отношению к Фету. Толстой чувствовал свое положение острее, а потому умел быть и более решительным и более гибким. Он не может просто отойти в сторону и «обидеться», потому что ему важны и дороги моральные «истины». В каждой эпохе он, оставаясь человеком патриархальным, находит для себя такое дело или такую позицию, которая так или иначе связывает его с «современностью» и оказывается злободневной.
В 1856 г. Толстой еще отстаивал права вдохновенного «артиста» и пытался подействовать своим «Альбертом» на современность; в 1858 г. он еще мечтал о чисто-художественном журнале; в феврале 1859 г. он еще счел нужным произнести речь в Обществе любителей российской словесности против «обличительной литературы». Роман «Семейное счастие» был в этой цепи последним звеном — последней попыткой если не прямо игнорировать современность, то обогнуть ее. Резкое чувство стыда, охватившее его после выхода романа в печати, заставило его поставить крест на этих попытках и перейти к решительным мерам. Первая — отойти от литературы, потому что «литератором» Толстой не хочет быть, а другое положение надо создать заново и подготовить его; вторая — укрепить свой помещичий быт, противопоставив теориям «умных» систему патриархальных отношений с крестьянами, построенную не на основах «политики», а на основах «морали», связывающей барина и мужика в одно целое. Толстому нужно было изобрести дело, которое, как всегда у него, было бы и в духе времени и, вместе с тем, шло бы наперекор «современности», отрицая самым своим существованием тезисы и принципы публицистов. Так, настаивая на освобождении крестьян без земли, Толстой в то же время находил «общее убеждение» справедливым и выступал против тех крепостников, которые исходили из своих классовых интересов, потому что сам стоял на сословной точке зрения. Так, теперь, враждебно относясь к распространению грамотности среди крестьян, Толстой делается народным учителем, изобретающим собственную систему преподавания и влагающим в нее иной смысл.
12 марта 1860 г. Толстой пишет письмо Егору Петровичу Ковалевскому о своем проекте «общества народного образования». Здесь, между прочим, довольно явно обнаруживается связь между отходом Толстого от литературы и его педагогическими планами. Основой этой связи является осознание ненужности той литературы, которой он «служил» до сих пор, и ненужности именно в условиях русской действительности и своей эпохи, а не вообще. У Толстого окончательно сложилось убеждение, что литература в России существует для самих же литераторов, а ему, с его жаждой деятельности и пафоса морального воздействия, нужны массы — если не читателей, то учеников. Пройдет много лет, прежде чем эти поиски Толстого примут форму «литературы для народа», соединяющей в себе принципы и приемы лубка («Первый винокур», например) с элементами высоких жанров; но тенденция выйти за пределы узкого круга интеллигенции, которая является и производителем и потребителем, уже налицо. Пока Толстой еще не видит этих возможностей, но ему уже ясно, что он должен противопоставить столичной литературе, с ее журналами и редакциями, что-то другое, гнездящееся здесь, в Ясной Поляне. Отныне Ясная Поляна становится для него не только хозяйственной лабораторией, но и лабораторией культуры, которую он понимает по-своему. Этот шаг обнаруживает в Толстом замечательное чувство истории, которое и провело его через ряд эпох. Он пишет Ковалевскому: «Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы узнать, что делать прежде, а что после. В деле прогресса России, мне кажется, что как ни полезны телеграфы, дороги, пароходы, штуцера, литература (со всем своим фондом), театры, академии художеств и т. д., а все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока из календаря будет видно, что в России, включая всех будто бы учащихся, учится VI00 доля всего народонаселения. Все это полезно (академии и т.д.), но полезно так, как полезен обед Английского клуба, который весь съест эконом и повар. Все эти вещи производятся всеми 70 ООО ООО русских, а потребляются тысячами. Как ни смешны славянофилы со своей народностью и оторванностью et tout le tremblement, они только не умеют называть вещи по имени, а они, нечаянно, правы». Итак, «виновато время», но — надо быть мудрым, т. е. знать, что делать прежде, что после. Именно поэтому нельзя говорить о Толстом вообще; самый факт, что Толстой продержался в центре русской культуры и литературы в течение шестидесяти лет, свидетельствует о его необычайной способности эволюционировать, т. е., говоря опять его словами, «знать, что делать прежде, а что после». В 1860 г. Толстой решает твердо: «Нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немного тому, что мы знаем». Смысл этой формулы раскрывается, помимо письма к Ковалевскому, еще некоторыми фактами из второго заграничного путешествия, которым замыкается весь первый десятилетний период деятельности Толстого (1850- 1860) и начинается второй.
5
Первая поездка Толстого за границу (1857 г.) была бегством от России. Это было тогда массовым явлением: воспользовавшись разрешением, за границу кинулись люди самых разнообразных занятий и положений — в том числе и помещики, испугавшиеся крестьянских волнений и слухов об «освобождении». Из писем того времени приводятся характерные цитаты: «Наших столько за границею, что уверяют, что надо ехать за границу, чтобы видеться с русскими», «отъезжающих за границу так много, что имена их раздвигают объем газет». Вторая поездка имела другой смысл и другие цели. Поводом была болезнь брата Николая; главной целью было ознакомление с постановкой народного образования за границей.
Ворча на современность и борясь с нею, Толстой именно поэтому непрерывно следует за ней, нападая с самых неожиданных сторон. Отступая в одном пункте, он производит яростную атаку на другом. Так, на смену литературной борьбе, которая кончилась пока неудачей, предпринимается атака на фронте народного образования. Это — своего рода тактический ход против тех же «умных», против современности. Со стороны может показаться, что Толстой окончательно сближается с той радикальной интеллигенцией, из рядов которой явится потом «народничество». Казалось бы, все идет к тому, чего ожидали Некрасов и Чернышевский — Толстой «исправляется». На самом деле «радикализм» Толстого, развернувшийся в его педагогических статьях 1860-1862 гг., совсем особого рода, направленный против интеллигенции и ее основных тезисов. Как и в других случаях, позиция Толстого в вопросе о народном образовании парадоксальна и фантастична, потому что строится на архаистических предпосылках. Собираясь учить Марфутку и Тараску, Толстой, вместе с тем, считает вопрос о пользе грамотности спорным, а систему обязательного обучения — прямо вредной. В письме к Е. Ковалевскому он говорит: «Над спорами: полезна ли грамотность или нет, не следует смеяться. Это очень серьезный и грустный спор, и я прямо беру сторону отрицательную. Грамота, процесс чтения и писания, вредна». В статье «О методах обучения грамоте» Толстой возвращается к этому вопросу: «Спор в нашей литературе о пользе или вреде грамотности, над которым так легко было смеяться, по нашему мнению, есть весьма серьезный спор, которому предстоит разъяснить многие вопросы. Одни говорят, что для народа вредно иметь возможность читать книги и журналы, которые спекуляция и политические партии кладут ему под руку; говорят, что грамотность выводит рабочий класс из его среды, прививает ему недовольство своим положением и порождает пороки и упадок нравственности. Другие говорят или разумеют, что образование не может быть вредно, а всегда полезно. Одни — более или менее добросовестные наблюдатели, другие— теоретики. Как и всегда бывает в спорах, и те и другие совершенно правы. Спор, нам кажется, заключается только в неясном постановлении вопроса». Сам Толстой выдвигает формулу: «Народная школа должна отвечать на потребности народа».
Толстой вовсе не собирается просвещать или «поднимать» мужика, потому что «мужик» для него не экономическая категория, а особого рода субстанция — «народ», имеющий свою «волю» и свой «инстинкт». Протестуя против воспитательных тенденций и против принудительного обучения, Толстой пишет: «Перестанем же смотреть на противодействие народа нашему образованию как на враждебный элемент педагогики, а напротив, будем видеть в нем выражение воли народа, которой одной должна руководиться наша деятельность. Сознаем, наконец, тот закон, который так ясно говорит нам и из истории педагогики и из истории всего образования, что для того, чтобы образовывающему знать, что хорошо и что дурно, образовывающийся должен иметь полную власть выразить свое неудовольствие, или, по крайней мере, уклониться оттого образования, которое по инстинкту не удовлетворяет его, что критериум педагогики есть только один — свобода». Этот принцип «свободы», как и должно быть у Толстого, является выводом из предпосылок, враждебных предпосылкам радикальных теоретиков, хотя и звучит радикальнее их. Толстому нужно опорочить всякое стремление как-то повлиять на «народ», потому что он стремится сохранить его «инстинкт» в неприкосновенности. Толстой радикальнее самих радикалов, но его радикализм идет «справа», если только можно пользоваться этими схематичными обозначениями.
Толстой исходит из характерного для него нигилистического тезиса, направленного против нигилистов «слева» и появившегося еще в «Люцерне»: «никто не знает, что ложь, что правда». Он сближается со славянофилами, но идет решительнее и дальше их. Самое дело народного образования заинтересовало его не само по себе, а как метод борьбы с современностью и в частности — с литературой. Не нужны ни Пушкин, ни Гоголь, ни книгопечатание, ни телеграф, ни железные дороги, потому что все это не отвечает потребностям «народа» и не увеличивает его благосостояния: «Я вижу близкого и хорошо известного мне тульского мужика, который не нуждается в быстрых переездах из Тулы в Москву, на Рейн, в Париж и обратно. Возможность таких переездов не прибавляет для него нисколько благосостояния». Вопросы цивилизации и культуры решаются с точки зрения тульского мужика. «Левизна» Толстого оказывается крайней «правизной», народничество и радикализм принимают какой-то почти погромный характер.
При помощи «вопроса о народном образовании» Толстой громит современность. Народное образование он выбрал как искусный стратег — в качестве главного пункта, удобного для нападения. Одолевая и сбивая противника в этом пункте, он надеется выбить его и из других позиций, занятых прежде —из позиций литературных. Это становится совсем ясным, когда после ряда педагогических статей, в которых Толстой симулирует свою новую профессию народного учителя, появляется вдруг настоящий литературный памфлет: «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Откуда возник этот вопрос? Кто ставил его? Он возник из затаенной Толстым глубокой обиды за свои неудачи последних лет, за вынужденный отход от литературы, за «оплеванность», о которой он писал Боткину. Педагогика была тактическим ходом — своего рода шифром, при помощи которого Толстой «обманул» современность и, сделав то, что ему было нужно, вернув к себе внимание и уважение, вернулся к литературе.
Я не хочу, конечно, всем этим сказать, что Толстой, действительно, симулировал и обманывал — мне важен здесь, как и в других случаях, не психологический, а исторический смысл его поведения: не то, как он «glaubt schieben», а как «wird geschoben». Исторический смысл его интереса к народному образованию был не тот, каким он ему самому сначала представлялся. Толстой создает для себя деятельность, которая кажется совсем оторванной от литературы; фактически же (исторически) деятельность эта оказывается глубоко связанной с ней и полемически обращенной против современных ее форм. Связь эта обнаруживается и в статьях Толстого, и в том, как он себя ведет и что делает за границей, и, наконец, в самой его педагогической практике.
2 июля 1860 г. Толстой выехал из Петербурга и прожил за границей больше года, побывав в Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Англии и Бельгии. Центральными по значению моментами в этом путешествии были: знакомство с Ауэрбахом в Дрездене, свидание с Герценом в Лондоне и поездка к Прудону в Брюссель. Кроме того, много интересного и важного для себя видел и слышал Толстой в Берлине, Киссингене (знакомство с Ю. Фребелем), Париже и Марселе. Из этого обширного материала я выберу для этой главы только то, что связано с основными проблемами моей работы и на что до сих пор мало обращалось внимания. Важно иметь в виду, что Толстой ищет опоры для своей деятельности на Западе не потому, чтобы он был убежденным «западником» (скорее наоборот — славянофилы во многом ближе ему), а потому, что западная культура (более всего Франция), как явление чужое и потому нейтральное, дает ему свободу выбора и комбинирования любых элементов, вне категорий «левого» и «правого» — а это для него, ищущего всегда «неопровержимых», «бесспорных», «вечных» истин и законов, очень важно. В России он — неудачник, чудак, реакционер и т. д.; за границей он чувствует себя более свободным и смелым. Помимо всего, западный радикализм не возбуждает в нем враждебных чувств и даже привлекает его внимание некоторыми своими особенностями.
Первое время особенно в Германии Толстой посвящает ознакомлению с постановкой народного образования. Но характерно, что ни одна заграничная школа не удовлетворила его и ни к одной педагогической теории он не примкнул. Он ведет себя как профессионал, а на самом деле подходит ко всем педагогическим вопросам как типичный дилетант — со стороны, и поэтому парадоксально, храбро, с натиском, без оглядки на традиции, навыки и пр. В первой же своей статье, написанной за границей («О народном образовании»), он пишет: «Являются одновременно различные теории, противоположные одна другой. Богословское направление борется с схоластическим, схоластическое — с классическим, классическое — с реальным, и в настоящее время все эти направления существуют, не поборая одно другого, и никто не знает, что ложь, что правда. Являются тысячи различных, самых странных, ни на чем не основанных теорий, как Руссо, Песталоцци, Фребель и т. д., являются все существующие школы рядом — реальные, классические и богословские учреждения. Все недовольны тем, что существует, и не знают, что новое именно нужно и возможно». Чрезвычайно типично именно для дилетанта это презрение к борьбе партий и направлений и уверенность втом, что можно действовать как-то иначе и правильнее.
Приехав в Марсель, Толстой посетил все учебные заведения для рабочих и пришел к выводу, что они «чрезвычайно плохи». Вместе с тем он вынес впечатление, что «французский народ почти такой, каким он сам себя считает: понятливый, умный, общежительный, вольнодумный и действительно цивилизованный. Посмотрите городского работника лет тридцати, — он уже напишет письмо не с такими ошибками, как в школе; иногда совершенно правильное он имеет понятие о политике, следовательно, о новейшей истории и географии; он знает уже несколько историю из романов; он имеет несколько сведений из естественных наук. Он очень часто рисует и прилагает математические формулы к своему ремеслу. Где же он приобрел все это?»
Ответ на этот вопрос Толстой нашел, начав после школ «бродить по улицам, гингетам, cafds chantants, музеумам, мастерским, пристаням и книжным лавкам. Тот самый мальчик, который отвечал мне, что Генрих IV убит Юлием Цезарем, знал очень хорошо историю "Четырех мушкетеров" и "Монте-Кристо" В Марселе я нашел 28 дешевых изданий, от пяти до десяти сантимов, иллюстрированных. На 250 ООО жителей их расходится до 30 ООО, следовательно, если положить, что 10 человек читают и слушают один номер, то все их читают. Кроме того музей, публичные библиотеки, театры, кафе, два большие cafds chantants, в которые, за потребление 50 сантимов, имеет право войти всякий и в которых перебывает ежедневно до 25 ООО человек, не считая маленьких кафе, вмешающих столько же, — в каждом из этих кафе даются комедийки, сцены, декламируются стихи. Вот уже по самому беглому расчету пятая часть населения, которая изустно поучается ежедневно, как поучались греки и римляне в своих амфитеатрах. Хорошо или дурно это образование — это другое дело; но вот оно бессознательное образование, во сколько раз сильнейшее принудительного, — вот она бессознательная школа, подкопавшаяся под принудительную школу и сделавшая содержание ее почти ничем».
Вопрос о народном образовании здесь просто снят с обсуждения и заменен другим, естественно, гораздо более волнующим Толстого, — вопросом о народном чтении, о народной литературе, вопросом, в конце концов, о бытовании литературы. Дюма оказывается популярным в широкой массе писателем — и характерно, что именно в это время он сам увлекается такими писателями, как Дюма и Поль- де-Кок. Вот куда «толкнула» Толстого история: он занят вовсе не «народным образованием», а изучением «народа» (под этим разумеются одинаково и городские рабочие и крестьяне) как читательской массы. Это все тот же вопрос — о «нужности» той литературы, которую, как обед английского клуба, съест повар и эконом. Здесь, в Марселе, Толстой находит другое положение. В непосредственной связи с этими наблюдениями стоит позднейшая статья, «Прогресс и определение образования» (1862), в которой Толстой, полемизируя с «прогрессистами», нападает на современное положение русской литературы и журнального быта: «Для меня очевидно, что распространение журналов и книг, безостановочный и громадный прогресс книгопечатания, был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и наборщиков. Огромные суммы народа косвенными путями перешли в руки этих людей. Книгопечатание так выгодно для этих людей, что для увеличения числа читателей придумываются всевозможные средства: стихи, повести, скандалы, обличения, сплетни, полемика, подарки, премии, общества грамотности, распространение книг и школы для увеличения числа грамотных. Ни один труд не окупается так легко, как литературный. Никакие проценты так не велики, как литературные. Число литературных работников увеличивается с каждым днем. Мелочность и ничтожество литературы увеличиваются соразмерно увеличению ее органов. Но ежели число книг и журналов увеличивается, ежели литература так хорошо окупается, то, стало быть, она необходима, скажут мне наивные люди. Стало быть, откупа необходимы, что они хорошо окупались? — отвечу я. Успех литературы указывал бы на удовлетворение потребности народа только тогда, когда бы весь народ сочувствовал ей; но этого нет так же, как и не было при откупах.
Литература, так же, как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа. Есть Современник, есть Современное Слово, есть Современная Летопись, есть Русское Слово, Русский Мир, Русский Вестник, есть Время, есть Наше время, есть Орел, Звездочка, Гирлянда, есть Грамотей, Народное Чтение и Чтение для народа, есть известные слова в известных сочетаниях и перемещениях, как заглавия журналов и газет, и все эти журналы твердо верят, что они проводят какие-то мысли и направления. Есть сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, неизвестны, ненужны для народа и не приносят ему никакой выгоды».
Замечательно, что вся эта тирада, направленная против развития периодической прессы и литературного профессионализма, совпадает с целым рядом статей, появившихся в журналах 1861-1862 гг., в которых дебатируется этот же вопрос: Т. 3. (Н. Шелгунов) — «Литературные рабочие» («Современник». 1861. Т. 89), Н. Коси... [Н. Страхов] — «Литературные законодатели» («Время». 1861. Т. VI), Н. Чернышевский — «Литературная собственность» («Современник». 1862. Т. 92), анонимная [Н. Страхов?] — «Неудавшийся антагонизм» («Время». 1862. Т. X). Более того, те же вопросы дебатируются в это время и во Франции, в связи с Брюссельским международным конгрессом 1858 г. и затем — по поводу законопроекта 1862 г. о литературной собственности. Конгресс отвергнул предложение создать литературную ренту, в ответ на что появилось несколько сочинений, защищающих ее (Ф. Пасси, Виктор Модест, Пальоле и др.). Во время работ комиссии 1862 г. вышла книга Прудона «Литературные майораты» (русский перевод 1865 г.), направленная против литературной собственности, с характерным эпиграфом из книги Лабуле («Etudes sur la propri6td litt6raire»): «Если авторское право не есть право собственности, то освободим язык от неточного выражения, а юриспруденцию отложного выражения».
Шелгунов и Чернышевский протестовали против чрезмерного развития прессы и погони за литературным заработком, находя ненормальным самый принцип вознаграждения за литературный труд. В ответ на это Страхов язвительно сопоставляет их статьи с знаменитой статьей Шевырева «Словесность и торговля» (1835) и пишет: «С удовольствием взялись мы за чтение статьи "Литературная собственность". Ну вот, подумали мы: наконец-то и "Современник" хочет преподать нам наставление, как обращаться с вещами, которые называются литературною собственностью. Оно конечно, толки о литературе собственно, особенно русской, теперь вообще в моде. Октябрь, ноябрь и декабрь прошлого [т. е. 1861 ] года были временем преимущественного процветания их. Тогда "Русский вестник" громил весь литературный лагерь своими московскими громами, тогда же и "День" затевал крестовый поход против современной литературной лжи. Под влиянием таких авторитетов все принялись рассуждать о литературном зле, о литературной пошлости и т. п. На рекогносцировку литературных болезней потрачено было много сил и энергии». Сам Страхов отстаивает право автора на вознаграждение за свой труд: «И беда-то наша в том, что экономические условия литературного труда останутся всегда неизбежными в литературе, при всех формах общественных отношений. Положим, литератор или ученый будет поставлен в такое положение, что не будет зависеть от успеха или неуспеха своих сочинений. Представим себе, что вся издательская деятельность перейдет со временем в руки общества, как и мечтает о том наш автор, и литератор будет получать готовые средства к жизни не в виде платы за его книгу, теперь доставляемой случайными покупателями ее, а непосредственно от общества, в мере, сообразной с действительным достоинством его труда. Опять-таки дело тут нисколько не изменится в самой сущности. Капитал все-таки будет растрачиваться: во-первых, на издание книг (разница здесь только в том, что затрачивать будет не одно лицо, сам автор или другое постороннее лицо, издатель, а несколько лиц, общество); во-вторых, на плату жалованья автору, потому что и тогда труд должен будет все-таки оплачиваться, и никто не решится без надежды на материальные удобства тратить свои силы и время на литературный труд... Мы понимаем, сколько безнравственного заключается в том, что люди пишут иногда вопреки своим убеждениям, по заказу, чисто из-за денежных интересов; в этом отношении наши антипатии совершенно совпадают с антипатиями автора. Но вот чего не можем взять себе в толк: что безнравственного и жалкого в том, что иные литераторы живут единственно литературой? Разве литературный труд не может составлять особую категорию труда?»
Я привожу этот материал для того, чтобы показать, что процитированный выше отрывок из статьи Толстого связан с злободневными вопросами журнальной полемики. Эта связь симптоматична, потому что она лишний раз обнаруживает подпочву «педагогических» увлечений Толстого. «Народ» для Толстого в этот момент — метод полемики и борьбы, против которого сами «теоретики» не могут ничего сказать. Правда, Чернышевский говорит много «колкостей» по поводу шума, поднятого Толстым, но и ему приходится многое приветствовать. Особенно иронизирует Чернышевский над тем, что Толстой превращает простые и понятные вещи в сложные и непонятные и впадает в целый ряд противоречий. Статья его кончается обращением прямо к Толстому: «прежде чем станете поучать Россию своей педагогической мудрости, сами поучитесь, подумайте, постарайтесь приобрести более определенный и связный взгляд надело народного образования. Ваши чувства благородны, ваши стремления прекрасны; это может быть достаточно для вашей собственной практической деятельности: в вашей школе вы не деретесь, не ругаетесь, напротив, вы ласковы с детьми, — это хорошо. Но установление общих принципов науки требует, кроме прекрасных чувств, еще иной вещи: нужно стать в уровень с наукой, а не довольствоваться кое-какими личными наблюдениями, да бессистемным прочтением кое-каких статеек. Разве не может, напр., какой-нибудь полуграмотный заседатель уездного суда быть человеком очень добрым и честным, обращаться с просителями ласково, стараться по справедливости решать дела, попадающие ему в руки. Если он таков, он очень хороший заседатель уездного суда, и его практическая деятельность очень полезна. Но способен ли он при всей своей опытности и благонамеренности быть законодателем, если он не имеет ни юридического образования, ни знакомства с общим характером современных убеждений? Чем-то очень похожим на него являетесь вы: решитесь или перестать писать теоретические статьи, или учиться, чтобы стать способным писать их»[405]. В сущности говоря, это было почти уничтожающим приговором и кололо в самое больное место: Чернышевский делал Толстому выговор как учитель ученику. Но Толстой в это время (1862 г.) уже сам отходил от «педагогики» и начинал экспериментировать над учениками не как педагог, а как писатель, результатом чего и явился памфлет: «Кому у кого учиться писать».
Второе заграничное путешествие Толстого было толчком не столько к педагогическим занятиям, сколько к возвращению в литературу. Кроме тех наблюдений и чтений, о которых я говорил, большое значение именно в этом смысле имели беседы Толстого с разными людьми и знакомство с некоторыми направлениями западной мысли. Я не буду останавливаться на свиданиях Толстого с Ауэрбахом и Фребелем — о них подробно писал G. Gesemann в статье «Leo Tolstoj und Berthold Auerbach»[406]; огромное значение имело, по-видимому, другое свидание, которому до сих пор уделяли мало внимания, — свидание Толстого с Прудоном. Оно подготовлено уже тем, что говорилось в предыдущей главе о книге Прудона и ее связи с «Семейным счастьем» Толстого; с другой стороны, обстоятельства, при которых Толстой познакомился с Прудоном, подтверждают его особый интерес к этому человеку.
В феврале 1861 г. Толстой приехал в Лондон; 9 марта нов. ст. он, взяв у Герцена рекомендательное письмо, выехал из Лондона в Брюссель, чтобы повидаться с жившим там Прудоном. Об этом свидании ни в дневниках, ни в письмах Толстого не сохранилось никаких следов; это объясняется как тем, что в это время он почти не вел дневников, так и тем, что упоминать имя Прудона было в это время не безопасно. Ю. Жуковский, напечатавший в «Современнике» (1863. № 10) статью о Брюссельском конгрессе и о комиссии 1862 г. («Новые исследования по вопросу о литературной собственности»), не называет Прудона и выражается так: «В то время как работали Валевский с советниками, в Брюсселе печаталась брошюра: один консерватор, не призванный ни в конгрессы, ни в комиссию, счел нужным выразить печатно свое мнение по вопросу и показать лишний раз, что такое экономисты». Следует подробное изложение книги Прудона «Литературные майораты», но имя автора не названо нигде: анархист Прудон назван нарочно «консерватором».
Итак, в марте 1861 г. Толстой посетил Прудона. Впоследствии он не раз вспоминал об этом свидании. П. Бирюков пишет: «Как-то в разговоре Лев Николаевич сказал мне, что Прудон оставил в нем впечатление сильного человека, у которого есть "le courage de son opinion"60. Д. Маковицкому Толстой говорил: «Герцен дал мне письмо к Прудону, поставил меня с ним в самые близкие отношения»[407]. Единственный документ, относящийся ко времени этого свидания и описывающий его (к сожалению — кратко), это — письмо Прудона к Gustave Chaudey (от 7 апреля 1861 г.), почему-то нигде не цитирующееся. Прудон пишет: «Один из моих московских друзей, замечательный Александр Герцен, изгнанный пятнадцать лет назад, собирается вернуться в Петербург. Вся Россия охвачена восторгом. Царь издал свой указ об освобождении по соглашению с дворянами и посоветовавшись со всеми. Зато надо видеть гордость этих ex-nobles. Один очень образованный человек, г. Толстой, с которым я беседовал на-днях, сказал мне: "Вот это настоящее освобождение. Мы не отпускаем своих рабов с пустыми руками, мы даем им вместе со свободой собственность!" Он сказал мне, кроме того: "Вас много читают в России, но не понимают важности, которую вы приписываете вашему католицизму. Только после того, как я побывал в Англии и Франции, я понял, как вы были правы. В России церковь — нуль"»[408].
Беседа, очевидно, была содержательная и разнообразная — недаром Прудон вынес впечатление, что Толстой «очень образованный человек». Надо полагать, что Прудон рассказал Толстому о своей новой большой книге, которая в это время печаталась и предисловие к которой Прудон только что написал (1 марта 1861 г.). Он сам был очень увлечен этой своей книгой, приписывал ей огромное значение и в письмах к друзьям подробно излагал ее содержание и основные положения. Французское название этой книги было: «La Guerre et la Paix. Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens»; в 1864 г. эта книга вышла в русском переводе (2 тома) под названием: «Война и мир. Исследование о принципе и содержании международного права»[409]. Еще в 1859 г. Прудон писал об этой книге тому же G. Chaudey: «Я делаю последний просмотр работы в 250 страниц, на тему о "Войне и мире", которая, я думаю, будет очень интересна. Она появится в начале июля и откроет новые перспективы»[410]. Издание книги затянулось, потому что издатели боялись ответственности, о чем Прудон и рассказывает в предисловии.
Подробно об этой книге, в связи с «Войной и миром» Толстого (как и вообще по вопросу о литературных связях Толстого с Прудоном), надо говорить особо; здесь мне важно только указать на самый факт: не только название, но и решение писать не просто исторический, а военный роман, с отступлениями в сторону философии истории и войны, возник у Толстого, очевидно, не без связи с этим свиданием в Брюсселе и с книгой Прудона. Смысл выбранного Толстым названия, вообще несколько загадочный, раскрывается вполне только после ознакомления с сочинением Прудона. В обычном понимании название романа «Война и мир» означает сочетание батальных сцен со сценами семейными; но почему семейные сцены названы «миром»! Они происходят во время военных действий и неразрывно связаны с войной не только временем, но и персонажами. Слово «мир» приходится понимать, в таком случае, как «тыл», а это принижает весь смысл названия и делает его неточным. Совсем иначе выглядит это название на фоне книги Прудона: это не просто два слова, а формула, за которой стоит целая теория войны.
Вся первая часть («Феноменология войны») первого тома книги Прудона посвящена анализу понятия войны; тут идут главы: «О феноменальности войны», «Война есть факт божественный», «Война — откровение религиозное», «Война — откровение правосудия», «Война — откровение идеала», «Война — школа человечества», «Воин более чем человек», «Война и мир — выражения соотносительные», «Проблема войны и мира». Особенно останавливают внимание две последние главы. В первой из них Прудон пишет: «Война и мир, которые масса представляет себе как два порядка вещей, исключающие друг друга, составляют попеременное условие жизни народов. Они обоюдно вызывают друг друга, взаимно определяются, пополняются и поддерживаются, как обратные, равные и нераздельные термины антиномии. Мир предполагает войну; война предполагает мир... Итак, война и мир — явления соотносительные, равно действительные и необходимые, суть две главные функции человечества. Они чередуются в истории, как в жизни индивидуума — бдение и сон, как у работника — потеря сил и их возобновление, как в политической экономии — производство и потребление. Мир есть еще война, а война есть мир: было бы ребячество воображать, что они исключают друг друга». В следующей главе Прудон резюмирует: «Мы не можем более сомневаться в том, что война есть по преимуществу явление нашей нравственной жизни. Она имеет свою роль в психологии человечества, как религия, правосудие, поэзия, искусство, промышленность, политика, свобода имеют свою; она есть одна из форм нашей добродетели. Потому изучать ее мы должны во всеобщем сознании, а не на полях сражений, не в осадах и столкновениях армий, не в правилах стратегии и тактики». В другом месте книги Прудон утверждает: «Нет народа, который не имел бы своей Илиады. Эпопея есть народный идеал, вне которого не существует для народа ни вдохновения, ни народных песен, ни драмы, ни красноречия, ни искусства; а главная основа эпопеи есть война... Война, которой, как говорят, бегут мирные музы, есть, напротив, необходимое условие их существования, их вечный предмет... Из всех предметов, способных вдохновить поэта, историка, оратора, романиста, война есть самый неистощимый, самый разнообразный, самый привлекательный; толпа предпочитает его всем другим и никогда не может им насытиться; без него поэзия сделалась бы приторна и бесцветна. Попробуйте уничтожить эту тайную связь, которая делает войну необходимым материалом для созданий идеала, и вы увидите, как опошлеет человек, каким невыносимым прозаизмом будет поражена индивидуальная и общественная жизнь. Если бы война не существовала, то поэзия выдумала бы ее». Книга Прудона и самая парадоксальность ее тезисов должна была не только увлечь Толстого, но и поразить его родственностью некоторых основных положений и напомнить многое из того, о чем он сам думал и писал в своих военных рассказах. Еще «Набег» открывался рассуждением о войне и храбрости, в котором говорилось: «Война всегда интересовала меня. Но война не в смысле комбинаций великих полководцев, — воображение мое отказывалось следить за такими громадными действиями: я не понимал их, а интересовал меня самый факт войны — убийство... Меня занимал только вопрос: под влиянием какого чувства решается человек без видимой пользы подвергать себя опасности и, что еще удивительнее, убивать себе подобных? Мне всегда хотелось думать, что это делается под влиянием чувства злости; но нельзя предположить, чтобы все воюющие беспрестанно злились, и я должен был допустить чувство самосохранения и долга». А вот — слова Прудона, которые легко можно принять за вариант толстовского рассуждения: «Знать материальную сторону сражений и осад, проследить на карте все движение армий, свести счет людям, пушкам, снарядам, ранцам, перечитать все ноты, которыми обменялись воюющие стороны пред объявлением войны, — все это еще не значит знать, что такое война. Стратегия и тактика, дипломатия и интрига имеют свое место на войне, как вода, хлеб, вино, масло — в богослужении, как жандармы и швейцар, тюрьма и цепи — в правосудии, как звуки голоса и азбучные фигуры — в произведениях ума. Но все это, взятое само по себе, не раскрывает никакой идеи. Видя, как две армии режут одна другую, недоумеваешь, даже прочитав их манифесты, что делают и чего хотят эти добрые люди: то, что называют они сражением, есть ли это игра, упражнение, жертвоприношение богам, исполнение судебного приговора, физический опыт, припадок сомнамбулизма или безумия, следствие опиума или алкоголя. И действительно, материальные акты борьбы не только сами по себе ничего не выражают, но нисколько не раскрывает значения войны и то объяснение, которое дают им юристы, а за юристами историки, государственные люди, поэты и военные, а именно: что люди воюют между собою потому, что их интересы приходят в столкновение. Удовольствоваться таким объяснением значило бы уподобить войну драке собак, грызущихся за самку или за кость; одним словом, значило бы признать войну фактом чисто-животной жизни. Но это отвергается общечеловеческим чувством и фактами; это противоречит самой природе человека, существа разумного, нравственного и свободного. Как бы мы ни тщеславились нелюбовью к людям, невозможно совершенно уподобить в этом отношении человека животному; невозможно, говорю я, объяснить войну только страстями низшего порядка, как будто человечество может совершенно раздваиваться, являясь то ангелом, то диким зверем, смотря по тому, будет ли следовать исключительно указаниям своей совести или своим животным побуждениям».
Моральный пафос, которым проникнута книга Прудона, его тенденция подойти к войне как к факту «нравственной жизни» и опровергнуть теории юристов и дипломатов — все это должно было произвести большое впечатление на Толстого и воодушевить его на создание военной «эпопеи». Прудон и Толстой сближаются не только в этом пункте, но в целом ряде тем и тезисов: книга о женщине, книга о войне, книга против литературной собственности («Литературные майораты»), книга об искусстве, книга об евангелиях — все это темы самого Толстого, развитые притом в очень близком Толстому направлении. Лишним свидетельством того, что Толстой в шестидесятых годах не только интересовался Прудоном, но и считал его основные идеи родственными себе, служит, между прочим, его записная книжка 1865 г., в которой 13 августа записано: «La propridtd c'est le vol останется больше истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. Это — истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные — приложения»[411].
В одном Толстой разошелся с Прудоном. На протяжении своей книги Прудон много раз говорит о Наполеоне — и в неизменно восторженном тоне: «Если когда- либо человек казался рожденным именно для того, чтобы увлекать за собою массы людей, воодушевлять солдат до энтузиазма и вести их на борьбу сил, где нет ни малейшей примеси хитрости или обмана, так это был он. Его душа, великая, поистине геройская, высказалась в его прокламациях». Здесь сказался не столько патриотизм, сколько германская ориентация Прудона, его своеобразное гегельянство, в котором французы неоднократно его упрекали. «Бонапартизм» был в это время реакционным явлением — Прудон, несмотря на свое презрение к политике
Наполеона III, продолжает старую традицию (гегельянскую) в отношении к Наполеону I. Для Толстого этой традиции не существует, а при этом — он человек, недавно переживший падение Севастополя и настроенный патриотически. Отсюда — парадоксальная, но характерная ориентация Толстого на современную радикальную публицистику, направленную против Наполеона I и его историка Тьера.
Именно в эти годы появился целый ряд не философских, а исторических и публицистических работ, пересматривавших вопрос о Наполеоне и уничтожавших тот ореол гениальности, которым до того окружалось его имя. Книги эти, как и вообще литература о Наполеоне, были очень популярны в России. Эта линия про- тивонаполеоновской литературы, начатая иностранными авторами (Вальтер Скотт, Чаннинг, Эмерсон), перешла затем и во Францию — как полемика против Тьера. В 1858 г. вышла (в Брюсселе, как запретная) книга полковника Charras«Histoirede la campagne de 1815», которую тогда же приветствовал «Русский вестник» и о которой Достоевский упоминает в «Идиоте»[412], а затем эта тенденция сказывается в ряде специальных и общих работ (Edgar Quinet, Lamartine, Eugfene Pelletan, Scherer, Chauffour-Kestnern др.). Особенное значение имели книги: Jules Bami — «Napoldon etson historien M. Thiers» (Geneve, 1865), с эпиграфом из Чаннинга, и P. Lanfrey — «Histoire de Napoldon I-ег» (5 томов), бывшая в яснополянской библиотеке. Во Франции эта литература имела, кроме исторического, особый злободневный и публицистический смысл — борьбы со второй империей при помощи унижения первой; в России унижение Наполеона I, сверх того, должно было приветствоваться многими, и именно консервативно и патриотически настроенными людьми, как реванш за старое. Но подробно об этой литературе и об использовании ее Толстым надо говорить в другом месте — в работе, посвященной «Войне и миру». Здесь я намечаю только некоторые перспективы, связанные с поездкой Толстого за границу.
Значение Прудона и его книги о войне для Толстого кажется мне достаточно выясненным — по крайней мере для 1861 г. Надо полагать, что Толстой перешел от романа о декабристах, задуманного им в конце пятидесятых годов, к военному роману из эпохи 1812 г. не так механически, как он сам изображает это в послесловии, предназначенном для публики. Исторический роман в полном смысле этого слова, каким должен был быть роман о декабристах, не выходил; путешествие за границу и знакомство с Прудоном и с его книгой, по-видимому, отвлекли внимание Толстого от этого материала и заронили мысль о написании военного романа. Связь с Прудоном была довольно явно подчеркнута названием — точно Толстой, не желая называть его имени, решил таким способом посвятить свой роман его памяти. Странно, как никто из критиков и корреспондентов Толстого не обратил на это внимание — тем более, что книга Прудона вышла в русском переводе в 1864 г., а роман Толстого — в 1868 г.
Весной 1861 г. Толстой возвращается в Россию и погружается в педагогические занятия. Но это продолжается недолго. Осенью 1862 г. Толстой женится, в ноябрьской книжке «Ясной Поляны» выходит статья «Кому у кого учиться писать», а осенью 1863 г. он пишет А. А. Толстой: «Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810 и двадцатых годов, который занимает меня вполне с осени. Доказывает ли это слабость характера или силу — я иногда думаю — и то другое, — но я должен признаться, что взгляд мой на жизнь, на народ и на общество теперь совсем другой, чем тот, который у меня был в последний раз, как мы с вами виделись. Их можно жалеть, но любить мне трудно понять, как я мог так сильно. Все-таки я рад, что прошел через эту школу; эта последняя моя любовница меня очень формировала. — Детей и педагогику я люблю, но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад. Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет. Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтоб все шло по-прежнему»[413].
Пользуясь терминологией Толстого, можно сказать, что школа была для Толстого только «любовницей», утешавшей его в трудный момент, а законной его женой осталась литература, которая именно теперь превратилась из мечты в действительность. В ненапечатанном тогда предисловии к «Войне и миру» Толстой писал: «В сочинении моем действуют только князья, говорящие и пишущие по- французски, как будто вся русская жизнь того времени сосредоточивалась в этих людях. Я согласен, что это неверно и нелиберально, и могу сказать один, но неопровержимый ответ. Жизнь чиновников, купцов, семинаристов и мужиков мне не интересна и наполовину непонятна, жизнь аристократии того времени, благодаря памятникам того времени и другим причинам, мне понятна, интересна и мила»[414]. Это — демонстрация против духа современной литературы, ведущей себя от Гоголя и «натуральной школы» — против «Современника», против Островского, Помяловского, Писемского и др.
Ничего не изменилось: Толстой остался тем же патриархальным аристократом и архаистом, каким был. Разница только в том, что Толстой вернулся к литературе. Отныне «Ясная Поляна» противостоит журнальным редакциям и всей современной беллетристике как особая форма литературного быта и производства.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Книга вторая Шестидесятые годы
ПРЕДИСЛОВИЕ
Моя вторая книга о Толстом написана в том же масштабе, как и первая. Она охватывает эпоху 60-х годов — эпоху сложную, бурную и мало изученную. Что касается Толстого этой эпохи, то он почти вовсе не изучен. Поэтому приходилось делать специальные экскурсы, освещающие как эпоху, так и положение в ней Толстого. В связи с этим пришлось уделить много места самому материалу — часто за счет его анализа.
Я не сомневаюсь, что мне удалось сделать только частицу того, что можно и нужно. «Война и мир» требует, конечно, отдельного большого исследования. Это сейчас невозможно. Я ограничился одной темой, лежащей вообще в основе моей работы о Толстом: вопросом о позиции Толстого и об ее изменениях. Я проследил историю работы Толстого над «Войной и миром» в связи с постепенным изменением жанра романа и его смысловых тенденций.
Значительная часть книги отведена установлению западных связей Толстого: обследованы отношения Толстого к немецкому литературному народничеству (Риль, Ауербах, Готхельф), развернут вопрос о Прудоне, обнаружена связь с Ж. де- Местром и пр. К сожалению, в этой части мне не хватало знакомства с некоторыми печатными и рукописными материалами, имеющимися за границей. Возможно, что это привело к некоторым ошибкам или неточностям.
Особенное значение для «Войны и мира» имеет установление идеологической связи Толстого с М. Погодиным и С. Урусовым. Толстой, оказывается, ближайшим образом связан с кружком «чудаков»-архаистов 60-х годов, продолжающих развивать взгляды и традиции старших славянофилов. Источники и смыслы философ- ско-исторических и военно-теоретических глав «Войны и мира» таким образом проясняются.
За помощь при писании этой книги я должен поблагодарить ряд лиц. Прежде всего — В. Шкловского и Ю. Тынянова; затем — М. Цявловского, В. Срезневского, Ю. Оксмана, К. Шохор-Троцкого, С. Балухатого, В. Наумова, Г. Волкова и И. Ямпольского.
Б. Эйхенбаум. 3 октября 1930 г. Ленинград
Часть первая
ТОЛСТОЙ ВНЕ ЛИТЕРАТУРЫ
1
Конец 50-х годов был началом новой эпохи, чреватой кризисами и потрясениями старых основ. Пришли «новые люди»[415], враждебно настроенные к «людям сороковых годов», явились новые интересы и задачи. «Изящная литература», занимавшая такое важное место несколько лет назад, потеряла свой авторитет и свое значение — ее место заняла «публицистика». Перевес социальных и политических вопросов над всеми другими ощущался резко.
Толстой отметил это новое положение в письме к В. Боткину (4 января 1858 г.): «Политическая жизнь вдруг неожиданно обхватила собой всех. Как бы мало кто не был приготовлен к этой жизни, всякий чувствует необходимость деятельности». Еще несколько месяцев назад, скоро по возвращении из-за границы, Толстой с недоумением писал тому же Боткину (1 ноября 1857 г.): «Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время» и с удовлетворением прибавлял: «Дружинин непоколебим». Прошло некоторое время — и он сам признается Боткину: «Изящной литературе, положительно, нет места теперь для публики». Правда, он тут же прибавляет — «не думайте, чтобы это мешало мне любить ее теперь больше, чем когда-нибудь», но это уже вопрос об отношении к факту — сам по себе факт признан.
Имя Салтыкова-Щедрина недаром мелькает в переписке Толстого с Боткиным 1858 г. Вопрос о Щедрине как о «патриархе и заводчике обличительной литературы» (выражение Н. К: Михайловского) был в это время принципиально острым не только в читательской, но и в писательской среде. Сложную проблему писательского поведения, возникшую теперь перед всеми, вступившими в литературу до середины 50-х годов, Салтыков решал по-своему — иначе, чем большинство. Назревал своеобразный писательский «саботаж» (Тургенев, Фет, Толстой и др.), на фоне которого решительный ход Салтыкова в журналистику выглядел изменой или приспособленчеством. Толстой писал В. Боткину 1 ноября 1857 г.: «Некрасов плачет о контракте нашем. Панаев тоже, сами уж и не думают писать, сыплют золото Мельникову и Салтыкову, и все тщетно... Щедрин, Мельников, Гр. Н. С. Толстой и прежде писали, не перечитывая, теперь пишут по два слова вдруг и еще диктуют, и все мало». Боткин отвечал: «Салтыков говорит, что теперь и Гёте перечитывать не станут больше. Он прав: те, которые наслаждаются его рассказами, — никогда не станут читать Гёте по той именно причине, что они ничего не поймут в нем. Он же говорит, что для изящной литературы теперь прошло время — бедное время, для которого проходит способность творчества! Я не знаю, говорит ли он это в комплимент нашему времени, или в насмешку? Я думаю, он и сам этого не разберет... Я помню, как в 40-х годах поклонники стихов Гервега и вообще tendenz-Poe- sie — кричали о своей победе над Гёте и чистым искусством — но что осталось от их криков и от самых стихов Гервега? Всякий политический момент народной жизни вызывает и в литературе явления, ему соответствующие; но из них остаются только те, которые стоят выше этих моментов — все остальное обращается в общественный навоз. Напишите-ка ваш Кавказский роман так, как вы его начали, — и вы увидите, как Щедрины и Мельниковы тотчас будут поставлены на свои места».
Интересную и точную характеристику положения русского писателя в это время делает Г 3. Елисеев (со слов Н. К. Михайловского) в связи с вопросом об очерке Салтыкова «Литераторы-обыватели», появившемся в 1863 г. и вызвавшем много разнообразных толков: «Писатели, начавшие, как Щедрин, работать в сороковых годах, были люди, в большинстве случаев, дворянского происхождения, хорошо, на готовых хлебах, воспитанные и иногда блестяще образованные, и это блестящее образование давало широкие горизонты и соответственные требования от жизни. Эти лица тяготились мраком дореформенного режима и страстно жаждали обновления родины, которое представлялось им в не совсем, может быть, определенных, но прекрасных и величавых формах. Но когда, в конце пятидесятых годов, обновление наступило, некоторые из них даже не узнали его, потому что оно подняло с низших слоев русского житейского моря элементы, оскорблявшие их тонко развитый вкус. Они вполне разделяли лучшие упования нового времени, но с брезгливым изумлением смотрели на нахлынувших разночинных носителей этих упований и подчас заходили очень далеко в этом отношении. Брезгливость доходила до такой степени, что неприглядная форма заслоняла для них самую сущность дела. Салтыков не повинен в этом грехе, но и он был не чужд брезгливости. Она-то и сказалась в очерке Литераторы-обыватели»2.
Это хороший комментарий к переписке Толстого с Боткиным. В 1858 г. отношение к Салтыкову уже меняется, хотя тем острее стоит вопрос о потоке обличительной литературы и «литераторов-обывателей». В дневнике Толстого от 17 марта 1858 г. записано: «Салтыков, читал. Идеалист хорош. Он здоровый талант». Показательна в смысле отношения к Салтыкову и к обличительной литературе статья Е. Эдельсона, напечатанная в архаическом по духу, но боевом по тону Погодинском сборнике «Утро»: «Н. Щедрин и новейшая сатирическая литература». Вопрос решается двойственно и дипломатично — признание Щедрина соединяется с отрицательным отношением к порожденной им школе: «Слабость и бессилие творческой производительности есть вообще удел того практического направления литературы, которую ввел у нас Щедрин, а за ним довела до крайности новая сатирическая школа. Писателям с такою тревожною деятельностью, исключительным служителям временных социальных вопросов, некогда глубоко вникнуть в жизнь, чтобы вынести оттуда широкое поэтическое миросозерцание. Вопросы, с которыми они приступают к действительности, не принадлежат им самим — это вопросы современные, подсказываемые им со всех сторон, часто полуразрешенные; стоит только тронуть их в какой угодно форме — и сочувствие публики уже приобретено. Не так легко достается это сочувствие истинным художникам, которых заслугами так удобно пользуются писатели, служащие современным требованиям публики». Припомним, что в своей речи в Обществе любителей российской словесности (4 февраля 1859 г.) Толстой говорил о том же — и даже почти в тех же терминах («временные интересы общества» и пр.).
Центром развития новой журнальной и обличительной литературы был Петербург; Москва, и прежде относившаяся к петербургской литературе враждебно, объявила ей настоящую идеологическую войну, отстаивая во всех вопросах, связанных с общим социальным и экономическим поворотом России, свои, большею частью архаические, взгляды. Здесь собралась боевая группа славянофилов и, на смену павшему «Москвитянину», организовала «Русскую беседу». Противопоставление Москвы Петербургу стало заново злободневной темой. М. Погодин издал сборник «Утро» (1859 г.), о котором писал П. Вяземскому. «Альманах намеревается заговорить о литературе, стоящей теперь на заднем плане, и начать реставрацию, ревизию и инспекторский смотр»[416]. «Утро» противопоставляло Москву как «сердце России» другим городам, обслуживающим «чисто-утилитарные стремления времени» — каковы Петербург и Астрахань, Бердянск и Семипалатинск, Архангельск и Одесса, Либава и Кяхта. В ответ на развитие петербургской прессы Погодин писал в предисловии: «Давно ли стали у нас плодиться журналы, а в Петербурге (по вычислению, за которое мы обязаны «Современнику») в 1858 году уже выходило двадцать девять уличных листков, которых единственным побуждением была торговая спекуляция не выше и не ниже открытия харчевни близ места, где бы вдруг должна была сойтись толпа рабочего народа. В Москве до сегодня нет, кажется, ни одного подобного предприятия, и мы уверены, что не будет». Характерно, что к началу 60-х годов и Тургеневу и Толстому пришлось перейти из «Современника» в «Русский вестник» — из петербургской литературы в московскую, тогда как Салтыков, наоборот, перенес свое сотрудничество из «Русского вестника» (где были напечатаны «Губернские очерки») в «Современник».
Процесс диференциации литературных и литературно-бытовых партий и группировок шел быстро. В связи с этим происходили резкие перемены в составе журнальных редакций, разрывались долголетние связи, устанавливались новые отношения. Редакция «Современника» переживала сложный процесс превращения в орган радикальной «разночинной» молодежи и постепенно порывала с прежними ближайшими сотрудниками (Тургеневым, Толстым и др.). Осенью 1861 г. редакция разослала своим подписчикам специальное объявление «Об издании Современника в 1862 году», в котором между прочим говорилось: «Направление "Современника" известно его читателям. Продолжая, по мере возможности, развивать это направление в приложении к разным отраслям науки и жизни, редакция в последние годы должна была ожидать изменения своих отношений к некоторым из сотрудников (преимущественно беллетристического отдела), которых произведения в прежнее время, когда еще направления не обозначались так ясно[417], — нередко с удовольствием встречаемы были читателями в нашем журнале. Сожалея об утрате их сотрудничества, редакция однако же не хотела, в надежде на будущие прекрасные труды их, пожертвовать основными идеями издания, которые кажутся ей справедливыми и честными и служение которым привлекает и будет привлекать к ней новых, свежих деятелей и новые сочувствия, между тем как деятели, хотя и талантливые, но остановившиеся на прежнем направлении, —именно потому, что не хотят признать новых требований жизни — сами себя лишают своей силы и охлаждают прежние к ним сочувствия». Все это писалось в тот момент, когда Чернышевский играл уже основную роль в редакции, — и писалось, скорее всего, под его диктовку. Так прощался «Современник» с эпохой 50-х годов, эпохой идиллической по сравнению с той, которая наступала. Тон прошения был достаточно вежлив, но не без нравоучительной иронии. Тургенев ответил на все это «Отцами и детьми». Это был сложный тактический ход: не отказываясь от прошлого, Тургенев вместе с тем показывал, что «не остановился на прежнем направлении» и что «хочет признать новые требования жизни». Продолжительная полемика вокруг этого романа была Тургеневу на руку — имя его, несмотря на происшедшие перемены, оказалось опять на виду. Судьба Толстого складывалась иначе.
И «Люцерн», и «Альберт», и «Семейное счастие» были обойдены почти полным молчанием критики. Имя Толстого постепенно забывалось. Критика игнорировала произведения «изящной литературы», не отвечающие на современные социальные и политические вопросы. О Толстом вспомнил один Ап. Григорьев, характерно назвавший свою статью «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой» («Время». 1862. № 1, 9); но и он говорил в ней не столько о Толстом, сколько об общих вопросах и о направлениях критики. Статья эта была написана главным образом против «теоретиков» и их журнала — т. е. против «Современника». Отношение «теоретиков» к Толстому было использовано Григорьевым для развития своих взглядов. Григорьев пишет: «Молчание о Толстом и о его лучшем произведении "Семейном счастии" за направление, которое ясно обнаружилось в его деятельности, — дело совершенно понятное. Непонятно только то, каким образом с самого начала теоретики не видали, куда поведет молодого писателя искренность его анализа?.. Дело самое ясное, что для современной критики нашей литература перестала быть не только полным и главным, но вообще сколько-нибудь знаменательным выражением жизни. Перестала ли она быть таковым для самой жизни, — это еще вопрос; но что для критики, т. е. для сознания нескольких, для сознания избранных, пожалуй, передовых людей, перестала, — это несомненно»[418].
На вопрос Ап. Григорьева Толстой уже ответил в письмах и к Фету и к В. Боткину. Еще 3 сентября 1857 г., сейчас же по возвращении из-за границы, Толстой делает в своем дневнике характерную запись, связанную, очевидно, с тем тяжелым впечатлением, которое произвела на него Россия: «Только теперь я понял, что не жизнь вокруг себя надо устроить симметрично, как хочется, а самого себя надо разломать, разгибчить, чтоб подходить под всякую жизнь». К концу 1859 г. он решает избрать «хозяйство» своей деятельностью на всю жизнь, о чем сообщает в письме к своему новому другу, Б. Н. Чичерину, и прибавляет: «Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил». В начале 1860 г. является формула, о которой я уже говорил: «Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы узнать, что делать прежде, а что после». Если прежде можно и нужно было заниматься литературой, то теперь надо заниматься другим: «Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немного тому, что мы знаем». За этой новой формулой кроется целая новая программа поведения.
Естественно, что Толстой, выйдя из привычного для него литературного круга и почти отойдя от «бесценного триумвирата» (Дружинин, Боткин, Анненков), заново оглядывается вокруг себя и ищет опоры. Найти эту опору ему нелегко уже по одному тому, что у него нет никакого определенного «положения»: он — не военный и не типичный профессионал-помещик, а вместе с тем он и не интеллигент, не журналист, не профессиональный литератор, не идеолог той или другой группы или партии. На него смотрят не то как на подозрительного отщепенца (сотрудник «Современника»), не то как на оригинала и чудака. Никто не считает его своим. Литературные группировки уступили свое место группировкам социальным — жизнь выдвинула совершенно конкретные социально-экономические потребности и вопросы. Среди этого процесса новой дифференциации Толстой, с его эстетическими и моральными проблемами, чувствует себя одиноким и беспомощным — как человек деклассированный, потерявший свое место в современном обществе. Только что найдя себе место в литературе, он выброшен из нее — потому что сама литература, в ее прежнем виде, оказалась ликвидированной. Ему остается вернуться в свой класс, но это тоже не легко. Он пробует ориентироваться среди помещичьих группировок и направлений и приходит к печальным для себя выводам. В этом смысле очень характерно его письмо к Боткину (от 4 января 1858 г.), в котором дана классификация этих группировок, сделанная по моральному признаку: «Противников освобождения 90 на 100, а в этих 90 есть различные люди. Одни потерянные и озлобленные, не знающие, на что опереться, потому что и народ и правительство отрекаются от них. Другие лицемеры, ненавидящие самую мысль освобождения, но придирающиеся к форме. Третьи самолюбцы проектеры. Эти самые гадкие. Эти никак не хотят понять, что они известного рода граждане, имеющие права и обязанности ни большие, ни меньшие, чем другие. — Они хотят или ничего не делать или делать по-своему и всю Россию повернуть по своему прилаженному узенькому деспотическому проекту. Четвертые, и самое большое число, это упорные и покорные. Они говорят: сами обсуждать дела мы не хотим и не будем. Ежели хотят, то пускай отнимут все, или все оставят в старом положении. Есть еще аристократы на манер аглецких. Есть западники, есть славянофилы». Себя Толстой причисляет к тем, которых нет: «А людей, которые просто силой добра притягивали бы к себе и примиряли людей в добре, таких нету». При такой своеобразной позиции, лишенной конкретного социального и исторического содержания и основанной исключительно на моральных, проповеднических, почти «пасторских» тенденциях, общественное положение Толстого делалось все более и более сложным. 4 сентября 1858 г. в дневнике записано: «Были выборы. Я сделался врагом нашего уезда. Компания Черкасского, дрянь такая же, как и их оп- позиторы, но дрянь с французским языком».
Итак, в момент усиленной дифференциации общественных сил, в момент создания партий и группировок, ведущих между собой реальную историческую борьбу, Толстой оказывается вне партий и групп — со своей особой моралистической позицией, которая противопоставлена всем другим. На самом деле это — позиция социального архаиста, позиция боковая, несколько фантастическая — позиция «чудака» («Лев Толстой продолжает чудить», как писал Тургенев), по-своему тоже очень характерная для этого времени и, как выяснится ниже, вовсе не одинокая. Недаром на протяжении всей эпохи 60-х годов за Толстым удержалась (высказанная людьми самых разнообразных направлений) характеристика чудака и оригинала. Такая архаистическая позиция способна к гораздо большей подвижности и изменчивости, чем всякая другая; элементы, ее составляющие, могут вступать в самые прихотливые и противоречивые сочетания, соприкасаясь одновременно и с наиболее реакционными и с наиболее радикальными, новаторскими или даже «нигилистическими» системами[419]. Отсюда — всегда своеобразное положение Толстого среди различных партий, лагерей и групп: все проблемы современности он решаете неожиданной стороны — в том числе и проблему собственного поведения. Его позиция в разные моменты оказывается в родстве с разными и иногда прямо противоположными системами. Недаром он сам отметил как-то раз в дневнике, что днем, в споре с К. С. Аксаковым, он говорил как западник, а вечером, в споре с С. Д. Горчаковым, «из западника сделался жестоким славянофилом». При желании любая система может найти у Толстого, как находил Михайловский, подходящие «шуйцу» и «десницу».
Архаистичность толстовской позиции выражается в противопоставлении конкретным историческим оценкам и принципам («временным», как сказал бы Толстой) начал абстрактных («вечных»), составляющих систему понятий и правил, которая противостоит всякой системе убеждений. Эта позиция может быть названа архаистической потому, что, восходя к моралистическим системам XVIII в., она выглядит на фоне 60-х годов одновременно и как пережиток и как самобытное новаторство. В этом разница между системой архаистической и архаической (отсталой). Архаистическая система — не просто элемент, оставшийся от уже преодоленного и доживающего свой век явления, а наоборот — заново восстающая и имеющая основания для нового успеха, хотя и коренящаяся в прошлом, сила. Связанное с этими историческими особенностями и потому характерное для всякого архаиста «чудачество» ярко окрашивает всю систему мысли и поведения Толстого.
Система эта, проникнутая пафосом «самобытной мысли»[420], не образует никакой теории, а скорее, направлена к разрушению всякой теоретической основы и к замене ее нормами, «правилами». Всякая научная доктрина или теория, самым своим существом и существованием, вызывает борьбу со стороны системы Толстого, поскольку система эта моралистична и тем самым непременно догматична. Но эта система или позиция, именно как архаистическая, дала Толстому и силу и право выдержать натиск эпохи и не отходить от нее, а наоборот — непрерывно вклинять- ся в нее и, подвергая себя ее давлению, отвечать ей соответственным сопротивлением. Так, убедившись в том, что «изящной литературе нет места теперь для публики», Толстой не отходит в сторону от современности, а берется за школу — с тем, чтобы через нее вернуться к литературе. Именно эта позиция, и только она, в тех исторических условиях, в которых жил Толстой, сохраняла для него возможность художественной работы как способа своеобразной полемики и борьбы с современностью. Периодические отходы от этой работы в область педагогики, философии, общественной деятельности и т. д. диктовались той же позицией — как способы ее закрепления и пропаганды, как демонстрация ее жизнеспособности. Архаистическая позиция, занятая Толстым в борьбе с современностью, требовала от него соответственных стратегических приемов. Если другие, как Тургенев, применяли главным образом тактические движения, то Толстой действовал как стратег — то применяя наполеоновскую систему «быстроты и натиска», то, по-кутузовски, отступая вглубь и выжидая. Тактические приемы вроде тургеневского «Довольно» были для Толстого неприемлемы и недопустимы — весь смысл его позиции и системы был в том, чтобы преодолеть натиск истории. Можно сказать вообще, что Толстой вел войну не столько с той или другой современностью, сколько с историей как таковой — с самым фактом исторического процесса. Он, как архаист, не хотел с ним соглашаться, не допускал его возможности. Только при такой позиции можно было в 60-х годах написать «Войну и мир», а в 70-х — «Анну Каренину».
2
Позиция Толстого делала для него особенно важным и трудным вопрос об отношениях с людьми и о выборе друзей как один из вопросов поведения. Все его дружеские связи характерны и значительны своим историческим смыслом — как связи, порожденные и обусловленные не простыми бытовыми («биографическими») случайностями, а самыми особенностями его позиции и происходящими в ней изменениями. Недаром каждый период его жизни может быть обозначен именами людей, служивших ему в данный момент опорой. Тургенев, Анненков, Дружинин, В. Боткин — так прошли 50-е годы. К концу этой эпохи, после «Семейного счастья» и краха намеченной и начатой в тесном общении с «бесценным триумвиратом» литературной карьеры, Толстой начинает искать других людей. К началу 60-х годов отношения с В. Боткиным почти прерываются, а отношения с Дружининым, самым «полезным» для Толстого 50-х годов человеком, принимают форму обыкновенных приятельских отношений и продолжаются по инерции[421]. Толстой приступает к выбору нового друга.
Еще в 1856 г., живя в Москве, Толстой стал бывать в славянофильских кругах и познакомился с вождями этой партии. Для славянофилов это была самая горячая пора — пора споров об общине, о древней Руси и пр. Все они сгруппировались в редакции «Русской беседы» и начали вести ожесточенную борьбу со своими противниками. Толстой, бывший тогда сотрудником «Современника», был для славянофилов лицом загадочным. И. Аксаков писал отцу 15 февраля 1856 г.: «Скажите мне, пожалуйста, как вы поняли гр. JI. Толстого? Он меня очень интересует, и мне бы хотелось с ним познакомиться». Знакомство состоялось, но результаты не оправдали ожиданий. Убеждения славянофилов и их теоретические споры оставляли Толстого холодным, а иногда и раздражали его. 8 мая 1856 г. в дневнике записано: «Вечером сидел у Оболенского с Аксаковым и Киреевским и др. славянофилами. Заметно, что они ищут врага, которого нет. Их взгляд слишком тесен и не задевающий за живое, чтобы найти отпор». Толстой не только не увлекся их взглядами, но даже не почувствовал в них ничего злободневного, важного. Это, конечно, характеризует его общественную наивность, но в то же время отражает, вероятно, тогдашнюю петербургскую точку зрения — точку зрения «бесценного триумвирата». Триумвират имел перед собой настоящего врага — в лице Чернышевского; до славянофилов им не было никакого дела. Общинные теории славянофилов Толстой тоже оценил по-своему: «Славянофилы подмешали к своим убеждениям социализм, эту политическую неразрешимую пешку. От этого-то их ничем не собьешь» (записная книжка 1856 г.). Характерный для славянофилов традиционализм и культ старины тоже не мог вдохновить Толстого, не распложенного ни своим образованием, ни своей позицией (несмотря на ее архаистичность и даже именно в связи с этим) к такого рода культурно-историческому консерватизму; в его дневнике есть интересная запись от 4 апреля 1856 г.: «Одно из главных зол, с веками нарастающих во всевозможных проявлениях, есть вера в прошедшее. Перевороты геологические и исторические необходимы. — Для чего строят дом в 1856 году с греческими колоннами, ничего не поддерживающими?»
Толстому нужны были люди; убеждения мало интересуют его — самое это слово он произносит с каким-то полупрезрением. Для него и славянофильство и западничество — категории моральные: не столько разные теории и учения, сколько разные типы поведения и отношения к жизни. Поэтому история его отношений к славянофилам и западникам так изменчива, витиевата и противоречива. Так, к концу 1856 г. он заинтересовывается Герценом и читает «Полярную звезду» (запись от 4 ноября — «Очень хорошо»), сходится с Б. Н. Чичериным, а о славянофилах пишет В. Боткину (28 января 1857 г.): «Славянофилы мне кажутся не только отставшими так, что потеряли смысл, но уже так отставшими, что отсталость переходит в нечестность». Пройдет несколько лет — и Толстой приблизится к славянофилам, сдружится с Ю. Самариным и даже с М. Погодиным, о котором раньше, 13 июля 1856 г., записал в дневнике: «Погодина с наслаждением прибил бы по щекам. Подлая лесть, приправленная славянофильством». В черновой редакции «Анны Карениной» говорится о карьере Левина[422]: «В середине его светской жизни его застало освобождение крестьян, и он опять поехал в деревню и поступил в посредники. Через два года он поехал за границу и, вернувшись, сделался славянофилом и поселился навсегда, как он себе говорил, в деревне». В основу этих фактов из жизни Левина положены, по-видимому, факты из жизни самого Толстого в начале 60-х годов. К этому же времени относится любопытная запись (23 января 1863 г.) — как материал для сюжета: «Тип профессора-западника, взявшего себе усидчивой работой в молодости диплом на умственную праздность и глупость, с разных сторон приходит мне в противоположность человеку, до зрелости удержавшему в себе смелость мысли, чувства и дела». Тут слово «западник» звучит совершенно ясно как оценочный, моральный признак; примерно так же звучит в приведенной цитате выражение «сделался славянофилом».
Запись о «профессоре-западнике» скрывает в себе, по-видимому, опыт одной дружбы, на которой стоит остановиться, потому что эта недолгая, несколько парадоксальная, но от этого не менее, а еще более характерная по своему историческому смыслу дружба хорошо иллюстрирует позицию и поведение Толстого в годы распутья. Я имею в виду дружбу с Б. Н. Чичериным.
До знакомства с ним Толстой присматривался к славянофилам, как будто надеясь сблизиться с некоторыми из них. Об этом свидетельствуют записи дневника: 21 мая 1856 г. — «Обедал у Аксаковых. Познакомился с Хомяковым. Остроумный человек»; 23 мая — «Юрий Самарин очень мне нравится. Холодный, гибкий и образованный ум». Но вот 28 января 1857 г. Толстой сообщает В. Боткину: «Познакомился я здесь получше с Чичериным, и, этот человек мне очень, очень понравился». Интересно, что вслед за этой фразой идетта, которую я уже цитировал, — об отсталости славянофилов. Сближение с Чичериным явилось, по-видимому, результатом полного разочарования в славянофилах — не в их идеях, а в их моральных качествах («отсталость переходит в нечестность»); с другой стороны, под влиянием Чичерина разочарование это могло только усилиться, потому что для Чичерина славянофилы были людьми вредными с моральной точки зрения — не представителями враждебной теории, а противниками научной мысли и просвещения. В своих воспоминаниях он говорит: «Отношение славянофилов к западникам состояло вовсе не в противоположности учений... у так называемых западников никакого общего учения не было... Всех их соединяло одно: уважение к науке и просвещению... Славянофилы, напротив, выработали весьма определенное учение, которое разделялось ими всеми. Это была настоящая секта».
Именно в 1856 г. Чичерин решительно выступил против славянофилов, напечатав статью на боевую тему о сельской общине («Обзор исторического развития сельской общины в России» — в «Русском вестнике», 1856, февраль, кн. 1 и 2). Статья эта вызвала обширную полемику, которая еще более обострила враждебную позицию Чичерина. Имя Чичерина стало для славянофилов символом доктринерства, далекого от жизни. Полемика приняла ожесточенный характер. Славянофилы ссылались на чутье жизни и истины, Чичерин — на факты и исторические документы. Уже в конце 1857 г. «Русская беседа» напечатала статью Н. Д. Иванише- ва — «О древних сельских общинах в юго-западной России» (т. III, кн. 7), основанную на вновь открытых документах, и сопроводила ее особой редакционной заметкой, направленной против Чичерина. Редакция заявляет здесь, что спор, происходивший между сотрудниками «Беседы» и той школой, представителем которой является Чичерин, окончательно разрешен: «но любопытно и поучительно разрешить следующий вопрос: отчего, при одинаковых данных, одно учение не усомнилось ни на мгновение в существовании и правах древней русской общины, а противоположная школа могла сомневаться в них и даже отвергать их? Ответ наш будет весьма прост. Школа относится к явлениям русской жизни как к явлениям совершенно внешним, о которых она узнаёт только путем внешним и средствами случайными. Что писано и разобрано, что на пергаменте или на бумаге, что засвидетельствовано вещественным знаком, — она то знает, тому верит и более не знает ничего. В дальнейшем развитии своего мертвого и мнимого прагматизма, она, по необходимости, теряет также то чувство истины художественной или человеческой, которое не дозволяет принять картину Остада за картину Рафаэля, даже если бы на Остаде была подделана подпись Рафаэля, подкрепленная свидетельствами, по-видимому, несомненными. Школа получила характер мертвенности; она уже не чует жизни, и живого не понимает нигде, ни дома ни в чужих людях. Другое отношение к науке находится там, где прежде всего и более всего требуется жизнь». Заметка кончается язвительными советами Чичерину. «От всей души желаем, чтоб умный и трудолюбивый писатель г. Чичерин, видя свою ошибку, понял ее причину. Не в способностях, не в усидчивости, не в доброй воле оказался он несостоятельным, а в живом чутье русской жизни, и этого чутья в книгах не добудешь. К счастью, у него еще много времени впереди».
Самое важное для нас в этой полемике то, что вопрос об общине превратился в гораздо более широкий принципиальный вопрос о понимании науки вообще и исторической науки в частности[423]. Столкнулись не две научные теории, а две системы мировоззрения и поведения. Этот смысл полемики особенно ясно вскрыт самим Чичериным в его письме к К. Д. Кавелину от 26 декабря 1856 г.: «А. В. [Станкевич] говорит, что Вы не одобряете нашей полемики с славянофилами. На этот счет считаю нужным объяснить Вам, как я смотрю на это дело. Вообще у нас две цели, к которым мы стремимся, две вещи, которые мы желаем для себя и для России: 1) более простору в общественной жизни, 2) распространение просвещения. Относительно первого мы можем ограничиться только желаниями, осуществить же их мы не в состоянии, ибо это зависит не от нас. Относительно второго мы можем действовать самостоятельно, и в этом я полагаю главную нашу задачу. Но распространять просвещение — значит внушить уважение к науке как к самостоятельной разработке истины; иначе я просвещения не понимаю. А здесь-то мы в славянофилах встречаем главных своих противников. Вместо уважения к науке они вселяют к ней недоверие; вместо самостоятельной ее разработки они хотят наложить на нее взятое извне воззрение, которое сначала подкрадывается исподтишка, но которое, усилившись, непременно должно ее исказить и задушить в своих объятиях. И возьмите, что это не какие-нибудь гасильники, которые в обществе не могут встретить сочувствия. Нет, это люди, по-видимому, образованные; они выезжают на заманчивых словах: коренные русские начала, самостоятельное воззрение, православие; но под этими громкими фразами скрывается совершенная пустота. Право, я не вижу другого направления, которое бы в нашей почтеннейшей публике, ничего не понимающей, могло вселить до такой степени самохвальное невежество и совершенную бестолковщину. Кроме мрака я не предвижу никакого результата из их проповеди. Вы скажете, может быть, что я преувеличиваю; но прочтите внимательно статью Киреевского[424], одного из первых корифеев этой партии, и скажите откровенно: что вы здесь видите, кроме совершенного мрака? И хоть бы один из них имел порядочные исторические и фактические сведения! А то хватают верхи из немецкой философии, да щиплют кое-что из русской истории и составляют из этого воззрение, разумеется, дополняя его на "/lQ0 воображением»[425]. Гораздо позже, описывая в своих воспоминаниях беседу с венским юристом-философом Лоренцом Штейном (за границей в 1860 г.), Чичерин повторяет ту же характеристику: «После беседы с Штейном мне еще живее представилась вся пустота недавних прений с славянофилами, которые, едва прикоснувшись к западной науке, осуждали ее как гниль, а себя считали глашатаями новых, неведомых миру истин»[426].
Итак, Чичерин смотрит на славянофилов как на научных дилетантов, которые не понимают самого существа научной мысли, научного отношения к фактам и тем самым вредят распространению просвещения. Примерно такую же характеристику дает славянофилам С. М. Соловьев, изображая их как кружок — «не скажу мыслителей, но мечтателей, поэтов и дилетантов науки»[427]. Очень любопытны и отдельные портреты «корифеев», нарисованные Соловьевым; в них особенно резко отмечено именно то, что славянофилы никакого отношения к науке не имели и если были сильны, то как раз иными, обратными качествами. Хомяков — «с дарованиями блестящими, самоучка, способный говорить без умолку с утра до вечера и в споре не робевший ни перед какою уверткою, ни перед какою ложью: выдумать факт, процитировать место писателя, которого никогда не бывало — Хомяков и на это был готов; скалозуб прежде всего по природе, он готов был всегда подшутить над собственными убеждениями, над убеждениями приятелей. Понятно, что в нашем зеленом обществе, не имевшем средств оценить истинного знания, добросовестности и скромности, с последним неразлучных, Хомяков прослыл гением; это вздуло его самолюбие, сделало раздражительным, неуступчивым, завистливым, злым». Константин Аксаков — «человек, могущий играть большую роль при народных движениях и в гостиных зеленого русского общества, со львиною физио- номиею, силач, горлан, открытый, добродушный, не без дарований, но тупоумный... он считал себя знатоком русской истории, потому что прочел румянцевское собрание грамот и несколько томов изданий Археографической комиссии; для подкрепления своих любимых мыслей он брал наскоком в древней русской истории несколько явлений, но у него никогда недоставало ни времени ни духу проследить русскую историю хотя бы и не по источникам... О новой русской истории с XVIII века не имел никакого понятия, об истории западных и славянских народов — также. Считал он себя филологом, но филологи отзывались об его занятиях очень неудовлетворительно». Юрий Самарин «сделался сначала славянофилом по недостатку ученого образования, особенно в истории, потом укрепился в славянофильстве по самолюбию». Очень схожие характеристики славянофильских вождей делает в своих воспоминаниях и Чичерин. В них обоих в данном случае говорит не столько «западничество» (в этом отношении они вовсе не столь типичны), сколько противопоставление своей позиции научного историзма общественному и научному дилетантизму славянофилов — типичных представителей тогдашней поместной «интеллигенции».
Эту разницу позиций почувствовал и Толстой — ему тоже было не по пути с русской интеллигенцией, особенно в этот момент. Ему нужен был не столько человек пылких «убеждений», сколько человек твердого, спокойного ума, человек хотя бы и узкий, но сильный, человек уверенного поведения, способный влиять своим авторитетом. Иначе говоря, Толстому в это время нужен был человек, резко с ним самим контрастирующий. Чичерину, с другой стороны, был тоже привлекателен контраст, который вносил с собой в его жизнь Толстой: «Меня привлекала эта чуткая, восприимчивая, даровитая, нежная, а вместе с тем крепкая натура, это своеобразное сочетание мягкости и силы, которое придавало ему какую-то особенную прелесть и оригинальность». На этой почве их знакомство стало переходить в дружбу, но разница была в том, что если Чичерину Толстой был привлекателен своей оригинальностью, то Толстому Чичерин был не столько приятен, сколько нужен и полезен.
Знакомство перешло в дружбу только к весне 1858 г. — т. е. именно тогда, когда Толстой, убедившись в том, что «изящной литературе нет места» и что надо делать что-то другое, стал серьезно задумываться над своей дальнейшей судьбой. До этого времени он, несмотря на старания Чичерина, воздерживался от сближения с ним, видя в нем человека совсем другого склада и поведения. Об этом свидетельствуют записи дневника, относящиеся к началу 1858 г.: «Дома с Чичериным. Философия вся, и его, враг жизни и поэзии. Чем справедливее, тем общее, и тем холоднее, чем ложнее, тем слаще. Я не политический человек, 1000 раз говорюсебе... Приехал Чичерин. Слишком умный. Ругал желчно славянофилов... Чичерин несимпатичен». Но вот появляется новая запись: «Чичерин говорил, что любит меня. Выпивши у Шевалье. Я благодарен ему и горд этим. Он мне очень полезен. Но сильного влечения еще нет к нему». Наконец, 13 марта 1858 г. появляется характерная запись: «С Чичериным много видимся. Уважаю и люблю науку». В дальнейших записях все время упоминается об «узости» Чичерина, но тут же складывается интересная, много объясняющая формула: «Страшно узок, зато силен». Еще недавно статьи Чичерина не нравились Толстому; теперь, 20 марта 1858 г., в дневнике записано: «Читал Чичерина статью о промышленности в Англии. Страшно интересно. С некоторого времени всякий вопрос для меня принимает громадные размеры. Много я обязан Чичерину. Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве невольно ищу его место в вечном и бесконечном, в истории». В таком виде гегельянство Чичерина дошло до Толстого и на некоторое время увлекло его. Последняя фраза записи, столь неожиданная даже по своей терминологии в устах Толстого — явная цитата из бесед с Чичериным.
Итак, Толстой уже не просто в дружбе с Чичериным, а во временной власти у него — как это было раньше с Дружининым. Чичерин чувствовал это и торжествовал победу; в ответ на дружеское письмо Толстого от 13 апреля 1858 г. Чичерин писал ему: «Любезный друг, твое коротенькое письмецо сделало меня счастливым. Мне только этого и нужно было. Я хотел знать, успел ли я в том, на что я положил свою душу... благословляю эту зиму, которая прибавила в мою жизнь новый элемент». Весь тон этого письма проникнут радостью человека, который добился успеха, и сознанием своей силы — оно взволнованно и лирично. Он почти влюблен в Толстого и относится к нему нето как к ребенку, не то как к женщине — то наставительно, то сентиментально, то слегка насмешливо: «Как тебе трудно дойти до простого понимания вещей! Недаром у тебя полуженский почерк: тебя, как женщину, надобно изнасиловать (что, впрочем, может редко удасться) или же поразить твое воображение чем-нибудь необыкновенным, вроде А. М. Исленьева». Однако именно этот отчасти менторский и снисходительный, отчасти чувствительный и восторженный тон Чичерина стал скоро раздражать Толстого и привел к разрыву.
В 1858 г. Чичерин был во всяком случае нужен и полезен Толстому — не своей «влюбленностью», а своей силой, своей позицией. Об этом ясно свидетельствуют слова Толстого («уважаю и люблю науку») и тот «страшный» интерес, с которым он читал статью Чичерина «Промышленность и государство в Англии»[428]. Статья эта гораздо шире и гораздо публицистичнее своего заглавия. Здесь, во-первых, сделана некоторая общая характеристика эпохи, заостренная на очень злободневном тогда вопросе — об успехах «техники» (железные дороги, пароходство, телеграф) и развитии «меркантильного духа». Находя, что упрек в меркантильности преувеличен, Чичерин высказывал мысль, которая должна была очень заинтересовать Толстого и соответствовала его настроениям, — мысль о том, что направление новой эпохи не благоприятствует великим созданиям искусства: «Хотя это не может служить признаком упадка, ибо недавно еще творения Шиллера, Гёте, Байрона, Пушкина показали, что XIX век не уступает в этом отношении своим предшественникам; но в настоящую минуту появление великого художника едва ли возможно. Искусство требует стройности в жизни, спокойствия в созерцании, а наше время есть время работы, время искания. По всем отраслям человеческой деятельности подвизаются труженики, с несокрушимой верой, с неутомимой энергией. Бесчисленное множество рабочих, и темных и стоящих на виду, проникают во все дебри не изведанного еще здания вселенной, покоряют воле человека окружающий мир, стараются озарить светом мысли таинства природы физической и духовной. Мы пахари будущей жатвы, мы каменщики будущего храма, которого дивные очертания виднеются уже вдали». Далее Чичерин говорит об успехах науки и научного мышления — то самое, вероятно, чем он заставил Толстого вдруг полюбить и почувствовать уважение к науке: «Теперь нельзя уже легко и проворно разрешать все высшие вопросы, которые занимают ум человеческий. Недоверие к скороспелым произведениям разума укротило слишком быстрый его полет. Но зато мысль, углубляясь в себя, получила несравненно большую крепость и основательность. Она идет медленно, шаг за шагом, но стяжает плоды вековечные. Горизонт науки расширился до бесконечности. Тогда как в прежние времена весь итог человеческого знания мог уместиться в одной голове, теперь каждая отрасль отдельной науки в состоянии поглотить целую жизнь трудолюбивого ученого».
Остальная часть статьи почти целиком посвящена вопросу о государстве. Центральная проблема этого рассуждения — равновесие между началами государственным и общественным: проблема тоже злободневная для русских публицистов того времени. Равновесие нарушается то в одну, то в другую сторону. После периода подчинения государству разнообразных общественных сил началось освобождение общества из-под государственной опеки — период либерализма. Здесь ясен публицистический смысл статьи, обращенный уже не в сторону Англии, а в сторону России: «Хотя это начало [либерализм] у различных народов может принимать своеобразные формы, однако оно везде носит на себе некоторые общие черты: признается свобода человеческой совести, свободное развитие науки, искусства, промышленности; устанавливается гласность как необходимое условие правильного развития, признается общественное мнение как выражение общественных потребностей. Государство, достигнув высшей степени своего развития, само видит, что без содействия общественных сил оно не в состоянии исполнить свою задачу. И не мудрено: для полноты развития необходимо в союзе присутствие обоих элементов». Общая формула такова: «Признак зрелости общественного развития состоит в том, что каждый элемент не старается уже притянуть к себе как можно более силы, но, действуя самостоятельно в своей области, сознает свои границы, умеет воздержаться в законных пределах и представляет другим принадлежащее им место в общем союзе».
Если вспомнить то, что писал Толстой В. Боткину в апреле 1857 г. из Парижа о государстве и политических законах («государство есть заговор не только для эксплуатации, но главное для развращения граждан... политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего»), то возможность его дружбы в 1858 г. с таким последовательным «государственником», каким был Чичерин, утверждавший, что «государство есть реализация свободы», кажется почти невероятной. Дело именно в том, что дружба эта строилась совсем на других основах. Если вначале в их отношения и замешана была «философия», то в дальнейшем она совершенно отошла в сторону. Чичерин пишет в своих воспоминаниях: «О философии он не имел понятия. Он сам признавался мне, что пробовал читать Гегеля, но что для него это была китайская грамота». Для Чичерина Гегель был основой всех его построений; над этим его увлечением удачно пошутил Жем- чужников:
В тарантасе, в телеге ли Еду ночью из Брянска я, Все о нем, все о Гегеле Моя дума — дворянская.
Самое большее, чего мог добиться Чичерин от Толстого и без чего, пожалуй, действительно дружба была бы невозможна, — это общего признания: «уважаю и люблю науку». Но и это было, конечно, результатом не столько рассуждений и доказательств, сколько личного воздействия. Характерно, что их переписка совершенно не касается научных и философских вопросов — об этом Чичерин переписывался с другими людьми.
Самое важное и интересное в истории дружбы Толстого с Чичериным — то, что она в значительной степени была «сочинена». Толстой сам чувствовал, что в их отношениях есть какое-то «ломанье». Это отражается и на письмах. В тон тому представлению, какое составил себе о Толстом Чичерин, Толстой первые свои письма стилизует в преувеличенно-чувствительном стиле — точно стараясь подтвердить мнение Чичерина о его полуженской, нежной натуре. По поводу прочтенной переписки Станкевича Толстой пишет Чичерину целое лирическое послание, которое заканчивается словами: «Понимаешь ли ты меня, мой друг? Я бы желал, чтобы ты меня понял; а то на одного много этого — тяжело. Чёрт знает, нервы что ли у меня расстроены, но мне хочется плакать и сейчас затворю дверь и буду плакать». Это «сейчас затворю дверь и буду плакать» до такой степени литературно, что выглядит цитатой из старого «романа в письмах». В основе переписки Толстого с Чичериным 1858 г. чувствуется тематический и стилистический замысел, который и придает ей характер сочиненности. Замысел этот, как в подлинном романе в письмах, соотносителен для обоих корреспондентов. Чичерин в своих первых письмах тоже лиричен и сентиментален: «Отчего я к почти неизвестному мне человеку почувствовал такое горячее влечение, какое я некогда чувствовал к наставнику или к любимой женщине, но никогда еще в такой степени к сверстнику?.. Ах, душа моя, счастлив ты, что не ощущаешь в себе этой внутренней мучительной тревоги, этой неутомимой жажды, которая ведет наконец к падению сил и к притуплению всех человеческих чувств. Неужели это молодость? В таком случае она очень непривлекательна. Или это болезнь? Но отчего же она длится без конца?» Вся конструкция, вся интонация этих фраз выдает их литературную природу. Толстой в том же письме, где говорится о Станкевиче, пишет: «Счастливый ты человек, и дай бог тебе счастья. Тебе тесно, а мне широко, все широко, все не по силам, не по воображаемым силам». Так переплетаются и ассонируют мотивы этой переписки, образуя своего рода эпистолярный сюжет. Но в 1859 г. тон переписки меняется. Чичерин подробно и скучно описывает свое путешествие и свои впечатления от природы и искусства, иногда впадая в менторство; Толстой подолгу молчит. В конце 1859 г. Толстой пишет письмо, в котором сообщает Чичерину, что весь занят хозяйством: «Я уже положительно могу сказать, что я не случайно и временно занимаюсь этим делом, а что я на всю жизнь избрал эту деятельность. Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил». Письмо кончается приглашением в Ясную Поляну и характерными словами: «Вот где хорошо поговорить, пощупаться. Никакое ломанье невозможно». Итак, роман в письмах прерван, — но вместе с тем прерван и самый сюжет дружбы. Это скажется в ближайшее время. Чичерин ответил вполне менторским письмом — письмом «профессора-западника». Совершенно не учитывая и не понимая позиции Толстого и стоящих перед ним жизненных проблем, Чичерин советует ему бросить деревню и ехать в Италию: «Средиземное море, полутени гор на озерах, развалины, облитые теплыми лучами солнечного заката — во всем этом какое-то волшебное обаяние, которого пересказать нельзя. И рядом с этим дивные памятники, классический мир во всей его красоте, величие христианской эпохи. Нет, оставь-ка ты годика на два свою Ясную Поляну и ступай наслаждаться природой и изучать искусство в Италию... Ты художник, и тебе нужно образование художественное, а для этого ступай в Италию». Не сознавая этого, Чичерин коснулся, и без всякой осторожности, самого больного места — и Толстой не выдержал. Его ответ дышит гневом и раздражением: «Ты небрежно и ласково подаешь мне советы, как надобно развиваться художнику, как благотворно Италия действует, памятники, небо... и т. п. избитые пошлости... Как ни мелка и ложна мне кажется твоя деятельность, я не подам тебе советов... скажу тебе только, в ответ на твои советы, что, по моему убеждению, в наши года и с нашими средствами, шлянье вне дома, или писанье повестей, приятных для чтения, одинаково дурно и неблагопристойно... Самообольщенье же так называемых художников, которое ты, льщу себя надеждой, допускаешь только из дружбы к приятелю (не понимая его), оболыценье это для того, кто ему поддается — есть мерзейшая подлость и ложь».
Этим письмом дружбе был нанесен удар, от которого она, несмотря на усилия, оправиться уже не могла. Чичерин продолжает писать наставительные послания и тоже раздражается: «Ты задался известной мыслью, на все смотришь с одной точки зрения и потому везде видишь только себя, а не другое что. На это много времени не нужно, только это не изучение предмета. Неправда, что у каждого свой способ изучения, неправда, что у некоторых счастливцев есть чутье, которым они разом постигают все... Если ты мне скажешь, что ты чутьем в состоянии в один день изучить Полное собрание законов, я тебе не поверю». Потом следуют всевозможные советы и доказательства того, что все это пишется единственно из дружбы: «Если я говорю тебе иногда то, что может быть тебе неприятно, то это единственно оттого, что я так думаю и, любя тебя, не хочу скрывать. Может быть, ты из этого извлечешь какую-нибудь пользу для себя, хотя бы даже отрицательную». Замысел дружбы и «романа в письмах» окончательно не удается: тема соотносительного контраста исчерпана. Одной неосторожной фразой в письме 1861 г. (И апреля) Чичерин нанес дружбе второй и окончательный удар: «Что бы тебе к нам присоединиться! Нет, счастливец летит в матушку Россию, слушать жаворонков в деревне и долбить азбуку грязным мальчишкам». Ответное письмо Толстого, хотя и не отправленное, кладет конец дружбе: «Воспоминание о нашей последней переписке и твои два письма, которые я нашел в Дрездене, заставили меня еще раз серьезно задуматься о наших отношениях. — Мы играли в дружбу. Ее не может быть между двумя людьми, столь различными, как мы... лучше нам разойтись и каждому идти своей дорогой, уважая друг друга, но не пытаясь войти в те близкие отношения, которые даются только единством догматов веры, т. е. тех оснований, которые так не подлежат мысли. А эти основания у нас совершенно различны... Тебе странно, как учить грязных ребят. Мне непонятно, как, уважая себя, можно писать об освобождении — статью. — Разве можно сказать в статье одну мильонную долю того, что знаешь и что нужно сказать, и хоть что-нибудь новое и хоть одну мысль справедливую, истинно справедливую. А посадить дерево можно и выучить плести лапти, наверно, можно». В тот же день (18 апреля 1861 г.) Толстой записал в дневнике: «Чичерин противен страшно».
О дальнейшем рассказывает Чичерин в своих воспоминаниях: «Мы много лет почти не видались. Он жил безвыездно в Ясной Поляне, а я в Москве или у себя в деревне. Встречи были весьма редкие, всегда дружелюбные; но всякий раз чувствовалось, что мы расходимся все более и более... Было время, когда мы оба были молоды и плыли рядом по одной жизненной волне. Но скоро поток унес нас в разные стороны и выбросил на противоположные берега».
Портрет Толстого, набросанный Чичериным в его воспоминаниях, носит на себе следы досады, раздражения и грусти по неудавшейся дружбе. Толстой поставил этой дружбе несколько иной памятник. Фигура профессора Сергея Ивановича Кознышева в «Анне Карениной» образовалась, по-видимому, из сочетания Чичерина с Юрием Самариным — Толстой их «перетолок», как он обычно делал это. Портрет написан без злобы и без раздражения, а только с легкой иронией. От Чичерина взято много деталей, ясно указывающих на первоисточник. Труд Кознышева, над которым он работал шесть лет, озаглавлен «Опыт обзора основ и форм государственности в Европе и в России»; это нечто вроде парафразы на заглавия и темы книг Чичерина, из которых «Опыты по истории русского права» изданы в 1858 г., «О народном представительстве» — в 1866 г., а обширная «История политических учений» выходила по томам —часть 1-я в 1869 г., 2-я в 1872 г., 3-я в 1874 г., т. е. как раз во время работы Толстого над «Анной Карениной»[429]. Общая характеристика Кознышева, сделанная в начале 3-й части, тоже восходит довольно явно к Чичерину, хотя и осложнена, по-видимому, чертами, взятыми от Самарина. Прямо к Чичерину относятся следующие слова, напоминающие переписку об Италии: «Сергей Иванович любовался все время красотой заглохшего от листвы леса, указывая брату то на темную с тенистой стороны, пестреющую желтыми прилистниками, готовящуюся к цвету старую липу, то на изумрудом блестящие молодые побеги дерев нынешнего года. Константин Левин не любил говорить и слушать про красоты природы». В спорах Кознышева с Левиным явно воспроизводятся споры Чичерина с Толстым. Таков, например, спор о народе, где особенно характерно отношение Кознышева к «философии» Левина: «—Я не понимаю, к чему тут философия, — сказал Сергей Иванович, как показалось Левину, таким тоном, как будто он не признавал права брата рассуждать о философии. И это раздражило Левина... — Я думаю, — сказал Константин, — что никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы в личном интересе. Это общая истина, философская, — сказал он, с решительностью повторяя слово философская, как будто желая показать, что он тоже имеет право, как и всякий, говорить о философии. Сергей Иванович еще раз улыбнулся. "И у него там тоже какая-то своя философия есть на службе своих наклонностей", — подумал он. — Ну, уж о философии ты оставь, — сказал он. — Главная задача философии всех веков состоит именно в том, чтобы найти ту необходимую связь, которая существует между личным интересом и общим... Только те народы имеют будущность, только те народы можно назвать историческими, которые имеют чутье к тому, что важно и значительно в их учреждениях, и дорожат». Тон, которым здесь говорит Кознышев, резко напоминает менторский тон чичеринских писем, а последняя фраза почти цитата из сочинений Чичерина. Что касается «философских» устремлений Толстого, то отношение к ним Чичерина очень определенно высказано в его воспоминаниях и совершенно совпадает с отношением Кознышева[430].
Итак, история дружбы Толстого с Чичериным была не столько историей дружбы, сколько историей столкновения. Но столкновение это характерно именно тем, что оно было задумано как дружба. Оказалось, что время для простой дружбы было неподходящее — тем более у таких людей, как Толстой. Время было такое, что старые связи обрывались, а создать новые было трудно. Дружба с Чичериным была эпизодом, отделяющим Толстого 50-х годов от Толстого 60-х годов: Толстого, делающего литературную карьеру, от Толстого, увлеченного вопросами «социальной политики». Таким же эпизодом, но имеющим гораздо большее значение, была вторая поездка Толстого за границу, где он пробыл с июля 1860 г. до середины апреля 1861 г.
з
Новое решение — бросить литературу и, поселившись навсегда в деревне, заняться делом народного образования — далось Толстому нелегко. Это решение было результатом всего пережитого Толстым в последние годы, — результатом осознания исторических особенностей новой эпохи и своего в ней положения, а вовсе не разочарованием в литературной деятельности вообще. В конце 1859 г. Толстой сам признается Чичерину: «Мое отречение от литературной (лучшей в мире) деятельности было и теперь очень иногда тяжело мне. Все это время я то пытался опять писать, то старался заткнуть чем-нибудь пустоту, которую оставило во мне отречение: то охотой, то светом, то даже наукой. Я начал заниматься естественными науками. Но теперь уж жизнь пошла ровно и полно без нее».
С осени 1859 г. Толстой начал вести занятия с крестьянскими детьми и, как видно из разных писем этого времени, смотрел на это дело как на выход из положения, противопоставляя его и литературным и другим занятиям как настоящее, полное морального и исторического смысла. Чичерину, дававшему ему разные советы, он пишет в начале 1860 г.: «Что же я делаю? — спросишь ты. Ничего особенного, выдуманного, делаю дело, которое мне так же естественно, как дышать воздухом, и вместе такое, с высоты которого, признаюсь, я часто с преступной гордостью люблю смотреть на vous autres. Ты полюбишь и поймешь это дело, но рассказывать его нельзя, а приезжай, окончив свои странствования, в Ясную Поляну, и скажи тогда по правде, не позавидуешь ли мне, увидя то, что я сделал, и то спокойствие, с которым я делаю... Я не выезжал и не выеду нынешний год из деревни да и впредь не могу себе представить, как и зачем я уеду».
Вопрос о народном образовании был в это время очередным и усиленно обсуждался в прессе. Журналы всех направлений и оттенков посвящают этому вопросу специальные статьи. Резюмируя эти толки, споры и проекты, журнал «Время» начинает статью, оценивающую педагогическую работу Толстого (1862. № 3), словами: «Что стоит теперь на первом плане у всех наших деятелей мысли и слова? Разумеется, народ. Народ — первенствующий предмет внимания наших политиков, етонист, очень бойкий как писатель, но очень мало образованный и робкий в отношениях личных». Этими словами описан, по-видимому, Чернышевский. Чичерин встретил его один раз у Некрасова: «Единственный визит мой Некрасову памятен тем, что я тут в первый и последний раз видел Чернышевского» («Воспоминания». Т. II. С. 146). Указания на болезненность Чернышевского и связанную с этим желчность его статей (см. в повести Григоровича «Школа гостеприимства» о болезни печени), а также на его застенчивость, характерны.
публицистов, экономистов и иных». Но общественная сторона этого вопроса и самая его постановка не могли увлечь Толстого; в его увлечении был совершенно особый оттенок — очень личный и во многом прямо противоположный распространенным взглядам на задачи и методы школьной работы в деревне. Для Толстого это дело было решением не столько общественной, сколько своей жизненной проблемы — проблемы своего социального поведения. Оно имело поэтому для него совершенно особый эмоциональный и моральный смысл: оно было для него не столько занятием или делом, сколько поступком. Один факт, до сих пор мало учтенный, ясно обнаруживает эту основу превращения Толстого в школьного учителя.
Известно, что Толстой, приехав в апреле 1861 г. в Берлин, явился к Бертольду Ауербаху со словами: «Я Евгений Бауман». Биограф Ауербаха, А. Беттельхейм, объясняя это заявление, пишет: «Странный гость оказался русским графом с почти неизвестным в то время в Европе именем — Лев Толстой. Двойником Евгения Баумана Лев Толстой назвался потому, что он, увлеченный нравоучительным романом Ауербаха, устроил в своем имении свободную народную школу и сам, как Евгений Бауман или, вернее, граф Евгений Фалькенберг, занимался с крестьянскими детьми в Ясной Поляне»[431]. Дело втом, что Евгений Бауман, или граф Фалькенберг — герой романа Ауербаха «Новая жизнь» («Neues Leben»), появившегося в 1852 г. Из воспоминаний Е. Скайлера известно, что Толстой посоветовал ему прочитать роман Ауербаха, «как весьма замечательную книгу», и прибавил: «Этому писателю я был обязан, что открыл школу для моих крестьян и заинтересовался народным образованием»[432]. Роман Ауербаха был, очевидно, прочитан Толстым до его поездки за границу и даже до того, как он взялся за школьное дело. По дневникам видно, что Толстой читал «Деревенские рассказы» Ауербаха («Schwanzwalder Dorfgeschichten») еще в 1856 г., во время работы над «Юностью». 8 декабря 1856 г. записано: «прочел чудесную Tolpatsch», 9 декабря — «читал немного Auerbach'a», Юдекабря — «читал чудесную Vefele Auerbach'a». Порекомендовать Толстому Ауербаха мог Тургенев, который именно около этого времени советовал Некрасову напечатать в «Современнике» повесть Ауербаха «Босоножка» («Barfussele»). Надо полагать, что роман Ауербаха стал известен Толстому в 1858 или 1859 г., именно тогда, когда перед ним начинал вставать вопрос о своей дальнейшей судьбе, о своем поведении. К роману Ауербаха он отнесся не как к литературному произведению, а как к книге, отвечающей на его жизненную проблему.
Главный персонаж этого романа, граф Евгений Фалькенберг, — революционер, заключенный после революции 1848 г. в тюрьму — бежит из тюрьмы и собирается эмигрировать в Америку; случайно встретившись с сельским учителем Бауманом, направляющимся на место службы и мечтающим об Америке, он меняется с ним документами и приходит в деревню в качестве нового учителя Евгения Баумана. Итак, граф становится сельским учителем — первое, что, вероятно, подействовало на Толстого, искавшего нового дела, и именно у себя в деревне. Но это — только фабульная схема; главное же, что должно было увлечь Толстого, — это самый идеологический материал романа, сконцентрированный на злободневнейших для Толстого моральных и социальных вопросах. Граф Фалькенберг делается сельским учителем благодаря случайности, но он берется за это дело именно потому, что оно соответствует его взглядам и кажется ему его настоящим призванием. Роман наполнен размышлениями и рассуждениями о народе и о народном образовании, о методах обучения, о жизни крестьянина и пр. Написанный вслед за революцией 1848 г., роман этот («Lehrgeschichte», как называл его Ауербах) насквозь тенденциозен и проникнут идеями немецкого освободительного движения, но с яркой окраской «народничества».
В самом начале романа Фалькенберг в разговоре с учителем Бауманом высказывает свои взгляды — они должны были поразить Толстого сходством с его собственными суждениями и настроениями (ср., например, в «Люцерне»): «В том-то и зло современного общества, что каждый ждет всеобщего переворота и никто не хочет начинать с самого себя. Многие бароны и богачи становятся в теории социалистами и даже коммунистами; это легко, потому что они знают, что это ни к чему не приведет, а пока что они пользуются всеми благами жизни; тысячи людей, пылая гневом при виде бедственного положения своих ближних, кричат: «равенство! равенство!», а сами тяготятся обществом сапожников и рабочих и никогда не подумают посадить прислугу за один стол с собою. Но я поклялся всего себя отдать на служение своей любви к бедному, грязному, порочному и тем не менее святому народу». Учитель дает Фалькенбергу советы, как заниматься с детьми: «Помни одно: когда ты войдешь в школу и увидишь на скамьях чесаных и нечесаных детей, откашляйся и скажи сам себе: все, что ты знаешь, никуда не годится, все твои методы от Адама до Вурста и Беккера никуда не годятся, ты сам — лучший учитель. Задай детям вопросы, просмотри их тетради и иди дальше. Создайте свой собственный метод вместе, и все пойдет хорошо. Всякая абстрактная методика — возведенный в систему обман; самое лучшее, что может сделать учитель в школе, зависит от него лично, от его природных влечений». Эта декларация должна была тоже окрылить Толстого, всегда готового бороться со всякой системой. С каждой новой страницей роман этот должен был все больше и больше захватывать Толстого — как речь неожиданного друга, понимающего все его вопросы и настроения и помогающего ему преодолеть сомнения и колебания. Ауербах диктовал ему правила поведения, заменяя ему того Франклина, по «журналу» которого он старался жить в молодые годы. В качестве контраста к настроениям и взглядам Фалькен- берга в романе фигурирует аристократическая дама, помещица, баронесса Гунол ьд, заинтересованная графом и охотно с ним беседующая. Их первый разговор касается вопроса о народном образовании:«— Не хотите ли вы быть лесничим? Я думаю, это место было бы для вас более подходящим. — Я считаю призвание учителя священным. — Признаюсь вам, я, собственно, терпеть не могу школ, — людей следовало бы лучше делать дикими, чем ручными. И вообще мне противна возня с детьми. Нынче хотят весь свет превратить в детскую. У меня сильное желание по- растрепать парики филистерам, когда они толкуют: развитие народного образования должно помочь. Наши крестьяне и рабочие так же образованы, как французские и английские, а всё говорят: будущее поколение принесет спасение. Ведь будущее поколение будет опять-таки настоящим; это просто трусость, которая всегда утешается завтрашним днем, так придется ждать целую вечность и еще три дня, как говорит здешний народ. — Подумайте, — возразил Евгений, — ваши слова могут уничтожить смысл, на котором человек строит свою жизнь. Зачем вы говорите мне это?» На шутливый вопрос баронессы, не заняться ли ей распространением искусства среди народа («искусство должно пробуждать и распространять чувство красоты во всех хижинах»), Евгений отвечает словами будущего Толстого: «Искусство существует только для сытых, и вообще рискованно интересоваться народом только с эстетической стороны». Разговор на эту же тему повторяется в другом месте. Баронесса ставит вопрос: «Отчего нам не так хорошо, как французам и англичанам?» Евгений отвечает: «Потому что у нас дело идет о самом утверждении нации; только тот, кто стоит за свободу, стоит тем самым и за немецкую нацию; другие народы составляют действительно народ и спорят только о способах своего утверждения. — Может ли человек, способный на такие идеи, довольствоваться тем, что учит ребят азбуке? Разве с вашей стороны это не измена народу?» Многие места романа кажутся написанными Толстым. Таковы, например, слова Евгения: «Легко сказать: мир должен сделаться лучше. Это верно. Но прежде всего мы сами должны сделаться лучше. Должно быть введено воспитание, которое сделает ненужными тюрьмы и исправительные дома, которое сделает ненужными и принудительные законы: каждый будет находить закон в самом себе, каждый будет жить сообразно с этим законом так же естественно, как он дышит».
Кроме этих разговоров на общие темы в романе много и чисто педагогического материала, доказывающего, как актуальны были тогда в Германии вопросы народного образования. Сельский учитель — одна из самых популярных фигур в немецкой литературе 40-х годов. Имена немецких педагогов (Песталоцци, Дистер- вег с его знаменитым «Руководством для немецких учителей») все время упоминаются в романе Ауербаха. Руководителем Евгения становится местный, учитель Дегер, в уста которого Ауербах вкладывает свои задушевные мысли о работе в школе. Вторая часть романа начинается с описания того, как Евгений готовится к урокам: «Он сел и взялся за книгу; то была жизнь Песталоцци. Жадно читал он о судьбе деятельного ученика Руссо... Воззвание Песталоцци к самому себе: "Я буду школьным учителем" было для Евгения словом, вырвавшимся из его собственного сердца». Описания самых уроков и бесед с детьми были восприняты Толстым как прямые практические указания — роман превращался в руководство: «В отношении формы преподавания Евгений пришел к выводу, что слишком легко полагают, будто дети никак не могут понять, и поэтому объясняют им без конца, пока это не надоест им и даже не собьет их с толку». Следует описание самого урока, и глава кончается словами: «лицо Евгения сияло ясным светом, как будто сияющие взгляды детей, смотревших на него, остались в нем». Работа в школе пошла хорошо—и именно потому, что Евгений игнорировал все методы: «Он на каждую среду прибавил по уроку и предоставил детям свободный выбор — приходить в школу или оставаться дома. Этого урока ни один ребенок не пропускал, потому что во время его каждый мог предлагать вопрос о чем хотел ; в оживленной веселости тут никогда не было недостатка. Трудно было довести детей до вопросов вообще, а особенно до вопросов, касающихся загадочных явлений и отношений жизни; несмотря на предупреждения, они думали, что должны спрашивать только о школьных предметах; наконец-то удалось дать этому уроку желательное направление. Понятно, что с первым вопросом "отчего?" застенчивость была откинута, и затем непрерывно следовал целый поток любознательности». Далее приводится и самая беседа учеников с Евгением: «— Г. учитель, — спросил Франц, — какая польза от того, что зимой вся земля замерзает? — Та, что можно кататься на коньках, в санях, — ответили некоторые. — Та, что можно раскапывать каменоломню, — отвечал Дагоберт... — Почва тоже хочет спать, — прошептала, обыкновенно боязливая, девочка с высоким лбом. Евгений одобрил ее, объяснив, что плодородие почвы существенно зависит от ее способности изменяться и разлагаться, поэтому замерзание почвы относится к самым прекрасным и мудрым законам природы»[433].
В романе описываются и трудные моменты в школьной работе Евгения — моменты, когда он начинал задумываться над целесообразностью своей работы. В такие минуты его поддерживал Дегер — вот одна из его речей, которая тоже должна была произвести впечатление на Толстого: «Я уже тебе говорил, да ты и сам сегодня видел: наше состояние и народное образование вообще не улучшатся, пока не станут посвящать себя учительскому знанию люди, независимые по положению, у которых не убито еще с юности всякое чувство собственного достоинства». В самом конце романа Евгений произносит большой монолог, подводящий итоги всей идеологии романа: «Я знаю, почему я был и должен быть школьным учителем... Мне нужно что-нибудь формировать, образовывать, развивать. Я наслаждаюсь только тогда, когда могу творчески действовать, и в этом мое высшее наслаждение... Так, в своей школе я испытал блаженство, с которым ничто не может сравниться... Я поставил себе девизом воззвание Песталоцци. Я хочу остаться школьным учителем». Роман кончается тем, что Евгений, помилованный и вернувший себе прежнюю фамилию, женится на крестьянке и остается учителем в деревне.
Итак, Толстой стал строить свою биографию по роману Ауербаха. Он нашел в нем именно то, что искал, — моральную постановку вопроса. В основе романа лежит система нравственных правил, восходящих к Руссо, — именно то, к чему так склонен Толстой. Славянофильство раздражало его тем, что оно строилось на системе философских и научных убеждений, ему непонятных и безразличных; основанное на этих убеждениях русское «народничество» не имело той исключительно моральной окраски, которая была нужна Толстому. Народничество Ауербаха, проникнутое духом нравственного сентиментализма, было ему гораздо ближе и понятнее. Роман, не имевший на родине никакого успеха, нашел себе в России не только читателя, но и последователя, точно он был написан специально для Льва Толстого. Отныне имя Ауербаха священно для Толстого; попав в Германию, он идет знакомиться с Ауербахом и приходит в восторг от всего, что тот говорит. 21 апреля 1861 г. в дневнике записано: «Ауербах!!!!!!!!!!!!!! Прелестнейший человек!» Ауербах писал об этом свидании своему другу, В. Вольфзону: «Граф Лев Толстой пробыл здесь два дня. Я испытывал душевную радость, видя столь возвышенную натуру этого человека»[434]. Именно в это время Чичерин подшутил над Толстым, написав ему про азбуку, которую он будет «долбить грязным мальчишкам». Эта фраза должна была возмутить его так же, как слова баронессы Гунольд возмутили Евгения Фалькенберга. Чичерин не знал, что Толстой отождествил себя с героем ауербаховского романа и что он нашел в этом романе то, чего не мог найти ни в учении славянофилов, ни в учении западников.
Если в центре первой поездки Толстого за границу (1857 г.) была Франция, то теперь в центре естественно оказалась Германия. По роману Ауербаха Толстой мог видеть, что именно в Германии он окончательно определит линию своего поведения. Надо особенно иметь в виду, что, в противоположность представителям русской интеллигенции, к какому бы лагерю они ни принадлежали, Толстой стремился в это время не к выработке той или иной системы воззрений или убеждений, не к философской, научной или публицистической деятельности, а к практическому поведению, к поступкам. В то время как другие занимались именно вопросом о народном образовании, связывая его решение с общей системой исторических или социальных теорий, Толстой решил просто сделаться народным учителем. Именно поэтому фигура Евгения Баумана произвела на него такое впечатление. Недаром в письме к Чичерину от 18 апреля 1861 г. он писал: «Разве можно сказать в статье одну миллионную долю того, что знаешь и что нужно бы сказать, и хоть что-нибудь новое и хоть одну мысль справедливую, истинно справедливую. А посадить дерево можно и выучить плести лапти наверно можно». Последняя фраза ясно указывает, в каком смысле Толстой противопоставляет себя Чичерину и вообще «теоретикам» и публицистам. В его поведении есть что-то демонстративное по отношению к эпохе и ее главным идеологическим направлениям. В «Современнике» поведение Толстого так и было понято: «В тот момент, когда стало ясно обрисовываться новое русло, в которое вступила современная жизнь, когда требования ее от науки и искусства стали уясняться, а старые знаменитые писатели начали не без некоторого озлобления протестовать против них, в это время граф JT. Н. Толстой обратился к практической деятельности, как бы не желая участвовать в словесном препирательстве, как бы желая именно этой деятельностью выяснить свое личное воззрение на современную задачу общественного деятеля и на его отношение к новым требованиям жизни»[435]. Редакция «Времени», со своей стороны, приветствует поступок Толстого — явно наперекор «Современнику»: «Гр. Толстой не теоретик, а человек, бегущий от теории на свободу, на чистый воздух, к свежей первобытной человеческой природе, просить у ней защиты от теории и совета, как ему поступить в его деле»[436]. Это была демонстрация архаиста-«чудака», отрицающего важность убеждений и теорий, против «умных», против общественников, против интеллигенции; это была демонстрация дворянина-помещика старого уклада, попавшего в новую эпоху и вступающего с ней в борьбу, но именно с тем, чтобы ее победить и доказать свою правоту, а потому применяющего совершенно особые приемы и методы борьбы. Толстой не отворачивается от современности, как Фет, и не заигрывает с ней, как Тургенев, а хочет взять ее штурмом, вырабатывая сложный стратегический план действий. Отказ от литературы был первым и основным пунктом этого плана; вторым пунктом была школа.
В Германии Толстой занят усовершенствованием своего стратегического плана: он подробно знакомится с постановкой народного образования — осматривает школы, беседует с учителями, читает книги по истории педагогики и пр. Педагогические размышления занимают в дневнике этого времени значительное место: «Был в школе. Ужасно. Молитвы за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети... Ходил в Гарац, знакомство с молодым школьным учителем, которого занимает вопрос, по двум или по одной линейке писать... С Trobst'oM говорил об определении школы. Воспитанье и ученье. Вот ответ, из которого я легко выбил его. Применение erziehliches Element [воспитательного элемента] сделало школу деспотичной... Германия одна выработала педагогию из философии.
Реформация философия. Англия, Франция, Америка подражали... Школа определилась — переход от практики к теории. Готовое из жизни привести в систему». Эти наблюдения и размышления приводят к выводу: «Мы начинаем с начала на новых основаниях». Немецкая профессиональная педагогика не произвела на него хорошего впечатления — он такой же принципиальный дилетант, как герой ауер- баховского романа, но притом еще с оттенком русского нигилизма. Вообще Толстой держит себя в Германии независимо и гордо, как человек, не связанный никакой системой, никакой профессией, никаким прошлым. Познакомившись с неким Бидерманом, он записывает в дневнике (17 апреля 1861 г.): «Бидерман не глуп, но ученый и литератор, которого часть уже сидит в книге его, а не в нем. Я кроме "Детства" еще весь в себе, и потому я так свободно сверху смотрю на них».
Этот свободный взгляд сверху характеризует все поведение Толстого за границей. Он не столько учится, сколько оценивает и проверяет, все более и более укрепляясь в своей «самобытной» позиции. Познакомившись с известным педагогом Дистер- вегом, Толстой записывает (22 апреля 1861 г.): «Умен, но холоден и не хочет верить и огорчен, что можно быть либеральнее и идти дальше его». Среди его новых знакомых оказался, между прочим, известный политический деятель, участник революции 1848-го года, недавно вернувшийся из Америки, Юлиус Фрёбель (племянник педагога Фридриха Фрёбеля), хорошо знавший Герцена и Бакунина, Толстой берет и его на прицел: «Познакомился с Фрёбелем. Аристократ-либерал... Либеральный болтун... Ближе сошелся с Фрёбелем. Политика истощила его всего». Фрёбель, со своей стороны, сделал в своих воспоминаниях любопытную и довольно подробную характеристику Толстого: «Я обратил внимание на одного серьезного молодого человека, внимательно наблюдавшего все окружающее; я иногда видел, что он читает английские книги. Я узнал, что это — русский граф, Лев Толстой, и что он хочет со мной познакомиться. Нас кто-то свел вместе, и это знакомство оказалось для меня не только приятным, но и интересным. Его высказывания о положении дел в России и в Германии были настолько замечательны, что о них стоит написать. Прогресс в России, говорил он мне, должен исходить из народного образования, которое у нас даст лучшие результаты, чем в Германии, потому что русский народ еще не испорчен ложным воспитанием. Из ребенка, который с первого же года воспитывается правильно, может выйти нечто лучшее, чем из такого, который уже несколько лет подвергался ложному воспитанию. То же самое и с народами. Русский народ, по его словам, еще не воспитан и не испорчен, а потому на него можно возлагать большие надежды. Он рассказывал мне, что устроил в своем имении под Тулой школу, в которой сам регулярно занимается и которой отдает все свое время. "Я теперь могу путешествовать, — сказал он: — потому что в моей школе перерыв" Школа эта не обязательна. "Если образование есть благо, — заявил он: — то потребность в нем должна являться сама собой, как голод". Над входом в его школу написано "Вход и выход свободный", и дети приходят издалека, иногда с большими жертвами для их бедных родителей-крестьян. О "народе" граф Толстой имел совершенно такое же мистическое представление, какое поразило меня несколько лет назад у Бакунина. По этому воззрению "народ" — таинственное, иррациональное существо, из недр которого явятся неожиданные вещи, новое устройство мира». Далее Фрёбель рассказывает, как, по этому воззрению, из русской артели должен развиться будущий коммунистический строй. Заканчивает Фрёбель следующими подробностями о Толстом: «Наивны были воззрения Толстого на наш немецкий "народ". Русский реформатор, благородным стремлениям которого я сочувствовал всей душой, вызвал у меня все же улыбку, когда выразил удивление, что не нашел у немецких крестьян ни "Деревенских рассказов" Ауербаха, ни стихотворений и "Schatzkastlein" Гебеля. "Я был во многих крестьянских домах, но нигде не видал этих книг" Русские крестьяне проливали бы над этими книгами слезы, — сказал он: — забывая о том, что эти крестьяне вряд ли умеют читать. Русский граф говорил с восторгом об этих обоих немецких писателях, а рассказ о Zundelheiner и Zundel- frieder он знал наизусть, точно он был баденский житель»[437].
Фрёбель, конечно, ошибся, отождествив воззрения Толстого с воззрениями Бакунина, которые тоже представлял себе не совсем точно; он не понял, что воззрения Толстого на русский народ имеют несомненную связь с теориями славянофилов. Но характерно, что он воспринял Толстого как радикального «реформатора», как русского бунтаря и коммуниста, тогда как на самом деле было нечто совсем иное. Это недоразумение произошло, вероятно, вследствие того, что в воззрениях Толстого на народ и на социальные проблемы была особая «эксцентричность», как выразился впоследствии П. А. Валуев в своем циркуляре по поводу толстовского педагогического журнала. Эксцентричность эта выражалась в отрицании всех традиционных систем и теорий, в том своеобразном «нигилизме», о котором я уже не раз говорил. На западного человека, даже такого «либерального», каким был Фрёбель, эта эксцентричность, естественно, производила впечатление крайней левизны. Однако надо принять во внимание, что Толстой в эти годы (1860-1861), действительно, несколько «полевел» — особенно в период пребывания за границей, где он познакомился с Герценом, Прудоном, Лелевелем и др.
По знакомству с Фрёбелем видно, что Толстого интересовали в Германии не только педагогические вопросы, но и социальные. Фрёбель был автором книги «System dersocialen Palitik»; Толстой, по-видимому, не читал ее, но, по словам П. И. Бирюкова, Фрёбель «указал ему на родственные ему по взглядам сочинения Риля, и Толстой, со всем пылом юности, накинулся на «Естественную историю народа как основание немецкой социальной политики». Неизвестно, откуда почерпнул Бирюков эти сведения — Фрёбель не говорит об этом в своих воспоминаниях ни слова. Указания эти вряд ли правильны — начиная с «пыла юности» (Толстому было тогда уже 32 года) и кончая ссылкой на Фрёбеля: единомышленнику Бакунина, каким Толстой казался Фрёбелю, он не мог рекомендовать сочинения Риля как «родственные». Если Фрёбель и в самом деле посоветовал Толстому читать Риля, то только потому, что Толстой интересовался немецким народничеством, одним из основных представителей которого (но совсем не «левым») был Вильгельм Риль (Riehl) — фигура интересная в истории не только немецкой науки и культуры, но и русской. Деятельность его была очень разнообразной: социолог, этнограф, историк искусств, музыкант и беллетрист — Риль был особенно известен своими двумя работами: четырехтомной «Natuigeschichte des Volks als Grundlage einer deutschen Socialpolitik» и книгой «Kul- turstudien aus drei Jahrhunderten», состоящей из отдельных статей по вопросам музыки, живописи и литературы. Во время пребывания Толстого в Германии Риль был профессором Мюнхенского университета по кафедре истории культуры.
Надо полагать, что имя Риля было известно Толстому еще в России. Труды Риля, и именно его «Естественная история народа», были очень популярны в России и составляли даже один из важных пунктов разногласия и полемики между славянофилами и западниками, усматривавшими в нем «антиисторическое направление». Вращаясь именно в этом кругу, Толстой, наверно, слышал о Риле — тем более, что имя его было хорошо известно и Анненкову, и Тургеневу. В 1859 г. Анненков усиленно рекомендовал Тургеневу почитать Риля, в ответ на что Тургенев писал ему: «Риля я читал с наслаждением и с чувством, подобным вашему чувству, хотя по временам честил его филистером»[438]. В том же письме Тургенев шутливо называет Анненкова «ненавистником либерализма». Анненков поясняет: «Прозвище "ненавистник либерализма" я получил от Тургенева за сочувственное мнение о некоторых обличительных страницах известного германиста и этнографа Риля, направленных против гуманного либерализма немцев в его известной книге». Позже, в «Дыме» (действие которого относится к 1862 г.), Тургенев упомянул имя Риля, описывая Ворошилова и его погоню за последним словом науки: «что же до Гней- ста и Риля, то он объявил, что их стоит только назвать, и пожал плечами»[439]. Сочинения Риля входили в систему чтения и образования русского интеллигента 60-х годов наравне с основными книгами по социологии. В «Вестнике Европы» 1871 г. (№ 11), в некрологе о Гольц-Миллере, напечатано его стихотворение «Мой дом» — нечто вроде Пушкинского «Городка»; в нем есть следующие строки:
Но хоть в желаньях скромен я И к малому привык, Все ж роскошь есть и у меня — Есть две-три полки книг.
Есть Конт и Бокль, есть Риттер, Риль; Сыны иных времен — Старик Бентам, Джон Стюарт Милль И Пьер-Жозеф Прудон, И Адам Смит, а рядом с ним Воинственный Лассаль: Немного их, но как с родным Расстаться с каждым жаль!
Все эти факты указывают на то, что имя Риля было в России 50-60-х годов ходячим и что Толстой не случайно, и, вероятно, помимо указаний Фрёбеля, взялся за чтение его работ. Для понимания позиции и поведения Толстого надо, очевидно, внимательно остановиться на Риле и особенно на его связи с русской публицистикой 50-х годов. Тема «Риль в России» могла бы составить предмет особой работы, поскольку имя его продолжает фигурировать у нас вплоть до середины 80-х годов; я остановлюсь на этой теме только в той мере, в какой это необходимо для изучения Толстого, посвятившего Рилю значительное внимание и в своих дневниках. 2 августа 1860 г. Толстой приехал в Киссинген, а 3-го уже записано в дневнике: «Лютер реформатор в религии — к источникам. Бэкон в естествоведении. Риль — в политике». На следующий день Толстой начинает чтение Риля, которое продолжается до конца августа.
Еще в 1857 г., в разгар полемики между славянофилами и западниками, в «Русском вестнике» (№ 20 и 23) появилась статья В. Безобразова «Материалы для физиологии общества»; в скобках было указано на источник статьи — первый том «Естественной истории народа» В. Риля, который назывался «Land und Leute». В 1858 г. тот же В. Безобразов напечатал в «Русском вестнике» две статьи: «Материалы для науки об обществе» (с подзаголовком — «Черты из народной жизни в Германии» — и с ссылкой на тот же том Риля) и «О сословных интересах. Мысли и заметки по поводу крестьянского вопроса». В первой излагаются взгляды Риля, во второй они использованы для разрешения вопросов, связанных с предстоящей реформой. В «Русском вестнике» 1859 г. появилась большая работа того же В. Безобразова под заглавием «Аристократия и интересы дворянства. Мысли и замечания по поводу крестьянского вопроса», построенная преимущественно на сочинении Риля. Итак, можно без преувеличения сказать, что публицистика «Русского вестника» 1857—1859 гг., посвященная злободневнейшему и ответственнейшему вопросу «о сословных интересах», была построена на теориях Риля и являлась их пропагандой.
Статьи В. Безобразова, пропагандирующие идеи Риля, явным образом написаны против радикальных публицистов, против «Современника». Крестьянский вопрос особенно выдвинул проблему соотношения старых сословий — это и является главной темой статей Безобразова, тут ему и пригодился Риль, утверждающий важность и реальное значение только двух сословий, друг другу соотносительных: крестьянства и аристократии (die Machte des Beharrens — «силы устойчивые» или «охранительные», как тогда переводили); на эти сословия должна опираться реальная социальная политика государства. Что касается «третьего сословия» (Burger- turn) и пролетариата, то эти элементы общества (die Machte der Bewegung — «силы движения») находятся в постоянном движении и, не представляя собою настоящих сословий, опасны для порядка. В статье «О сословных интересах» Безобразов пользуется этой схемой и этой идеологией Риля; приведу ее в пересказе Безобразова и с его выводами, относящимися к положению сословного вопроса в России.
«В настоящее время европейские публицисты, более или менее, различают в Западной Европе следующие классы народа, или общественные группы:
Аристократия, или дворянство. Сюда принадлежат потомки старых феодальных родов, сохранившие свои имения и частию свои предания; сюда относятся также вообще владельцы обширных поземельных владений. Мы не говорим здесь об общественном призвании аристократии: этого трудного вопроса мы предполагаем коснуться в особой статье.
Средний класс, или достаточное мещанство (bourgeoisie, Biirgertum). Этому классу присвоено название третьего сословия (tiers 6tat), название, запечатленное в памяти народной событиями французской революции. Оно называлось третьим по отношению к аристократии и духовенству, которое с отделением Церкви от государства потеряло самостоятельное сословное значение и мало-помалу, особенно в странах протестантских, слилось с другими классами общества, преимущественно средним. Третье сословие приобрело в истории новейшего времени огромное значение; все более и более превозмогает оно в разрешении политических вопросов в Западной Европе влияние других классов общества. Оно с чрезвычайным искусством умело овладеть могущественнейшими двигателями современного общества: промышленностью, свободным книгопечатанием и политическим образованием; эти силы, сделавшиеся необходимыми условиями современного просвещения, обращаются в самых верных союзников всякого, кто умеет отнестись к ним с доверием и бодростию, и делаются самыми опасными врагами тех, кто их не хочет признать. Другие классы общества частию не могли, частию не умели или не хотели взяться за эти силы; они часто обращаются к иным силам времен отживших, которые не могут совладать с новыми движениями века. Третье сословие, гордое своими преимуществами, не раз выступало на материке с притязаниями поглотить в себе и в своих интересах все остальные группы общества. Но политическое доктринерство высшего мещанства, не хотевшее видеть того, что с обеих его сторон выросло в историческом прошедшем общества и росло в настоящем, должно было несколько раз дорого поплатиться за свое самообольщение. Подле третьего сословия есть целые общественные массы, которых не должна упускать из виду никакая политическая система.
Крестьянство. Эта общественная группа представляется в настоящее время наименее затронутою движениями века; она более всех живет на почве предания и менее всех способна изменять устройство своего быта, сообразно с требованиями и прихотями времени. Предания и воззрения в сфере крестьянства иногда живут и остаются неприкосновенными в течение многих исторических эпох, проходящих над ними. Потому упорство этой массы может иногда явиться нежданным камнем преткновения в разных направлениях исключительно городской политики. Между тем крестьянство есть тот последний исторический резервуар народных соков, которыми обновляются все классы общества. За ним уже ничего больше нет, остается только эмиграция в дальние страны.
Наконец пролетариат, или, как называют немцы, четвертое сословие. Это та именно общественная группа, которая образовалась под исключительными влияниями всех современных общественных сил, частию уже разложивших, частию еще разлагающих состав прежних сословий. Этой группе принадлежат все отверженцы прочих классов общества, все силы общества, оторванные промышленным и умственным движением века от исторических преданий прежних гражданских союзов. Потому группа эта весьма пестрая; она, по выражению Риля, ищет себе места в современных западноевропейских обществах, найдет его подле других классов или окончательно разложит их, и тогда возникнут, может быть, совершенно новые общественные формации.
Я старался представить самый краткий очерк современного положения сословий, преимущественно в западноевропейских государствах, но в такой общности, что главные его начала могут быть применены ко всякому гражданскому обществу, точно так же и к нашему.
Отрадно обратиться от печальной картины вражды сословий в западноевропейских обществах, особенно, во французском, к нашему отечеству. У нас не было тех замкнутых союзов, которыми ознаменовала себя история Западной Европы; не было тех блистательных проявлений корпоративного духа, которые при всеобщем насилии обеспечивали развитие личности, на всех поприщах деятельности, и быстро двигали вперед успехи гражданственности, науки, промышленности и политического самосознания. Но зато у нас нет ни в настоящем, ни в будущем многих затруднений, созидаемых резкими общественными гранями. Мы свободно можем воспользоваться промышленным и умственным движением образованного мира;
ему придется у нас несравненно менее разлагать, нем творить. Как ни богато своими историческими последствиями общественное разложение, как оно ни далеко от оцепенения восточного мира, но общественное созидание сопряжено с меньшими страданиями для современников, и эта мысль не может не быть для нас утешительною... «Совершенная особенность нашего общества, — это слабое развитие среднего класса, или мещанства. Эта особенность коренится, кажется, в духе всех славянских народов. Никакие усилия правительства не могли создать у нас среднего класса. Особенно ярким примером является Малороссия, где польское правительство употребляло самые энергичные меры в этом направлении. Мы видим, с одной стороны, чрезвычайную близость всего нашего городского народонаселения, за исключением помещиков и чиновников, особенно массы мелких мещан, к крестьянству, с другой стороны, все фабричное рабочее народонаселение состоит непосредственно из крестьян. Мы не думаем, чтоб уничтожение крепостного состояния существенно изменило в этом отношении наш народный быт, в котором сельские и городские промыслы, сельский и городской тип являются в таком странном, нигде не существующем, кроме как у нас, смешении. Это явление имеет другие причины, более народные, чем крепостное состояние. Освобождение должно значительно содействовать развитию среднего класса. Но это будет, кажется, особенного рода средний класс.
Вместе с тем у нас почти нет и пролетариата, хотя это еще не значит, чтоб у нас не было бедности. Не вдаваясь в причины отсутствия у нас пролетариата, — это отвлекло бы нас слишком далеко, — мы заметим только, что пролетариат образуется из элементов, разлагающих политические сословия, из отверженцев сословных союзов. Потому, чем слабее эти сословные союзы, тем менее материи для образования пролетариата.
Таким образом у нас, собственно, остаются две существенные группы: помещики и крестьяне. Но помещик, в своем общественном, нравственном и экономическом значении, есть тот же земледелец, как и крестьянин. Помещичий класс, как и вообще аристократия, есть высшая степень развития крестьянства. Помещик — потенцированный крестьянин, по меткому выражению Риля. Действительно, мы находим везде самое теплое сочувствие между этими элементами, сочувствие, какого нет между высшим мещанством и крестьянами. Крепостное право и вообще все насильственные господские привилегии суть единственное препятствие к свободному развитию и раскрытию этих внутренних сочувственных отношений. Там, где это насильственное господство исчезло рано (как в Англии), там оба класса живут в такой дружбе, какой не может быть между другими сословиями. То же самое непременно должно быть и у нас, когда помещичий класс перестанет помышлять о своих печальных вотчинных отношениях, а помыслит о своем высоком общественном призвании.
Справедливо видят в помещичьем и крестьянском классах охранительные элементы общества; в городском классе и пролетариях — элементы общественного движения. У нас первые два класса преобладают, как в действительности и преобладает у нас, в народе и государстве, охранительный характер. Он опирается на самые естественные условия народного типа и быта, он не нуждается ни в какой искусственной поддержке и может расшевелиться разве только для охранения себя от возмущающих народную жизнь искусственных охранительных теорий, которые, увлекаясь призраками несуществующих народных волнений, ставили бы насильственные препоны великому народному гению».
Статьями В. Безобразова вопрос о связи Риля с русской публицистикой 50-60-х годов не исчерпывается. Дело в том, что Риль оказался одним из пунктов полемики между славянофилами и западниками — и, пунктом очень характерным, соединившим имена Хомякова, Чичерина, С. Соловьева, Ю. Самарина, К. Аксакова и др. В «Русском вестнике» (1858. Кн. 1. Март) появилось первое из «Исторических писем» С. Соловьева, почти целиком посвященное критике Риля. Письмо написано как ответ другу на его вопросы: «Я понимаю твое нетерпение: столько важных вопросов возбуждено в науке и жизни, жизнь так много требует от науки, настоящее требует так много объяснений от прошедшего! Ты меня закидываешь вопросами: как я думаю об этом? Как смотрю на то? Не отыскал ли я в архивной пыли какого-нибудь известия, которое бы объяснило нам то и то? С чего же начать мне мой ответ?» Речь заходит о понятии прогресса, которое приводит Соловьева к книге Риля: «История должна способствовать установлению правильного взгляда на настоящее, установляя правильный взгляд на отношения настоящего к прошедшему. Как же в настоящее время наука исполняет эту великую обязанность свою? Чтоб удобнее отвечать на этот вопрос, я обращусь к книге, которая произвела сильное впечатление в ученой Германии, книге Риля: Die Naturgeschichts des Volkes; она, как вижу из твоих писем, произвела сильное впечатление и на тебя: ты часто упоминаешь о ней, то с удовольствием, то с неудовольствием; видно, что она тебя занимает и смущает. Я понимаю, что цель сочинения Риля, как сам он ее высказывает, должна была возбудить твое полное сочувствие: "Общественная жизнь может быть улучшена только тогда, когда каждый отдельный человек и целые сословия приобретут способность ограничиваться не выходить из должных пределов. Пусть человек среднего сословия желает быть опять человеком среднего сословия, поселянин — поселянином, аристократ да не считает себя особою привилегированною, для господства над всеми другими рожденною. Пусть каждый с гордостию и радостию признает себя членом того общественного круга, к которому он принадлежит по рождению, воспитанию, образованию, призванию, пусть с презрением отбросит от себя обычай выскочки, который играет роль знатного господина. Эту роль играют теперь почти все состояния, исключая настоящее сельское народонаселение, которое я потому и особенно люблю. Общественное преобразование должно состоять в раскаянии, обращении отдельных членов общества". Цель сочинения прекрасная, в наблюдательности и таланте у автора нет недостатка, приемы при изучении земли и народа образцовые; надобно желать, чтобы русские люди покороче познакомились с этими приемами и воспользовались ими при изучении своей земли и своего народа. Но как достоинства, так и недостатки подобных сочинений не должны оставаться под спудом. При решении общественных вопросов прежде всего необходимо правильное историческое понимание, а его-то иногда и недостает у Риля».
Соловьев доказывает, что «стремление нашего времени к частным союзам», в которых Риль увидел возвращение к старинным цехам, «не есть возвращение к отдаленной старине, не есть протест против направления непосредственно предшествовавшей эпохи, но есть прямое произведение последней». Взгляд Риля и его последователей Соловьев называет антиисторическим, «порожденным плохим знанием и плохим пониманием истории, по которому, найдя в отдаленных эпохах явления, по-видимому, сходные с теми, которых требует настоящее время, устремляют к ним свое сочувствие, упрекая эпоху непосредственно предшествовавшую, будто бы она, вырабатывая новые, чуждые, вредные начала, подавила старые прекрасные начала, которые во что бы то ни стало надо воскресить». Совершенно ясно, что эти слова Соловьева направлены уже не столько против самого Риля, сколько против использования его взглядов русскими последователями — славянофилами. Вся статья оказывается направленной именно против них, против русского «политического буддизма», как выражается Соловьев: «В книге Риля мы часто встречаемся с этим нашим старым знакомым буддизмом. Наш автор сильно наскучил этим беспрестанным коловращением мира, беспрестанным шумом, движением, господствующим в городах, в больших городах; он проклинает город, большой город преимущественно, и спешит в поле; он говорит, что земледельческое сословие ему особенно нравится, потому что в нем меньше стремления выскакивать; но это сказано не совсем откровенно; в книге читатель легко заметит другую причину пристрастия автора: это именно господство в земледельческом сословии первичных, простых форм и бессознательное стремление к их сохранению. Но автор недоволен и полем; как истый буддист, он ищет большей пустоты и стремится в лес, который пользуется особенным его сочувствием». В подтверждение Соловьев приводит ряд цитат из Риля, обнаруживающих его пристрастие к селу и ненависть к большим городам.
Статья Соловьева получает явно публицистический и полемический характер, когда речь заходит о народности: «К буддистским стремлениям обыкновенно присоединяется самозванное стремление к народности. Новые буддисты обыкновенно жалуются, что цивилизация, содействуя общению народов, сглаживает народные черты, делает образованного немца похожим на француза, на англичанина; при этом они обыкновенно указывают на земледельческое сословие, до которого цивилизация не коснулась или коснулась очевидно мало, которое поэтому сохранило во всей чистоте народные черты и потому должно служить образцом для образованных сословий: последние должны возвратиться к нему, приравняться к нему, чтобы возвратить себе народный образ, потерянный чрез прогресс, чрез цивилизацию». Статья кончается суровым приговором книге Риля, который явно обращен и к славянофилам: «Книга Риля, писателя с таким талантом, с такою благонаме- ренностию, показывает всего яснее, к каким неимоверным странностям и к какому бесплодию ведет антиисторическое направление и этот буддистский протест против прогресса».
Чтобы понять полемический смысл этой статьи и ее направленность против славянофилов, надо иметь в виду, что еще в 1857 г. в «Русском вестнике» (Кн. 2. Апрель) появилась статья Соловьева «Шлецер и антиисторическое направление», в которой он впервые открыто и публично напал на славянофилов за их исторический дилетантизм. Имя Риля было тогда уже известно славянофилам, и книги его были ими оценены как родственные их взглядам. Ю. Самарин, в заметке по поводу книги Токвиля «L'ancien rdgime et la Evolution» (1856), писал: «Токвиль, Монта- ламбер, Риль, Штейн — западные славянофилы. Все они, по основным убеждениям и по конечным своим требованиям, ближе к нам, чем к нашим западникам». Разница, которую Самарин устанавливает между этими писателями и русскими славянофилами, состоит в том, что «Токвиль, Монталамбер, Риль и другие, отстаивая свободу жизни и предание, обращаются с любовью к аристократии, потому что в исторических данных Западной Европы аристократия лучше других партий осуществляет жизненный торизм. Сам Монталамбер только признает, и то с прискорбием, что демократическое начало имеет на своей стороне удивительный перевес. Напротив, мы обращаемся к простому народу, но по той же самой причине, по которой они сочувствуют аристократии, т. е. потому, что у нас народ хранит в себе дар самопожертвования, свободу нравственного вдохновения и уважение к преданию. В России единственный приют торизма — черная изба крестьянина»[440].
Эти общественные тенденции славянофилов, подкрепляемые историческими ссылками, заставляли Соловьева (как и Чичерина) выступать против них с доказательствами того, что они не знают исторических фактов и не понимают исторической науки. Такую задачу и поставил себе Соловьев в статье «Шлецер и антиисторическое направление». Славянофилы ответили на нее четырьмя статьями («Русская беседа». 1857. Т. III. Кн. 7) — П. Бессонова, Ю. Самарина, К. Аксакова и А. Хомякова. Школу Соловьева они называют «отрицательной» и возражают против того, что они «антиисторичны». Ю. Самарин кончает свою статью словами: «Ученый историк XIX века уверяет нас, что отрицательная школа, к которой он окончательно себя приурочил своею последнею статьею, наследовала прямо от Шлецера умение честно обходиться с источниками; от души желаем ей не только сохранить это драгоценное наследство, но еще приумножить его приобретением умения честно обходиться с обычаем, с преданием, с жизнью: жизнь поучительна не менее исписанной бумаги и заслуживает еще большего уважения». Интересно, что в той же книге «Русской беседы» сделано аналогичное нравоучение (выше процитированное) Чичерину. Борьба славянофилов и западников окончательно определилась как борьба партий, разно понимающих смысл исторического процесса и исторической науки. К. Аксаков пишет в ответ на статью Соловьева: «Название: антиисторическое придумано неверно, и говорить об этом мне нечего. Но слово сказалось недаром. Историческое направление, как называет свое направление г. Соловьев, понимает историю точно исключительным и односторонним образом. Оно думает, что преемство всех исторических явлений есть непременное восхождение от худшего к лучшему, так что день настоящий есть всегда день правдивый, а вчерашний день есть день осужденный. Это — поклонение не истории, а времени. Здесь нет вопроса об истине в ней самой, веря в которую вы не справляетесь: ее ли время теперь или нет? здесь вопрос только о времени, и уж тот непременно прав, чье время». Именно в ответ на это обвинение Соловьев и развернул в статье о Риле свои взгляды на прогресс и на «политический буддизм» славянофилов. Сочетание статей Безобразова и Соловьева о Риле поставило редакцию «Русского вестника» в несколько неловкое положение. Этим, вероятно, объясняется то, что вторая статья (1858. Кн. 2. Март) заканчивается особым «Р. S.», где Безобразов, защищая Риля, в то же время с большой похвалой отзывается о статье Соловьева: «Мы сами не раз позволяли себе при изложении сочинения г. Риля делать отступления для указания многих странностей в исторических его воззрениях. Но мы руководствовались мыслью, что существенная и едва ли не единственная задача, предлежащая писателю, который желает ознакомить публику с трудами германского исследователя, заключается в том, чтобы дать известность наблюдениям, труженически собранным посреди народной жизни Германии, и особенно замечательному методу исследования, которым он овладел с таким успехом... Мы даже не видим в его пристрастии к крестьянской избе ничего неприятно действующего на наше чувство; оно даже гораздо симпатичнее для нас, нежели пристрастие к фабричным и казарменным постройкам... Наконец, возвращаясь к Рилю, скажем относительно собственно политических или практических его убеждений, что в общем их направлении они как нельзя более подтверждают понятие прогресса, в его истинном значении, переданном и в статье г. Соловьева. Вероятно, зная хорошо движение общества от простых форм к их разнообразию, г. Риль всеми силами стремится противодействовать тому насильственному единству форм, которое произвольно налагают на жизнь некоторые политические системы и которыми стакоюдерзостию решаются оковать жизнь иные государственные люди и публицисты». Последние слова обращены, конечно, не в сторону славянофилов, а в сторону «Современника» и людей радикального направления. Произошло характерное недоразумение: Безобразов выдвинул Риля для борьбы с радикалами, а Соловьев использовал его для полемики со славянофилами. Сочинения Риля оказались тем более злободневными, но первое их значение, предусмотренное Безобразовым, скажется несколько позже, когда славянофильство отойдет на задний план, а на первое место выступит «нигилизм»[441].
В 1858 г. Риль утвердился в России как «немецкий славянофил». А. Хомяков в ответе на статью Соловьева говорит о Риле как о своем единомышленнике. Весь ответ сосредоточен на доказательстве того, что слово «прогресс» звучит у Соловьева как пустая отвлеченность или даже бессмыслица. Очень интересен конец: «Главная же причина ошибок г. Соловьева при его критике на Риля состоит в том, что, говоря о Риле, он думает о своих мнимых противниках на святой Руси. Он уже пробовал их назвать антиисторическою школою: не удалось, не пристает. Г. Чичерин попробовал их прозвать мистиками, но все догадались, что это просто выражение собственного непонимания г. Чичерина (это даже объяснила "Молва"):
теперь г. Соловьев пробует, не удастся ли слово буддаисты Как бы то ни было,
он очевидно желает намеками нападать на своих русских противников. Эти противники ему выразили откровенно свое мнение о его трудах и направлении... И неужели он в их направлении предполагает видеть выражение утомленного бессилия и боязнь крепкого труда? Он очень ошибается. Легче и несравненно легче давать увлекать себя течению, чем стараться отклонить самое течение в лучшее русло. Работа мыслящего ума тяжелее работы пишущей руки: тот, кто в современной подспудной жизни народа и в непонимаемой, хотя и описываемой, старине отыскивает те живые стихии, те умственные типы, в которых заключается и прошедший идеал и развитие будущей судьбы народа, трудится много более, чем тот, кто (как множество людей)
Бессилен к смелому возврату Иль шагу смелому вперед; И по углаженному скату Лениво под гору ползет[442].
Окончательное и совершенно ясное подтверждение тому, что славянофилы рассматривали Риля как своего единомышленника и стремились к союзу с ним, дают письма И. Аксакова из Германии, где он был незадолго до Толстого (январь — апрель I860 г.). В ряде его писем к родителям имеются сообщения о Риле и его сочинениях[443]. В письме из Лейпцига от 16/28 января 1860 г. Аксаков пишет: "Купил я себе всего Риля, но читать еще не успел. Развернул книгу die Familie, и попалось следующее место, которое выписываю для Константина: ein organisehes Haus hat einen Namen; ein symmetrisches hat ein №. Это совершенно справедливо; в Западной Европе уже одни только нумера, и теперь в Петербурге тоже, имена владельца стирают, о чем в Петербурге прогрессисты мне говорили с восторгом. Советую Константину поторопиться с письменным изложением всех своих мыслей о русской народности: мне очень хочется поставить его в непосредственные отношения к Рилю". Из следующего письма видно, что Аксаков думал издать в Германии сборник на немецком языке — систематизированный свод славянофильских идей: «В Германии найдутся серьезные головы, способные задуматься над ними и пустить их в обращение, внести в общечеловеческий капитал мысли и знания». При этом Аксаков пишет, что хотел бы получить предисловие от Риля, и прибавляет: «Я непременно предложу Рилю прочесть брошюры Хомякова». В том же письме Аксаков сообщает, что едет в Мюнхен — между прочим потому, что там живет Риль. Письмо от 4/16 марта написано уже из Мюнхена; оно очень характерно: «Почтенный народ эти немцы. С величайшим удовольствием смотрю я как на крепость отвлеченной мысли у ученых, так и на крепость быта (Sitte) в германском обществе, в Biirgerschaft и Bauernschaft. Мы вообще судим о Германии по средней Германии, и судим ошибочно. В южной Германии и северной — есть народ. Здесь, напр., в Баварии, особенно в Altbayern, народ почти не тронут, таков, как и два века тому назад. Здесь на крестьянских домах — вы можете найти надпись: Ich (das Haus) bin gebaut anno и пр. Но, по моему мнению, замечательнее всех ученых немцев — это Риль, который не столько славянофил немецкий (хотя он славян и не очень любит), но немецкий Константин Сергеевич[444]. А что очень замечательно, так это то, что Риль стоит к ученому немецкому миру в тех же почти отношениях, как славянофил к русским цеховым ученым. Боденштедт и Блунтшли говорят о нем с некоторым презрением, называя его дилетантом, хотя он такой же профессор, как они, — но это потому, что сочинения Риля не носят на себе пыли педантической и что в его логическое понимание входит еще понимание художественное: он музыкант вдобавок, и для него народ, кроме предмета исследования, есть Kunstobject. Я еще не познакомился с ним лично, хочу докончить его книги, их всего пять томов разных сочинений. Будь я в Москве — поехал бы, купил и подарил бы Риля Константину. Его книги недовольно прочесть, но надо проштудировать».
Наконец, Аксаков знакомится с Рилем. В письме от 18 марта он пишет: «Вчера зашел ко мне Риль и предложил пойти завтра прогуляться с ним за город, посмотреть простой народ». При ближайшем знакомстве он несколько разочаровался в Риле: «Личность Риля гораздо менее интересна его книг. Он как будто сам не понимает, да оно так и есть, тот глубокий смысл, который мы в России извлекаем или способны извлечь из его сочинений. Это часто случается в наших отношениях к немцам. У большей части из них истина, великолепная мысль, не есть плод концепций целого духа, a miihsam добытый логический результат, своего рода внешность. Он сам (немец) не понимает всей широты объема своего логического вывода, всей полноты его жизни. Это меня поражает в моих личных знакомствах с немцами. Они все ниже и ограниченнее своих книг. — Впрочем, книга Риля die biirgeliche Gesellschaft свидетельствует об узкости взгляда, не собственно его, но взгляда собственно германского, выработанного историей и жизнью. Покуда он говорит о Land und Leute и о Familie — поражаешься свободою и широтою взгляда, но как скоро он выступает из области непосредственной жизни, то является с регламентом и региментом, и народ получает для него значение, как die Macht des Beharrens, наравне с аристократией». Затем Аксаков сжато излагает систему Риля.
Это изложение надо привести целиком, потому что оно одновременно дает комментарий к вопросу о том, что именно ценили славянофилы в учении Риля и как его понимали.
«Весь оборот мыслей Риля вертится около следующего: современная жизнь ложна и искусственна, общество нуждается в пересоздании, в освежении. Социальные теории новейшего времени все вздор, потому что отрицают историческую Thatsache, народную почву, органическое начало жизни вообще. Обращаясь к прошедшему в жизни общественной, к настоящему в жизни народной, — Риль находит в нем живое органическое начало, от которого современная социальная жизнь уклонилась в своем развитии вследствие разных обстоятельств, вследствие, между прочим, усиления государственного элемента, отвлеченной бюрократии и т. п. Риль бросается изучать это органическое начало — в германском народе. — Но ты чувствуешь, что это органическое начало для него важно, как таковое, а не по внутреннему своему содержанию. Само собой разумеется, что каждый народ заключает в себе начало органическое, имеет живое непосредственное бытие, и чухонец и гренландец, — следовательно, важно именно — что за начало, чем богата непосредственная природа. — Но Риль становится к народу в положение Natur- forscher'a, подсматривает законы органического начала, его проявления. Его книги носят названия Naturgeschichte des Voiles, als Grundlage der deutschen Social-politik. Разумеется, в естественной истории народа важен непосредственный быт народа, проявляющийся в семье, в Gemeinleben, приходящий к сознанию самого себя в Gemeinde, в Haus. (Действительно — замечательно, как сильно в германском народе начало семейное и идея «дома».) Можешь себе представить, как Риль, в своих поисках за органическим, с жаром хватается за все, где еще сохранилась непосредственность быта, где есть остатки жизни, или другими словами (чего он сам не сознает), где начало органическое не успело еще совершить логический процесс своего развития. Так, напр., он чуть-чуть не гордится тем, что в Германии еще есть места, где живут в курных избах! Радость его законна и понятна. Эти курные избы имеют, конечно, будущность, т. е. запас жизни, запас лет впереди. Но Риль не понимает, что эти избы совершают тот же логический процесс развития, как и прежние избы, логическим путем дошедшие до казармы, до современных зданий. Риль не понимает, что идея семьи и дома, вне быта непосредственного, требует высшей, сознательной, нравственной основы, почвы религиозной, которой не может создать ни католицизм, ни протестантизм и которая если и существует еще в германском обществе, то только как явление непосредственное, как непоследовательность благородной человеческой природы. — Итак, Риль, поймавши органическое начало, изучает его явления и законы, возвещает их германскому миру и требует, чтобы общество освежилось ими, возвратилось к ним и укрепилось в них процессом сознания. Силы, охраняющие это органическое начало, которого выражением является вообще die Sitte, — это простой народ и аристократия. — Он идет так далеко, Риль, что серьезно мечтает в своих книгах о том времени, когда опять улицы все будут кривые, а дома стоять боком, а не фасадом к улице, по древнему германскому обыкновению! — Все это построение очень замечательно и, без всякого сомнения, могло бы современную германскую жизнь и Socialpolitik освежить притоком коренных народных начал, придать ей силы и здоровья на многое число лет. Но от внимания Риля и немцев вообще ускользает именно то, что современное общество есть результат прежнего, что современная жизнь есть именно то самое органическое начало, только дошедшее до своего крайнего развития; что то же зерно принесет те же плоды; что наконец — крепость первоначальных отпрысков этого зерна в истории обусловливается цельностью религиозной жизни, и в этом отношении католицизм был бесконечно могущественнее протестантизма, разъединяющего общину, выдвинувшего начало личности и убившего живое начало социальной жизни, доведшего Германию до той абстрактности, которая в настоящее время составляет ее славу и болезнь. — Возвращаюсь к Рилю. Как немец вообще, он совершенно удовлетворился своим построением, и что именно как-то неприятно в нем — это совершенное удовлетворение, успокоение и самодовольство. Сначала, когда я читал первые его две книги, я воображал, что ему нужно и интересно знать начало славянской общины. Нисколько. Он вполне удовлетворяется тем германским началом, которого живую непосредственность он нашел в современном германском народе. Нашел луковицу и воображает, что это что-нибудь особенное, отличное от того дерева, которого тень оказывается такою убийственною! Можешь вообще вообразить, как он дорожит всем непосредственным в народе и готов был бы обратить его в conserve! — Само собою разумеется, я не старался разрушать его верования и вообще не пытаюсь лишать немцев надежды на спасение; только задаю им вопросы; но, заслыша в моих вопросах присутствие arrifcre-pensde, они приходят в тревожное, смущенное, а иногда и в раздраженное состояние. — Во всяком случае Риль — с своим исканием и удовлетворением — очень интересное явление для истории германского общества и вполне оценено и понято может быть только нами. Я думаю, я верно передал квинтэссенцию Риля, вернее, чем он сам бы».
Вернемся к Толстому. Весь этот экскурс в область «социальной политики» и теорий Риля я сделал не для того, чтобы дальше говорить о «влиянии» Риля на Толстого и сопоставлять их воззрения. Риль и вся полемика в России вокруг его сочинений и вопросов о «сословных интересах» важна для того, чтобы не подходить к Толстому с голыми руками и не интерпретировать его текст его же текстом или текстами другой эпохи, как это делают многие. Мне важны документальные данные той самой эпохи, чтобы понимать язык и соотношение фактов. Из приведенного материала достаточно ясно, что в том слое, к которому принадлежал Толстой, самым острым и злободневным вопросом конца 50-х годов был вопрос о «вражде сословий». Именно в связи с этим сочинения Риля, указывающие практический выход из этой вражды укреплением крестьянства и его соотношений с аристократией, имели такое актуальное значение в русской публицистике этого времени. На основе этого материала поворот Толстого к крестьянству выглядит уже не индивидуальным актом его личного сознания (хотя ему самому это могло казаться так), а поступком, характерным для сознания его общественного слоя. С другой стороны, материал этот дает возможность и право утверждать, что в этом поступке Толстого не было никакой связи с радикальными, левыми воззрениями и теориями — Толстой оставался помещиком, но решившим на деле осуществить соотносительную гармонию между земледельческой аристократией и крестьянством. Смотря на весь этот вопрос с моральной точки зрения, он тем самым должен был считать и считал, что достаточно сделать личное усилие, чтобы гармония эта была достигнута. Именно на основе этих настроений, после недолгого промежутка, заполненного дружбой с Чичериным, Толстой решает сделать первый и, с его точки зрения, основной шаг — стать сельским учителем. Роман Ауербаха убедил его в правильности и рациональности этого шага, прибавив особый эмоциональный смысл такому решению. Интересно еще то, что, отойдя от славянофильства, Толстой через Ауербаха и Риля, в сущности, пришел к своеобразному народничеству, только отчасти связанному с некоторыми тенденциями славянофилов («народность»). Этот ход очень характерен для Толстого, всегда тяготеющего к тому, чтобы остаться «самобытным» и определить свою позицию по-своему, минуя создавшиеся группировки.
Итак, надо думать, что имя Риля и некоторое общее представление об его теории были известны Толстому еще до поездки за границу — из статей «Русского вестника», из бесед со славянофилами, с Чичериным, с Анненковым и др. Но интересно, что первая книга Риля, за которую взялся Толстой, была вовсе не «Естественная история народа», нашумевшая в России, адругая, вышедшая в 1859 г., — «Kulturstudien aus drei Jahrhunderten» (в дневнике она называется коротко — «Kulturgeschichte»). Именно здесь напечатаны статьи о старых народных календарях («Volkskalender im acht- zehnten Jahrhundert») и о народоведении («Die Volkskunde als Wissenschaft»), которые упомянуты в дневнике Толстого. Здесь же имеются статьи по истории и теории искусства («Das landschaftliche Auge», «Das musikalische Ohr»), замечательные своим формальным и культурно-историческим анализом, и целый отдел, посвященный вопросам художественной политики («Zur asthetischen Kulturpolitik»). Очевидно, Риль интересовал его сначала не столько как социолог, сколько как «народник». Первая запись о нем (3 августа 1860 г.) — отрицательная: «Риль — болтун. Искусство не может ничего дать, когда сознательно». Такова же и вторая запись (6 августа): «Читал Риля Kulturgeschichte. Каламбур ученый преобладает. Он забывает Искусство. Volkskunde состоит из множества отдельных наук. А искусство помощник, но самостоятельный. Риль же не художник и хочет сделать из своей Volkskunde мешанину искусства и науки». Искусствоведческие работы Риля раздражали Толстого своим научным методом; иное отношение вызвала статья о народных календарях — вопрос, живо интересовавший самого Толстого и знакомый ему по Гебелю и Ауербаху: «Немного успел почитать Риля о календарях. Он прав: о органическом значении народных старых календарей и вообще народной из народа литературы». Характерно, что за этими словами следует: «Но где же место Ауербаха? Entremddiare [посредник] между народом и образованным классом». Кончается эта запись (от 7 августа) планом повести: «Мысль повести. Работник из всех одолел девку или бабу. Формы еще не знаю». Это, очевидно, зародыш будущей «Идиллии». Чтение Риля продолжалось, по-видимому, до самого отъезда в Соден. Накануне отъезда, 25 августа, записано: «Читал Риля. Консерватизм невозможен. Нужны более общие идеи, чем идеи организмов государства — идея поэзии, и ее не уловишь». Эта запись относился, по- видимому, уже к «Естественной истории народа» и именно ко второму ее тому — «Гражданское общество» («Die biirgerliche Gesellschaft»). Свидетельством того, что книги Риля произвели на Толстого большое впечатление, могут служить слова в записи от 15/27 апреля 1861 г., уже по возвращении в Россию: «Аксаков умен, как Риль».
Независимо от критического отношения Толстого к Рилю (как ко всякой теоретической системе) книги его, несомненно, входят в тот общий поток интересов, который захватил Толстого еще в России в конце 50-х годов. В системе Риля для изучения Толстого особенно важны те тенденции, которые связывают ее в один узел с немецким народничеством 40-50-х годов. В этом движении Риль сыграл, несомненно, большую роль — не только как ученый, но и как публицист, как человек большой художественной культуры. В предисловии к 6-му изданию «Гражданского общества» (1866) Риль, указывая на то, что книга эта, писавшаяся между 1847 и 1851 г., «в юношески-бурную эпоху политической жизни», теперь значительно устарела, говорит, что в работе над ней им руководили более всего «моральные побуждения». Свежесть книги (по сравнению, например, с книгой Ю. Фрёбе- ля) заключалась в том, что в ней с особенной энергией и серьезностью выдвинуты социальные вопросы, решению которых был придан моральный оттенок. Эта особенность книги отмечена самим Рил ем в вводной части: «Меня одушевляла мысль, которая, как я полагаю, заключает в себе и нравственную тенденцию книги. Именно, по моему убеждению, только возврат отдельных личностей и целых сословий к большему самоограничению, к более верному пониманию своего достоинства, обещает улучшить общественную жизнь... В этом смысле, если угодно, книга моя аскетическая, а тот высший принцип самоограничения как личности, так и общественных групп, есть в то же время и христианский принцип». Нечего говорить, что такие строки чрезвычайно совпадали с настроениями Толстого, — важно то, что это совпадение придает ясный исторический смысл позиции Толстого, делая ее позицией характерной и проясняя ее в связи с эпохой. Пафос книги Риля был обращен против растущей в Германии государственности, против Пруссии: «С но- восозданным в 1848 году общегерманским государственным устройством связаны были самые смелые надежды, а впоследствии самые горькие разочарования, громкое ликование и тайный скрежет зубов, безграничные упования и бесконечная ненависть партий. Каким образом могло случиться, что после таких жгучих страстей так скоро наступило холодное отречение? Это напоминает нам канун реформации. И на этот раз волны прорвутся не на том месте, на которое устремлены взоры всех. В стороне от политической жизни в тесном смысле лежит теперь жизнь социальная... Политические партии начинают ослабевать, социальные же поддерживают теплящийся под пеплом огонь. Социальная реформация ждет своего Лютера, и его тезисы заставляют забыть самые смелые проекты германского государственного устройства, не исключая планов о великой и малой Германии... В нашей политической борьбе сегодня или завтра может установиться перемирие; в борьбе же социальной невозможно перемирие, не говоря уже о мире — невозможно до тех пор, пока над нашими могилами и над могилами наших внуков не вырастет высокая трава... Старая рознь радикалов и консерваторов бледнеет с каждым днем, рознь же пролетариев, бюргеров, юнкерства и т. д. с каждым днем усиливается». Каково бы ни было отношение к практическим мерам, предлагаемым Рилем, общая характеристика эпохи («признаки времени», как называет Риль первую главу) сделана была правильно, тонко и метко: «У каждой эпохи есть свой собственный призрак, и в страхе и ужасе перед ним воспитываются народы. Чем для средних веков была труба страшного суда, то для девятнадцатого века — труба великого социального переворота. На этом страхе второй Наполеон основал свой императорский трон, подобно тому, как первый Наполеон основал свой трон на ужасах первой революции. Этот страх заставляет людей хвататься за каждую соломинку в надежде на мир, потому что за европейской войной тотчас же может последовать взрыв социальной революции в Европе».
Именно на основе такого представления об эпохе Риль советует обратить особенное внимание на крестьянство: «Все меры к обеспечению общественного спокойствия, к укреплению государственной власти не могут быть долговечны, если они не исходят из того основного положения, что консервативный элемент государства составляет крестьянин; что поэтому прежде всего его положение должно быть возвышено, его характерные черты сохранены, его потребности удовлетворены. Крестьянин восстанавливает в обществе равновесие, нарушенное неестественным развитием цивилизации; социализм теперь уже нельзя победить ни прессой, ни мерами правительства, но его можно одолеть посредством крестьян, посредством заботливого сохранения их нравов и обычаев». Эта точка зрения, конечно, очень родственна позиции Толстого, которая создалась на той же основе (ср. письмо к Блудову 1856 г.) — с той разницей, что у Толстого не могло быть продуманной исторической и социально-политической системы, а был «инстинкт». Замечательно, что в период чтения Риля, как бы в результате размышлений о крестьянах и своей работе, Толстой записывает в дневнике (24 августа): «Видел во сне, что я оделся мужиком и мать не признает меня».
Славянофилы не обратили особенного внимания на общие суждения Риля, высказанные в книге о «Гражданском обществе», как и вообще на этот том «Естественной истории». Толстой, как это видно по последней записи дневника, читал, по-видимому, и этот том. Здесь, как, правда, и в первом томе («Land und Leute»), имеются, кроме характеристики немецкого крестьянства, страницы, посвященные вопросу о социальном романе и об изображении крестьянина в литературе. Славянофилам это было безразлично, — Толстой, наоборот, был очень занят этим вопросом, особенно после чтения Ауербаха. Недаром именно в связи с чтением Риля у него явилась мысль: «Но где же место Ауербаха?» Риль пишет: «Разве это не многозначительный факт, что наши художники уже не могут иначе рисовать отдельную личность, как в обстановке определенного общественного кружка, что общие типы любовника, героя, интригана и т. д., как их изображали в прежнее время, уступили место стереотипным фигурам совсем другого сорта, фигурам, имеющим общественную индивидуальность... Пусть сравнят поэтические нравоописательные картины из крестьянской жизни, начертанные пленительным пером Юнг-Штиллинга и Гебеля, с обработкою той же темы в сочинениях Иммермана, Ауербаха, Иеремии Готхельфа. Те старые, деревенские нувеллисты рисовали нам крестьянина как характерную личность, с его индивидуальною задушевностью, как фигуру маленькой жанровой картины; эти новейшие, наоборот, берут его преимущественно как члена общества, выдвигают на первый план особенности крестьянства (Bauemtum), социальный мотив звучит всюду — даже там, где незаметно никакой тенденции».
Таким образом, имя Риля неразрывно связано с тем немецким литературным народничеством[445], которым так серьезно заинтересовался Толстой и следы знакомства с которым скажутся не только в ближайших по временам вещах Толстого («Идиллия», «Поликушка»), но и в гораздо более поздних — в народных рассказах 80-х годов. Поскольку для исторического понимания Толстого важно знание немецкого народничества не только в виде отдельно взятых его представителей, как Ауербах, но и в качестве целого литературного течения, публицистически обоснованного, постольку необходимо учесть Риля как одного из главных вдохновителей этого народничества.
5
Фрёбель, принявший Толстого за радикала и реформатора, был отчасти прав, но только отчасти. С конца 1859 г. Толстой, действительно, заболевает «детской болезнью левизны» и резко порывает с прошлым — с эпохой «Альберта», с эпохой подчинения Тургеневу и Дружинину, с эпохой яростной борьбы против Чернышевского. Как бы назло «Современнику», превратившемуся в орган разночинной интеллигенции и, в связи с этим, проделавшему в редакции своего рода «чистку», Толстой хочет показать, что он, отвергнутый и занесенный в списки людей «остановившихся», на самом деле гораздо решительнее и в настоящем смысле радикальнее этой интеллигенции. Так заново завязался общественный поединок Толстого с русской интеллигенцией — с современностью и с «Современником».
Человек, в 1858 г. написавший «Альберта», в 1860 г. заявляет Фету: «писать повести вообще напрасно», «искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь», и Чичерину — что «шлянье вне дома или писанье повестей, приятных для чтения, одинаково дурно и неблагопристойно». Это была не столько эволюция, сколько измена, похожая на каприз или на «чудачество», — недаром Чичерин находил в Толстом черты женскости. С весны 1859 г., после «Семейного счастья», Толстой в самом деле не пишет ничего, но за границей, вместе с педагогической работой, являются и планы литературных работ. Осенью 1860 г., во время чтения Риля, он задумывает повесть из крестьянской жизни и, как видно по дневникам, работает над ней; весной 1861 г. он начинает писать «Поликушку». Знакомство с немецким народничеством, далеким от русского «нигилизма» и озабоченным созданием новой литературы, по-видимому, подействовало на него. Школа начинает вступать в какой-то внутренний контакт с литературой, с писательством. В этом отношении характерна одна запись дневника (от 16 апреля 1861 г.), в которой мысли о школе и об искусстве оказываются в непосредственном соседстве: «Вечер опять тревога мыслей о воспитанье, так же как и дорогой, и объясняется только ограничиваясь. 1-е ограничение. Воспитание прочь — одно ученье; второе (по случаю чтения кухонной химии) практичное преподавание науки есть первая и последняя ступень — задача школы есть не die Wissenschaft beibringen, a die Achtung und die Idee der Wissenschaft beibringen. — С этим заснул покойно. Думал дорогой, кидая камешки, и об искусстве. Можно ли целью одной иметь положения, а не характеры? Кажется можно, я то и делал, в чем имел успех. Только это не всеобщая задача, а моя». Еще раньше, в записи, резюмирующей впечатления от Италии, появляются многозначительные слова: «Первое живое впечатление природы и древности — Рим — возвращение к искусству». И рядом с этим — характерная фраза: «Гиер — Париж — сближение с Тургеневым».
Действительно, дружеские отношения с Тургеневым возобновляются. Тургенев опять начинает надеяться, что «чудачества» Толстого подходят к концу и в ответ на его письмо, выражает уверенность, что теперь они встретятся в России «хорошими приятелями», что «прошедшим недоразумениям конец» и что «бывший вывих» навсегда вправлен. Узнав, что Толстой в Брюсселе пишет повесть («Поликушку»), Тургенев решает возобновить свой прежний тон учителя и советчика: «В особенности меня порадовало известие, что Вы возвращаетесь к искусству: каждый человек так создан, что ему одно дело приходится делать; специальность есть признак всякого животного организма, — и Ваша специальность все-таки искусство, — это, разумеется, не исключает возможности заниматься и педагогией, особенно в том первобытном виде, какой возможен и нужен у нас на Руси». Менторский и даже несколько злорадный тон этого письма (в смысле — «давно бы так») нисколько не лучше того, каким в это же время писал Толстому Чичерин; каждое слово приведенной цитаты должно было возмущать Толстого — в том числе и снисходительное разрешение заниматься на досуге «первобытной» педагогией. Это сказалось очень скоро — Тургенев слишком рано обрадовался: в мае 1861 г., сейчас же по возвращении Толстого из-за границы, они поссорились и разошлись почти на всю жизнь. В «Современнике», по-видимому, тоже думали, что Толстой объединится с Тургеневым для создания единого фронта борьбы; в статье по поводу «Казаков» редакция признавалась: «Мы ожидали, что, в отмщение за посягательство на свою прежнюю славу и новые способности, граф Л. Н. Толстой примет манеру другого знаменитого писателя, перепугавшегося до полусмерти современного поворота мыслей. Мы однако ошиблись. Вследствие ли невозможности положительно отречься от выводов современной науки о человеческом благосостоянии, знакомство с которыми хотя и беспорядочно, неполно и распущенно, но проглядывает в педагогических писаниях графа Л. Н. Толстого, вследствие ли отсутствия того огорчения, которое овладело г. Тургеневым, но повесть "Казаки" не этой стороной связана с Ясной Поляной[446]. Эта повесть является не протестом, а сугубым непризнанием всего, что совершилось и совершается в литературе и в жизни, построена на тех художественных основаниях, по которым художнику ни в каком отношении закон не писан»[447].
Итак, писательская стратегия Толстого, идущего на штурм «шестидесятников», оказалась непохожей на тактические движения Тургенева. Толстой следует немецким методам — он в данном случае скорее ученик Риля и Ауербаха, чем Тургенева или Чичерина. В Германии проблема писательства и писательского поведения была не менее сложной и острой, чем в России. В книге Риля о «гражданском обществе» есть целая глава о «пролетариях умственной работы», к которым он относит, между прочим, литераторов, журналистов и художников всякого рода — «от странствующих виртуозов и трупп комедиантов до органистов и уличных певцов». С особенным вниманием Риль останавливается на музыкантах — тех самых, которых Толстой описал в «Альберте» и «Люцерне». Можно подумать, что Риль знает толстовского «Альберта», когда пишет: «Старый, солидный придворный музыкант превратился в современного странствующего виртуоза, утратил свое социальное положение». Герой «Люцерна» оказывается злободневной и характерной в социальном отношении фигурой, если применить к нему, в виде комментария, слова Риля: «Какой контраст между старыми, честными музыкантами и теми художниками, которые, не имея постоянной родины, кочуют из одной страны в другую, превращая в профессию не самое искусство, а какую-то жалкую пародию на него... Пролетариат странствующих виртуозов проходит через все степени артистов; он начинается от салонных музыкантов и доходит до артистов и органистов, странствующих по деревням во время храмовых праздников. Крестьяне часто жалуются, что "со времени революции все хотят жить музыкою". Замечание это направлено против низшего разряда музыкального пролетариата, увеличивающегося с удивительною быстротою». Именно исходя из этого положения музыкальной профессии. Риль сам был последовательным ревнителем развития домашней, «семейной» музыки.
Далее ряд страниц посвящен характеристике положения литераторов — тут аналогия с Россией полная. Описание немецкого литературного мира приобретает у Риля характер памфлета, очень близкого к тому, что писал Толстой в статье «Прогресс и определение образования». Риль говорит, что «литераторство» зародилось в Германии не более двадцати лет тому назад: «По крайней мере с этого времени многочисленный класс образованных людей стал смотреть на "сочинительство" как на единственный предмет своих доходов, как на главную основу своего материального существования... Период настоящей современной журналистики начался с 1813 года. Он наступил для Германии, когда вспыхнувшая июльская революция вновь встревожила умы. Вместе с журнализмом появилась толпа литераторов, увеличивавшаяся с каждым годом, по мере роста журнализма». Риль считает, что развитие литературы как профессии было в Германии явлением преждевременным и потому приняло болезненные формы: «Рано появившееся литераторство, терпя сильную нужду, способствовало рождению на свет полусозревшей современной журналистики». Совсем по-толстовски звучат далее слова Риля: «С историко-литературной точки зрения наша новейшая национальная литература, как это уже давно выяснено, есть исключительно литература образованных классов, а не всего народа... Примирение народа с литературным миром может совершиться только путем социальным, а не литературным (не при помощи, например, входящего теперь опять в моду кокетничанья с народными оборотами речи)». Весь этот экскурс заканчивается практическими советами и указаниями, которые интересны как комментарий к поведению Толстого — опять-таки, конечно, не в смысле «влияния» на него Риля, а в смысле совпадения, обнаруживающего историческую закономерность. Риль пишет: «Истинное писательское призвание сопряжено с самоотречением; писатель, подобно древним художникам, должен работать тихо и без притязаний; он погибает, если смотрит на свое дело как на дело агитатора, а не художника. Игнорирование этого факта составляет проклятие нашего журнализма». Другой совет еще более характерен: «Безумная мысль, что одна гениальная работа творческого духа может быть исключительным и непрерывным делом всей жизни, губит обычно самую лучшую часть литературного мира. Даже самый талантливый писатель, желающий жить литературным трудом, должен при этом владеть каким-нибудь ремеслом, хотя бы оно состояло только в переводах или сообщении парламентских и судебных прений. Каждый художник и ученый должен помнить, что Павел был не только самым ревностным и способным апостолом, но и изготовителем ковров; что Руссо, хотя наполовину уже современный литератор, не стыдился, однако, быть переписчиком нот».
Позиция Толстого была облегчена тем, что он не был «пролетарием умственной работы»: его «второй профессией» было хозяйство, которым он как раз в это время усиленно занялся. Но это облегчение имело обратную сторону: писательское дело, отодвинутое в сторону натиском 60-х годов, грозило стать для Толстого простым домашним занятием, «литературой для себя». Положение литературы и писателя, независимо от профессиональных вопросов, было в начале 60-х годов очень сложным. Я. Полонский начинает свою статью по поводу «Казаков» Толстого словами: «Лихорадочно-напряженное состояние нашего общества всех выбивает из колеи, в особенности литераторов. Романисты пускаются в полемику, публицисты пишут романы, историки — драмы, лирические поэты — статьи по хозяйственной части[448]и очень может быть, что экзекуторы скоро начнут стихи писать»[449]. Пока что Толстой как будто вовсе отошел от писательства, заменив его школьной работой, но, по разным признакам, можно предвидеть, что такое положение будет продолжаться недолго и что самая эта работа окажется в конце концов не столько отходом от литературы, сколько методом возвращения к ней.
Вернувшись из-за границы, Толстой берется всерьез за педагогическое дело. В начале февраля 1862 г. выходит первый номер журнала «Ясная Поляна» с приложенной к нему «Книжкой для детей». В журнале была помещена статья Толстого «О народном образовании» и описание яснополянской школы за ноябрь и декабрь 1861 г.; в книжке — вводная статья Толстого и два рассказа: «Матвей», который, по словам Толстого, произошел «из устной переделки учениками французской повести» («Maurice ou le travail»), и «Федор и Василий», который «произошел точно так же». В вводной статье Толстой рекомендует эти рассказы как опыт: «Уже давно в Европе и у нас пишутся книги для поучения народа труду и смирению (которого терпеть не могут поучающие), а народ, по-старому, читает не то, что мы хотим, а то, что ему нравится: читает Дюма, Чети-Минею, Потерянный рай, путешествие Коробейникова, Францыля Венциана, Еруслана, Английского Милорда — и своим собственным путем вырабатывает свои нравственные убеждения. И все предположения о том, как такая-то и такая книга должна подействовать на народ, оказываются ошибочными: один читает Чети-Минею и делается фанатиком, другой, читая ту же Чети-Минею, делается неверующим, один, читая Дюма, портит себе вкус, другой получает любовь к хорошему чтению... Почему мы для себя считаем хорошим писателем того, который нам нравится, а для народа считаем хорошим писателем того, который нам, а не народу нравится? Ежели народ хочет читать Английского Милорда, то какое мы имеем право жалеть об этом и предлагать ему сочинения о том, какие, по нашему мнению, нужны для народа добродетели? Ежели мы не умеем или не любим отвечать на требования народа, то, казалось бы, проще всего нам отвернуться от этого неразумного народа. Ежели же уж мы во что бы то ни стало хотим образовать этот несчастный народ, то дадим ему то, что он требует... Все это мы написали только для того, чтобы не ввести в заблуждение критика, встретившего в наших книжках, очень может быть, переделки Ермака с плясками и танцами или Английского Милорда Георга».
Уже в этой заметке Толстой парадоксально соединяет педагогическую точку зрения с утверждением, что поучать народ нельзя и не нужно, а что нужно только отвечать на его потребности: «Мы убеждены, что все потребности народа законны, что добро присуще человеческой природе и что народ точно так же нельзя поучать, как и нельзя портить книжками... Какое это должно быть чтение и как оно должно действовать на народ, мы не только не знаем, — не признаем за собой права знать и такое мнимое знание считаем величайшей дерзостью, порождающей только ошибки и напрасные траты сил, могущих быть лучше употребленными». Слова эти направлены против тех же «теоретиков», против той же интеллигенции, которая, конечно, считала себя не только вправе, но обязанной поучать народ и руководить его образованием, потому что хотела поднять его. В отношении «теоретиков» к народу на первом плане стояли социальные и политические задачи — борьба с темнотой, развитие самосознания и пр. В устах Толстого слово «народ» имеет совсем другое значение: никаких таких задач он в свою педагогическую работу не вносит, исходя сам из воззрения на народ как на особую субстанцию, которую надо сохранять такой, какая она есть. Тем самым своеобразный радикализм Толстого, обращенный им в сторону «теоретиков», оказывается радикализмом от славянофильства в самом его архаическом виде.
В статье «О народном образовании», направленной против системы принудительного образования, этот парадоксальный радикализм формулирован еще яснее и полнее. Толстой доказывает, что все незыблемые основания и догматические принципы, на которых строилась старая школа (средние века, Лютер), разрушены: «Но какое же положение школы нашего времени, оставшейся в тех же догматических принципах, когда рядом с классом заучивания истины о бессмертии души ученику стараются дать уразуметь, что нервы, общие человеку и лягушке, суть то, что называли прежде душою; когда после истории Иисуса Навина, переданной ему без объяснений, он узнает, что солнце никогда не ходило вокруг земли; когда после объяснения красот Виргилия он находит красоты Александра Дюма, проданные ему за пять сантимов, гораздо большими; когда единственная вера учителя состоит в том, что ничего нет истинного, что все, что существует, то разумно, что прогресс есть добро, а отсталость — зло; когда никто не знает, в чем состоит эта всеобщая вера прогресса?» Направленность этой тирады совершенно ясна: тут и знаменитые лягушки, ставшие неотъемлемой принадлежностью «нигилизма», и Гегель, и теория прогресса. Вывод из всего этого — «никто не знает, что ложь, что правда».
Итак — нигилизм против нигилизма: «Ежели мы убедимся, что народное образование в Европе идет ложным путем, то, не делая ничего для нашего народного образования, мы сделаем больше, чем ежели бы мы силой внесли вдруг в него то, что каждому из нас кажется хорошим... Перестанем же смотреть на противодействие народа нашему образованию как на враждебный элемент педагогики, а, напротив, будем видеть в нем выражение воли народа, которой одной должна руководиться наша деятельность». По этим цитатам можно подумать, что статья Толстого написана не о народном образовании, а против народного образования. Появившийся в этой статье термин «воля народа» очень характерен — он выставлен против тех, которые хотят поднять народ, изменить его состояние — т. е. навязать ему свою волю. Туг Толстой уже явно соприкасается с Рилем, охраняющим «народ» от всяких чуждых воздействий и настаивающим на том, чтобы сельские учителя набирались из крестьян, а не из среды «пролетариев» умственной работы: «Наши учебные заведения искусственно вырывают крестьянского мальчика из родного сословия, вместо того, чтобы преимущественно заботиться о том, как бы возвратить его с развитыми силами в ту же среду, из которой он вышел, так как он должен же остаться крестьянином. Общенародное образование, для которого приготовляют сельских Учителей, есть сумасбродство, продукт старого нивелирующего рационализма. Нет общенародного воспитания: напротив, чем глубже проникает образование в народ, тем больше оно разветвляется, индивидуализируется. Сельский учитель нужен не для того, чтобы осуществить какую-нибудь педагогическую теорию, а для того, чтобы помочь крестьянину сделаться настоящим крестьянином». Толстой, как и Риль, явно стоит наточке зрения охраны «сословий» как исторических субстанций.
Если в статьях Толстому приходится иногда говорить намеками, то в письмах он свободен от этого стеснения. Педагогическая политика Толстого, направленная против влияния интеллигенции, сказывается с полной ясностью в письме к С. А. Ра- чинскому (7 августа 1862 г.) — в ответ на обращение его к Толстому за советами: «Учителя в школах все студенты. Все бывшие семинаристы (их было у меня шесть) не выдерживают больше года, запивают или зафранчиваются. Главное условие, по-моему необходимое для сельского учителя, это уважение к той среде, из которой его ученики, другое условие — сознание всей важности ответственности, которую берет на себя воспитатель. Ни того ни другого не найдешь вне нашего образования (университетского и т. п.). Как ни много недостатков в этом образовании, это выкупает их. Ежели же этого нет, то уж лучше всего учитель — мужик, дьячок и т. п., тот так тожественен в взгляде на жизнь, в верованиях, привычках с детьми, с которыми имеет дело, что он невольно не воспитывает, а только учит. Или учитель совершенно свободный и уважающий свободу другого, или машина, посредством которой выучивают чему там нужно. — У меня 11 студентов, и все отличные учителя. — Разумеется, наши совещания и журнал содействуют этому, но право, сколько я ни знал студентов, такая славная молодежь, что во всех студенческих историях невольно обвиняешь не их. Разумеется, все зависит от направления. Дать известное направление, навести на более серьезный взгляд — есть цель моего журнала. На днях были у нас школьные сельские учителя, студенты не нашего кружка, и эти господа уверяли, что библия есть сброд нелепостей, которых не нужно передавать ученикам, и что цель школы есть уничтожение суеверий. Меня не было, но все наши спорили против них. Вы говорите — не студентов. А я советую вам студентов только с руководителем. Студенты, на мой взгляд, не имеют и не могут иметь направлений, они только люди, способные принять направление... Советую взять студента, и вы увидите, как вся quasi-либеральная дребедень, яко воск от лица огня, растает от прикосновения с народом»[450]. В тот же день Толстой, по поводу обыска в Ясной Поляне, писал А. А. Толстой о своих студентах: «Все из 12, кроме одного, оказались отличными людьми; я был так счастлив, что все согласились со мной, подчинились не столько моему влиянию, сколько влиянию среды и деятельности. Каждый приезжал с рукописью Герцена в чемодане и революционными мыслями в голове и каждый, без исключения, через неделю сжигал свои рукописи, выбрасывал из головы революционные мысли и учил крестьянских детей священной истории, молитвам и раздавал евангелия читать на дом. Это факты. Все 11 человек делали это без исключения и не по предписанию, а по убеждению. Я голову даю на отсечение, что во всей России в 1862 году не найдется такого 12-го студента».
Итак, школа Толстого, помимо всего, оказалась учреждением, перевоспитывающим не столько народ, сколько студенческую молодежь, зараженную революционными мыслями — т. е. представителей молодой интеллигенции, читателей «Современника», герценовского «Колокола» и пр. Самый быт школы подробно описан в письме к той же А. А. Толстой (июль 1861 г.): «Есть и у меня поэтическое, прелестное дело, от которого нельзя оторваться, — это школа. Вырвавшись из канцелярии и от мужиков, преследующих меня со всех крылец дома, я иду в школу, но так как она переделывается, то классы рядом в саду под яблонями, куда можно пройти, только нагнувшись, так все заросло. И там сидит учитель, а кругом школьники, покусывая травки и пощелкивая в липовые и кленовые листья. Учитель учит по моим советам, но все-таки не совсем хорошо, что и дети чувствуют. Они меня больше любят. И мы начинаем беседовать часа 3—4, и никому не скучно. Нельзя рассказать, что это за дети — надо их видеть. Из нашего милого сословия детей я ничего подобного не видал. Подумайте только, что в [продолжение] двух лет, при совершенном отсутствии дисциплины ни один и ни одна не была наказана. Никогда лени, грубости, глупой шутки, неприличного слова. Дом школы теперь почти отделан. Три большие комнаты— одна розовая, две голубые заняты школой. В самой комнате, кроме того, музей. По полкам, кругом стен разложены камни, бабочки, скелеты, травы, цветы, физические инструменты и т. д. По воскресеньям музей открывается для всех и немец из Иены (который выше: славный юноша) — делает эксперименты. Раз в неделю класс ботаники, и мы все ходим в лес за цветами, травами и грибами. Пения четыре класса в неделю. Рисования шесть (опять немец), и очень хорошо. Землемерство идет так хорошо, что мальчиков уже приглашаю; мужики. Учителей всех, кроме меня, три. И еще священник два раза в неделю. А вы все думаете, что я безбожник. И я еще учу священника, как учить. Мы вот как учили: Петров день — мы рассказываем историю Петра и Павла и всю службу. Потом умер Феофан на деревне — мы рассказываем, что такое соборование и т. д. И так, без видимой связи, проходим все таинства, литургию и все ново- и ветхозаветные праздники. Классы положены с 8-ми до 12-ти часов и с 3-х до 6-ти, но всегда идут до двух, потому что нельзя выгнать детей из школы — просят еще. Вечером же часто больше половины останется ночевать в саду, в шалаше. За обедом и ужином и после ужина мы — учителя — совещаемся. По субботам же читаем друг другу наши заметки и приготовляем к будущей неделе».
Несмотря на то что направление яснополянской школы, как видно по всем этим фактам, никак не могло быть признано и одобрено «Современником» (хотя в первых статьях оно несколько и затушевано), Толстой после выхода в свет первого номера своего журнала пишет письмо Чернышевскому — как будто для того, чтобы демонстрировать ему радикализм своего поведения и своих педагогических мыслей и заставить его отказаться от прежних оценок: «Я вас очень прошу внимательно прочесть его [журнал] и сказать о нем искренно и серьезно ваше мнение в "Современнике". Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить: "Да... детство очень мило, но журнал?.." А журнал и все дело составляют для меня все». Это было похоже на вызов редакции «Современника». В обращении «К публике», открывавшей первую книжку журнала, Толстой писал, тоже как будто мысленно обращаясь к Чернышевскому: «Надеюсь, что мои мысли вызовут противные мнения. Всем мнениям я с удовольствием дам место в своем журнале. Одного я боюсь: чтобы мнения эти не выражались желчно, чтобы обсуждение столь дорогого и важного для всех предмета, как народное образование, не перешло в насмешки, в личности, в журнальную полемику».
Я уже упоминал в своей первой книге о том, как Чернышевский ответил на эту просьбу. Статья его написана с большой осторожностью по отношению к делу, затеянному Толстым. Он приветствует его систему обращения с детьми, а в ответ на слова, обращенные «к публике», говорит: «Из уважения к порядку, установленному им в яснополянской школе, и к его горячей преданности этому доброму порядку, мы исполним его желание; а без этого обстоятельства, — т. е. если бы не знали мы, как свободно и легко устроено для детей учение в яснополянской школе, — мы, вероятно, не удержались бы от колкостей при разборе теоретических статей "Ясной Поляны"». Однако конец статьи наполнен достаточным количеством колкостей по поводу странностей и противоречий общих взглядов Толстого на народ и на народное образование. Чернышевский сравнивает Толстого с полуграмотным заседателем уездного суда, очень добрым и честным человеком, который вздумал быть законодателем, не имея ни юридического образования, ни знакомства с общим характером современных убеждений: «Чем-то очень похожим на него являетесь вы: решитесь или перестать писать теоретические статьи, или учитесь, чтобы стать способным писать их».
Вызов Толстого был принят: статья Чернышевского была написана «искренно и серьезно», но идеи Толстого и весь его педагогический радикализм подвергнуты осмеянию. Если Толстой рассчитывал произвести этой статьей впечатление на «Современник» и заставить его изменить свое отношение, то он ошибся. Статья Чернышевского, написанная нравоучительным и насмешливым тоном, вызвала в Толстом сильнейшее раздражение, которое и сказалось в следующей его статье — «Воспитание и образование», напечатанной в № 7. По сравнению с первой статья эта гораздо более решительная и откровенная: она уже совершенно явно направлена против претензий интеллигенции, против общественников и «теоретиков», против пропаганды новых идей. К вопросам собственно педагогическим она имеет косвенное отношение — педагогикой здесь прикрываются вопросы гораздо более широкого значения. Толстой доказывает, что предметом педагогики должно и может быть только образование, а что «права воспитания» не существует. Тут же, противореча самому себе и обнажая свои скрытые тенденции, Толстой говорит, что для воспитания семейного («отец и мать, какие бы они ни были, желают сделать своих детей такими же, как они сами»), религиозного («религия есть единственно законное и разумное основание воспитания») и правительственного (воспитания «слуг правительству» — чиновников, офицеров и пр.) есть оправдания; никаких оправданий он не находит только для «воспитания общественного», которое и подвергает жестокой и озлобленной критике. Таким образом, протестуя против воспитательного деспотизма и отстаивая «свободу», Толстой становится на защиту именно самых деспотических форм воспитания.
Толстовский радикализм обнаруживает здесь всю противоречивость, запуганность и чудаковатость своих оснований. Местами статья эта имеет совершенно погромный характер — в особенности в политической и социальной обстановке 1862 г., года правительственных погромов и жестоких репрессий. Доводя теорию Риля (охрану сословной диференциации) до предела и абсурда, Толстой возмущается всякой попыткой «поднять» ученика над его средой: «Родители, начиная с крестьян, мещан до купцов и дворян, жалуются на то, что детей их воспитывают в чуждых их среде понятиях. Купцы и старого века дворяне говорят: мы не хотим гимназий и университетов, которые сделают из наших детей безбожников и вольнодумцев». Главное зло школы — «отречение от дома»; оно начинается в уездном училище и окончательно завершается в гимназии: «Просвещенные учителя стараются возвысить его [ученика] над его природною средой, с этой целью ему дают читать Белинского, Маколея, Льюиса и т. д.; все это не потому, чтобы он имел к чему-нибудь исключительную склонность, а чтобы вообще развить его, как они это называют. И гимназист на основании смутных понятий и соответствующих им слов — прогресс, либерализм, историческое развитие и т. п., с презрением и отчуждением смотрит на свое прошедшее. Цель наставников достигнута, но родители, и в особенности мать, еще с большим недоумением и грустью смотрят на своего изможденного, чужим языком говорящего, чужим умом думающего, курящего папиросы и пьющего вино, самоуверенного и самодовольного Ваню»[451].
Далее идет критика университета. Толстой высмеивает всю систему и постановку университетского образования, построенную на обмане: «Университеты были учреждены для потребностей отчасти правительства, отчасти высшего общества... Правительству нужны были чиновники, медики, юристы, учителя — для приготовления их основаны университеты. Теперь для высшего общества нужны либералы по известному образцу, и таковых приготавливают университеты. Ошибка только в том, что таких либералов совсем не нужно народу». Особенно характерно, как возмущается Толстой студенческими кружками и их направлением: «Программа, составляемая кружком, в последнее время мало разнообразна; большей частью она состоит в следующем: чтение и повторение чтений старых статей Белинского и новых статей Чернышевских, Антоновичей, Писаревых и т. п.; кроме того, чтение новых книг, имеющих блестящий успех в Европе, без всякой связи и отношения к предметам, которыми занимаются: Льюис, Бокль и т. п. Главное же занятие — чтение запрещенных книг и переписывание их. Фейербах, Молешот, Бюхнер и в особенности Герцен и Огарев. Переписывается все не по достоинству, но по степени запрещения. Я видал у студентов кипы переписанных книг, без сравнения большие, чем бы был весь курс четырехлетнего пребывания, и в числе этих тетрадей толстые тетради самых отвратительных стихотворений Пушкина и самых бездарных и бесцветных стихотворений Рылеева. Еще занятие составляют собрания и беседы о самых разнородных и важных предметах, — например, о восстановлении независимости Малороссии, о распространении грамотности между народом, о сыгрании сообща какой-нибудь шутки над профессором или инспектором, которая называется требованием объяснений, о соединении двух кружков — аристократического и плебейского и т. п.»
Раздражение Толстого против интеллигенции 60-х годов сказалось в этом отрывке в полной мере; процитированный отдельно, он скорее похож на рапорт по начальству, на донос, чем на статью Толстого. Надо еще иметь в виду, что когда статья писалась, «Современник» был уже приостановлен, студенчество и университеты (в связи с майскими пожарами в Петербурге) были взяты под подозрение; а когда статья вышла в печати, Чернышевский был уже арестован. Тем самым страницы статьи, посвященные критике университета и разоблачению студенческих кружков, имели особый и очень определенный смысл. Толстовский «радикализм» оказался здесь частично совпадающим с самыми реакционными программами, имевшими целью разгром молодой разночинной интеллигенции. Это был уже не вызов, а наступление. Критика «общественного образования» кончалась следующим итогом: «Семейные, религиозные и правительственные воспитания естественны и имеют за себя оправдание необходимости; общественное же воспитание не имеет оснований, кроме гордости человеческого разума, и потому приносит самые вредные плоды — каковы университеты и университетское образование».
«Современник», конечно, не мог пройти мимо этой статьи. В первом же, вышедшем после приостановки, томе (январь 1863 г.) была напечатана статья «Наши толки о народном воспитании», целиком посвященная Толстому. Автор сначала вспоминает о том, как встретил «Современник» первые номера толстовского журнала: «Современник» «отдал справедливость его школе и выразил свое искреннее сочувствие тем побуждениям, которые руководили ее основателем, сочувствие его любящим отношениям к народу и гуманным порядкам в его школе. Но в то же время "Современник" так же прямо сказал, что теоретические рассуждения издателя "Ясной Поляны" далеко не так основательны, как его школьные порядки; что прежде чем поучать Россию своей педагогической мудрости, надо самому поучиться, подумать, постараться приобрести более определенный взгляд надело народного образования; что установление общих принципов науки требует, кроме прекрасных чувств, еще иных вещей: нужно стать в уровень с положением науки, а не довольствоваться кое-какими личными наблюдениями да бессистемным прочтением кое-каких книжек. В доказательство указано было много аргументов из журнала гр. Толстого, приводивших именно к такому заключению. Вещи совершенно основательные стоят у него рядом с самыми бездоказательными и самолюбивыми выходками, вещи самые похвальные рядом с непозволительными тенденциями, которых не должен допускать писатель, истинно уважающий науку и людей, для нее серьезно работавших».
Последняя статья Толстого вызывает уже иное отношение. Здесь Толстой, по словам «Современника», «очень близко подходит к той школе национального и народного мистицизма, которая приобретает так много новых последователей теперь между людьми перетрусившего прогресса и которая прежде называлась просто славянофильством... Этот мистицизм народности имеет множество оттенков, начиная от незамысловатого квасного патриотизма и ношения национальной (т. е. кучерской) поддевки до туманной философии Киреевского, до проповеди о почве и погибели западной цивилизации, до филиппик М. П. Погодина, до международных понятий "Дня" и, пожалуй, до художественно-поэтических обличений нигилизма». После недавнего закрытия «Современнику» приходится быть очень осторожным в своих оценках («мы можем теперь только наблюдать наше время») — это надо принять во внимание при чтении этой статьи. Указывая на «экстравагантность» некоторых выводов Толстого, редакция заявляет, что постарается сохранить хладнокровие и отказывается опровергать всю его систему — «потому что именно системы мы и не видим в его педагогических сочинениях... системой можно назвать только нечто продуманное, нечто основанное на одном общем понятии, тогда как у гр. Толстого мы встречаемся постоянно с вещами весьма разнородными и несоединимыми: один раз он самым радикальным образом требует свободы воспитания и удовлетворения народных требований, основывая то и другое на свободе воспитываемого; с другой стороны, он в то же время признает, самым детским образом, тот status quo, который именно и противится всякой возможности подобной свободы».
«Современник» указывает Толстому, что он совершенно игнорирует связь школы с политическим устройством страны и с общественными отношениями, что «вопрос о школе переходит в более обширные вопросы — о человеческой личности, о законах общественной жизни, об экономическом быте, о законах цивилизации и общественного образования», советует Толстому прочесть между прочим тех самых Бокля, Льюиса, Молешота, имена которых он называет в своей статье «с каким-то недоброжелательством»; по поводу его суждений об университетах «Современник» пишет: «Гр. Толстой ошибается и в том, что никто будто бы не нападал на университеты. На них нападают все обскуранты и уже давно, нападают и в настоящую минуту: к своему имени, подписанному под статьей "Воспитание и образование", гр. Толстой и теперь мог бы прибавить имя г. Аскоченского и других». Цитируя толстовское описание того, как университетский воспитанник, возвращаясь в семью, оказывается чужим, и характеризуя эти суждения Толстого как «беззубый обскурантизм», «Современник» смеется над постоянными ссылками Толстого на «могучий голос народа», который будто бы протестует против университетов: «И с какого права эти люди, с сосредоточенной злобой нападающие на то, что есть свежего (хоть может быть и неопытного) в нашей общественной среде, провозглашают себя защитниками народного интереса, толкователями "могучего голоса" народа? Этот могучий голос известен и другим, для кого дороги интересы этого народа, но они не в состоянии вывести из него таких заключений, какие выводит проницательность яснополянского наблюдателя. Оказывается, что за могучий голос народа он просто принимает вопли дворянства старого века да разве еще купечества старого века, крестящегося двуперстным сложением и видящего везде кругом себя одну нечистую силу». Статья кончается ответом на выпад Толстого против студенческих кружков с упоминанием имени Чернышевского: «Мы заметили бы теперь еще одно обстоятельство: июльская книжка "Ясной Поляны" вышла после 20 сентября (этим числом помечено цензурное одобрение), и гр. Толстому были без сомнения известны разные события, происшедшие до этого времени в русской литературе. Он не обратил на это никакого внимания: в своих филиппиках он продолжал нападать на некоторых своих противников, не имевших возможности отвечать ему; он ставил их имена в соседство весьма неполезное, которое пожалуй могло бы подать повод к какому-нибудь соблазну у людей, мало знакомых с делом. Мы бы советовали ему больше гражданской осторожности».
Вокруг школы Толстого и, главное, его воззрений на народное образование завязалась ожесточенная журнальная полемика. На защиту Толстого против «Современника» стало «Время» — журнал «почвенников», непосредственно продолжающий традиции славянофилов. Грубая, крикливая статья Игдева (псевдоним И. Г. Долгомостьева), под названием «Сказание о дураковой плеши»[452], оправдывает все тезисы Толстого, а в статье «Современника» видит одно пустое фразерство. В «Русском вестнике» появилась статья Е. Маркова, в общем благожелательная по отношению к Толстому, но берущая под защиту отвергаемую им идею прогресса. Полемика перекинулась даже в газеты. В «Северной почте» В. Заочный пишет: «Даровитый наш беллетрист гр. JI. Н. Толстой посвятил с некоторого времени свою деятельность практике народного воспитания в особенно устроенной им школе и печатает свои наблюдения в особом журнале "Ясная Поляна" Оригинальность воззрения на воспитание и преподавание и в особенности резкость теоретических выводов из частного случая и смелость приговора над наукою кажется не вполне известной г. Толстому, по крайней мере, сколько можно заключить из его собственных слов, удерживали нас от критического разбора журнала "Ясная Поляна" в ожидании отрезвления его увлечения новым и незнакомым ему поприщем деятельности, отрезвления, которого мы не перестаем ожидать, потому что вполне уверены в добросовестности предприятия г. Толстого и в том, что ни предвзятые чужие идеи ни личное самолюбие не помешают ему сознаться в ошибке, если он только сам ее заметит»[453].
Толстой ответил только Маркову статьей «Прогресс и определение образования», напечатанной в последней (12-й) книжке журнала. Главные тезисы этой статьи не имеют уже никакой связи с педагогическими вопросами. Толстой возражает против господства «исторического воззрения», которое утвердилось со времен Гегеля и знаменитого афоризма «что исторично, то разумно». Здесь он почти совпадает с Аполлоном Григорьевым: «Вы говорите, что Илиада есть величайшее эпическое произведение — историческое воззрение отвечает, что Илиада есть только выражение исторического сознания народа в известный исторический момент... Историческое воззрение может породить много занимательных разговоров, когда делать нечего; объяснить то, что всем известно; но сказать слово, на котором бы могла строиться действительность, оно не в состоянии». Особенно любопытно и характерно для Толстого-архаиста развитие того взгляда, что «человечество живет одновременно многоразличными сторонами своего бытия», что «прогресс одной стороны всегда выкупается регрессом другой стороны». Борьба его с прогрессистами здесь совершенно уясняется как борьба с интеллигенцией, с «умственным пролетариатом» (как сказал бы Риль), образующим основные кадры того, что Толстой называет «обществом». Совсем по-рилевски звучит заявление Толстого: «Нет более прогрессистов как откупщики, писатели, дворяне, студенты, без мест чиновники и фабричные. Нет менее прогрессиста — мужика-земледельца». Направленность всей этой статьи Толстого, да и всей его педагогической позиции против интеллигенции и, в частности, против литераторов и журналов сказывается с полной ясностью в той части статьи, которую я уже цитировал в своей первой книге («Литература так же, как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная для ее участников и невыгодная для народа» и пр.).
«Современник» был прав, когда указывал Толстому на сочетание в его статьях вещей совершенно разнородных и несоединимых. В последней статье сочетание это приняло уже вполне парадоксальный характер, поскольку толстовский нигилизм доведен здесь до чудовищных размеров. Отрицается прогресс, отрицается цивилизация во всех ее формах (в том числе, конечно, железные дороги, пароходы, машины и пр.), отрицаются литература и журналистика, отрицается необходимость для России тех же законов движения цивилизации, которым подлежит Европа, отрицается, что самое движение цивилизации есть благо («для нас, русских, необходимо доказать прежде и то и другое») и т. д. Отрицание это подкрепляется ссылками на Китай, имеющий двести миллионов жителей, на Восток вообще; тем самым отрицается существование исторических законов. Утверждается одно: «Общий вечный закон написан в душе каждого человека. Закон прогресса, или совершенствования, написан в душе каждого человека и только вследствие заблуждения перекосится в историю. Оставаясь личным, этот закон плодотворен и доступен каждому; перенесенный в историю, он делается праздною пустою болтовней, ведущей к оправданию каждой бессмыслицы и фатализма».
«Современник» был прав, когда указывал раньше на родство идей Толстого со славянофильством; но здесь славянофильство Толстого приняло столь архаистические формы и обернулось таким «чудачеством», что даже Погодин вряд ли согласился бы с ним. Для анализа дальнейшего пути Толстого очень важно запомнить этот своеобразный ультра-славянофильский поворот Толстого — поворот к Востоку, о котором еще в 1858 г. писал Соловьев, находивший у славянофилов и у Риля «буддистский протест против прогресса». Славянофилы, продолжавшие действовать в 60-х годах (И. Аксаков, Ю. Самарин), отошли от этих «буддистских», «антиисторических» тенденций, да и раньше не вполне были повинны в них; Толстой довел эти оттенки или уклоны славянофильских воззрений до предела, окончательно заняв позицию воинствующего архаиста и чудака, для которого Руссо есть последнее слово мудрости и науки. Как я уже указывал, тульский мужик, не нуждающийся ни в железных дорогах, ни в пароходах, ни в часах, ни в сардинках, ни даже в деньгах, потому что «всем потребностям своим он удовлетворяет собственным трудом», — этот мужик служит для Толстого неопровержимым доказательством против прогресса, в пользу того, что «нам нужно искать других оснований, чем те, которые существуют в Европе». Итак, радикализм Толстого окончательно превратился в погромный нигилизм, при котором даже затеянное Толстым педагогическое дело не могло идти нормальным путем, т. е. быть педагогическим в настоящем смысле этого слова.
Так оно на самом деле и вышло. Книжка журнала со статьей «Прогресс и определение образования» была последней. Толстовская позиция оказалась одинаково неприемлемой и для «общества» и для правительства, которое давно уже следило за его школой и было обеспокоено «эксцентричностью» его суждений. Оно правильно чувствовало в Толстом оппозицию, направленную в обе стороны: как воинствующий архаист-помещик, идущий штурмом на всю современность, он одним флангом ударял влево, другим вправо. В отсутствие Толстого в Ясной Поляне был произведен обыск, журнал был подвергнут жестокой цензуре — неудачи шли со всех сторон. Разгневанный на правительство за обыск, как за личное оскорбление, Толстой думал даже «экспатриироваться»; 7 августа 1862 г. он писал А. А. Толстой: «Выхода мне нет другого, как получить такое же гласное удовлетворение, как и оскорбление (поправить дело уже невозможно), или экспатриироваться, на что я твердо решился. К Герцену я не поеду; Герцен сам по себе, я сам по себе. Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — и уеду».
Толстой не экспатриировался, но бросил школу, женился и окопался в Ясной Поляне — как средневековый феодал в своем замке. Это была своего рода «внутренняя эмиграция». В сентябре 1862 г. Толстой, извещая А. А. Толстую о своем новом счастье, писал: «Я только желаю одного, чтобы меня забыли все кроме близких друзей». В октябре 1862 г. он писал сестре жены Е. А. Берс: «По правде сказать, журнальчик мой начинает тяготить меня, особенно необходимые условия его: студенты, корректуры et cet. А так и тянет теперь к свободной работе de longue haleine — роман или т. п.»[454]. Наконец, в марте 1863 г. он пишет Т. А. Ергольской: «Я счастливый человек, живу, прислушиваюсь к брыканию ребенка в утробе Сони, пишу роман и повести и приготавливаюсь к постройке винокуренного завода». Почти теми же словами — в письме к сестре М. Н. Толстой (8 марта 1863 г.): «Я счастливый человек, живу, прислушиваюсь к брыканию ребенка в утробе Сони, пишу роман и повести и приготавливаюсь к постройке винокуренного завода»[455].
Это опять не столько эволюция, сколько измена, явившаяся результатом обид и неудач и подсказанная инстинктом исторического самохранения, очень сильным у Толстого. Чичерин был, несомненно, прав, когда почувствовал, что в самой силе Толстого есть что-то женское. Толстой пережил свое Ватерлоо не как Наполеон, боровшийся дальше до полной потери сил, а как женщина, спасающая свою репутацию и свое счастье. Осенью 1863 г. он писал А. А. Толстой — только женщина могла понять и оценить его новое поведение: «Вы узнаете мой почерк и мою подпись; но кто я теперь и что я, вы, верно, спросите себя. Я муж и отец, довольный вполне своим положением и привыкнувший к нему так, что для того, чтобы почувствовать свое счастье, мне надо подумать о том, что бы было без него... Доказывает ли это слабость характера или силу — я иногда думаю — и то и другое — но я должен признаться, что взгляд мой на жизнь, на народ и на общество теперь совсем другой, чем тот, который у меня был в последний раз, как мы с вами виделись. Их можно жалеть, но любить мне трудно понять, как я мог так сильно. Все-таки я рад, что прошел через эту школу; эта последняя моя любовница меня очень формировала. — Детей и педагогику я люблю, но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад. Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет. Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтоб все шло по-прежнему».
Итак, семья, винокуренный завод и литература — вот позиция Толстого в 1863 г. Одна фраза этого письма любопытна своим двойным смыслом: «Все-таки я рад, что прошел через эту школу». Оказывается, яснополянская школа была школой не столько для крестьянских детей, сколько для самого Толстого — она «формировала» его, т. е. вернула к писательству. В этом и был настоящий исторический смысл всего этого дела.
Часть вторая
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ
1
Еще Анненков в статье о «Казаках» Толстого остроумно заметил, что его педагогическая деятельность «есть не более не менее как новый вид художнического творчества». Зная Толстого 50-х годов, Анненков понимал, что затеянная Толстым школа — не просто школа и что Толстой — не просто учитель: «Толстой относится к ребенку своей знаменитой школы с теми же требованиями, как к воображаемым лицам своих произведений и к окружающему миру вообще. Он и за учительским столом такой же психолог, зоркий наблюдатель и фанатический адепт своей веры в красоту и истину всего прирожденного, как и за письменным. Материал для работы изменился, но сама работа не изменилась — только анализ его приобрел уже положительный характер вместо прежнего отрицательного». Признавая заслуги Толстого в области анализа детской воли и души, Анненков находит, что «логические последствия чисто художнических отношений к школе часто приводят к сомнению в достоинстве последних как средств и орудий педагогики», что антиномии, развитые Толстым в его журнале, «не могут составлять целей педагогии как науки...» «"Ясная Поляна", — пишет дальше Анненков, — сделалась, может быть без ведома учредителя, питомником натуральных поэтов; она тотчас же наполнилась чрезвычайно милыми сочинителями разных возрастов, дети сочиняют взапуски у Толстого — и это очень хорошо... Но Толстой слишком далеко заходит в радости видеть, как просто и легко школа его производит великих писателей. По поводу произведения одного из своих малолетних поэтов (рассказа "Солдаткино житье"), действительно отличающегося прелестью свежего, только что возникающего наблюдения, вспомоществуемого при этом воспоминанием песенных и сказочных мотивов, он написал в "Ясной Поляне" статью, заглавие которой уже выражает все ее содержание. Вот оно: "Кому у кого учиться писать — крестьянским ли ребятам у нас или нам у крестьянских ребят" Это не каприз диалектика, не шутка и не преднамеренный софизм: автор действительно убежден, что литература должна быть сведена на то наивное подсматривание ближайших явлений, каким всегда отличаются умные и даровитые мальчики»[456]. Статья, о которой говорит Анненков, — центральное произведение Толстого этого периода. С педагогикой она связана очень слабыми нитями — самое заглавие ее обращено не к педагогам, а прямо к писателям: «учиться писать» здесь значит ведь не «учиться грамоте», а учиться сочинятъ\ «нам» значит не учителям, а писателям. Здесь определены и формулированы основы художественного метода самого Толстого. Это — не педагогическая статья, а литературный памфлет, в котором есть зародыши и будущих народных рассказов и трактата об искусстве.
Уже по описаниям яснополянской школы, помещенным в первых книжках журнала, видно, что в педагогическом пафосе Толстого основную роль играет нечто для педагогики совершенно постороннее — то, что Анненков назвал «художническим отношением к школе». Толстой не столько учит, сколько экспериментирует, стремясь доказать себе и другим существование эстетических потребностей у самого простого крестьянского ребенка и тем самым разрушить свой собственный эстетический нигилизм, развившийся в результате социальных давлений эпохи. Он как бы осуществляет на деле тезис Риля: «Примирение народа с литературным миром может совершиться только путем социальным, а не литературным». И вот — он стал народным учителем, чтобы таким образом вернуться к литературе. Вопрос о «воспитании» выпал из его педагогической практики именно потому, что ему нужнее эксперимент на сыром, натуральном материале. Он пытался оправдать это педагогическими и даже историко-философскими рассуждениями — и запутался, увлекшись общественной полемикой.
В том-то и дело, что школа была для него совсем не общественным, а глубокоиндивидуальным делом, которое было подсказано не убеждениями и не теориями, а инстинктом — тем историческим инстинктом самосохранения, который составлял и силу и слабость Толстого. Как он сам выразился, школа «формировала» его: она оказалась методом разрешения его жизненных и писательских проблем. Педагогика была здесь явлением вторичным. Не к педагогам, а к себе и к литературе были обращены такие, например, строки из описания школы: «Я делал наблюдения относительно двух отраслей наших искусств, более мне знакомых и некогда мною страстно любимых — музыки и поэзии. И страшно сказать: — я пришел к убеждению, что все, что мы сделали по этим двум отраслям, все сделано по ложному исключительному пути, не имеющему значения, не имеющему будущности и ничтожному в сравнении с теми требованиями и даже произведениями тех же искусств, образчики которых мы находим в народе. Я убедился, что лирическое стихотворение, как, например, "Я помню чудное мгновенье", произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о "Ваньке-ключнике" и напев "Вниз по матушке по Волге", что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости».
Некоторые страницы этих описаний — замечательные художественные очерки; такова, например, беседа с мальчиками по пути из школы, когда Толстой рассказывает им об абреках, о казаках, о Хаджи Мурате, об убийстве графини (тетки Толстого), а один мальчик (Федька) вдруг спрашивает, для чего учиться пению. Этот простой вопрос, заданный, вероятно, без всяких сложных мыслей, страшно взволновал и смутил Толстого, потому что был его собственным больным вопросом, более того — вопросом эпохи:«— А зачем рисованье, зачем хорошо писать? — сказал я, решительно не зная, как объяснить ему, для чего искусство. — Зачем рисованье? — повторил он задумчиво. Он именно спрашивал: зачем искусство? Я не смел и неумел объяснить. — Зачем рисованье? — сказал Семка. — Нарисуешь все, всякую вещь по ней сделаешь. — Нет, это черчение, — сказал Федька. — А зачем фигуры рисовать?— Здоровая натура Семки не затруднилась: "зачем палка? зачем липа?" — сказал он, все постукивая по липе. — Нуда, зачем липа? — сказал я. — Стропила сделать, — отвечал Семка. — А еще летом зачем, — покуда она не срублена? — Да ни зачем. — Нет, в самом деле, — упорно допрашивал Федька, — зачем растет липа? — И мы стали говорить о том, что не все есть польза, а есть красота и что искусство есть красота, и мы поняли друг друга, и Федька совсем понял, зачем липа растет и зачем петь. Пронька согласился с нами, но он понимал более красоту нравственную — добро. Семка понимал своим большим умом, но не признавал красоты без пользы. Он сомневался, как это часто бывает с людьми большого ума, чувствующими, что искусство есть сила, но не чувствующими в своей душе потребности этой силы; он так же, как они, хотел умом прийти к искусству и пытался зажечь в себе этот огонь... Федька же совершенно понимал, что липа хороша в листьях, и летом хорошо смотреть на нее, и больше ничего не надо. Пронька понимал, что жалко ее срубить, потому что она тоже живая: "ведь это все равно, что кровь, когда из березы сок пьем". Семка, хотя и говорил, но, видимо, думал, что мало в ней проку, когда она трухлявая. Мне странно повторить, что мы говорили тогда, но, я помню, мы переговорили, как мне кажется, все, что сказать можно о пользе, о красоте пластической и нравственной».
Конечно, мальчики эти в значительной степени «сочинены» Толстым — он в их самые простые детские вопросы вложил смыслы эпохи. Этот разговор с мальчиками вышел похожим на разговор в редакции «Современника», описанный в «народном» стиле; Семка вышел у него похожим прямо на Чернышевского, а Федька вместе с Пронькой — похожими на самого Толстого с его двумя борющимися уклонами: эстетическим и моральным. Такое же проецирование себя и своей эпохи видно в статье «Кому у кого учиться писать» — недаром она написана с исключительным пафосом, превращающим ее в художественное произведение. Школы, в сущности, уже нет — есть два мальчика, Федька и Семка. С ними у Толстого устанавливаются совершенно особые отношения — они олицетворяют в себе первобытную, «натуральную» силу художественного творчества: Семка отличался резкой художественностью описания, Федька — верностью поэтических представлений и в особенности пылкостью и поспешностью воображения. У Семки — «подробности самые верные сыпались одна за другою. Единственный упрек, который можно было ему сделать, был тот, что подробности эти обрисовывали только минуту настоящего без связи к общему чувству повести... Федька, напротив, видел только те подробности, которые вызывали в нем то чувство, с которым он смотрел на известное лицо... Семке нужны были преимущественно объективные образы: лапти, шине- лишка, старик, баба, почти без связи между собою. Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут». Ясно, что в этих мальчиках Толстой видит воплощение двух художественных методов, борьба между которыми определяет его собственное творчество. «Семка, казалось, видел и описывал находящееся перед его глазами: закоченелые, замерзлые лапти и грязь, которая стекла с них, когда они растаяли, и сухари, в которые они превратились, когда баба бросила их в печку... Федька видел снег, засыпавшийся старику за онучи, чувство сожаления, с которым мужик сказал: "Господи, как он шел!" (Федькадаже в лицах представил, как это сказал мужик, размахнувши руками и покачавши головою.) Он видел из лоскутьев собранную шинелишку и прорванную рубашку, из-под которой виднелось худое, смоченное растаявшим снегом, тело старика; он придумал бабу, которая ворчливо, по приказанию мужа, сняла с него лапти, и жалобный стон старика, сквозь зубы говорящего: "тише, матушка, у меня тут раны" Он забегал вперед, говорил о том, как будут кормить старика, как он упадет ночью, как потом будет в поле учить грамоте мальчика, так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он сказал. Глаза у него блестели почти слезами; черные, худенькие ручонки судорожно корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал: "написал, написал?" все спрашивал он меня. Он деспотически-сердито обращался со всеми другими, ему хотелось говорить только одному, — и не говорить, как рассказывают, а говорить, как пишут, т. е. художественно запечатлевать словом образы чувства; он не позволял, например, перестанавливать слов, скажет у меня на ногах раны, то уж не позволяет сказать: у меня раны на ногах. Размягченная и раздраженная его в это время душа чувством жалости, т. е. любви, облекала всякий образ в художественную форму и отрицала все, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Семка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей об ягнятах в коннике и т. п., Федька сердился и говорил: "ну тебя, уж наладил!.." Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры — было развито в нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-нибудь из мальчиков. Он так деспотически, и с правом на этот деспотизм, распоряжался постройкою повести, что скоро мальчики ушли домой, и остался только он с Семкою, который не уступал ему, хотя и работал в другом роде. Мы работали с 7 до 11 часов; они не чувствовали ни голода ни усталости».
Из этого рассказа видно, что особенно волнует Толстого Федька — как идеал, к которому стремится сам Толстой в борьбе с «мелочностью» своих описаний. Федькин окрик «ну тебя, уж наладил!» — это тот самый окрик, который не раз делал себе Толстой и который неоднократно делали ему критики. Так Дружинин говорил о «Метели», так В. Боткин писал Фету о «Войне и мире»: «Несмотря на то что я прочел больше половины, нить романа нисколько не начинает уясняться, так что до сих пор подробности одни преобладают... Как ни превосходна обработка малейших подробностей, а нельзя не сказать, что этот фон занимает слишком большое место». Общее мнение по поводу «Войны и мира» было то, что Толстой «разбросался в мелочах и деталях, не связанных никакою общею идеей». Это мнение повторялось и по поводу «Анны Карениной» — вплоть до народных рассказов, когда Толстой окончательно бросил старую манеру и стал писать по методу Федьки, осуществив мечту, высказанную в этой же статье 1862 г.: «В числе неосуществимых мечтаний мне всегда представляется ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы». Повесть «Ложкой кормит, стеблем глаз колет», сочиненная Макаровым, Морозовым и Толстым («так напечатывать надо: сочинения Макарова, Морозова и Толстова», потребовал Федька) и напечатанная в приложении к 4-й книжке «Ясной Поляны», была зародышем будущих повестей Толстого.
Начиная литературный эксперимент над Федькой и Семкой, Толстой сам, по- видимому, не ожидал такого эффекта, хотя втайне, вероятно, надеялся на него: «Я не могу, — пишет дальше Толстой, — передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него [Федьки] раскрылся новый мир наслаждений и страданий — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имееет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии, Мне и страшно и радостно было, как искателю клада, который бы увидел цвет папоротника... Ошибиться нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество». В этих взволнованных словах сказано очень много — гораздо больше того, что было бы нужно для педагогической статьи. Называя себя «искателем клада», Толстой почти проговорился: ему нужна не школа, не педагогика — ему нужно, действительно, найти клад, с помощью которого он сможет вернуться к творчеству; ему нужно убедиться, что творчество это существует не как прихоть, не как забава, а как потребность, вложенная природой. Указывая на достоинства рассказа, Толстой восклицает: «Все это до такой степени не случайно, во всех чертах чувствуется такая сознательная сила художника!» Вместе с тем Толстой сам напуган результатами своего эксперимента — ему кажется, что он зашел слишком далеко; свое волнение и смущение он описывает в сексуальных терминах, придавая всему эксперименту особо глубокий и несколько жуткий смысл: «Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаянье в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого истасканного воображения, и вместе с тем мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видал прежде его». В этих строках, помимо всего, сказывается историческая травма эпохи, от которой Толстой с трудом оправляется, — травма, которая дала себя знать в письмах Толстого 1860 г., когда он называл писание повестей «непристойным» делом. Убедившись наглядно в существовании «таинственного цветка поэзии», Толстой сам себе не верит: «Я долго не мог дать себе отчета в том впечатлении, которое я испытывал, хотя и чувствовал, что это впечатление было из тех, которые в зрелых летах воспитывают, возводят на новую ступень жизни и заставляют отрекаться от старого и вполне предаваться новому». Этими словами Толстой уже подготовлял себе отступление от школы и возвращение к писательству.
Рукопись рассказа, сочиненного Макаровым, Морозовым и Толстым, случайно, вместе с хлопушкой, была брошена в печку и сгорела. «Никогда никакая потеря не была для меня так тяжела, как потеря этих трех исписанных листов; я был в отчаянии». Далее следует замечательная страница — одна из лучших страниц Толстого, описывающая, как Федька и Семка, решив восстановить рукопись, пришли вечером в дом Толстого и, запершись на ключ в его кабинете, занялись художественной работой. «В 12-м часу я к ним постучался и вошел. Федька в новой белой шубке с черною опушкой сидел глубоко в кресле, перекинув ногу на ногу и облокотившись своею волосатою головкой на руку и играя ножницами в другой руке. Большие черные глаза его, блестя неестественным, но серьезным, взрослым, блеском, всматривались куда-то вдаль; неправильные губы, сложенные так, как будто он собирался свистать, видимо, сдерживали слово, которое он, отчеканенное в воображении, хотел высказать. Семка, стоя пред большим письменным столом, с большою белою заплатой овчины на спине (в деревне только что были портные), с распущенным кушаком, с взлохмаченной головой, писал кривые линейки, беспрестанно тыкая пером в чернильницу. Я взбудоражил волосы Семке, и толстое скуластое лицо его со спутанными волосами, когда он недоумевающими и заспанными глазами с испуга оглянулся на меня, было так смешно, что я захохотал, но дети не рассмеялись. Федька, не изменяя выражения лица, тронул за рукав Семку, чтобы он продолжал писать: "погоди,— сказал он мне,— сейчас" (Федька говорит мне "ты" тогда, когда бывает увлечен и взволнован), и он продиктовал еще что-то. Я отнял у них тетрадь, и через пять минут, когда они, усевшись около шкапчика, уплетали картофель с квасом и, глядя на чудные для них серебряные ложки, заливались, сами не зная чему, звонким детским смехом, старушка, слушая их сверху, не зная чему, тоже смеялась. "— Ты чего завалился? — говорил Семка: — сиди, прямо, а то набок наешься". — И, снимая шубы и укладываясь под письменным столом спать, они не переставали заливаться детским, мужицким, здоровым прелестным хохотом».
Это уже похоже на какой-то поэтический миф: Федька, с неестественным блеском в глазах и с губами, сдерживающими явившееся в воображении слово, уже не просто крестьянский мальчик и ученик толстовской школы, а поэт, прислушивающийся к шепоту музы, или даже сама муза, диктующая Семке, который в ожидании тыкает пером в чернильницу. Отныне кабинет Толстого заново освящен присутствием музы в ее совершенно первобытном и притом детском образе. Тем самым травма эпохи преодолена: Толстой отходит от школы, которая его заново «формировала», и возвращается к литературе. Самый процесс преодоления этой травмы и радость, сопровождающая это ощущение, выражены в статье тем, что Толстой за один рассказ, написанный Федькой, готов отдать всю литературу, включая и свои прежние вещи. Это — преувеличенный восторг человека, выздоравливающего от тяжелый болезни и воспринимающего новые впечатления с удвоенной силой и свежестью: «Мне казалось столь странным, что крестьянский, полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, какой, на всей своей необъятной высоте развития, не может достичь Гёте. Мне казалось столь странным и оскорбительным, что я, автор "Детства", заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики, что я в деле художества не только не могу указать или помочь 11-летнему Семке и Федьке, а что едва-едва, и то только в счастливую минуту раздражения, в состоянии следить за ними и понимать их... Если есть некоторая пошлость приема при вступлении в описании лиц и жилища, то виноват в этом единственно я. Если бы я его оставил одного, то, я уверен, он описал бы то же самое во время действия, незаметно, художественнее, без принятой у нас и ставшей невозможною манерою описаний, логично расположенных... Мне очень интересно будет знать мнение других ценителей, но я считаю долгом откровенно высказать свое мнение. Ничего подобного этим страницам я не встречал в русской литературе».
Трезвый Анненков заметил по поводу этих слов: «Толстой не хочет знать, что на порядочной литературе лежит обязанность не только передавать явления с известной теплотой и живостью, но еще отыскивать, какое место они занимают в ряду других явлений и как относятся к высшему идеальному представлению их самих, к своему нравственному и просветленному типу». Конечно, Толстой в этой статье — человек одержимый, стоящий почти на грани экстаза: визионер, в глазах которого обыкновенные факты и события вырастают до чудовищных размеров и приобретают фантастические очертания; но это экстаз человека, освобождающегося от психической травмы: вопрос для него идет не о «порядочной литературе», а о самой возможности вернуться к литературе, к художественной работе. Статья эта писалась в октябре 1862 г., т. е. именно тогда, когда Толстой в письме к Е. А. Берс признавался, что его «тянет к свободной работе de longue haleine»; к концу того же года он обрабатывает «Казаков», потом заканчивает «Поликушку», пишет «Хол- стомера», осенью 1863 г. начинает работать над «Декабристами», пишет комедию «Зараженное семейство» и, наконец, берется за «Войну и мир». Статья «Кому у кого учиться писать» представляет собой, таким образом, итог всего «педагогического» периода и переход к новому периоду литературной работы.
Разница по сравнению с периодом 50-х годов в том, что теперь Толстой живет совершенно в стороне от журналов и литераторов. В ответ на письмо Фета по поводу появления в печати «Казаков» и «Поликушки» Толстой пишет, подчеркивая свою новую литературно-бытовую позицию и даже несколько кокетничая ею: «Я живу в мире, столь далеком от литературы и ее критики, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же такое написал Казаков и Поликушку? Да и что рассуждать о них? Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает. Но это только первое впечатление; а потом вникнешь в смысл речей, покопаешься в голове и найдешь там где-нибудь в углу между старым забытым хламом, найдешь что-то такое неопределенное, под заглавием художественное. И, сличая с тем, что вы говорите, согласишься, что вы правы, и даже удовольствие найдешь покопаться в этом старом хламе и в этом когда-то любимом запахе. И даже писать захочется». В словах этих есть, конечно, преувеличение: полный перерыв в писании был у Толстого только с весны 1859 г. до осени 1860 г. (и то есть указания, что в феврале 1860 г. он работал над «Казаками», «Идиллией», «Поликушкой»); но важно то, что Толстой не хочет считать себя литератором и предпочитает стоять в стороне от современной литературы и журналистики, быть «литератором потихонечку». Между современной литературой и собой он провел черту, и если он продолжает работать и даже иногда печатается, то с тем, чтобы подчеркнуть свою независимость, свою далекость от мира литературы и критики. Его возвращение в литературу было вместе с тем и вызовом ей. Так это и было понято критикой.
2
Я уже указывал на то, что за границей Толстой занимался не только педагогикой, но и литературой. В августе 1860 г., во время чтения Риля, Толстой, как видно по дневнику, задумал написать повесть из деревенского быта. «Форма повести. Смотреть с точки мужика — уважение к богатству мужицкому, консерватизм, насмешка и презрение к праздности, не сам живет, а бог водит» (8 августа); очевидно, к той же повести относятся слова в записи от 29 августа: «Дорогой пришла мысль о простоте рассказа — живо представлял слушателя — Андрея». По другим записям (например — 23 августа: «Как будто образуется форма романа») видно, что к этому же времени относится, по-видимому, возобновление работы над «Казаками» — старой вещью, которую Толстой хотел довести до размеров большого «Кавказского романа».
Первые две записи имеют в виду, очевидно, рассказ «Идиллия», который в другой редакции называется «Тихон и Маланья». Первая мысль об этой повести появляется в дневнике (7 августа 1860 г.) в той же записи, где говорится о Риле и Ауербахе. Соседство это, по-видимому, не случайное. Толстой в это время так заинтересован немецким народничеством и вопросом о создании «народной» литературы в духе Гебеля, Ауербаха и пр. (ср. в воспоминаниях Фрёбеля), что связь этого замысла с тем направлением немецкой литературы, которое Ю. Шмидт называет «Volkstiimliche Reaction», кажется естественной и несомненной. Рассказы Гебеля, как говорит Фрёбель, Толстой знал наизусть; Ауербах — его любимый автор; Риля он как раз в это время внимательно читает. Имя Риля, одного из основоположников и главных идеологов этого народничества, оказывается и в этом вопросе очень небезразличным.
Как выше, так и здесь, речь должна идти, конечно, не о «влияниях» Риля, Ге- беля, Ауербаха или кого-нибудь еще, а о системе усвоения и использования Толстым из немецкой литературы того, что отвечало его литературным намерениям. В некоторых случаях важно даже не это, а другое: важно просто знать литературный обиход, окружавший работу Толстого, литературную атмосферу эпохи — не для прямых сопоставлений, не для сличения текстов, а для комментария, построенного на историческом материале, для перевода текста на современный его эпохе язык, иначе говоря — для реставрации исторических функций. Ведь это реставрирование функций, делаемое, конечно, с расчетом на его значение для новой современности и ею подсказываемое, и составляет главную задачу «истории литературы».
Ауербах начал свою литературную деятельность не с «деревенских рассказов». Первые его вещи — философско-исторические романы: «Спиноза» (1837 г.) и «Поэт и купец» (1839 г.). Недовольный ими, Ауербах начинает писать свои «Dorfgeschich- ten» и в 1846 г., в разгар моды на «народную» литературу, издает книгу «Schrift und Volk» («Литература и народ») — своего рода декларацию литературного народничества. Она открывается лирическим предисловием, посвященным памяти Гебеля, восхваление которого, как подлинного писателя для народа, проходит через всю книгу. В книге два больших отдела: «Творчество из народа» («Die Dichtung aus dem Volke») и «Творчество для народа» («Die Dichtung fiir das Volk»). В первом речь идет об общих свойствах художественного творчества и особо — о детском народном творчестве, о любви народа к чтению экзотической литературы — авантюрных романов с необычайными приключениями, с принцессами и замками и т. д. Второй отдел посвящен вопросу о том, какова должна быть литература для народа. Здесь, между прочим, много места уделено доказательству того, что народная литература должна строиться на основе «живого слова», на имитации устного сказа: «написанное должно легко читаться вслух, чтобы рассказ производил впечатление устной передачи». Далее говорится о юморе, и в пример приводятся те самые рассказы Гебеля о Zundelheiner и Zundelfrieder, которые, по словам Фрёбеля, Толстой знал наизусть.
Толстой до 1860 г. не писал рассказов, рассчитанных на народного читателя. Теперь, как видно по дневнику, он задумал написать такой рассказ — «смотреть с точки мужика». Эти слова относятся именно к «форме», являясь ответом на запись, сделанную накануне: «Формы еще не знаю». Рассказ должен быть написан просто и обращен к слушателю: «живо представлял себе слушателя — Андрея». Возможно, что, при своем интересе к вопросу о народной литературе и восторженном отношении к Ауербаху, Толстой читал его книгу и обратил внимание на мнение Ауербаха относительно имитации устной речи. Но даже если это — совпадение, оно не случайно. Толстой, очевидно, хочет отойти от прежней литературной манеры и пробует новую «форму», для него необычную. Действительно, набросок рассказа написан в сказовой манере, прямо обращенной к слушателю: «Много мне нужно рассказывать про Мясоедово, много там было разных историй, которые я знаю и которые стоит описать. Теперь начну с того, что расскажу про Тихона, как он на станции стоял, и наместо себя на покос работника из Телятенок нанял, Андрюшку, и как он со станции домой приезжал, и как с Маланьей, тихоновой бабой, грех случился, и как Андрюшка сам отошел, и сапоги его пропали, и как Тихон в первый раз свою молодайку поучил». Этот зачин — совершенно в духе рассказов Гебеля, обычно начинающихся такими вступлениями от рассказчика. (Ауербах специально останавливается на этом приеме Гебеля и очень хвалит его.) Здесь осуществлена та «простотарассказа»(в смысле «рассказывания»), о которой Толстой записал в дневнике. По этому зачину видно, что фабула рассказа была задумана соответственно записи от 7 августа: «Работник из всех одолел девку или бабу» — об этом свидетельствуют слова: «и сапоги его пропали». Хронология и соотношение следующих за этим наброском редакций до сих пор не установлены, но по всем признакам «Идиллия» — более ранняя редакция (1860 г.), а «Тихон и Маланья» — начало новой, более поздней редакции (1862 г.). Если это так, то переход от «Идиллии» к «Тихону и Маланье» был переходом от сказовой имитации, внушенной Толстому Ауербахом, но вообще для Толстого не характерной, к обыкновенному повествованию.
В самом деле, и варианты «Идиллии» и ее окончательный текст явно осуществляют принцип устного народного сказа, распространившегося тогда и в русской народнической беллетристике: «Петр Евстратьевич теперь над двумя деревнями начальник, как барин повелевает. Один сын в купцах, другой — в чиновниках; за дочерью, сказывают, 5000 приданого дал, да и сам живет в холе, как барин, каждый год деньги в Москву посылает. А такой же наш брат, из мужиков взялся, Евстрата Трегубова сын. Да и не Евстрата сын, он ведь только по сказкам числится Евстра- товым сыном, а настоящее дело вот как было» и т. д. В варианте «Тихона и Маланьи» сказовый тон еще сохранился, но в отрывке окончательной редакции он был уничтожен совершенно. В связи с этим многое изменено, многое вовсе отброшено; то, что в варианте дается от лица рассказчика, превращено в размышления персонажа. В варианте читаем: «Ермилины бабы-щеголихи идут и к другим не пристают — не оттого, что у них платки и сарафаны лучше всех, но оттого, что сам старик Ермила, свекор, идет той стороной и посматривает на них. Беда, коли увидит, что с ребятами играть станут или что». В окончательной редакции от этого осталось: «Вот Илюшины бабы идут. "Как разрядились, — думал Тихон, — и к другим не пристают"». При переходе к описанию Маланьи было: «Красавицу, кто бы она ни была, баба ли, барыня ли, издалека видно. И идет она иначе, плывет точно, и голову несет, и руками размахивает не так, как другие бабы; и цвета-то на ней ярче, рубаха белее и платок краснее. А как красавица она, да своя, так еще дальше узнаешь. Так-то Тихон с другого конца улицы узнал свою бабу. Маланья шла с солдаткой и еще двумя бабами; с ними же шел замчной солдат и что-то рассказывал, махая руками. И цвета на ней ярче всех показались Тихону». От всего этого куска остались только отдельные фразы в несколько переделанном виде: «Тихон с другого конца улицы узнал свою бабу. Маланья шла с солдаткой и с двумя бабами. С ними же шел замчной солдат в новой шинели, казалось, уж пьяный, и что-то рассказывал, махая руками. Цвета на Маланье ярче всех показались Тихону». Сказовая основа явно ликвидирована.
В тогдашней русской беллетристике «из деревенского быта» сказовая манера, идущая от Даля и его школы, была очень распространена, причем особенно в ходу были именно рассказы на семейные темы. Обычно в этих рассказах подчеркивалось зло крепостного права, не дающего любящим друг друга жить вместе или разрушающего счастье семьи. Толстой, по-видимому в противовес этой народнической литературе, изображает деревню в радужных, веселых тонах («барщина легкая была») и, вместо семейной драмы, дает семейную «идиллию», которую не нарушает даже Маланьин грех. В этом отношении «Идиллия» написана по следам Ауербаха, которого Риль упрекал именно за сентиментальность в описаниях крестьянской семейной жизни. Фридрих Геббель (драматург) писал в своем дневнике 1845 г.: «Нет ничего более смешного, как ауербаховское превознесение крестьян... В одной новой пьесе, которая очень нравится публике, молочницы даже восхищаются заходом солнца. Для крестьянина солнце — просто часы, которые с точки зрения работника идут всегда слишком медленно, а с точки зрения хозяина — всегда слишком быстро».
Почти одновременно с «Идиллией» Толстой работал над «Поликушкой» — тоже повестью из деревенского быта, но совсем в другом роде. «Поликушка» идет в сторону от ауербаховской системы. В этом смысле образцом для Толстого мог служить другой немецкий (швейцарский) беллетрист-народник, представляющий собой полную противоположность Ауербаху. В книге Риля («Гражданское общество») Толстой мог прочитать несколько страниц, посвященных немецкой «Dorf- geschichte» и вопросу об изображении крестьянина в литературе. Риль говорит, что в последнее время крестьянин стал модной фигурой в беллетристике: «В большинстве деревенских рассказов (не исключая рассказов Ауербаха), рядом с чертами, верными природе и действительности, слышится совершенно ложный тон в изображении нравственной жизни крестьянства. Крестьянин бесконечно далек от всякой новейшей сентиментальности и романтики чувства; для этого он выточен из слишком жесткого материала, в сердечных делах он зачастую является даже прямо грубым. Один только Иеремия Готхельф умел изображать это в нагой, ужасающей правде, причем бесспорно и то, что его поэтическая муза движется подчас по колено в навозе... Брак понимается крестьянином с весьма прозаической точки зрения... Немного в этом крестьянском супружестве отыщешь той романтики, которая изображается деревенскими нувеллистами... Иеремия Готхельф с необыкновенною, доходящею до ужасного, правдивостью живописал крестьянина. Как специальные естественно-исторические этюды, его нравоописательные картины имеют высокую ценность». Здесь важно то, что Ауербаху противопоставляется другой автор, о котором в русской литературе никогда не упоминается, а между тем, как видно из слов Риля, он гораздо более характерен для немецкого литературного народничества, чем Ауербах, принявшийся за писание своих «деревенских рассказов» после занятия философией и разочарования в своих первых романах, не имевших никакой связи с народническими идеями. В работах о Толстом имя Готхельфа тоже никогда не упоминалось, а между тем оно требует внимания не только по своему значению в истории немецкого народничества, но и потому, что в дневнике Толстого есть одна запись, которая, оказывается, относится прямо к Готхельфу: «Uli der Knecht — отлично» (20 апреля 1861 г.). «Uli der Knecht» — одно из основных произведений Готхельфа. Запись эта сделана через неделю по возвращении из-за границы; очевидно, Толстой привез с собой сочинения Готхельфа и сейчас же по приезде стал его читать[457].
Готхельф интересен не просто как дополнительный материал к изучению источников Толстовского народничества. Дело в том, что Готхельф и Ауербах — представители двух противоположных и враждебных течений немецкой народнической литературы. Готхельф — один из зачинателей этого жанра. Он никогда не был профессиональным писателем: происходя из духовной семьи, он и сам (его настоящее имя было Альберт Бициус — Bitzius) был сельским священником и учителем (кантон Берн). В 1836 г., почти сорокалет (родился в 1797 г.), он издал свою первую вещь — «Der Bauernspiegel, oder Lebensgeschichte des Jeremias Gotthelf» («Зеркало крестьянской жизни, или История жизни Иеремии Готхельфа»). Это не роман, а скорее хроника, написанная в форме автобиографии и представляющая собой детальное описание деревенской жизни. Здесь нет никакой фабулы — никаких завязок и развязок. По словам С. МапиеРя, автора монографии о Готхельфе, ему важнее самый путь, чем цель пути: «Бициус как писатель похож на внимательного, наблюдающего все окружающее, но беззаботного путешественника. Самый путь так хорош, так изумителен, такую массу вещей можно видеть, воспринимать, зарисовывать, столько цветов собирать, что он совсем не думает ни о том, где будет обедать, ни о том, куда придет к вечеру».
Вся вещь Готхельфа — описательная, все держится на подробностях, на смене одних сцен другими. Отличительной особенностью как этой книги, так и всех других книг Готхельфа было полное отсутствие сентиментальной и эстетической раскраски описываемых сцен и эпизодов. Готхельф совершенно эпичен и суров. Он не считается со вкусом читателя и не старается удовлетворять его: медленный темп, длиннейшие разговоры, сопровождаемые нравоучительными размышлениями и целыми проповедями, еще более длинные и детальные описания крестьянского хозяйства, работ и т. д. Риль недаром предпочитал Готхельфа Ауербаху — книги Готхельфа выглядят иллюстрациями к сочинениям Риля: он с торжественным благоговением изображает жизнь патриархального крестьянина, сохранившего старые традиции и нравы («Der Bauer von guter Art», как выражается Риль), и с негодованием, с насмешкой описывает «испорченного» («der entartete Bauer»), бесхозяйственного, бродящего по промыслам, пролетаризированного ремесленника («Gesellenproletariat»).
Одна из постоянных тем Готхельфа, подробно разработанная именно в «Uli der Knecht» («Работник Ули»), это — отношения хозяина и работника[458]: хозяин учит работника советами и наказаниями, как надо жить, чтобы стать настоящим зажиточным крестьянином. Готхельф — яростный противник политических и социальных нововведений, разлагающих патриархальный уклад крестьянской жизни. Такие вещи, как «Uli der Knecht», «Uli der Pachter», «Geld und Geist», представляют собой своеобразный крестьянский эпос, построенный на уважении к земледельческому труду, к семейному и нравственному укладу немецкого крестьянина; другие вещи («Der Geltstag, oder die Wirtschaft nach der neuen Mode», «Jakobs, des Hand- werkgesellen, Wanderungen durch die Schweiz», «Kathi, die Grossmutter») являются сатирическим изображением новых нравов и идей, памфлетом на современность. В полном согласии с Рилем Готхельф считает, что социализм, как тенденция к уравнению, коренится в чувстве зависти и в страсти к наслаждениям: пролетариат, в отличие от крестьянского сословия, есть сословие недовольных, завидующих. Излагая «нравственную тенденцию» своей книги, Риль пишет: «Пусть бюргер снова проникнется желанием оставаться бюргером, крестьянин — крестьянином;
аристократ пусть не считает себя существом привилегированным и не стремится к исключительному господству над всеми. Я желал бы пробудить в моих соотечественниках такую гордость, чтобы каждый с радостью признавал себя членом того общественного круга, к которому он принадлежит по своему рождению, воспитанию, образованию, по обычаям и профессии». В другом месте Риль говорит, что настоящий крестьянин никогда не стыдится своего звания и не завидует барину—у него нет стремления выступить из черты своих занятий и превратиться в рантье; между тем фабричный рабочий желает не только повышения заработной платы — он хочет перестать быть рабочим: «В этой жалкой зависти, проходящей через все общественные классы вплоть до самых высших, лежит наиболее презренная и безнравственная причина социальных смут. Крестьянин еще не знает этой зависти, он еще одушевлен благородной гордостью сословного духа» и т. д. Интересно, что непосредственно после этих рассуждений Риль говорит о Готхельфе (см. цитату выше).
Итак, Риль, Готхельф и Ауербах образуют вместе основной узел немецкого народничества 40-х годов, причем первые два особенно характерны и последовательны не только как литераторы, а и как идеологи этого народничества, противопоставляющего себя в равной мере и полицейским тенденциям прусской государственности, и революционным тенденциям немецкой интеллигенции. Политический либерализм соединяется у них с социальным архаизмом — сочетание характерное и для Толстого. Риль прямо так и заявляет: «Можно держаться конституционных взглядов в политике и в то же время быть приверженцем сословного устройства в социальном вопросе». Характерно для них презрение к чистой политике, постоянно сквозящее и у Толстого (ср. отзыв о Фрёбеле — «политика истощила его всего»). Готхельф в одном из своих предисловий, всегда очень злободневных и полемичных, пишет: «Политической жизнью называется жизнь в политике, забвение всего, кроме политики, полное пленение политикой. Но политика ведь не отечество, политика не община, политика не имеет связи ни с душой ни с богом. Политическая жизнь есть нечто вроде болезни... Кто полагает, что народ должен жить постоянно напряженной политической жизнью, тот ошибается также, как тот, кто вообразил бы, что человек должен всегда лежать в лихорадке».
Если Ауербах — автор изящных и несколько сентиментальных «деревенских рассказов» (до некоторой степени аналогичных «Запискам охотника» Тургенева), то Готхельф — явление совсем другого порядка, более глубокое и значительное. К литературной моде на народные рассказы, охватившей Германию в 40-х годах, Готхельф, как зачинатель и принципиальный народник, относился иронически, видя в этих новых писателях своих подражателей и эпигонов. В 1846 г. (как раз в этом году вышла книга Ауербаха «Shrift und Volk») Готхельф писал своему другу: «Теперь, когда я овладел этим полем и бодро езжу по нем на своей лошадке, за мной потащилась сюда мода на народную литературу (Volksschriftstellerei). Старые описания придворной и рыцарской жизни надоели: то, что прежде имело успех, перестало действовать. Тогда придумали новый лозунг. «Народ, о народ!» раздались крики и воззвания со всех сторон. Писатели всех сортов устремились к этому полю». Среди этих писателей Готхельф разумел, вероятно, и Ауербаха.
Сравнительную характеристику Готхельфа и Ауербаха сделал Готфрид Келлер, большой поклонник и во многом ученик Готхельфа; в 1849 г., еще до смерти Готхельфа (он умер в 1854 г.), Келлер писал: «Когда теперь говорят о народных писателях, то прежде всего называют Бертольда Ауербаха и Иеремию Готхельфа. Ауер- бах спустился к народной литературе с высот современной образованности. Он написал философский роман до того, как взялся за свои деревенские рассказы, и я не уверен, привело ли его к ним осознанное призвание писать для народа или это был удачный поворот художника, которого направили в эту область интерес и талант, вроде того, как свежий утренний ветер гонит по небу веселое облачко. Как бы там ни было, все деревенские рассказы, за исключением жалкого Рейнгарда в "Frau Professorin", представляют свежее здоровое чтение и могут служить для народа праздничным белым хлебом. Они хорошо округлены и отделаны; материал облагорожен, оставаясь верным, как в хорошей жанровой картине, вроде картин Людвига Роберта; и если они несколько лиричны, то это, по-моему, не вредит делу. Совсем иное Готхельф. При таком же таланте он глубоко чувствует самый быт народной жизни, проникает в самую сущность сельского состояния; он гораздо глубже погружен в технику и тактику крестьянской жизни, он живописует ее, как какой-нибудь нидерландец, со всей грязью одежды и языка»[459]. В речи, посвященной памяти Готхельфа (1855 г.), Келлер говорил о нем, что он, «без сомнения, был самым большим эпическим талантом... Его называют то грубым нидерландским художником, то писателем деревенских рассказов, то верным, точным копиистом, то тем, то другим, всегда ограничивая похвалу; но правда в том, что он — величайший эпик. Пусть Диккенс и другие лучше владеют формой, более ловки и умелы в своем писании, более сознательны и организованы в своем поведении: ни один не достигает такой глубокой и величественной простоты, которая вполне соответствует нашей эпохе и в то же время так традиционна, что напоминает первобытную поэзию древности, поэтов других тысячелетий... Никогда он не впадает в современную рисовку пейзажей и не применяет живописных приемов Дюссельдорфской или Адальберт-Штифтерской школы (которыми все мы более или менее пользуемся и от которых рано или поздно должны будем отказаться)». Келлер сравнивает вещи Готхельфа с эпосом Гёте («Герман и Доротея»), находя разницу только в том, что у Готхельфа совершенно нет даже намека на ту художественную законченность, которой отличаются произведения Гёте.
Тому же вопросу о сравнительном значении Готхельфа и Ауербаха отведено несколько заключительных страниц в книге К. Мануеля. Сходство между ними — только в одинаковости материала, в изображении сельской жизни: «Во всем остальном мы находим не только существенные различия, но диаметральные противоположности... Резкая противоположность между обоими писателями обнаруживается уже во внешней форме их писаний, У Ауербаха все чистейшее речевое искусство, во всем чувство меры и часто лаконическая сжатость; все рассчитано на художественный эффект, каждая фраза точно вымерена. Швабские крестьяне изъясняются у него совершенно салонным или светским языком. Он облачает своих крестьян в такие одежды, в которых они могут появиться где угодно. Самая строгая эстетическая критика не могла бы найти в их разговорах ни одного непристойного или неприличного выражения; эти деревенские рассказы, по их изящной постройке, можно было бы назвать драмами, которые написаны в виде отдельных сцен. Так все хорошо и эффектно слажено, и рассказчик очень заботится о том, чтобы избавить своих читателей от всякого нетерпения, от всякой усталости. По сравнению с этой отделкой формы и гладкостью языка Бициус, с его небрежностью манеры, с его широким захватом и длиннотами, с его естественной грубостью, выглядит как мужик в деревянной обуви и в рабочей блузе рядом с танцором в изящных туфельках и в шелковых чулках... Ауербах, при всем его большом поэтическом и, быть может, еще более крупном философском таланте, следовал вкусу читателей своего времени, пресыщенных всякого рода романами; их капризный аппетит требует все более и более пикантных кушаний: в деревне или в городе, в хижине или во дворце — они непременно ищут увлекательных коллизий, страшных, потрясающих катастроф и хотят во что бы то ни стало испытывать волнение. Бициус, наоборот, тщательно отбрасывает все это в сторону: он совершенно свободен от требований господствующего вкуса, он ведет себя часто в отношении к ним прямо вызывающе... Таким образом, на фоне литературы нашего времени и в особенности по сравнению с многочисленными писателями, обрабатывающими такой же или похожий материал, Бициус представляет собой замечательное и исключительное явление». Интересно, что Ауербах, после смерти Готхельфа (1854 г.), писал в одном письме: «Хотя мы и стремились к разным целям, но часто оба шли одним и тем же путем или честно искали его каждый по-своему». В этих словах есть тоже сознание разницы, хотя и мягко выраженное.
«Поликушка» Толстого противостоит его «Идиллии» примерно так же, как рассказы Ауербаха повестям Готхельфа. Объединяются эти вещи одной особенностью, характерной именно для немецкого народничества: в них нет социальных идей, присутствие которых так характерно для русской крестьянской беллетристики этого времени, — социальные идеи заменены нравственными, социальные отношения заменены семейными. Если угодно — отсутствие социальных идей и трактовок можно, в данном случае, считать способом обратной, отрицательной пропаганды: они выключены не по безразличию к ним, а по принципу, заменяющему социальные идеи идеями моральными, как более важными. Особенно резко это выступает в «Поликушке», где самый материал, самый подбор персонажей должен как будто неизбежно придать сюжету социальный смысл. Сюжетный узел связывает здесь трех лиц: дворового Поликушку, богатого мужика Дутлова и барыню. Однако узел этот завязан не столько социальными противоречиями персонажей, сколько посторонней слепой силой, которая ставит перед каждым из них нравственную проблему. Сила эта — деньги, которые из рук барыни переходят к Поликушке, а от Поликушки, потерявшего их, попадают к Дутлову. Персонажами владеет судьба, которая парадоксально распоряжается: одного губит, другому помогает. Барыня изображена сатирическими чертами, но сатира эта тоже не социальная, а исключительно нравственная: барыня не умеет вести хозяйство, без конца болтает, не понимает того, что говорит ей приказчик; она смешна, наивна, беспомощна; приказчик, зная ее, владеет методом «доведения барыни различными, средствами до того, чтоб она скоро и нетерпеливо заговорила: "хорошо, хорошо" на все предложения Егора Михайловича». Это просто ненастоящая помещица, от которой никакого толку нет — один грех. И вот грех случился из-за того, что по ее капризу деньги повез Поликушка. Тут за дело берется судьба, а людям остается решать нравственные проблемы. Поликушка вешается, барыня отдает деньги нашедшему их на дороге Дутлову, а Дутлов, после некоторых колебаний, выкупает на эти деньги своего племянника из рекрутов, заменив его «охотником». Афоризм барыни — «страшные деньги, сколько зла они делают!» — мог бы стоять эпиграфом ко всему рассказу.
Можно сказать решительно, что немецкая народническая литература, в частности — именно Ауербах и Готхельф, потому и привлекала внимание Толстого, что вся она строится на нравственных проблемах и на противопоставлении их, как основных, проблемам социальным. После свидания с Ауербахом Толстой записывает характерную фразу, очевидно ему понравившуюся: «Ach, Liebster, glauben sie mir, es ist nur eine Tugend auf der Welt — die Ehrlichkeit» («Ах, милый, поверьте мне, на свете есть только одна добродетель — честность»). Эта нравственно-учительная, проповедническая основа еще ярче и последовательнее у Готхельфа, который сам был пастором. В некоторых его вещах проповеди сельского священника вводятся в самый текст и играют роль в сюжетном строении. Такова, например, большая повесть «Geld und Geist». Возможно, что «Поликушка» связан больше всего именно с этой повестью: она тоже построена на том, что деньги портят людей и делают много зла. У Готхельфа «пасторский» тон гораздо сильнее, вся вещь насквозь пронизана нравоучительной тенденцией, но в общей манере есть много сходства с Толстым. В частности, сцена ночного кошмара, который овладевает Дутловым и заставляет пожертвовать найденные деньги на выкуп племянника, сделана совсем по-готхельфовски. «Видно, тот мрачный дух, который навел Ильича на страшное дело и которого близость чувствовали дворовые в эту ночь, видно, этот дух достал крылом и до деревни, до избы Дутлова, где лежали те деньги, которые он употребил на пагубу Ильича» — эта фраза очень близка к стилю Готхельфа. Общий повествовательный тон «Поликушки» можно назвать эпическим именно в том смысле, в каком Готхельфа его современники называли «эпиком». Это выражается как в общей повествовательной манере, спокойной, неторопливой, так и в отдельных частностях: в отступлениях (о Пальмерстоне, о докторах), в описании подробностей быта (жизнь Поликея), в стилистических деталях. Описание Дутлова и его хозяйства, сделанное с «уважением к богатству мужицкому», тоже сделано в манере Готхельфа. Интересно, что в первой записи дневника 1863 г. (3 января) есть фраза: «Эпический род мне становится один естественен». Написанный скоро после этого «Холстомер» осуществляет переход Толстого к тому, что он называет «эпическим родом» и по сравнению с чем прежние вещи (как, например, «Семейное счастье») грешат сентиментальным лиризмом, чувствительностью тона. «Поликушка» — первый опыт в этом роде.
Надо еще сказать, что та беспощадность, с которой описаны мрачные сцены «Поликушки» и которая заставила Тургенева сказать (в письме к Фету от 25 января 1864 г.): «Уж очень страшно выходит», тоже, по-видимому, связана с отходом Толстого от ауербаховской системы к системе Готхельфа. По приведенным выше отрывкам о Готхельфе видно, что он противопоставлялся Ауербаху именно как изобразитель «правды», часто не останавливавшийся перед описанием страшных, ужасающих сцен. Это был не простой эстетический натурализм, а естественный и целесообразный элемент системы, построенной на суровой нравственно-учительной основе. Таков же и натурализм «Поликушки», смутивший не только Тургенева, но и Ауербаха, что очень знаменательно. «Поликушка», в том же 1863 г., был напечатан по-немецки (под названием «Paul») в журнале «Russische Revue»[460].
16 ноября 1863 г. Ауербах писал издателю этого журнала, Вильгельму Вольфзону: «Рассказ "Paul" Толстого превосходен, но, к сожалению, слишком потрясающ (zermalmend), чего искусство не должно было бы делать»[461]. Хотя появление «Поликушки» на немецком языке было, конечно, результатом недавнего пребывания Толстого в Германии и личного знакомства с Вольфзоном, но все же характерно, что именно эта повесть, носящая на себе, как я полагаю, следы чтения народнической немецкой беллетристики, была первой вещью Толстого, появившейся в немецком переводе, и обратила на себя внимание критики[462], между тем как в России она прошла незамеченной и была совершенно заслонена напечатанной за месяц до нее повестью «Казаки».
з
Итак, Толстой постепенно возвращается к литературе. Он работает медленно — пробуя разные жанры и стили, экспериментируя над самим собой и над своими учениками. Так проходит весь 1862 год. В начале этого года Толстой берется за продолжение и обработку старой своей вещи, начатой десять дет назад — «Казаков». Мысль о продолжении этой вещи являлась у Толстого не раз — и в 1860 и в 1861 г. В числе историй, которые Толстой рассказывает своим ученикам, фигурирует «кавказская история» — об абреках, о казаках, о Хаджи Мурате. Еще 17 февраля 1860 г., до поездки за границу, Толстой записал в дневнике «...писать Казаков не останавливаясь». Это было в самый разгар его переписки с Чичериным и колебаний между школой и литературой. Внимательно следивший за ним Тургенев, узнав, что он взялся за «Казаков», написал об этом В. Боткину, а Боткин — Фету: «Из письма Тургенева я с радостью узнал, что Лев Толстой опять принялся за свой кавказский роман. Как бы он ни дурил, а все скажу, что этот человек с великим талантом, и для меня всякая дурь его имеет больше достоинства, чем благоразумнейшие поступки других». Друзья обрадовались слишком рано — «дурь» еще не прошла, но работа над «Казаками» исподволь продолжалась. Возможно, что болезнь брата Николая, частые свидания с ним и поездка к нему в Гиер, где он и умер в сентябре 1861 г., пробуждали у Толстого воспоминания об их совместной жизни на Кавказе и об их тогдашнем литературном соперничестве. За несколько дней до смерти брата Толстой набрасывает главу, описывающую ночное свидание вернувшегося из гор Кирки (первоначальное имя Лукашки) с Брошкой. «Казаки» должны были развернуться в большой «кавказский роман» с сложным сюжетом. По наброскам и конспектам видно, что он должен был состоять из трех частей: в первой — приезд офицера в станицу, увлечение Марьяной и пр. (т. е. то, что появилось в печати); во второй — возвращение офицера в станицу, женитьба Лукашки, ухаживание офицера за Марьяной, бегство Лукашки в горы, участие офицера в походе; в третьей — новое появление офицера в станице, согласие Марьяны, жизнь с нею, постепенное разочарование, появление Лукашки, его казнь, убийство Марьяной (или солдатом, ее ревнующим) офицера[463]. Фабула эта, складывавшаяся еще в 18571858 гг., варьировалась по-разному, но по наброску, относящемуся к 1862 г. и содержащему начало 3-й части («Прошло три года с тех пор, как Кирка пропал из станицы»), видно, что основные ее элементы стояли прочно и в это время. Что «Казаки» должны были превратиться в большой роман, видно, между прочим, из ответного письма генерала Н.Алексеева, написанного 28 сентября 1862г.: «Вы собираетесь писать о Кавказе и обложились книгами. Я очень рад буду, когда явится ваше сочинение, — оно не будет похоже на соч. Фадеева 60лет войны на Кавказе, исполненное глупой низкой лести и неправды, — ваше сочинение будет словом правды и истины»[464].
19 декабря 1862 г. Толстой записывает в дневнике: «Я пристально работаю и, кажется, пустяки. Кончил Казаков 1-ю часть». По этой записи видно, что еще накануне сдачи «Казаков» в печать Толстой считал, что написанное им — только начало романа. Это подтверждается и другими фактами. 25 февраля 1863 г. С. А. Толстая писала сестре: «Неужели "Казаки" еще не вышли? От успеха их зависит, будет ли он продолжать вторую часть». Т. А. Кузминская приводит разговор Толстого с Д. А. Дьяковым, относящийся к 1863 г.: «Лев Николаевич говорил ему, как он в прошлом году, т. е. в 1862 году, интересовался эпохой декабристов и какие это были люди. — А вторая часть "Казаков" как же? — спросил Дьяков. — Ты уже начал ее? — Начал, да не идет — бросил. Перевесили "Декабристы"». По записи 1865 г. видно, что он и тогда еще думал о продолжении: «Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий — Бреддон, мои Казаки (будущие)».
Можно, значит, сказать решительно, что последние главы печатного текста (отъезд Оленина в крепость) были концом не романа, а только первой его части. Дальше Лукашка, очевидно, должен был оправиться от раны, а Оленин вернуться в станицу, и прерванная отъездом Оленина фабула должна была возобновиться. Отсутствие указания в печатном тексте на то, что это только 1-я часть, объясняется неуверенностью Толстого в том, когда будут написаны следующие части, и желанием Каткова иметь законченную вещь. Отъезд Оленина, естественно возвращающий к началу (это впечатление поддерживается фразой — «Так же, как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда»), как бы замыкал «повесть» и тем самым воспринимался как финал, хотя и несколько скомканный. Конечно, такая подача первой части большого романа как законченной повести была поступком рискованным — она искажала и перспективу событий, и смысл эпизодов, и пропорцию сюжетных элементов (описание станицы кажется, например, слишком фомоздким), и самую характеристику действующих лиц, а Оленина, роль которого должна была развернуться и определиться дальше, искажала больше всего. Но положение было безвыходным, потому что Толстой, попробовав в 1862 г. писать продолжение, убедился, что роман не идет, что возвращение к этому старому замыслу, в совершенно новой общественной и литературной обстановке и после всего пережитого за последние годы — дело безнадежное[465]. Сюжет «Казаков», явившийся некогда в связи с чтением Пушкина и борьбой «триумвирата» за свою литературную власть, должен был теперь казаться простым повторением старых «романтических» традиций и тем. Подсказанные некогда «Цыганами» мысли — «что добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо» (ср. запись от 18 августа 1857 г.) — и тогда смущавшие Толстого своей «недостаточностью», выглядели теперь совершенным анахронизмом. Вероятно, сам, чувствуя это, Толстой поставил особый подзаголовок — «Кавказская повесть 1852 года», смысл которого не в том, что действие повести относится к этому году, а в том, что к этому времени надо относить самое ее возникновение. Такой ссылкой он надеялся, по-видимому, оправдать появление в печати столь неактуальной по общему духу и по материалу вещи.
Самая фигура Оленина, имевшая прежде живой автобиографический смысл для Толстого, теперь в значительной степени утратила его. Из наброска 1862 г. видно, что Толстой пытался обновить Оленина, прививая ему новые свои мысли и настроения. Так, в письме Оленина к приятелю, написанном после того, как он сошелся с Марьяной, есть следующие слова: «Жена моя — Марьяна, дом мой — Но- вомлинская станица, цель моя — я счастлив, вот моя цель. Кто счастлив, тот прав! — Каких же еще мне целей, желаний, какой еще правды, когда чувствуешь себя на своем месте во всем божьем мире, когда ничего больше не хочешь? — И я ничего не хочу, исключая того, чтобы не изменилось мое положение» и т. д. Почти теми же словами Толстой говорит о себе в письме к А. А. Толстой (осенью 1863 г.): «Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтоб все шло по-прежнему». Явная связь с новыми настроениями, с позицией и поведением Толстого 60-х годов, видна в ряде сентенций и рассуждений, помещенных в этом письме к приятелю: «Во всех отраслях развития человечества тот же закон: сознательное подчинение простейшим законам природы, которые при первоначальном развитии кажутся нечеловеческими... Ведь вы, либералы, согласны, что можно быть полезным, не служа в иностранной коллегии, в торговле, в хозяйстве, в литературе. Да разве кроме этих вам знакомых клеточек, на которые вы разделили деятельность людей, нет таких клеточек, которым не найдены названия? По чем вы судите, что человек полезен или нет? По роду знакомой вам деятельности. Да ведь не один род доказывает пользу, а самая деятельность. Ведь вот ты либерал, а твой либерализм есть самое ужасное консерваторст- во, оттого, что ты не идешь до последних выводов закона... Повторяю опять: я полезен и прав, потому что я счастлив: и не могу ошибаться, потому что счастье есть высшая очевидность... Многого я испытал и уж теперь еще испытывать не буду, — у меня еще теперь заживают раны, оставшиеся от этих испытаний. Я ли был виноват, или наше общество, но везде мне были закрыты пути к деятельности, которая бы могла составить мое счастие, и открывались только те, которые для меня были ненавистны и невозможны». Автобиографическая основа этих рассуждений, связанная именно с позицией и положением Толстого в начале 60-х годов, совершенно ясна.
Злободневная идеология начинала вмешиваться в роман, явно для этого неподготовленный. Тем самым смысловой акцент романа начинал переходить от любовной фабулы, от «интереса сочетания событий», от рисовки Кавказа к другим элементам, с данной фабулой и ее действующими лицами не связанным. Оленин неизбежно превращался в резонера, совершенно неспособного к осуществлению намеченной раньше фабульной схемы. Произошел слом героя, который должен был повлечь за собою и слом фабулы. На первый план начали выступать не столько поступки героя, сколько его размышления, вроде: «люди живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет». Можно утверждать, что эта сентенция, явно обращенная против «теоретиков» с их несуществующими (как утверждал Толстой в педагогических статьях) историческими законами, является позднейшей вставкой. Она корреспондирует с описанием станицы, сделанным в наброске 1862 г., в котором подчеркнута неизменность жизни, ее подчиненность одним вечным законам природы: «Из казаков станичников трое было убито за это время, — один на тревоге и двое в походах, один был ранен, один старик умер, кто поженился, кто вышел замуж; но вообще все было по-старому. Та же была уютная живописная станица с растянувшимися садами, плетеными воротами, камышовыми крышами, с тем же мычаньем сытой скотины и запахом кизи- ка и с той же невысыхающей лужей по середине. — Тот же пестрый, красивый народ двигался по улицам; хоть не те же, но такие же молодые обвязанные девки с звонким смехом стояли по вечерам на углах улиц и казачата гоняли кубари по площади. В молодых толпах не видно было уже царицы девок Марьянки, не слышно было Устиньки, Лукашка с Киркой не подходили заигрывать с ними. Дампиони с Олениным не выходили из-за угла с мешком пряников, но та же молодая жизнь жилась другими лицами; была и новая Марьянка и новая Устинька и новый Кирка, и новый прапорщик, только что выпущенный из 2-го кадетского корпуса, который, тщательно причесавшись, в черкеске, рука об руку с молодым казацким офицером выходил в хороводы». Злободневная для Толстого начала 60-х годов борьба с идеей прогресса определила направление его новой работы над «Казаками». В мае 1862 г. он записывает в дневнике: «Мысль о нелепости прогресса преследует. С умным и глупым, с стариком и ребенком беседую об одном». Если в прежнем замысле «Казаков» эта мысль была только попутной и совершенно абстрактной (в духе Руссо — ср. «дикое состояние хорошо»), то теперь она стала конкретной и основной, но тем самым затруднила возврат к прежнему замыслу с его фабулой и героями. Более того — фабула эта, с предстоящими для Оленина любовными перипетиями и гибелью, отчасти противоречила новым мыслям Толстого, отчасти шла в сторону. Оставалось одно — напечатать готовую первую часть как законченную повесть. Толстой так и сделал, рискуя тем, что замысел будет непонятен, фабульно обездоленный Оленин покажется смешным и жалким, а вся вещь будет признана литературным анахронизмом.
Литературные друзья восторженно приветствовали появление «Казаков» — помимо всего надо было поддержать Толстого, после четырехлетнего отсутствия возвращающегося в литературу. Но совсем не так была встречена повесть критикой. Я. Полонский («Время». 1863. № 3) и П. Анненков («СПб. ведомости». 1863. № 144 и 145) отзывались одобрительно, но вместе с тем не могли не указать на то, что мысль «Казаков» не нова, что она идет от пушкинских «Цыган». Полонский упрекает Толстого в том, что его Оленин — «герой без всякой силы», «маленький Гам- летик», которого Толстой не смеет даже казнить так, как Пушкин казнил своего Алеко, «ибо повредил бы не только герою, но и к собственной мысли своей стал бы в противоречие». Не зная, какова была первоначальная фабула романа, Полонский спрашивает: «Но что сталось бы с Олениным, если бы он женился на казачке Мариане, какую роль стал бы он играть между казаками? Что бы стал делать всю свою жизнь, если бы его не убили абреки? Ревновать к жене, ходить на охоту или от скуки пьянствовать?» Далее Полонский прямо заявляет: «Оленин далеко не представитель лучших людей нашего времени. Он человек явно отживающего поколения, нечто вроде бледного отражения лучших людей Пушкинской эпохи. Наши передовые люди, восставая на все, что есть ложно и гнило в нашей цивилизации, не пойдут наслаждаться на лоне природы или искать отрады у диких. Они лучше, подражая графу Льву Николаевичу Толстому, будут учить крестьянских мальчиков, чем гоняться за каким-то счастьем вне всякой цивилизации». Тон других статей был гораздо более решительным и суровым. Е. Тур («Отеч. записки». 1863. N° 6) просто высмеяла Толстого. Она предлагает поставить эпиграфом к повести изречение Фамусова — «Ученье — вот чума! ученость — вот причина!» Ясно намекая на то, что повесть появилась в эпоху политической реакции (борьба с Польшей и пр.), Тур язвительно пишет: «Как бы то ни было, нет сомнения, что имя гр. Толстого займет почетное место не только на страницах "Русского вестника", но и на страницах истории русской литературы, которая должна будет обсудить, кто, как, когда и в какую именно минуту проводил свои убеждения и просвещал соотечественников, кто и в какую минуту предавался воинственному запалу и воспеванию дикого казачества».
Но все это были пустяки по сравнению с статьей «Современника»[466]. Здесь прямо заявлено, что эта повесть «является не протестом, а сугубым непризнанием всего, что совершилось и совершается в литературе и в жизни» и что она «построена на тех художественных основаниях, по которым художнику ни в каком отношении закон не писан». В начале статьи дается общая характеристика той перемены, которая произошла в литературе: «Для новой нашей литературы, кажется, уже совсем прошло время романов и повестей с трескучими событиями, необыкновенными эффектами, неизмеримыми страстями и т. п. Теперь уже редко какому-нибудь писателю, понимающему жизнь, приходит в голову ставить своих героев в сверхъестественные положения, создавать на их дороге фантастические препятствия, мешающие их счастью, и заставлять их проходить длинный ряд необыкновенных приключений, ценой которых приобретается, наконец, счастливая развязка... современный писатель ставит обыкновенно своих героев на реальную почву, показывает реальные препятствия, с которыми они должны бороться, а также коренные причины этих препятствий, лежащие во всей совокупности общественных условий и в самом человеке, как продукте этих условий. Этим способом читатель хотя отчасти приводится к уразумению средств, обладая которыми можно, во-первых, бороться успешнее и без той огромной и бесполезной растраты сил, которой человек обыкновенно подвергается, а во-вторых, удобнее предохранять себя от вредных, обессиливающих влияний среды. Несмотря на тупоумные крики поклонников старого искусства, роман и повесть этого рода взяли верх окончательно, а писатели волей-неволей стали покоряться требованию общества, которое в последнее время особенно настоятельно спрашивает, почему:
Который уж век
Беден, несчастлив и зол человек.
Словом, роман и повесть придвинулись к тому вопросу: какими именно средствами личность может добиться возможной доли счастья и в чем должна заключаться ее деятельность по отношению к среде и другим личностям для достижения искомой цели? Наука решает эти вопросы в теории, но выводы ее еще не проникли в сознание людей, одаренных художественным талантом; истина этих выводов еще не получила для них характера очевидности. Но скоро и этот вопрос перейдет из сферы научной в сферу искусства, к неоцененным свойствам которого принадлежит обобщение и популяризирование результатов, добытых наукой».
Статья исходит из того представления, что «писатель, перестав изображать из себя жреца, сделался общественным деятелем наряду с другими людьми». Поэтому повесть Толстого, направленная прямо против общественнических теорий и отвергающая все законы, кроме неизменных законов природы, является, с точки зрения «Современника», образцом отсталости и непонимания действительности: «граф Толстой принадлежит к той прежней школе "художников"-писателей, к той школе, основным правилом которой всегда было, чтобы действующие лица, в особенности главные, ощущали как можно больше и рассуждали как можно беспорядочнее, совершенно не отдавали себе отчета ни в своих ощущениях, ни мыслях и не обращали никакого внимания на то, что кругом делается. При начале нашего знакомства с Олениным нам все казалось, что вот-вот автор отнесется к своему герою иронически и даже не без презрения к его наивничанью и крайней пустоте, а в конце обличит всю ложь его размышлений и вздорную путаницу в ощущениях. Но скоро догадались, как только вступили на сцену беспрестанные возгласы о красоте и величавости природы и первобытной женщины и появились какие-то задушевные интересы, что автор смотрит на своего героя серьезно». Изложение повести представляет собой непрерывную иронию и насмешку над Толстым и его «тонким анализом». Автор упрекает Толстого за то, что он никогда не думал об экономических условиях жизни и «не вдумывался в неправильности распределения общественных элементов и причины этой неправильности». Статья кончается суровым и презрительным приговором над Толстым и «знаменитыми художниками старого покроя» — приговором, резко формулирующим новое положение: «Большинство наших знаменитых художников-писателей оказывается несостоятельно ввиду резкого поворота, который дало течение нашей общественной жизни. Легковерные люди, кажется, напрасно будут ждать от них какого-нибудь замечательного произведения: его не будет, а будут разные повести, рассказы, большие и небольшие романы, писанные хорошим слогом, на старые, избитые темы, будут описания изящных страданий, сопровождаемые тончайшим анализом целого ряда самых беззаконных и искусственных ощущений. Но романа и повести, которые захватывали бы глубоко текущую жизнь, которые бы в состоянии были настолько раздражить мысли современного человека, таких произведений наличные знаменитости не дадут: они вышли из жизни. Они сами, впрочем, не изменились, но они не заметили, как изменилась их обстановка. Для них это было внезапностью. Но наконец они оглянулись на эту обстановку и заметили в ней разные вещи, ввиду которых им было как-то не по себе: знаменитости или попрятались, или возроптали. О примирении не могло быть и речи, тем менее об изменении воззрений, потому что, во-первых, им приходилось отказаться от прежнего, чему они, будто бы, жарко верили, а, во-вторых, надо было забыть и все раны, нанесенные их самолюбиям, забыть то ужасное ощущение, что они, воображавшие себя всегда руководителями общества, вдруг очутились на хвосте. На этом и должно кончиться их художественное поприще, потому что в жизни зады не повторяются». Позже, в 1865 г., «Современник» еще раз воспользовался случаем, чтобы указать на отсталость Толстого: «По своей основной идее, — пишет анонимный автор, — "Казаки" ничуть не выше тех байронических произведений русской литературы, где наши цивилизованные европейцы отправлялись искать отдыха и забвения в страны, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны как орлы». Характеристика Оленина сопоставляется с характеристикой героя в «Кавказском пленнике» («Людей и свет изведал он» и т. д.), а вывод делается следующий: «Но что привлекательно и своевременно в двадцатых годах, то пахнет анахронизмом в шестидесятых. Поздненько вздумал г. Толстой реставрировать старые картины»[467].
«Казаки» Толстого были использованы «Современником» для подведения итогов той борьбы, которая началась еще в 1856 г. Процесс дифференциации закончился: Толстому надо было, очевидно, оставить все помыслы не только о перемирии, но о каком бы то ни было соглашении с новой интеллигенцией, окончательно захватившей в свои руки критику и публицистику «Современника». Как видно из письма С. А. Толстой к сестре, Толстой сначала отложил писание второй части «Казаков» до выяснения того, как будет принята первая; Т. А. Кузминская прибавляет: «Лев Николаевич был в нерешительности, писать ли ему 2-ю часть. Он охладел к ней и задумывал уже "другое", но все же с интересом прислушивался к отзывам». Восторженный отзыв Фета вряд ли мог ослабить впечатление от статьи «Современника» — Толстой (хотя и тщательно скрывал это) очень болезненно реагировал на резкие отзывы и долго помнил их[468]. Отношение критики к «Казакам» могло только усилить его тягу в сторону от общественной и литературной жизни. В ответ на отзыв Фета он пишет, что живет в мире, далеком от литературы и ее критики, подчеркивая этим свою новую бытовую позицию. Действительно, после женитьбы Толстой замыкается в своем домашнем мире, общаясь почти исключительно с родными и с некоторыми из прежних друзей, большинство которых или не имеет никакого отношения к литературе, или тоже отошли от нее. Ликвидация педагогического журнала была ликвидацией последних связей с общественностью и литературой. Самая женитьба Толстого приобретает, в этих условиях, особый смысл: она была актом разрыва всех дипломатических отношений с литературным миром, уходом в «домашность». Толстой погружается в семейные и хозяйственные дела с пафосом человека, начинающего новую жизнь, принципиально отличную от прежней и враждебно противостоящую ей. «Теплая шапка с ушами», не подошедшая Пушкину, пришлась Толстому в 60-х годах в самую пору.
Конечно, литература не желает уходить из яснополянского дома и продолжает соблазнять Толстого, ставшего помещиком и семьянином. Она согласна на время занять скромное место, стать одной из форм «домашности». Но иногда она выходит из своего угла и снова требует к себе внимания. Так явился на свет «Поликушка», так написался «Холстомер». В конце концов она снова завладела Толстым и, в момент его первых семейных огорчений и разочарований, заставила его взяться за «Войну и мир».
4
Еще 31 мая 1856 г., скоро после окончания «Двух гусар», Толстой записал в дневнике: «Хочется писать историю лошади». Замысел этот возник у Толстого, вероятно, под влиянием знакомства с А. А. Стаховичем, владельцем большого конного завода в Орловской губернии и основателем Петербургского бегового общества. Брат этого А. А. Стаховича, М. А. Стахович, был известным писателем (его пьеса «Ночное» была очень популярна), близким к славянофильским и народническим кругам и к молодой редакции «Москвитянина». Мысль написать рассказ о знаменитом в коннозаводческих летописях «Холстомере» возникла у М. А. Стаховича, но он не успел осуществить ее — в 1858 г. он был убит в своем имении. Брат его так рассказывает об этом замысле: «Еще в начале пятидесятых годов я заинтересовался рассказами старых коннозаводчиков о необыкновенной резвости "Холстомера", пробегавшего 200 сажен в 30 секунд еще в начале восьмисотых годов в Москве на Шабловском бегу графа А. Г. Орлова-Чесменского. По смерти графа управляющий конным заводом, немец-берейтор графини А. А. Орловой — вылегчил и продал вороного "Холстомера" за большие отметины и огромную лысину. Лошади с именем "Холстомер" никогда не было в Хреновой. После долгих изысканий мне удалось установить, что "Холстомер" была кличка, данная гр. Орловым, за длинный и просторный ход (словно холсты меряет), вороному "Мужику 1-му", родившемуся вХреновском заводе в 1803 году от "Любезного 1-го" и "Бабы", выхолощенному в 1812 году. Судьба этой замечательной лошади дала мысль моему покойному брату написать повесть "Похождения пегого мерина", и брат мой рассказал мне ее план: как покупает "Холстомера" на хреновском аукционе богач московский купец (тут просторное поле для описания быта этих первых страстных охотников резвых орловских меринов, за которых плачивали они "большие тысячи"); потом переходит он к лихому гвардейцу времен императора Александра Павловича, который дарит знаменитого пегого столь же знаменитому Илье, главе цыганского хора. Возил "Холстомер" и цыганку Танюшу, восхищавшую своим пением А. С. Пушкина, потом попадает он к удалу молодцу-разбойничку, а под старость, уже разбитый жизнью — к сельскому попу, потом в борону мужика, и умирает под табунщиком». Далее А. Стахович вспоминает: «В 1859 или 60-м году ехал я с Львом Николаевичем на почтовых из Москвы в Ясную Поляну. Дорогой рассказал я сюжет повести "Похождения пегого мерина", которую не успел дописать покойный брат, и мне показалось, что мой рассказ заинтересовал графа»[469].
Повесть, задуманная А. Стаховичем, связана с традицией, идущей от начала 40-х годов. Лошадиная тема, и в частности биография лошади, входит в очерки и рассказы как одна из популярных тем эпохи. Так, в известном очерке А. Башуцко- го «Водовоз», напечатанном в «физиологическом» сборнике «Наши, списанные с натуры русскими» (1841) и навлекшем недовольство цензуры, имеется своего рода вставная новелла, почти совпадающая с планом М. Стаховича: «Лошадь конного водовоза есть любопытный факт непрочности земного величия и изменчивости фортуны. Светский человек должен изучать ее физиономию и философию ее биографии. Мы могли бы рассказать вам многие любопытные истории этих лошадей: довольствуйтесь одною. Все, вероятно, видели белую, некогда серую в яблоках лошадь, в беспрерывной задумчивости, печально и медленно влачащую широко- бокую бочку вдоль Литейной и смежных улиц? Рожденная от смеси крови черкесской и британской, краса завода, образованная на славу, цененная свыше 7000 р., эта лошадь гордо и бойко лансадировала некогда на зависть не только лошадям, но людям, между шенкелями превосходительного наездника, не менее пылкого и картинного; много выслужила она ему самых сладких побед! Карточный случай перевел ее внезапно в конюшню одного из тех богачей, которые умеют получать наследство от королей, дам и даже от холопов четырех мастей и чуть ли не от холопства, звонкими достоинствами своими достигают до степени тузов известного разряда. Тут наш конь, впряженный в английский гиг, начал привлекать взоры гуляк целого города, когда два плутовских глаза, остановясь однажды на бесподобном животном и прескверном его хозяине, породили в прелестной головке, которой сами принадлежали, следующую мысль: "он очень богат, мотает, а я буду так хороша на этой лошади..." Вскоре на плече и вые чудесного коня покоились две полненькие, стройные ножки, пылко, весело и беспутно пробежавшие жизнь, данную для лучшей цели. Но — этих ножек не стало, а хозяин коня на двойке спустил все, и лошадь, с молотка проданная умному помещику, отправлена в деревню. Сын его приехал проститься с отцом перед кампаниею; опытным взглядом оценив достоинства еще не очень старого, прекрасного коня, он выпросил его. Благородное животное ожило новою жизнью; оно пышет и порывается под молодым воином... надолго ли?.. Всадник пал; конь жив; он возвращен в деревенскую барскую конюшню; там, в воспоминание горестной утраты, его хотят сохранить неприкосновенным, спокойным — до смерти. Проходит несколько лет, лошадь изнывает, стареется одиноко; ей грустны даже заботы о ней... но она переживает своего хозяина. Является наследник покойного, он получил порядочное состояние: скорее, скорее издерживать его! в столицу! в столицу!., он рожден не для деревни! Выводят заслуженного благородного старика; несчастного запрягают в подлый воз и заставляют тащиться с обозом в глухую осень. Печаль, болезнь, старость истомили остаток его сил; едва в столице уже помышляют, куда сбыть клячу, не стоящую корму! Является татарин, он предлагает 15 рублей и ведет хромающего старика на живодерню, обдумывая, сколько возьмет барыша на сухом его мясе... но в эту минуту, навстречу им, судьба посылает водовоза, несчастного, как несчастная лошадь. С первого взгляда животное и человек сдружились; предложено сперва 15, потом 25 р., 30 рублей; условились... Лошадь спасена от смерти; но как, чем и надолго ли? В мучительной новой жизни своей она умна и благодарна, как всегда; она усильно вырабатывает насущную пищу хозяину своему и себе, бедной, столь же скудную. Она терпит, но не одна. Зубцы скребницы несколько лет не прикасались к ее шерсти; зерно овса давно не попадало на ее съеденный зуб; ее презирают, над нею издеваются... Подумайте, не такова ли судьба не одних лошадей, переживших свой блеск, свой век?»
Это отступление в сторону от основного материала очерка само по себе свидетельствует о популярности, о ходячести такого рода темы, трактованной в характерных для «физиологического очерка» социальных тонах. Но и вне такой трактовки лошадь, как языковой или бытовой материал, появляется в беллетристике 40-х годов очень часто. Достаточно вспомнить монолог Селифана в «Мертвых душах», обращенный к чубарому коню, или размышления этого чубарого коня по поводу ударов кнутом: «Вишь ты как разнесло его!— думал он сам про себя, несколько припрядывая ушами. — Небось знает где бить! Не хлыснет прямо по спине, а так и выбирает место где поживее, по ушам зацепит или под брюхо захлыснет». Тургенев, набрасывая в 40-х годах (еще до «Записок охотника») программу физиологических очерков, помещает под седьмым номером: «Бег на Неве (разговор при этом)». Это должно было быть, очевидно, описанием рысистого бега, который зимой устраивался на Неве. В «Записках охотника», следуя уже устойчивой традиции, Тургенев помещает очерк «Лебедянь» (1848) — с подробным описанием конской ярмарки и покупки лошадей. В 1850 г. он пишет сцену «Разговор на большой дороге», в которой кучер Ефрем продолжительно философствует на тему о лошади: «Лошадь лошади рознь. — Вот как между людьми, например, человек бывает натуральный, без образованья, одним словом — пахондрик; так и в лошадях» и т. д. С. Т. Аксаков назвал эту часть сцены «денным грабежом Гоголя».
К этой «народнической», помещичьей, уже отошедшей от непосредственной связи с физиологическим очерком, трактовке лошадиной темы относятся и пьесы М. А. Стаховича: сцена «Ночное» и особенно — комедия «Наездники» (1854), вся построенная на злободневном сюжете — надувательство барышниками помещика, увлекающегося породистыми лошадьми. Характерен самый состав действующих лиц: помещики и коннозаводчики с одной стороны (среди них главное лицо — помещик Богачевский), ярмарочные аферисты и барышники, с другой. Барышники решают надуть Богачевского, помешавшегося на изучении лошадиных родословных; аферист Вертлюгов входит с ними в дело. Они достают «аттестат», по которому выходит, что приведенная к помещику лошадь происходит прямо от знаменитого орловского «Усана», сына «Безымянки», внука старого «Атласного», правнука «Мужика», пр. пр. «Любезного 1-го» и т. д. — вплоть до родоначальника Барса. Во 2-м действии аферист рассуждает: «Прежде это было легко; невежество, братец, по коннозаводству было страшное! Нужен был гравированный лист, да печать — и довольно; это значило лошадь с аттестатом! и бери втридорога. А нынче? поди-ка, изданы книги коннозаводские, вот это-то нас и подвело! Теперь всякий молокосос купит: Подробные сведения, заводскую книгу бежавших и выигрывавших... да вот еще, говорят, новейшую книгу скоро издадут... что тут сделаешь? Всякой купит, да читает, соображает, изучает... Прежде, бывало, только смелее от Сметанки выводи, а нынче? Мало того — породу отца еще спрашивает и матка от кого? Кто бабка, кто прабабка». Далее аферист этот (Шелохвостов) обрабатывает помещика Богачевско- го, который не расстается с родословной и просит его экзаменовать: «Богачевский. Возьмите книгу... следите: я буду говорить вам породу Усана. Первый, разумеется, Сметанка... Там Полкан, Барс родоначальник, там Любезный 1-й, заметьте!., ну, слушайте: Любезный и Мужик, а знаете ли кто мать Мужика? Шелохвостов. Мать Мужика... мать... ну — Баба! Богачевский. А? Какова гениальная мысль назвать — Бабой! Именно Баба! Дочь... чья? Шелохвостов. А-гм! Баба, Баба... ну тоже Мужико- ва дочь! Баба — Мужик. Мужик — Баба! Богачевский. Нет-с! Бухарского иноходца! Да-с! И вы этого, батюшка, до сих пор не знали?» и т. д. У Стаховича, соответственно его «народническому» направлению, одураченному помещику противопоставлен Вася Ездок — «наездник и торговец сам по себе», лошадь которого берет на бегу приз и оставляет «породистую» клячу, купленную помещиком, за флагом. Такая пьеса могла быть задумана и написана только в атмосфере бурного массового увлечения коннозаводским делом. И действительно, именно с начала 40-х годов и до начала 60-х конное дело в России стало предметом не только серьезных забот, но и страстных увлечений, охвативших даже мещанскую и купеческую среду. В 1842 г. начал выходить специальный «Журнал коннозаводства и охоты» — факт, указывающий на интерес к этому делу. Еще раньше, в 30-х годах, стали выходить книги о конских заводах и о породистых лошадях («Подробные сведения о конских заводах в России», 1839; «Книга заводских кровных и скаковых лошадей в России». 1836. Т. I). Важная дата в истории русского коннозаводства — 1845 г., когда правительством были приобретены два важнейших конских завода: Хреновской (Орлова) и Аннинский (Ростопчина). Историк русского коннозаводства, И. К. Мердер пишет: «Все правительственные меры к развитию коннозаводства послужили, действительно, к тому, что в течение первой половины XIX столетия в нашем отечестве учреждено частными лицами до 900 конских заводов в разных губерниях, тогда как в прежнее время в течение целых столетий едва было учреждено всего 100 конских заводов»[470]. В другой книжке тот же И. Мердер пишет: «Царствование императора Николая Павловича было временем особенно заботливого отношения русского правительства к коннозаводству, и прямым последствием такого отношения к делу было особенное процветание коннозаводчества... Чистокровная система была окончательно установлена основной. Состав лошадей на преобразованных заводах доведен был до небывало высокого достоинства. Делались крупные закупки чистокровных лошадей в Англии и на Востоке. Наконец, венцом делу было приобретение в казну Чесменского завода графини Орловой-Чесменской и Аннинского завода графа Ростопчина»[471].
Процветание, о котором говорит И. Мердер, надо понимать как развитие массового коннозаводства, поощряемого правительством; оно шло, конечно, за счет старого крупно-барского, вельможного коннозаводства, прославившегося еще до Отечественной войны. Заводы Орлова и Ростопчина были типичными заводами именно такого вельможного типа. Покупка правительством этих заводов была продиктована тем, что прежнее, крупно-барское коннозаводство, с изменением социальных и экономических условий, не могло существовать, а среднее дворянство не занималось конным делом, потому что не видело в нем прибыльной для себя статьи. Очень ясно и дельно описывает это положение изданное в 1847 г. «Статистическое обозрение коннозаводства в России». Говоря о том, что меры, принятые Елизаветой Петровной, «пробудили ревность к учреждению конских заводов в поместьях», автор предисловия пишет: «Ревность эта еще более усилилась в царствование Екатерины Великой, когда установлено было ремонтирование посредством покупки и вошли в славу знаменитые заводы графа Орлова-Чесменского, Зубова и других, и когда коннозаводство сделалось, так сказать, аристократическою промышленностию. Открытие заводов обратилось в щегольство. Одни учреждали их как охотники, с знанием дела и польз, от него проистекающих, другие из подражания, из тщеславия. При таком стремлении к развитию коннозаводства в начале нынешнего столетия явилась благодетельная мысль улучшать оное посредством покупки английских производителей, за которых платились огромные суммы от 10 до 100 т. р. за голову. Но только немногие охотники и знатоки дела успели достигнуть желаемого; а барышники, как то всегда случается, пользуясь обстоятельствами, умели ничтожных английских лошадей и даже вовсе не английских сбывать незнающим за лошадей настоящей породы. Таким образом, на многие заводы поступили производители без всяких достоинств. Последствием сего был неизбежный упадок и даже совершенное разорение некоторых заводов, второстепенных по обширности, но первоклассных по достоинству производимых на них лошадей». Далее идет любопытная характеристика нового времени: «Между тем, с водворением мира во всей Европе, наука и заботливость об извлечении возможных выгод из поземельной собственности и капиталов породили множество важных открытий для земледелия и торговли, заключившихся проложением железных дорог. Дух изобретения, полезного для частной и общественной жизни, неутомимая жажда все нового и нового, и в особенности жажда к приобретению выгод и стяжанию богатства, проникли всех и каждого. Товарищества, общества на паях, на акциях возникали беспрестанно и все с одною целию: сотворить богатство и деньги сейчас, мгновенно... [Коннозаводство] не обольщает ни блистательными фантастическими выгодами, ни тем менее скорым, немедленным их приобретением. Оно требует терпеливости и опытности. Очевидно, что оно должно было некоторым образом остаться в тени при блеске новых предприятий, более обширных и, что главнее всего, представлявших огромные выгоды. В самом деле, многие или оставили в забвении свои конские заводы, или, продавая их другим, стали заниматься преимущественно разведением тонкошерстных овец, учреждением разных фабрик, свеклосахарных заводов и, увлекаясь заманчивостью сих предприятий, убивали капиталы, на коннозаводство употреблявшиеся... Многие также продавали и свои поместья и конские заводы для того, чтобы обратить их в наличный капитал и пустить их в оборот. Некоторые обширные имения, с богатыми конскими заводами, по необходимости, вследствие раздробления фамилий, доставались в разные руки, от чего заводы или упадали, или вовсе уничтожались. Вместе с тем наложение значительной пошлины на лошадей, вывозимых за границу, а впоследствии и совершенное запрещение вывоза жеребцов и кобыл затруднило свободный сбыт лошадей и, со своей стороны, сильно способствовало уменьшению деятельности коннозаводской промышленности. От сих и еще многих причин исчезли или упали до крайней степени весьма многие превосходные конские заводы».
Из этого описания видно, что заботы правительства в 40-х годах были результатом падения старой экономической системы, и затеянные реформы имели в виду переход от нее к новой системе — от системы аристократического «щегольства» к системе деловой промышленности. Учрежденное в 1843 г. Управление государственного коннозаводства предприняло ряд новых мер: «приступило к открытию земских конюшен из жеребцов с государственных заводов во всех губерниях, где сие представлялось наиболее полезным и необходимым; для доставления же частным коннозаводчикам возможности приобретать по выгоднейшим ценам хороших производителей приняло правилом ежегодно обращать в продажу с означенных заводов (т. е. с Хреновского и Аннинского) всех кобыл и жеребцов, остающихся за комплектованием оных; вместе с сим обратило внимание на разные способы поощрения, и главнейшее на развитие и правильное установление испытания лошадей: в сих видах увеличило число и ценность императорских призов и учредило вновь испытания собственно для лошадей низшего сорта сообразно народному обычаю; открыло особый конкурс лошадей в Царском Селе с предоставлением владельцам значительных выгод; установило разные награды для поощрения сельского класса к улучшению воспитания и содержания лошадей; доставило частным коннозаводчикам возможность приуготовлять своих людей в служителей и управителей конских заводов; приняло разные меры к облегчению сбыта лошадей и вообще привело в действие все способы, какие только представлялись для возбуждения к развитию и улучшению отечественного коннозаводства».
Итак, конное дело приобрело в помещичьем быту 50-х годов новое значение — и как отрасль хозяйства и как спорт. В связи с этим помещичий бытовой язык стал окрашиваться новой терминологией: наряду со старым охотничьим диалектом, уже давно проникшим в литературу (С. Аксаков, И. Тургенев, Е. Дриянский и др.); начал широко развиваться и входить в быт особый коннозаводческий, «иппологи- ческий» жаргон, так сильно окрасивший пьесу М. Стаховича. Как это всегда бывает, жаргон этот стал проникать в разговорный и эпистолярный язык, а отсюда—в газету, в литературу, в язык поэтический. Печатающиеся в газетах отчеты о бегах превращаются из деловых и сжатых статей, предназначенных только для узкого круга специалистов, в обширные фельетоны, рассчитанные на широкого читателя. По поводу одного такого фельетона, появившегося в «Северной пчеле» 1862 г., П. Дубовицкий написал характерный протест: перечисляя ошибки, неточности и пропуски, сделанные автором фельетона, он называет его статью «более поэтической, чем точной», и предлагает редакции печатать в дальнейшем только официальные отчеты, составляемые главным управлением. Однако новый отчет о беге написан тем же фельетонистом и в том же тоне. Он занимает целых четыре столбца и представляет собой явную пародию на точный отчет и на «иппологиче- ский» жаргон. Здесь даны все подробности бега — «начиная от сбоя до последнего взмаха хвостом». Смеясь над протестом Дубовицкого, автор описывает совсем посторонние подробности и превращает отчет в шутливый фельетон: «На этот раз бег открыт был прекрасным, но коварным полом (разумеется, лошадиной породы)... На это состязание по скромности, свойственной прекрасному полу, явилась только одна охотница, А. И. Павлова вороная кобыла Отрадша, собственного завода, от Отрада и Бедакурши. Почтенная эта персона, не видя особенной надобности торопиться, совершила шествие свое с большою прохладою, помахивая меланхолично хвостом: она прошла дистанцию на бегу в 6 мин. 31 сек., без сбою (замечаете, читатель, как я исправляюсь), и на перебежке в 4 мин. 24 сек., с одним сбоем (вы видите!), и получила первый приз... Во время бега сей неторопливой особы какая- то собака, сизо-пестро-пегой масти, неизвестного происхождения, но весьма неблагонадежного вида, взобравшись на одну из смежных насыпей, отделяющих дорожки ипподрома, с насмешливой улыбкой наблюдала за вольготным стремлением достойной Ompaduiu, и когда эта окончила свое путешествие — подозрительный пестро-пегий зверь, с обидною даже отчасти наглостью, выскочил на дорогу и, заносчиво поглядывая во все стороны, казалось, приглашал желающих попробовать с ним вперегонку, и когда таких желающих не явилось, он презрительно махнул мохнатым хвостом своим и, как будто говоря: "ну, так я же вам покажу, как следует бегать", пустился вдоль по ипподрому и, обежав круг, явился к судейской беседке с явным поползновением на приз; однако ж приза он не получил, а был прогнан с бесчестьем, преимущественно, как я полагаю, по поводу своей неблагонамеренной физиономии и явного нахальства». Кончается статья указанием на свое исправление: «Если я не упомянул о числе взмахов хвостами, то прошу вас верить, что это случилось отнюдь не оттого, чтобы я не обращал на это должного внимания, но единственно потому, что, исключая меланхолической Отрадши, все другие лошади с замечательною благовоспитанностью постоянно воздерживались от этого несколько нескромного жеста».
Самый жанр этого отчета-фельетона показывает злободневность темы и наличие широкого интереса к ней. Описание бегов входит в общие фельетоны-обозрения наряду с самыми популярными событиями петербургской «общественной жизни». Таков, например, большой фельетон, помещенный в «Русском инвалиде» (1862. № 13. 18 янв.), под заглавием: «Кое-что. Очерки Петербургской общественной жизни». От общей темы о петербургской жизни автор переходит к открытию нового шахматного клуба, а затем пишет: «От нового шахматного клуба оно, пожалуй, и не совсем прилично перейти к рысакам; но я обязан сообщать вам новости, а возобновление рысистых бегов на Неве в наступившем году есть также новость и притом такая, которая интересует многих у нас еще гораздо более, чем что-нибудь другое. Впрочем, читатель, не впадая в эту крайность, можно любить рысака, не становясь от этого сам лошадью, а наш русский рысак, право, стоит того, чтоб посмотреть на него. Покойник Пушкин еще сказал:
Быть можно умным человеком,
И думать о красе ногтей.
Англичане служат лучшим доказательством, что парламент и скачки нисколько не мешают один другому». Оправдав таким образом самую тему, автор переходит к подробному описанию бега, которое заканчивается любопытным дополнением: «Достойно внимания то живое участие, которое простой народ наш принимает в судьбе состязаний, приветствуя громкими криками и одобрениями ловких наездников-победителей. Особенно он любит троечные бега и скачки. Между ним есть страстные охотники, которые не пропустят ни одного состязания ни здесь зимою, ни в Царском Селе — летом, знают всех хороших лошадей и наездников и с увлечением держат пари за своих любимцев. Интересна бывает картина, когда окончатся испытания и наступит минута раздачи наездникам призов. Вся площадь ипподрома покрывается толпами бегущего народа, который, покинув места свои вдоль барьера, устремляется к судейской беседке, чтобы присутствовать при раздаче призов».
Замечательно, что борьба «сословий» и социально-экономический упадок дворянства вызвали в 60-х годах какой-то повышенный вкус к вопросу о породистых лошадях. Тема эта получила публицистическую окраску — как лишний аргумент в пользу «породистости», как защита породы с биологической точки зрения. Иной автор совершенно неожиданно, вне всякой прямой связи со своей темой, вводит в статью рассуждение о лошадях. Так, П. Мартос (помещик и владелец конного завода), возмущаясь революционными выходками Т. Шевченки, пишет: «Недаром говорит пословица: с хама не буде пана» и делает следующее примечание: «Физиология человека очень сходна с физиологией лошади: порода много значит. Пусть вам представят лошадь чистой арабской породы, с значительными недостатками (пороками, как говорят иппологи), — и, несмотря на них, вы заплатите за эту лошадь (разумеется, если вы в состоянии) несколько тысяч рублей; возьмите же лошадь тамбовской породы — сильную, здоровую, правильную во всех статьях, — за нее не дадут более 200 рублей. Так и человек: чем выше он рожден, тем благороднее в нем чувства»[472]. Самая внезапность этого отступления указывает на ходячесть и прочность подобной ассоциации. И действительно, ассоциация эта упрочивается в языке и дает основу для всяких метафор и иносказаний. Я думаю, что именно к этой эпохе относится появление в разговорном языке таких метафор, как «закусить удила» и пр. Так, Тургенев пишет И. Борисову о Толстом (1868 г.): «боюсь, что он вдался в философию и, как это иногда с ним водится, закусил удила и понес бить и лягать зря».
В языке литераторов-помещиков того времени (Фет, Тургенев, Толстой) «лошадиные» метафоры были в большом ходу, поступая в эпистолярную и даже поэтическую речь из быта. Воспоминания Фета наполнены описаниями разных эпизодов, связанных с лошадьми: рассказана история с его Фелькерзамом, который пал на ноги; подробно описан Глазунчик, сменивший Фелькерзама; есть целые повествования о том, как была куплена пара вороных, как брат его покупал тройку, и т. п. В 1861 г. Тургенев, утешая Фета по поводу его хозяйственных неудач, советует ему вооружиться терпением и ждать, а затем прибавляет: «Только нужно будет вам брать пример с здешнего императора[473]: он отказывается от всяких излишних построек и издержек, и вы покиньте дерзостную мысль о воздвижении каменных конюшен и т. д.» В 1857 г. Толстой пишет Тургеневу: «Прощайте, любезный друг, но пожалуйста не старайтесь того, что я пишу теперь, — подводить под общее составленное вами понятие о моей персоне. Тем-то и хорош человек, что иногда никак не ожидаешь того, что от него бывает, и старая кляча, иногда, закусит удила и понесет и припердывает, так и мой теперешний дух есть неожиданное и странное, но искреннее припердыванье». Классический миф о Пегасе возрождается в новом, бытовом аспекте, когда Тургенев пишет Фету (1859 г.): «моя Муза, как застоявшаяся лошадь, семенит ногами и плохо подвигается вперед». То же самое — в письме Толстого к Фету (1865 г.), особенно интересном потому, что здесь прямой смысл фактически переплетен с иносказательным: «Что за злая судьба на вас? Из ваших разговоров я всегда видел, что одна только в хозяйстве была сторона, которую вы сильно любили и которая радовала вас, — это коннозаводство, и на нее-то и обрушилась беда. Приходится вам опять перепрягать свою колесницу, а "юхванство" перепрягать из оглобель на пристяжку; а мысль и художество уж давно у вас пере- езжено в корень. Я уж перепрег и гораздо спокойнее поехал». Смысл этого совета в том, что Фету надо вернуться от хозяйства («юхванства») к творчеству — как в это время поступил Толстой, увлекшись работой над романом.
Из разговорного и эпистолярного языка иносказание переходит в язык поэтический, часто сохраняя характерный для эпохи публицистический смысл. То, что в статье Мартоса было сделано грубо и пошло, принимает в стихах Фета более изящную и остроумную форму. Его послание к Тургеневу (написанное, по-видимому, в 1864 г.) содержит в себе нечто вроде сатиры, обращенной к современности:
Взгляни в Степановке[474] на Фатьму-кобылицу: Ну, право, поезжай в деревню иль в столицу, Едва ль где женщину ей равную найдешь, — Так глаз ее умен, так взгляд ее хорош. Вся в сетке, рыжая, прекраснейшего тона, — Стоит и движется, как римская матрона! Так не в претензиях тут дело, а в одной Врожденной чуткости. Подумай-ка, какой Дубиной нужно быть, чтоб отрицать искусство, Права на собственность, родительское чувство, Самосознание, — ну, словом, наконец, Все то, чего не знать не может и слепец. А этим юное кичится поколенье! К чему ж их привело природы изученье? Сама природа их наводит на беду. Поймавши на слове, я к Фатьме их веду: Она хоть нежный пол и ходит в кринолине, Но не уступит прав на кафедру мужчине. Что ж проповедует она? Ее сосун Щипал при ней сенцо. Вот подошел стригун И стал его теснить, сам ставши над корытом: Но истинная мать так зубом и копытом Сумела угостить пришедшего не в час, Что тот не сунется уж к ним в другой-то раз. «Что ж, сила грубая! На то она кобыла!» Груба ль, нежна ль она, я знаю: сила — сила. То сила им груба, то тянутся из жил, Чтобы расковырять указкой Силу-сил!
Сатира Фета направлена против левых теорий, в том числе — против «новых людей» с их естественнонаучным уклоном («К чему ж их привело природы изученье?»), но отчасти и против Толстого — против его повести о Холстомере, в которой есть следы увлечения Прудоном. В. Соллогуб, прочитав эту повесть, писал Толстому (в 1864 г.): «рассуждение о собственности холодно, прудонно и, не ново»[475]. Социальный архаизм и своеобразный «нигилизм» Толстого роднил его — именно так, как роднятся и сходятся противоположности — с некоторыми пунктами радикальных теорий.
На фоне всего этого материала замысел М. Стаховича, по своему использованный Толстым, кажется более чем закономерным — почти ходячим. Все было подготовлено для того, чтобы развернуть ходячую языковую ассоциацию в метафорический сюжет, переместив члены сравнения так, что второстепенный (лошадь) окажется центральным и тем самым превратить простое иносказание в остранение, а повесть — в нравоучение, в дидактическую поэму или басню[476]. У Толстого лошадь должна была, конечно, явиться не столько сопоставлением, сколько противопоставлением человеку — по линии обычного для него, и в это время как раз очень напряженного, противопоставления природы и цивилизации. Весь цикл произведений Толстого этих лет, начиная с «Идиллии» и «Казаков» и кончая «Поликушкой», «Холстомером», «Декабристами» и «Зараженным семейством», есть борьба против общественных теорий, против идеи прогресса, против историзма — за естество, за неизменность и неизменяемость природы, которую человеческие учреждения и отношения только портят и губят. Сюжет о пегом мерине пригодился Толстому в этом смысле как нельзя более.
Тема лошади была, как мы видели, популярной в 50-х годах. Поэтому воспоминание Тургенева о том, как Толстой описал ему мысли старого мерина, характеризует не только Толстого, но и тогдашнюю литературную эпоху: «Однажды мы виделись с ним летом в деревне и гуляли вечером по выгону, недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного вида: ноги погнулись, кости выступили от худобы, старость и работа совсем как-то пригнули ее; она даже травы не щипала, а только стояла и отмахивалась хвостом от мух, которые ей досаждали. Подошли мы к ней, к этому несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и, между прочим, приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: "Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью". Да, вот извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади»[477]. Восторженность Тургенева несколько преувеличена: для этого достаточно было быть помещиком и писателем 50-х годов. Этот несчастный мерин послужил, очевидно, натурой для «Холстомера».
Воспоминание Тургенева относится, вероятно, именно к тому времени, когда Толстой задумал писать «историю лошади». К этому сюжету он вернулся в 1863 г.; в дневнике от 3 марта записано: «Мерин не пишется — фальшиво. А изменить не умею». Затем следует рассуждение о том, что люди делают все по требованиям природы, после чего — опять о рассказе: «В Мерине все нейдет, кроме сцены с кучером сеченным и бега». В это же время (вероятно — в апреле 1863 г.) Толстой сообщает Фету: «Теперь я пишу историю пегого мерина, к осени, я думаю, напечатаю». Однако рассказ остался ненапечатанным — вплоть до 1886 г., когда его издала С. А. Толстая. Если оглянуться на весь период от 1859 г. («Семейное счастье») до 1865 г., то окажется, что большинство вещей Толстой либо не дописывает, либо не печатает: «Идиллия» не напечатана, «Казаки» брошены, «Декабристы» оставлены, «Зараженное семейство» не поставлено на сцене и не издано, «Холстомер» не напечатан. Это свидетельствует не только о робости, но и о внутренней растерянности, которая привела Толстого к решению отойти от литературы. При своей своеобразной позиции, парадоксально соединяющей «нигилизм», доведенный до крайности, с презрением к «шестидесятникам», Толстой потерял всякую общественную опору и оказался почти в одиночестве. Он на некоторое время становится неприемлем ни для правых, ни для левых. Он сам недоволен своими новыми литературными работами и поэтому все время переходит от одних к другим, меняя замыслы и планы.
«Холстомер» был написан до конца, но достаточно было отзыва В. Соллогуба, чтобы убрать рассказ в письменный стол и не печатать его. Характерно начало соллогубовского письма: «Ваша милая бель сер[478], любезный граф, права. — Она не высказала того, что сама не поняла, но предугадала по женскому инстинкту, гнушающемуся всего, что оскорбляет стыдливость и нежное эстетическое чувство. — Самое слово мерин уже неприятно, как неприятно слово евнух, кастрат. — Оно прямой намек на детородные части. Слова сосцы, сосунчики, картины холощения и в особенности случки маменьки-кобылы с седуктором-жеребцом могут, пожалуй, пройти для коннозаводчиков, — но непосвященная публика поморщится». Итак, повесть была осуждена домашним судом, и приговор этот подтвержден высшей инстанцией — литературным вкусом В. Соллогуба, который нашел ее циничной: «Предоставьте это Писемскому. Цинизм — его атмосфера и даже сила, потому что в цинизме есть своего рода энергия. — Ваш талант — талант тонкого анализа и грациозности деталей... Если бы Писемский написал вашу статью, он бы ее написал так, что ни одна женщина не могла бы ее прочитать и ни одна типография не взялась бы печатать, — но у него вышла бы штука пластично-похабная и до некоторой степени художественная. — У вас она от одного берега отстала, к другому не пристала».
Последние слова довольно правильно, пожалуй, характеризуют общее литературное положение Толстого в это время. Он, действительно, находится на перепутье. Окончательно порвав личную и литературную связь с Тургеневым, отойдя и от «бесценного триумвирата» (Дружинин, Боткин, Анненков), и от Чичерина, и, наконец, от школы, Толстой к началу 60-х годов остался и без друзей, и без литературной группы, и без журнала. Ему приходится обращаться к В. Соллогубу, сохранившему старые литературные вкусы и взгляды, и выслушивать его, в литературном отношении достаточно пошлые, советы: «Назовите статью именем мерина и не повестью, а басней. — Эта кличка в прозе будет нова. — Описание конюха, ночи в поле, летней природы, — различных лошадиных физиономий и пр. остаются — как теперь и даже могут быть несколько дополнены. — Конюх захрапел у огонька — двум-трем лошадям не спится. — Начинается рассказ. — Во-первых, резко выступает личность барина-вельможи, интриги его двора, портреты дворецких, конюхов русских, немецких, английских, и все это с лошадиной точки зрения, и с лошадиными суждениями, относящимися до сена, овса, упряжи и пр. — О несчастии, постигшем мерина за пегую шерсть, намекается только вскользь. Портреты его различных господ, повествование его опытов, бегов, выигранных пари, триумфов,— апогеи его славы. — Краткий очерк Москвы, любителей бегов, призов, коннозаводского мира — вообще его отношений к людям, а не к животным, о холе, попонах, пище, его заключение о людях. — Затем начинаются разочарования, проигрыши. Epoque de la decadence. Людская неблагодарность, — случай, которому он обязан жизнью. — Но самолюбие уязвлено, человек разоблачен перед ним, теперь ему остаются воспоминания. — Человек та же лошадь. Конец рассказа. Физиономии слушавших лошадей. — Заря занимается. — Конюх просыпается, закуривает трубку и начинает браниться. — Конец. Это, мне кажется, будет на 4 столбах — вступление, завязка, повествование, заключение. Что ни говори, а в риторике был смысл, и закон симметрии в природе везде повторяется. Следовательно, он закон прекрасного».
В этой соллогубовской редакции «Холстомера» можно видеть смесь физиологического очерка 40-х годов с жанром тургеневского очерка — получается нечто вроде «Бежина луга». Толстой, конечно, не мог и не хотел так писать. Он не дает ни портретов господ, дворецких и конюхов, ни картины старой Москвы. Более того, его «Холстомер», сын «Любезного 1 -го» и «Бабы», «которого знавал сам граф» (т. е. гр. Орлов), доживает, как видно по рассказу, до конца 50-х годов — ему, значит, в это время около 60 лет. Это безразличие к хронологии доказывает, что реально-историческая, бытовая сторона рассказа, интересовавшая М. А. Стахо- вича (цыганы, Пушкин и пр.), не входила в задачу Толстого. Сохраняя генеалогию «Холстомера», он вместе с тем переносит действие в другую эпоху: Серпуховский покупает «Холстомера» в 1842 г. (когда ему по реальной хронологии около сорока лет); после этого «Холстомер» живет еще около двадцати лет. Анахронизмы «Войны и мира» затушеваны описанием военных действий и исторических фигур, так что семейные сцены кажутся относящимися к той же эпохе (хотя на самом деле они взяты из жизни 50-х годов); в «Холстомере» Толстой просто игнорирует время и историю; пользуясь материалом, относящимся к началу века («Холстомер» родился в 1803 г.), он заставляет своего героя жить вплоть до 60-х годов. Лошадиный век заменен у Толстого человечьим — характерная ошибка, явившаяся результатом метафоризации сюжета, его дидактического остранения. После неудачи с «Казаками» Толстой, следуя духу времени, пробует свои силы в обличительных, сатирических жанрах. В «Холстомере» он еще не столько сатирик, сколько дидактик-моралист, защищающий естество от цивилизации — природу от человека. В этом смысле «Холстомер» — прямое продолжение «Казаков»: замена прямой речи речью иносказательной, романа — басней, «животным эпосом». Именно так использована в «Холстомере» тема лошади. В следующих вещах («Декабристы» и «Зараженное семейство») Толстой выступает уже как обличитель конкретных явлений своей эпохи. Эти опыты приводят его к обличению самой истории и исторического процесса — к антиисторизму «Войны и мира».
Соллогуб обратил внимание на то, что повесть о мерине «прудонна». О связи Толстого с Прудоном речь будет ниже; но возможно, что именно это заставило Толстого отложить повесть и не хлопотать об ее печатании. Недавний обыск в Ясной Поляне и отношение к Толстому, как ко второму Герцену, заставляли его быть осторожным. Он теперь уже не учитель и почти не литератор — он помещик и семьянин; он не уверен в том, что литература не станет для него теперь простым домашним делом, не выходящим за пределы семейного круга. Заявил же «Современник», что писатели, подобные ему, «вышли из жизни» и что их художественное поприще должно кончиться. Как бы ни относился Толстой к этому приговору, вынесенному ему тем самым журналом, в котором еще так недавно он был одним из главных и почетных сотрудников, какие-то выводы из этого приговора нужно было сделать. И Толстой их сделал.
Толстой становится на время сугубо домашним человеком. Он замыкается в тесный круг родных и знакомых, никакого отношения к литературе не имеющих; он беседует со странниками и юродивыми, по старому обычаю заходившими в Ясную Поляну. Судя по описанию Т. А. Кузминской, яснополянская жизнь была мало похожа на жизнь «графов» — начиная с обстановки и кончая людьми, посещавшими Толстого. Многое прямо шокировало Софью Андреевну и ее родителей, считавших себя принадлежащими к московской аристократии. Толстой охотно принимал у себя всяких чудаков и бывших людей — вроде Н. С. Воейкова: «Он барин, помещик был, да спился, а теперь ходит по родным — бродягой стал — и к нам заходит, поживет и снова дальше; граф их давно знает», объяснял лакей Толстого Т. А. Кузминской. Софья Андреевна не находила в таких людях ничего забавного и гнушалась ими, а Толстой заявлял: «Ая люблю всякое старинное шутовство и поощряю его». Архаистический, несколько грубый, даже мужиковатый, тяготевший к «простонародному» стиль толстовского дома свидетельствовал о социальном надрыве. Бурное занятие хозяйством свидетельствовало о том же: Ясная Поляна превращалась из графского поместья в какое-то сельскохозяйственное заведение; сам Толстой — из писателя и графа в предпринимателя и приобретателя, конкурирующего со всякого рода купцами и заводчиками. Толстой занят накоплением своего имущества. С. А. Толстая пишет в начале 1863 г. сестре: «Мы совсем делаемся помещиками: скотину закупаем, птиц, поросят, телят... Пчел покупаем у Исленьевых. Меду — ешь-не хочу». Толстой пишет в это же время Фету: «У меня и пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня». Наделе все шло, конечно, совсем не так, как оно шло бы в руках настоящего приобретателя — приобретателя без социальных надрывов и измен. Не говоря о том, что Толстой не мог справиться с хозяйством, он не мог справиться и с мужиками, которые обкрадывали его. В 1864 г. (23 апреля) он пишет характерное письмо тульскому губернатору (П. М. Да- рагану), в котором жалуется на растущее воровство: «Дерзость воров, уведших у меня лошадей, коров, овец, укравших весы с амбара, дошла до того, что прошлой осенью почти перед домом выкопали молодые яблони и увезли. Садовник мой нашел яблони у соседнего мужика, представил явные доказательства срезки ветвей и прошлогодней, а не осенней пересадки по положению корней. Я объявил о пропаже и находке тогда же волостному правлению и становому. Посредник мой отвечал бумагой, что яблони не мои и что я имею купить другие (что я и сделал), а становой ничего не сделал и не ответил на неоднократные мои просьбы. Мужик же, должно быть, сбирается пересадить весь мой сад на свой огород. Ваше превосходительство, пожалуйста, защитите меня»[479]. Пафос предпринимательства и приобретательства на некоторое время совершенно захватил Толстого. Дело доходило до того, что Софья Андреевна возражала против винокуренного завода, находя эту затею безнравственной, а Толстой не слушал ни ее ни отца, который писал ему: «И ты будешь уверять меня с своим Бибиковым, что вино полезно? Нет, мой друг, на своей продолжительной практике я видел вред вина и многих вылечил от запоя». Зато в других вопросах, касающихся еще не вполне ликвидированных связей с педагогикой, Толстой с радостью подчиняется внушениям, идущим от семьи.
8 февраля 1863 г. он записывает в дневнике: «Студенты только тяготят неестественностью отношений и невольной завистью, в которой я их не упрекаю. Как мне все ясно теперь. Это было увлечение молодости — фарсерство почти, которое я не могу продолжать выросши большой. Все она. Она не знала и не поймет, как она преобразовывает меня, без сравнения больше, чем я ее».
Итак, сначала Толстого «формировала» школа, теперь «преобразовывает» семья. Измена следует за изменой. Еще в октябре 1862 г., скоро после женитьбы, Толстой исповедуется своей «тетеньке» (А. А. Толстой): «Я было уже устал делать счеты с собой, начинать новые жизни (помните), было помирился с своей гадостью, стал себя считать, хоть не положительно, но сравнительно хорошим; теперь же я отрекаюсь от своего прошедшего, как никогда не отрекался, чувствую всю свою мерзость всякую секунду, примериваюсь к ней, к Соне, но строк печальных не смываю». Главное слово теперь у Толстого, главный лозунг — «счастье». В дневнике от 3 марта 1863 г. он записывает: «Кто счастлив, тот прав!» Это — цитата из последнего наброска «Казаков», из письма Оленина к приятелю: «цель моя — я счастлив, вот моя цель. Кто счастлив, тот прав!.. Повторяю опять, я полезен и прав, потому что я счастлив: и не могу ошибаться, потому что счастье есть высшая очевидность. Кто счастлив, тот знает это вернее, чем 2x2 = 4». Все эти афоризмы — не простая абстракция: они обращены Толстым к своей эпохе — как выражение против ее тенденций, как демонстрация против ее лозунгов. Самое слово «счастье» приобретает в устах Толстого особый смысл — как противопоставление «естественного» человеческого права всем другим «гражданским» правам и обязанностям, как противопоставление чувства уму, природы — цивилизации и пр. В дневнике 1863 г. читаем: «Все, что делают люди, делают по требованиям своей природы. А ум только подделывает под каждый поступок свои мнимые причины, которые для одного человека называет — убеждения — вера и для народа (в истории) называет идеи. Это одна из самых старых и вредных ошибок». Здесь формулирована давнишняя вражда Толстого к «убеждениям» и к «идеям», т. е., иначе говоря, к новой русской интеллигенции, ко всему движению 60-х годов. А. И. Эртель с удивлением писал в 1885 г. А. Н. Пыпину: «Представьте себе, сам Л. Н. Толстой, оказывается, имеет весьма смутное понятие о движении 60-х годов и даже до последнего дня был незнаком с крупнейшими представителями этого движения»[480]. С. А. Толстая очень определенно пишет в своей автобиографии: «Наша жизнь в Ясной Поляне была первые годы очень замкнутая. Ничего интересного в эту эпоху из жизни народной, общественной и государственной я написать не могла бы, все шло мимо нас; мы жили в деревне безвыездно, ни за чем не следили, ничего не видели, не знали, — да и не интересовались».
Итак, Толстой, хотя и не «экспатриировался», но эмигрировал из литературы в быт, из России — в Ясную Поляну, из 60-х годов — во вневременное и внеистори- ческое «счастье». Он так охвачен этим своим новым пафосом, этой своей новой изменой, что самое его творчество обращается к формам домашней литературы. Записи дневника в 1863 г. разрастаются и принимают характер интимных бесед с женой или лирических признаний — как например запись от 5 января: «Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу, она смотрит на меня и любит. И никто — главное я не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет "Левочка" и остановится: "отчего трубы в камине проведены прямо" или "лошади не умирают долго" и т. п. Люблю, когда мы долго одни, и что нам делать? Соня, что нам делать? Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня, и вдруг в мгновенье ока у ней и мысль и слово иногда резкое: оставь, скучно; через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык, люблю, когда вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное и испуганное и детское и страстное лицо, люблю когда...». Такие формы интимной лирики являются на смену неудавшемуся и прерванному «Кавказскому роману». 23 февраля 1863 г. в дневнике записано: «начал писать: не то. Перебирал бумаги — рой мыслей и возвращение или попытки возвращения к лиризму. Он хорош». Найдя в бумагах свой старый лирический набросок «Сон» (использованный в «Альберте»), Толстой посылает его И. С. Аксакову под видом произведения некоей Н. П. Охотницкой. Аксаков, не подозревая мистификации, отвечает, что для первого литературного опыта слог автора не дурен, но что смысл этой вещи загадочен для публики и может быть вполне понятен только самому автору. Сам не зная того, Аксаков дал понять Толстому, что он занялся слишком домашней, слишком интимной литературой.
Естественно, что наряду с дневником Толстой обращается и к эпистолярному жанру, как к жанру наиболее домашнему. Идет длительная и очень интересная в стилистическом отношении переписка с сестрой С. А. Толстой, Татьяной Андреевной. Здесь заготовляются те формы речи, которые потом будут использованы в семейных сценах «Войны и мира». Среди этих писем есть одно, стоящее как бы на границе литературы — письмо о превращении жены в фарфоровую куклу, посланное Т. А. Кузминской 23 марта 1863 г.[481] В этом письме использована домашняя семантика, понятная только для самых близких, — пожалуй, как и «Сон», только для самого автора. Весь сюжет письма построен на реализованной метафоре «женщина-кукла»; в этом смысле оно соотносится с метафорической основой «Холсто- мера». В дневниках Толстого и его жены есть материал, помогающий понять это письмо.
Первые месяцы замужества и жизни в деревне были для Софьи Андреевны очень тяжелы. Московская избалованная барышня, привыкшая к веселой и шумной жизни, попадает в деревню, в непривычную и неприятную обстановку. Выходя замуж за графа и известного писателя, она ожидала совсем другого. Никакой роскоши, ничего «графского» в тогдашней яснополянской жизни и обстановке не оказалось. Муж поглощен хозяйством и мужиками, а ей нечего делать, потому что она не умеет и не любит этих занятий. Она тоскует — ей кажется, что муж ее уже не любит, что это было минутное увлечение, которое уже прошло: «Мамаша милая, Таня, какие они славные, зачем я их оставила», — записывает она в дневнике. Ее дневник 1862 г. наполнен жалобами, которые иногда сменяются протестом, причем главная тема этих жалоб и протестов — безделье, отсутствие интереса к тому, чем занят муж, и его недовольство ее поведением: «Дело найти не трудно, его много, но надо прежде увлечься этими мелочными делами, а потом разводить кур, бренчать на фортепьяно, читать много глупостей и очень мало хороших вещей и солить огурцы. Все это придет, я знаю, когда я забуду свою девичью, праздную жизнь и сживусь с деревнею». Толстой, автор «Семейного счастия» и поклонник Прудона, много думавший о семейной жизни и давно определивший для себя ее стиль, хочет осуществить свои мечты и свою теорию на деле, но «героиня» сопротивляется и негодует: «Одна, это ужасно. Я не привыкла... Я привыкла к шумной жизни, а тут тишина, тишина мертвая... Он мне гадок с своим народом... если я его не занимаю, если я кукла, если я только жена, а не человек, так я жить так не могу и не хочу. Конечно, я бездельная, да я не по природе такая, а еще не знаю, главное не убедилась, в чем и где дело. Он нетерпелив и злится». Из этой записи видно, что слова «кукла» и «бездельная» — выражения Толстого, которыми он в минуты раздражения называл жену. Семейная жизнь налаживается с трудом: Толстой ведет себя как педагог, а его строптивая ученица совсем не желает проходить курс семейной жизни по его системе. В конце 1862 г. они приезжают в Москву — и Толстой записывает в дневнике (27 декабря): «Мыв Москве. Как всегда, я отдал дань нездоровьем и дурным расположением. Я очень был недоволен ей, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался, но знал, что это временно, и выжидал, и прошло. Было объяснение за "куклу", ей хотелось пощеголять своей простотой ко мне. Теперь мы пережили». Слово кукла взято Толстым в кавычки — как термин. Итак, дело доходило до того, что Толстой, через три месяца после свадьбы, «чуть не раскаивался» в том, что женился. Счастье было совсем не так безоблачно, как это может казаться по первым письмам.
К этой травме, развившейся на основе разных привычек и взглядов (травме, так сказать, социально-психологического порядка), присоединилась травма другого рода, еще более тяжелая. Читая старые дневники Толстого, Софья Андреевна узнала о прежней связи его с яснополянской крестьянкой Аксиньей Аникановой, продолжавшей жить в Ясной Поляне и прислуживавшей в доме. 16 декабря 1862 г. в дневнике С. А. записано: «Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности. "Влюблен как никогда!" И просто баба толстая, белая, ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар — легко. Пока нет ребенка. И она тут, в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая. Еду кататься. Могу ее сейчас же увидать. Так вот как он любил ее. Хоть бы сжечь журнал его и все его прошедшее». Это новая травма (порядка сексуального), соединившись с первой, создала, по всем правилам фрейдизма, страшный сон, записанный в дневнике С. А. 14 января 1863 г.: «Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходили откуда-то одна за другой, последняя вышла А. в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребенка и стала рвать его на клочки. И ноги и голову — все оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Левочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, это кукла. Я посмотрела, и в самом деле: вместо тела все хлопки и лайка. И так мне досадно стало». Слово «кукла» обернулось во сне своим первичным, основным, неметафорическим значением: произошла, как это бывает во сне, своего рода «реализация метафоры», которая создала сюжет сна.
Возможно, что в слове «кукла», как его употреблял Толстой, было вообще два смысла: один — «бездельная барышня», которая не хочет и не умеет заниматься хозяйством; другой смысл — холодность, отсутствие сексуального темперамента. Во всяком случае слово «кукла», очевидно, было в супружеской жизни молодых Толстых очень знаменательным: оно употреблялось и в шутку и всерьез. В этой связи сцена между Наташей и Борисом в цветочной дома Ростовых («Война и мир») приобретает некоторый дополнительный и интимный смысл: «— Поцелуйте куклу, — сказала она... — Не хотите? Ну, так идите сюда, — сказала она и глубже ушла в цветы и бросила куклу. — Ближе, ближе! — шептала она... — А меня хотите поцеловать? — прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волненья». Кукла фигурирует здесь как элемент эротического действа. Наташа — это Таня, сестра Софьи Андреевны, а об этой Тане записано в дневнике Толстого от 30 декабря 1862 г.: «Таня чувственность». И рядом с этими словами — фраза: «Соня трогает боязнью».
Вся эта сложная семейная и супружеская травма угрожала тому самому «счастью», о котором так заботился поссорившийся с современностью Толстой. 15 января 1863 г. (т. е. на другой день после страшного сна) он делает в дневнике запись, предназначенную для утешения Софьи Андреевны: «Каждый такой раздор, как ни ничтожен, есть надрез любви. Минутное чувство увлеченья, досады, самолюбия, гордости — пройдет, а хоть маленький надрез останется навсегда и в лучшем, что есть на свете, в любви. Я это буду знать и беречь наше счастье, и ты это знаешь». Отныне все усилия Толстого направлены к преодолению травмы и к восстановлению счастья. Ведь эта ставка на «счастье», на «домашность» — последнее, что осталось у Толстого; это не только способ самозащиты от современности, но и принцип, явившийся результатом борьбы с нею. Вне этого счастья Толстому некуда податься. 1 марта 1863 г. он записывает в дневнике: «Мы недавно почувствовали, что страшно наше счастье. Смерть и все кончено. Неужели кончено? Бог. Мы молились. Мне хотелось чувствовать, что счастье это не случай, а мое». 24 марта 1863 г. (т. е. на другой день после письма о фарфоровой кукле) Толстой записывает: «Я ее все больше и больше люблю. Нынче 6-й месяц, а я испытываю давно не испытанное чувство уничтожения перед ней. Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею, потому что не смею, чувствую себя недостойным». Отсюда, из этого чувства, явилось, вероятно, слово «фарфоровая».
Итак, письмо о превращении жены в фарфоровую куклу надо, по-видимому, понимать как борьбу с травмой, как опыт ликвидации ее при помощи литературной шутки: обидный термин использован в качестве шуточной метафоры. Письмо это, конечно, было написано для Софьи Андреевны — как договор о мире, как отказ от всех упреков и обид, как признание ее «чистоты» и «цельности», перед которыми он чувствует себя недостойным. Оно могло быть понятно только ей, но и она сделала вид, что не понимает его и, отсылая его сестре, написала: «Он выдумал, что я фарфоровая, такой поганец! А что это значит — бог знает. Что ты думаешь о его сумасшедшем письме? Очень любопытно бы знать поскорей».
У Берсов письмо это было понято как литературное произведение. Отец Софьи Андреевны ответил рецензией: «Твой Лева написал такую фантастическую штуку Тане, что и немцу в голову не придет. Удивительно, как плодовито у него воображение и в каких иногда в странных формах оно разыгрывается. Умел же он о превращении женщины в фарфоровую куклу написать 8 страниц. Он напоминает мне Овида, известного римского писателя, который был, пожалуй, плодовитее твоего мужа, потому что написал целую книгу, которая переведена на французский и немецкий языки, "Les metamorphoses d'О vide". Он превратил даже в нарцис юношу-красавца». Домашний жанр, не признанный Аксаковым, был признан и оценен тестем, нашедшим для него даже традицию в древности. Толстому грозила участь стать писателем даже не «для немногих», а только для родственников — для Берсов.
Вся эта сугубая домашность, и семейная и хозяйственная, была, в значительной степени, результатом социального надрыва — вызовом эпохе. Продолжаться долго она именно поэтому не могла. В борьбе с современностью Толстой повернул сначала слишком круто — замкнувшись в Ясной Поляне, засучив рукава и занявшись «юхванством». 11 апреля 1863 г. записано: «Мы во всем разгаре хозяйства». Прошло около двух месяцев без записей в дневнике; 2 июня появляется запись, в которой осуждаются заботы о «пошлом благосостоянии» и которая кончается словами: «Читаю Гёте, и роятся мысли». В следующей записи (от 18 июня) хозяйственный и семейный пафос подвергнут уже решительному осуждению: «Я в запое хозяйства и погубил невозвратимые 9 месяцев, которые могли быть лучшими, а которые я сделал чуть ли не из худших в жизни... Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с матерьяльными условиями — жена, дети, здоровье, богатство. Юродивый прав». Здесь слово «счастье» имеет уже новое значение. Дневник становится нервным, почти неврастеничным; некоторые записи, свидетельствующие о полном отчаянии и разладе, кончаются словами: «Господи помилуй и помоги мне».
Так, борясь между идеалами приобретателя и юродивого, Толстой доживает до осени 1863 г. Последняя запись этого года (от 6 октября) намечает некоторый исход из мучительного состояния: семейная травма кое-как преодолена — остается преодолеть или пересилить травму социальную, историческую: «Все это прошло, и все неправда. Я ею счастлив; но я собой недоволен страшно. Я качусь, качусь под гору смерти, а хочу и люблю бессмертие. Выбирать незачем. Выбор давно сделан. Литература — искусство, педагогика и семья». Запись, сделанная почти через год после этой (в промежутке записей нет), подтверждает это новое положение: «Скоро год, как я не писал в эту книгу. И год хороший. Отношения наши с Соней утвердились, упрочились... Я начал с тех пор роман... Педагогические интересы ушли далеко».
Роман, о котором здесь упоминается, — «Война и мир» (это название явилось позже); с работы над ним начинается новый писательский период Толстого. После «Казаков» и «Поликушки» имя Толстого отсутствовало в литературе целых два года. Возвращение совершается медленно и трудно. После неудач с «Холстомером» и «Зараженным семейством» Толстой берется за большой военно-семейный роман. Но еще до окончательного приступа к этому роману он пробует осуществить свой старый замысел — написать повесть о декабристах.
Часть третья
«ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ»
1
Вся работа Толстого, относящаяся к 1862-1863 гг., так или иначе восходит к 1856—1857 гг., т. е. к тому моменту подъема, после которого начался отход от литературы, связанный с событиями тех лет. «Альберт», «Люцерн» и «Семейное счастье» возникли в обстановке политической и литературной смуты; затем последовало решение оставить литературу и взяться за народное образование. Так прошли годы 1859—1862. Теперь, как бы возобновляя прерванное движение, Толстой возвращается к 1856 г. «Перебирание бумаг» привело Толстого к новой обработке лирического отрывка «Сон» и к писанию «Мерина» («История лошади» 1856 г. — будущий «Холстомер»). «Зараженное семейство» восходит к комедиям, задуманным и начатым тоже в 1856-1857 гг.; тогда же, по свидетельству самого Толстого, была начата повесть о декабристе: «В 1856 году я начал писать повесть [сначала было написано слово "роман"] с известным направлением и героем, которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию».
Биографы относятся к этой дате с некоторым недоверием, ссылаясь на отсутствие рукописей и записей в дневнике. Но известно, что далеко не все рукописи того времени (особенно черновые) сохранились, а дневники писались с перерывами и в очень сжатой форме — не для будущих биографов. Между тем есть признаки, подтверждающие именно эту дату и устанавливающие связь «Декабристов» и «Войны и мира» с повестью «Два гусара». Еще в первой книге я указывал на то, что повесть эта, и в частности — ее интродукция, подготовляет переход к большой форме — и именно к историческому роману. Но этого мало: интродукция эта, написанная в форме постепенно развертывающегося грандиозного периода («В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных ни шоссейных дорог» и т. д.), заканчивается неожиданным по незначительности выводом («в губернском городе К. был съезд помещиков и кончились дворянские выборы») и по тону своему не имеет почти никакой связи с тоном и сюжетом самой повести. Она написана как вступление к большой исторической повести или роману, в котором будут иметь значение перебираемые в ней бытовые и общественные детали, характеризующие начало XIX века. На самом деле интродукция эта остается немотивированной и кажется искусственно пришитой к повести. Является естественное подозрение, что она представляет собой остаток от другого, неосуществленного тогда, произведения. В работе Толстого можно часто наблюдать возникновение отдельных кусков, которые ищут себе места и иногда монтируются с текстом какой-нибудь вещи, а иногда остаются без употребления.
Я думаю, что интродукция «Двух гусаров» — след первоначальной работы над «Декабристами», нашедший себе пристанище в другой вещи. Эта догадка подтверждается тем, что первая глава «Декабристов» 1863 г. начинается той же формой периода, только более развернутой: «Это было недавно, в царствование Александра II, в наше время, — время цивилизации, прогресса, вопросов, возрождения России и т. д., и т. д.; в то время, когда победоносное русское войско... Это было в то время, когда Россия в лице дальновидных девственниц-политиков... в то время, когда со всех сторон» и т. д. Если здесь, в связи с изменением эпохи, о которой говорится, изменился материал, то догадка подкрепляется тем, что одна из ранних редакций «Войны и мира», возвращающая к началу XIX века, возвращается не только к форме интродукции «Двух гусар», но и к ее материалу, буквально повторяя некоторые детали: «Пишу о том времени, которое еще цепью воспоминаний связано с нашим, о времени, когда матери наши в робах с короткими талиями при свете восковых и спермацетовых свеч танцовали матрадуры и менуэты» и т. д. (ср. в «Двух гусарах»: «на балах вставлялись восковые и спермацетовые свечи... наши матери носили коротенькие талии»).
Еще одно подтверждение: прототипом гусара-отца считают «американца» Ф. И. Толстого; во второй главе «Декабристов» есть одно второстепенное лицо, восходящее, по-видимому, к этому самому «американцу». Пахтин после обеда торопится:«— Куда ты, Пахтин? — сказал министерский сын, заметив между игрой, что Пахтин привстал, одернул жилет и большим глотком допил шампанское. — Се- верников просил, — сказал Пахтин, — чувствуя какое-то беспокойство в ногах, — что же, поедешь?.. "Анастасья, Анастасья, отворяй-ка ворота". Это была известная, в ходу цыганская песня. — Может быть. А ты? — Куда мне, женатому старику... Ну!.. Пахтин улыбаясь пошел в стеклянную залу к Северникову... — Что, как здоровье графини? спросил он, подходя к Северникову... Северников был немножко замешан в 14-х числах и приятель со всеми декабристами. Здоровье графини было гораздо лучше, и Пахтин был очень рад этому. — А вы не знаете, Лабазов приехал нынче, у Шевалье остановился. — Что вы говорите! Ведь мы старые приятели. Как я рад! Как я рад! Постарел, я думаю, бедняга? Его жена писала моей жене... Но Северников недосказал, что она писала, потому что его партнеры, разыгрывавшие бескозырную, сделала что-то не так. Говоря с Иваном Павловичем, он все косился на них, но теперь вдруг бросился всем туловищем на стол, и стуча по нем руками, доказал, что надо было играть с семерки». Цыганы, карты и темперамент, с которым играет Северников, напоминают Турбина-отца, т. е. графа Ф. И. Толстого; упоминание о графине свидетельствует о том, что Северников — граф; наконец фамилия Северников образована, вероятно, от прозвища «американец», т. е. от «Северной Америки» («вернулся алеутом», как выразился о Толстом Грибоедов). О дружбе «американца» с декабристами Толстой говорил А. Б. Гольденвейзеру: «он был либерал, дружен с декабристами». Что Ф. Толстой умер в 1846 г., а действие «Декабристов» происходит в 1856 г., не противоречат догадке: Толстой использовал его как типичную и интересную фигуру. Такого рода сознательные анахронизмы характерны для Толстого[482].
Итак, можно считать почти несомненным, что «Декабристы», из которых потом развернулся роман «Война и мир», связаны с «Двумя гусарами» и что интродукция к этой повести есть остаток от первоначальных набросков повести о декабристе, начатой в 1856 г. Возвращение к замыслу повести о декабристе относится к концу 1862 г. Рождество 1862 г. Толстой проводил в Москве и, как вспоминает Т. А. Кузминская, он «посещал библиотеки, отыскивая разные мемуары и романы, где бы говорилось о декабристах. Он идеализировал их и вообще любил эту эпоху». По словам той же Кузминской, жена Толстого, в ответ на вопрос матери, помогает ли она мужу в школе, ответила: «Вначале да, у нас был съезд учителей, для обсуждения школьных вопросов; иные учителя, как мне казалось, отнеслись ко мне враждебно, чувствуя, что Лев Николаевич уже не принадлежит им всецело, и многие даже совсем уехали. Да правду сказать, Левочка за последнее время совсем охладел к школе. Его тянет к другой работе. Он хочет писать 2-ую часть "Казаков", но, кажется, и это бросит. Задуманный роман о декабристах поглотил его всецело». Самое писание романа началось, по-видимому, летом 1863 г. — после того, как в печати прошли все основные отзывы о «Казаках». Если вспомнить слова С. А. Толстой в письме к сестре — о том, что от успеха «Казаков» зависит, будет ли Толстой продолжать вторую часть, то надо думать, что появившиеся отзывы должны были окончательно решить вопрос: о продолжении «Казаков» нечего было и думать. Надо было браться за другое и начинать новую борьбу с противником.
Статья «Современника», объявлявшая художественное поприще таких писателей, как Толстой, конченным, вынуждала к ответу. Выбирать можно было одно из двух: либо роман на современном материале и, тем самым, резко публицистический, совершенно злободневный (так поступил Тургенев, а затем Писемский, Лесков и др.), либо роман исторический, со скрытым противопоставлением современности — и как ответ на нее, и как метод борьбы за существование беллетристики. В «Декабристах» Толстой намерен был, по-видимому, соединить обе эти возможности. Современность должна была быть проведена через восприятие человека другой эпохи — декабриста, вернувшегося из Сибири в 1856 г. Две эпохи должны были встретиться лицом к лицу. Иначе говоря, должно было получиться нечто подобное «Двум гусарам» — с той разницей, что вместо параллелизма здесь должно было быть скрещение обеих эпох. Возможно, что даже тема «отец и сын» должна была повториться здесь — сыну декабриста, вероятно, предстояла в этом романе не последняя роль.
По содержанию написанных в 1863 г. трех глав можно думать, что основой романа должны были служить не столько политические или общественные, сколько нравственные идеи. Состарившийся декабрист больше думает о семье, чем о политике. Он совсем не герой, а наивный, несколько чудаковатый старец, в котором трудно узнать бывшего заговорщика. Есть основание думать, что такой замысел романа о декабристах явился у Толстого как противопоставление «легенде», созданной статьями Герцена. В 50-х годах, когда Толстой еще печатался в «Современнике» и ездил за границу, многие считали его наклонным к либерализму и предсказывали ему судьбу Герцена. 7 октября А. А. Толстая пишет ему: «На днях зашел разговор об вас; кто-то сказал, что вы, вероятно, со временем сделаетесь вторым изданием Искандера. Ох, как это меня задело за живое... Докажите им, милый друг, что ваша цель и пряма, и свята, и чиста; а мне скажите успокоительное слово насчет Искандера. Надеюсь, что вы ему не сочувствуете». На поставленный прямо вопрос Толстой ничего не ответил, а писал в общей форме: «Мне смешно вспомнить, как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя, бабушка». Дальнейшая деятельность Толстого (его работа в школе, новая поездка за границу, где свидания с Герценом, Прудоном и пр.) могла только укрепить в представлении враждебно настроенных против Толстого дворян ассоциацию его имени с именем Герцена. Оттенки не принимались во внимание — достаточно было того, что Толстой нигде не служит, устраивает школы для крестьянских детей и т. д. Третье отделение следит за Толстым и в 1862 г. дает о нем справку, в которой сказано, что он «весьма замечателен в своих либеральных направлениях, очень усердно занимается распространением грамотности между крестьянами», а затем сообщает, что в Ясную Поляну привезены из Москвы «литографические камни со шрифтом и какие-то краски». Дело кончилось обыском в отсутствии Толстого, уехавшего в Самарскую губернию. Возмущенный этим, Толстой сообщает в письме к г. А. А. Толстой, что он решил «экспатриироваться» и прибавляет: «К Герцену я не поеду; Герцен сам по себе, я сам по себе». Эти характерные слова могли бы стоять эпиграфом к задуманному роману о декабристах.
Еще А. Амфитеатров, в своей книге о 1812 г., совершенно верно отметил разницу между отношением Герцена и Толстого к декабристам. У Герцена — «героическая, полная романтизма легенда»: «Декабристы у Герцена, как позднее жены декабристов у Некрасова, — вдохновенно задуманные и красиво исполненные статуи, полные симпатично-романтического настроения; это — герои шиллеровских драм, т. е. скорее идеи в действии, чем живые люди в плоти и крови»[483]. Толстой делает своей темой как раз «плоть и кровь». Как бы возражая Герцену и снимая романтический ореол с декабристов, он нарочно заявляет: «Как бы мне ни хотелось представить моим читателям декабрьского героя выше всех слабостей, ради истины должен признаться, что Петр Иваныч особенно тщательно брился, чесался и смотрелся в зеркало»3. Хотя в разговоре с Пахтиным он и толкует о том, что произошли огромные перемены, что крестьянин стал выше, что в нем стало больше сознания достоинства, но толстовский комментарий — «говорил он, как бы про- твержая старые фразы» — показывает, что слова эти не имеют значения. Иронически звучат и дальнейшие слова Толстого: «Петр Иваныч развил с свойственным ему жаром свои более или менее оригинальные мысли насчет многих важных предметов». Тон, которым описан весь разговор с Пахтиным, показывает, что старик-декабрист вовсе не «самый передовой человек», каким хочет его объявить Пахтин, и что ему не быть «главой всех партий». В дальнейшем Москве, очевидно, предстояло разочароваться в новом герое, а роману строиться на противопоставлении старого декабриста окружающей его шумной и бестолковой современности, с ее «цивилизацией, прогрессом, вопросами, возрождением России» и пр.
Вступление в роман в этом смысле очень характерно. Оно написано как публицистический фельетон, как памфлет на современность. Здесь Толстой следует за журнальным, «обличительным» стилем своей эпохи. Ирония его направлена во все стороны, что и характерно для Толстого 60-х годов — воинствующего архаиста, возражающего против современности в целом. Он говорит с иронией и о прогрессе, и о победоносном русском войске, которое возвращалось из сданного неприятелю Севастополя, и о России, которая торжествовала уничтожение черноморского флота, и о «белокаменной Москве», которая поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажей, и наконец — о себе самом: «Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из деятелей этого времени. Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне сочинение, приобретшее ему всемирную славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки прибыл в центр государства, в ракетное заведение, где и пожал лавры своих подвигов. Он видел восторг обеих столиц и всего народа и на себе испытал, как Россия умеет вознаграждать истинные заслуги. Сильные мира сего все искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе и для того, чтобы узнать от него подробности войны, рассказывали ему свои чувствования. Поэтому пишущий эти строки может оценить то великое, незабвенное время». С такой же иронией Толстой говорит о литературе: «когда появились плеяды писателей, мыслителей, доказывавших, что наука бывает народна и не бывает народна и бывает ненародная и т. д., и плеяда писателей, художников, описывающих рощу и восход солнца, и грозу, и любовь русской девицы, и лень одного чиновника, и дурное поведение многих чиновников». Здесь видна связь с журнальным стилем эпохи и со статьями самого Толстого. Одно место вступления явно ассоциируется со статьей «Прогресс и определение образования» — именно то, где говорится о распространении журналов: «журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским миросозерца-
1 Ср. в «Воспоминаниях» Н. А. Белоголового (М., 1898. С. 37): «Я нашел его [С. Г. Волконского] хотя белым, как лунь, но бодрым, оживленным и притом таким нарядным и франтоватым, каким я его никогда не видывал в Иркутске; его длинные серебристые волоса были тщательно причесаны, его такая же серебристая борода подстрижена и заметно выхолена, и все его лицо с тонкими чертами и изрезанное морщинами делали из него такого изящного, картинно-красивого старика, что нельзя было пройти мимо него, не залюбовавшись этой библейской красотой».
нием, и журналы исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским миросозерцанием» и т. д. По поводу этой первой главы Амфитеатров пишет: «Нет никакого сомнения, что если бы начальная глава "Декабристов" появилась в печати, когда была писана, а не четверть века спустя, она вызвала бы сильную и неприятную для Толстого бурю — не за декабриста только, конечно, но за весь свой сатирический и "реакционный" тон. Перечитав эту главу, я нарочно снял с книжной полки для сравнения "Взбаламученное море" Писемского, наиболее обруганный прессою шестидесятых годов роман-памфлет того времени. Отрицательный тон грубоватого и неглубокого, но незлобного ворчуна Писемского показался мне детским лепетом сравнительно с отрицательным замыслом и первым приступом к нему глубочайшего скептика — Толстого».
Написанные в 1863 г. главы построены на контрасте между шумной, клубной Москвой 50-х годов, с ее золотой молодежью и важными старичками, с ее сплетнями и последними новостями, и семьей декабриста, в которой главенствует мать — Наталья Николаевна, подробно и благоговейно описанная в первой же главе: «Географически все они были перенесены за 5000 верст в совсем другую, чуждую среду, но нравственно они этот вечер еще были дома, теми же самыми, какими сделала их особенная, долгая, уединенная жизнь». По некоторым намекам можно думать, что в дальнейшем это положение должно было измениться — декабристу, по-видимому, предстояла какая-то деятельность. Наталья Николаевна, сопоставляя отца с сыном, говорит: «тебе все еще 16 лет, Пьер. Сережа моложе чувствами, но душой ты моложе его. Что он сделает, я могу предвидеть, но ты еще можешь удивить меня». Но совершенно несомненно, что эта будущая деятельность должна была пойти вразрез с современностью и против надежд Пахтина. Эпоха 20-х годов, в лице старого декабриста, должна была в дальнейшем тексте противопоставить себя эпохе 50-х годов — так же, как это было сделано в «Двух гусарах». Можно сказать с уверенностью, что старый декабрист-дворянин, умудренный своим прошлым, задуман был как контраст «новым людям», не знающим другой религии, кроме религии прогресса, и никаких других законов, кроме законов истории.
По разным признакам видно, что фигура Петра Ивановича Лабазова писалась Толстым главным образом с декабриста Сергея Григорьевича Волконского. С Волконским Толстой, по его собственным словам, познакомился еще в Италии (во Флоренции) —т. е. в конце 1860 или в начале 1861 г.: «Его наружность с длинными седыми волосами была совсем как у ветхозаветного пророка... Это был удивительный старик, цвет петербургской аристократии, родовитой и придворной. И вот в Сибири, уже после каторги, когда у его жены было нечто вроде салона, он работал с мужиками, и в его комнате валялись всякие принадлежности крестьянской работы»[484]. Если происхождение фамилии Лабазов остается неясным, то девическая фамилия Натальи Николаевны, Крымская, явно образована из фамилии жены Волконского — Марьи Николаевны Раевской (рай — крин). Это подтверждается и биографическими деталями, которые сообщает Толстой: «Она поехала за мужем в Сибирь только потому, что она его любила».
Замысел романа именно о вернувшемся декабристе и выбор в качестве основного прототипа именно Волконского подтверждают уже не раз отмеченную связь Толстого этих лет со славянофилами. Дело в том, что среди славянофилов личность Волконского пользовалась особенным уважением. В некрологе о нем (1865 г.)
И. Аксаков писал: «После блестящей юности, после быстрых успехов в служебной карьере, после тридцатилетнего искупления вины, пересекшей его жизнь в самой половине, возвратился он, в 1856 году, в Москву — маститым старцем, умудренным и примиренным, полным горячего, радостного сочувствия к реформам нынешнего царствования, преимущественно к крестьянскому делу, полным незыблемой веры в Россию и любви к ней, и высокой внутренней простоты. Вообще можно сказать, что как в Волконском, так и в тех немногих его товарищах, которым удалось воспользоваться милостью ныне царствующего государя, — мы были поражены отсутствием всякого раздражения, всякого желания порисоваться и покрасоваться своим прошлым; напротив, искушенные горем и чрез горе приведенные к богу, судя беспристрастно и строго самих себя и свое прошлое, они разливали около себя теплый свет христианской любви, сдерживали и умиротворяли живым примером своего внешнего и внутреннего духовного опыта легкомыслие и буйство встречавшейся с ними в обществе молодежи»[485]. В этой характеристике есть резкое сходство с фигурой JIабазова, как она набросана Толстым в первых главах романа. Особое ударение, которое делает Аксаков, отмечая радостное сочувствие Волконского к крестьянскому делу, сохранено и у Толстого: «А я должен сказать, что народ более всего меня занимает и занимал. Я того мнения, что сила России не в нас, а в народе», — говорит Лабазов Пахтину. Любопытно, что вслед за этими словами идет речь об Аксаковых («Аксатовы» у Толстого) — естественная и характерная ассоциация, подтверждающая догадку о связи между фигурой Лабазова и отношением Аксакова к Волконскому. Пахтин говорит: «Вам непременно надо познакомиться с Акса- товыми: вы позволите мне их представить вам, князь? Вы знаете, ему разрешили теперь его издание, — говорят, завтра выйдет первый нумер» и т. д. Отношение к восстанию декабристов как к вине, которая искуплена тридцатилетней ссылкой, просвечивает и у Толстого; в черновом предисловии он говорит: «Невольно от настоящего я перешел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя».
Близость Толстого этой поры к славянофилам и особенно к И. Аксакову, и даже некоторое участие Аксакова в работе Толстого над «Декабристами», доказывается и другими фактами. Сохранилось письмо Аксакова к Ю. Самарину (12/13 июля 1862 г.), обнаруживающее любопытный и характерный факт; когда Аксакову было запрещено состоять официальным редактором газеты «День», Толстой через Самарина предложил ему свои услуги: «Льва Толстого [пишет Аксаков] очень благодарю, но разумеется, согласиться на его предложение не могу. Я могу передать или человеку, принадлежащему к одному со мной лагерю, или же лицу совершенно бесцветному, ничтожному в литературе. У меня в запасе есть еще Василий Елагин»[486]. Работа над «Декабристами» тоже связана с именем Аксакова. Т. А. Кузминская вспоминает, что на рождестве 1862/63 г. Толстой один из вечеров провел у Аксакова и вернулся домой очень поздно; встревоженной этим жене он рассказывал: «Я был у Аксакова, где встретил декабриста Завалишина; он так заинтересовал меня, что я не заметил, как прошло время». Это подтверждается и письмом Толстого к жене, написанным в декабре 1864 г.: «сейчас я был у Аксакова, который, помнишь, стоил тебе столько слез и мне такого раскаянья». Сомнительно в сообщении Т. А. Кузминской только то, что Толстой будто бы в 1862 г. встретил у Аксакова Д. И. Завалишина; Завалишин приехал из Сибири в Москву только осенью 1863 г. Ошибка Кузминской может быть объяснена тем, что в 1862 г. Завалишин вел деятельную переписку с Аксаковым и сотрудничал в московской прессе (в том числе — в аксаковском «Дне»). Надо полагать, что в это свидание Аксаков рассказывал Толстому о Завалишине и рекомендовал воспользоваться этой фигурой при написании романа. Толстой, видимо, заинтересовался Завалишиным; познакомившись с ним (может быть, в следующий же приезд в Москву — в декабре 1863 г.), Толстой предлагал ему издать на свой счет его «Записки», считая их «самыми важными из записок декабристов».
Если для Толстого характерен выбор Волконского, то интерес, проявленный им к Завалишину, характерен еще более и заслуживает внимания как дополнительный комментарий к роману о декабристах. Дело в том, что Д. И. Завалишин из всех декабристов наименее типичный — декабрист по случайности, со стороны. М. И. Семевский, вспоминая в своих автобиографических заметках о Завалишине, говорит, что декабристы всегда «чурались» его и «утверждали, что он к их семье никогда не принадлежал», что он, арестованный позже по доносу, увлекся своим непомерным самолюбием и «постепенно додумался сделать из себя крупного политического человека»[487]. Действительно, с Рылеевым и с членами Северного общества Завалишин, по его собственным словам, познакомился только в январе 1825 г. (по инициативе Н. С. Мордвинова) и сразу почувствовал себя не подходящим к этой среде человеком. Он носился тогда с идеей восстановления истинной веры, нравственного преобразования людей путем организации особого общества (не тайного) под названием Чина или Ордена вселенского восстановления; он был занят открытием абсолютных начал и непоколебимых оснований для борьбы со злом, установлением единого общего, высшего закона, на подчинении которому должно строиться человеческое общество, — иначе говоря, он был своего рода «толстовцем» до Толстого.
Фанатик и самоучка, Завалишин занимался всеми науками, от астрономии до филологии включительно, и считал себя глубоким мыслителем. Описывая свое свидание с Завалишиным (1881 г.), М. Семевский вспоминает: «Он принял меня очень радушно и торопливо стал показывать свой объемистый бумажный хлам. Чего, чего тут только не было: и история Сибири чуть ли не за пятьдесят лет, и громадный фолиант библии еврейской, на полях покрытый заметками; только впоследствии я догадался, что этот фолиант он хранит и показывает всем как бы доказательство своего знания древнееврейского языка, который будто бы изучил в Петровском остроге. Поразило меня также и то обстоятельство, что старик тщательно хранит повестки во всевозможные благотворительные и другие общества города Москвы и, показывая эти повестки, объяснял мне, опираясь на эти доказательства, что эти общества чуть не все им либо основаны, либо только и держатся его советами и личной деятельностью».
На М. Семевского Завалишин произвел впечатление почти выжившего из ума чудака; в 20-х годах он считался оригинальным мыслителем, имеющим глубокие познания и еще более глубокие идеи. Таким мыслителем Завалишин и вступил в круг декабристов; он сам рассказывает, что Мордвинов, рекомендуя его Рылееву, сказал: «В его идеях заключается великая будущность, а может быть, и вся будущность». Очень скоро выяснилось, что между идеями Завалишина и планами декабристов нет почти ничего общего; Завалишин признается, что они «вовсе не заботились о высших началах и о последовательности, а делали все свои построения на началах второстепенных, не разбирая, к правильным или неправильным выводам они могут привести и логичны их действия или нет». Приглашение Завалишина было явной ошибкой, но исправить ее было уже невозможно: «Желая скорее заручиться моим содействием, они [декабристы] мне сразу все открыли и тем поставили некоторым образом в безвыходное положение. И продолжать независимое действие и соблюдать нейтралитет между правительством и тайными обществами казалось равно невозможным. Оставалось исследовать, на которой стороне, по крайней мере, была относительная справедливость и который путь представлял более вероятности для улучшения положения народа».
Таким образом, присоединение Завалишина к декабристам оказалось почти вынужденным — он попал в своего рода ловушку и склонен был даже думать, что это сделано сознательно: «Кто из них был чист и искренен в своих побуждениях и кто нет, могло сказаться только впоследствии, а между тем необходимо было немедленно решаться, так как самая их непрошенная а может быть умышленно рассчитанная откровенность поставила меня в безвыходное положение... меня, которому всё сразу открыли, одно уж это знание делало прямым соучастником, если не открою сейчас же всего узнанного правительству, а это уже потому являлось немыслимым, что, ознакомясь близко с побуждениями и действиями правительственной стороны, я убедился уже, что в ней нет ни искренности, ни правоты, и действовать против противной ей стороны значило бы допускать усиливаться еще более признанному злу». Завалишин сам приводит слова, которыми Рылеев старался убедить его в том, что он должен примкнуть к ним: «— Мы смело можем действовать против вас, — говорил мне Рылеев, — не боясь содействовать противной стороне, так как ваши действия не ослабляют в ближайшее время правительства, а имеют в виду улучшение его в отдаленном будущем, а вы не можете действовать против нас, потому что, ослабляя нас, вы будете тем самым усиливать зло деспотизма, а мы убеждены, что этого уж, конечно, вы и не хотите и не сделаете. Нейтралитета мы вам никак не допустим, мы говорим вам это прямо. Вы можете быть нам полезным союзником, и мы охотно примем вас в число главных деятелей, но, если вы не будете действовать с нами, мы будем действовать против вас и вынудим вас или отказаться от вашего действия, или выдать нас правительству, — а на это, нечего и говорить, вы никогда не решитесь». «Я уступил, — пишет далее Завалишин, — но коренные основы наши были слишком различны, и я был слишком искренен, чтобы слепо действовать, закрывая добровольно глаза на все»[488].
Если даже допустить, что в этом описании кое-что подсказано желанием оправдаться, то общее положение от этого не меняется. Завалишин был человеком совсем другого слоя и совсем других интересов; практические задачи декабристов были ему совершенно чужды и безразличны, а его оппозиция правительству Александра I имела совсем другие корни. Не случайно, что в 60-х годах Завалишин оказался сотрудником «Московских ведомостей», «Современной летописи» и завязал отношения с Аксаковым. Что касается Толстого, то ему личность и взгляды Завалишина должны были показаться не только интересными, но и родственными себе. На сходство их идеологий было уже указано в статье Ю. Г. Оксмана о Завалишине[489]. Стоит привести несколько цитат из его записок, чтобы убедиться в правильности этого наблюдения: «Только одна истинная вера может дать убеждение в необходимости и возможности безусловно побеждать зло добром, уму же это будет всегда непостижимо... Только одна истинная религия может установить безусловные обязанности, — все же человеческие доказательства не могут ничего измыслить, кроме относительного права, и тем давая ему власть противопоставлять, и самое зло, как право, злу, причиняемому противником, против всего, что, по его мнению, может казаться насилием и хитростью или обманом употреблять точно такое же насилие, хитрость и обман... Одно только христианство в первобытной чистоте начального своего развития не употребляло внешней силы, во всех же других исторических явлениях решениями как внешних, так и внутренних вопросов были сила и обман, будь то в виде войны и дипломатики или переворота и происков партий... Возрождение и благоустройство человеческих обществ может быть совершено только возрождением или пробуждением живых сил в них, а отнюдь не созданием каких-нибудь внешних форм... Но всякое живое начало, дух, может возродиться первоначально только в живой личности. Тут все дело в том, лишь бы зародилось живое начало в одном человеке, и тогда оно может наполнить собою и целые народы и целые эпохи)... Сущность народа, как живого организма, заключается во всей совокупности его сил, свойств и способностей; поэтому ни простонародье, ни образованный класс, взятые в отдельности, не могут быть почи-[490] относительно же так называемой образованности не надо забывать и того, что она часто принимает направление худшее еще, нежели необразованность простолюдина, в котором тогда и сохраняется поэтому более общей истины и силы, нежели в образованном классе». Естественно, что такой человек должен был заинтересовать Толстого — тем более, что ознакомление с ним шло через Аксакова. Весьма возможно, что фигура Лабазова должна была строиться из сочетания двух прототипов (как это часто делал Толстой — ср. Наташу Ростову, Долохова и др.): Волконского и Завалишина. Для начальной части романа (приезд в Москву и пр.) прототипом служил Волконский, а в дальнейшем, вероятно, предполагалось использовать фигуру Завалишина — как борца за «высшие начала» против «начал второстепенных». В таком случае и самая фамилия героя могла образоваться из обратного чтения и осмысления начальных букв Завалишина: лаваз — лабаз. Толстому важно было для себя сохранить какую-нибудь ассоциацию с подлинной фамилией (как это всегда у него), а метод перемены фамилий путем обратного чтения был тогда распространенным и известным, но в дворянской среде: так, из французской фамилии Suchard Николай I сочинил фамилию Драшусов, а фамилия Шубин превратилась у внебрачных потомков в фамилию Нибуш. В «Декабристах» Толстой не мог поступать так, как он поступил в «Войне и мире» (Волконский — Болконский, Трубецкой — Друбецкой, Безбородко — Безухов), потому что и Волконский и Завалишин были живы; надо было изменить фамилию так, чтобы для читателя она была совершенно непонятной, а для автора сохранила бы связь с подлинной фамилией и не звучала бы как совсем выдуманная. Это и достигнуто обратным чтением[491].
Представленный здесь материал и построенные на нем догадки достаточно уясняют происхождение замысла романа о декабристах и смысл набросков 1863 г. На очереди — вопрос, почему вместо этого романа получился роман о войне 1812 г., в котором декабристам не отведено никакого места. Еще И. Тургенев, прочитав 6-й том «Войны и мира» и, очевидно, не зная о прежнем замысле Толстого, удивлялся: «Как это он упустил из вида весь декабристский элемент, который такую роль играл в 20-х годах?» Сам Толстой в наброске предисловия к «Войне и миру» говорит, что он оставил начатое, потому что «невольно от настоящего [т. е. от 1856 г.] перешел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя», а затем «другой раз бросил начатое и стал писать о времени 1812 года». Это объяснение, сделанное post factum и предназначенное для публики, нельзя принимать за действительное и достаточное описание того процесса, который привел Толстого от «Декабристов» к «Войне и миру» — нельзя тем более, что нас интересует не психологическая сторона этого процесса, а его историко-литературный смысл: не столько то, почему Толстой перешел к 1812 г. (такие «les pourquoi» не приводят ни к каким результатам и не имеют научной ценности), сколько то, что это значит. Смысл этого процесса скрыт в слове «невольно». Нам опять приходится перейти к догадкам.
«Декабристы» были задуманы как роман публицистический, хотя и с обходом современности — т. е. с противопоставлением ей людей другой эпохи. Даже стилистически роман этот, как я указывал, соотносится с журнальным стилем начала 60-х годов. Но такая задача — публицистически противопоставить роман на современном материале, вместе с тем уводящий от современности в эпоху 20-х годов, требовала очень сложной конструкции. Каким образом ввести 1825 год? А без него — как же дать «декабристов»? Сюжетные построения тургеневского типа (с продолжительным отходом в прошлое героев) не могли соблазнять Толстого; простое сопоставление эпох, с хронологическим разрывом между ними, осуществленное в «Двух гусарах», не могло пригодиться для большой формы, в которой были задуманы «Декабристы». Таким образом, переход к 1825 г. диктовался самым положением вещей, но проблема конструкции и жанра этим не разрешалась. Переход этот должен был превратить роман в хронику; тем самым первоначальный замысел скрещения двух эпох, намеченный в наброске 1863 г., отпадал, а вместе с ним в значительной степени отпадал и публицистический элемент. Кроме того, при переходе к хронике, включающей в себя 1825 год, естественно было захватить и более раннюю эпоху, подготовившую появление декабристов — т. е. эпоху Отечественной войны. Был момент, когда наметился именно такой грандиозный план — план исторической хроники под названием «Три поры» (т. е. 1812, 1825 и 1856 гг.). П. Сергеенко утверждает со слов Толстого, что «Война и мир» была написана «как бы случайно, в виде вступления к "Декабристам"». Как бы то ни было, важно то, что постепенное расширение замысла и превращение романа, действие которого происходит в конце 50-х годов, в хронику должно было ослабить публицистический смысл и изменить первоначальную стилевую установку.
Между тем появившийся в 1863 г. в «Современнике» роман Чернышевского «Что делать?» и поднявшийся вокруг него шум должны были, наоборот, обострить публицистические настроения Толстого — тем более, что одна из главных проблем этого романа, проблема семьи и брака, была для Толстого центральной. С другой стороны, польские события 1863 г. разбудили в Толстом воспоминание о военных годах его жизни; как видно из письма к Фету, он собирался даже пойти в армию: «Не придется ли нам с вами и с Борисовым снимать опять меч с заржавленного гвоздя?» Это письмо относится к весне 1863 г., а осенью того же года (22 сентября) С. А. Толстая жалуется в дневнике: «Завтра год. Тогда надежды на счастие, теперь — на несчастия. До сих пор думала, что шутка; вижу, что почти правда. На войну. Что за странность? Взбалмошный нет, не верно, а просто непостоянный. Не знаю, вольно или невольно он старается всеми силами устроить жизнь так, чтобы я была совсем несчастна. Поставил в такое положение, что надо жить и постоянно думать, что вот не нынче, так завтра останешься с ребенком, да, пожалуй, еще не с одним, без мужа. Все у них шутка, минутная фантазия. Нынче женился, понравилось, родил детей, завтра захотелось на войну, бросил. Надо теперь желать смерти ребенка, потому что его я не переживу. Не верю я в эту любовь к отечеству, в этот enthousiasme в 35 лет. Разве дети не то же отечество, не те же русские? Их бросить, потому что весело скакать на лошади, любоваться, как красива война, и слушать, как летают пули. Я его начинаю меньше уважать за непостоянство и за малодушие». Эта запись (явно использованная в «Войне и мире» — ср. сцену Андрея с женой при Пьере) ценна тем, что в ней зафиксирована эмоциональная и эстетическая сторона военных увлечений Толстого, так ярко отразившаяся в романе: «весело скакать на лошади, любоваться, как красива война, слушать, как летают пули» — это знакомый нам по «Войне и миру» язык самого Толстого. Но к этому я еще вернусь, а сейчас важно установить, что к концу 1863 г. первоначальный синкретический замысел «Декабристов», вмещавший в себе и публицистику и историю, распался, по крайней мере, надвое: публицистический элемент, заново возбужденный романом Чернышевского, потребовал для себя особого жанра и особого языка, а история, соединившись с военными настроениями, привела Толстого к Отечественной войне, о которой, кстати, по случаю исполнившегося 50-летия (1862 г.), стали много говорить и писать. Таков, по-видимому, был процесс, «невольно» приведший Толстого, с одной стороны, к комедии «Зараженное семейство», с другой стороны — к роману-хронике «Война и мир».
2
Роман Чернышевского возбудил в среде «эстетических литераторов» (как выразился Чернышевский) сильнейшее негодование. Не говоря об идейной стороне, роман этот возмутил их своим языком и нравственным «цинизмом». Его сопоставляли и с лубочной литературой и с произведениями Баркова[492]. Фет пишет в «Воспоминаниях»: «Мы с Катковым не могли прийти в себя от недоумения и не знали только, чему удивляться более: циничной ли нелепости всего романа или явному сообщничеству существующей цензуры с проповедью двоеженства, фальшивых паспортов, преднамеренной проповеди атеизма и анархизма» и т. д. Уже в августе 1863 г. была готова статья Фета, предназначенная для «Русского вестника», но так и не появившаяся. В ноябре или декабре того же года Толстой принимается за пьесу, которая, как он писал сестре, задумана «в насмешку эманципации женщин и так называемых нигилистов». Одно из черновых названий этой пьесы — «Новые люди» — обнаруживает прямую связь между ней и романом Чернышевского, который имел подзаголовок: «Из рассказов о новых людях».
Мысль написать комедию, и именно на семейно-общественную тему, соблазняла Толстого давно. Еще в феврале 1856 г. в дневниках, рядом с «Казаками» и «Юностью», упоминается комедия; одновременно с замыслом «Двух гусар», 12 марта 1856 г., записано: «План комедии томит меня». 10 июня 1856 г. в дневнике набросан даже краткий тематический план комедии, которую Толстой собирается писать одновременно с «Юностью», «Записками русского помещика» и «Казаками»: «для последней [т. е. для комедии] главная тема окружающий разврат в деревне. Барыня с лакеем. Брат с сестрой, незаконный сын отца с его женой et caet». Работа над «Юностью» заставила отложить в сторону комедию, но в октябре 1856 г. Толстой снова возвращается к ней: «Затеял было писать комедию. Может, возьмусь» (8 октября); «Прочел Bourgeois GentiPhomme и много думал о комедии из Олень- киной жизни. В двух действиях. Кажется может быть порядочно» (11 октября); «написал начало комедии» (15 октября). Работа над комедией, хотя и урывками, продолжается в ноябре; 28 декабря записано: «Все думал о комедии. Вздор». 12 января 1857 г., в программе того, что надо «писать не останавливаясь каждый день», на последнем месте стоит: «Комедия. Практический человек, Жорж-Зандовская женщина и Гамлет нашего века, вопиющий больной протест против всего; но бессилие». Это уже, очевидно, тема новой комедии. Параллельно с работой идет чтение комедий Мольера. Затем — поездка за границу. В Париже Толстой очень часто бывает в театре: по названиям пьес, упомянутых в дневнике, и по отзывам видно, что он особенно охотно смотрит именно комедии, фарсы, водевили и восторгается Мольером и Мариво; в других театрах он бывает редко, отзыв о Расине — уничтожающий: «Драма Расина и т. п. — поэтическая рана Европы, слава богу, что ее нет и не будет у нас»[493]. Далее наступают годы «Альберта», «Люцерна» и т. д. — когда Толстому было не до комедии, а потом стало не до литературы. От эпохи 1856—1857 гг. остались планы и наброски четырех комедий: «Дворянское семейство», «Практический человек», «Дядюшкино благословение» и «Свободная любовь». Комедии эти частично переплетаются между собой и повторяют одних и тех же персонажей. Их основная тема — насмешка над эмансипацией, над «Жорж- Зандовской женщиной». Несколько особняком стоит первый замысел («Дворянское семейство»), задуманный в плане обличительной комедии и связанный, очевидно, с общим либеральным направлением того круга, к которому сначала примкнул Толстой.
Вместе с возвращением к литературе возвращаются и мысли о комедии. По воспоминаниям Т. А. Кузминской (в этом пункте неточным) видно, что Толстой любил устраивать в Ясной Поляне домашние спектакли и сочинял для этого пьески или сценарии. Судя по письму отца С. А. Толстой (А. Е. Берса), относящемуся, очевидно, к декабрю 1863 г., вопрос о том, что Толстому надо попробовать написать пьесу для настоящего театра, постоянно обсуждался в семье, находившей, что у него есть на это талант: «Наконец сбудется мое давнее желание — ты произведешь на свет комедию, которая будет играться на сцене... Я кладу голову на плаху, если ты не похоронишь всех наших существующих драматических писателей». Так появилась на свет комедия «Зараженное семейство» — итог работы 1856—1857 гг. и позднейших яснополянских домашних спектаклей.
В основе этой комедии лежит техника легкого жанра — домашнего фарса французского образца. Вероятно, именно поэтому она так не понравилась Островскому, который писал Некрасову (7 марта 1864 г.): «утащил меня к себе JI. Н. Толстой и прочел мне свою комедию; это такое безобразие, что у меня положительно завяли уши от его чтения»[494]. Вся пьеса построена исключительно на языковом комизме: на сочетании и противопоставлении семинарского и нигилистического жаргона (Твердынский, Венеровский, Дудкина) народному языку (няня). Следы специальной работы Толстого над изучением жаргона «новых людей» сохранились в черновых рукописях в виде листка, на котором выписаны характерные выражения, вреде: не гуманно, устой жизни, присущий молодому народу, общественная среда и пр. Основные персонажи пьесы, являющиеся представителями «новых людей», говорят этим специфическим, сгущенным жаргоном, часто утрированным до крайности и тем самым превращающим комедию в фарс. Дудкина говорит языком книжных цитат: «Вольный труд не может быть убыточен, это противно всем основным законам политической экономии», «Прогресс неудержимо вносит свет в самые закоснелые условия жизни» и т. д. Студент Твердынский (из духовного звания) говорит «семинарским» языком, окрашенным особой лексикой: на вопрос: — «где Петруша», он отвечает: «шествует»; на вопрос—«что делали» отвечает: «рыболовство учиняли»; статью называет «невредной» (так же-— «девица невредная»); к ученику своему обращается: «Прибышев младший, шествуйте» или «Ну-с, Прибы- шев младший, упитались? Шествуемте». Венеровский, представитель именно «новых людей» («мы люди новые», говорит он в беседе с помещиком), говорит языком передовой интеллигенции — языком «Современника», языком Чернышевского. Эти жаргоны перемешаны и утрированы в языке пятнадцатилетнего Петру- ши, который на требование отца, чтобы он поцеловал руку у матери, отвечает: «Разве что-нибудь произойдет оттого, что я буду прикладывать оконечности моих губ к внешней части кисти матери?» Здесь, мимоходом, высмеяно характерное для «нигилистов» (ср. у Тургенева) увлечение естествознанием, приводящее к такого рода «научным» определениям самых обыкновенных явлений. В последнем действии Петруша — уже совсем фарсовый персонаж; напившись пьян, он икает и сквозь сон твердит: «Семья... иг!., преграда... ин... ди... виду... иг!., альности». Каждый персонаж комедии представляет собой определенную и замкнутую языковую систему или «маску»; на контрастах этих словесных масок построен самый сюжет комедии, в фабульном отношении мало подвижный. Некоторые выражения ведут прямо к Чернышевскому и являются пародией на его язык. Дудкина и Твердынский употребляют слово «заложение»(«честные и либеральные заложения моей натуры»), которое фигурировало еще в повести Григоровича «Школа гостеприимства», как слово Чернушкина[495]; Венеровский, говоря с Любочкой, употребляет выражения «миленькая» или «моя миленькая» («вы очень умны, миленькая») — слово, которое коробит Любочку: «Не говорите: миленькая. Так нехорошо»; это слово постоянно употребляет в романе Чернышевского Лопухов, называя жену «миленькая», а она его—«маленький». Интересно, что в одной из черновых редакций фамилия студента — Чертковский: это, вероятно, намек на фамилию Чернышевский.
Итак, «Зараженное семейство» — пародия на «Что делать?» и на язык тогдашней интеллигенции. Последнее обстоятельство очень важно. Дело в том, что характерное для 60-х годов развитие журнальной, научной и публицистической прозы привело к образованию огромного количества новых речений, создало новый литературный язык, насыщенный терминами естественных, философских и общественных наук — тот самый язык, который в комедии Толстого утрирован до степени жаргона. С другой стороны, язык повествовательной прозы, так сильно развернувшийся в эпоху Гоголя и Лермонтова, не сделал потом никаких заметных движений в пределах традиционных жанров; язык Тургенева — никак не новшество, а скорее канонизация и сглаживание сделанного раньше. Только в таких полубеллетристических жанрах, как очерк или фельетон, шла новая работа над языком, использованная и продолженная Щедриным и Достоевским. Образовавшаяся в беллетристике жанровая и языковая пауза заполнилась, с одной стороны, промежуточными жанрами — вроде «физиологических» и «обличительных» очерков (ср. «Губернские очерки» Щедрина), с другой — драматическими жанрами, использующими, главным образом, мещанскую и купеческую речь (Островский). Возрождение театра, и именно театра с установкой на слово, в этом смысле очень показательно. Показательно и то, что преимущественное развитие пошло по линии именно бытовой комедии, насыщенной словесным комизмом и свободной от сложных психологических мотивировок, обязательных для драмы.
Толстой, в 50-х годах еще зависевший от прозы Тургенева и иногда следовавший за нею («Альберт», «Семейное счастье»), прошел потом школу народного языка и усвоил язык журнальной статьи. «Идиллия» и «Поликушка», с одной стороны, педагогические статьи 1862 г., с другой — освободили его от старых традиций и навыков. Я указывал на то, что в «Декабристах» чувствуется связь с общим журнальным стилем 60-х годов. Но именно эта стилевая окраска должна была стеснять его, не расположенного к такого рода жанрам и не собиравшегося делать эволюцию, подобную той, которую сделал Салтыков.
Возможно, что «Декабристы» прервались отчасти именно потому, что Толстой чувствовал несамостоятельность и неуравновешенность языка, его подчиненность современной журнальной прозе, его в этом смысле безличность. Современный язык, так сказать, путался у него под ногами и мешал свободным движениям. Когда читаешь шутливые письма Толстого этого времени к Т. А. Кузминской, чувствуешь, что здесь он гораздо изобретательнее, свободнее, оригинальнее. В такого рода письмах, наполненных фантастической чепухой и полудетской речью, Толстой растит тот «домашний» стиль, которым потом наполнятся страницы «Войны и мира». Здесь прихотливая, пародийная игра стилей, столкновение разнообразных языковых слоев, веселая эквилибристика, словесные фокусы: «В центре земли находится камень алатырь, в центре человека находится пупок. Как непостижимы пути провидения! О, младшая сестра жены своего мужа. В центре его иногда еще находятся предметы. Все предметы подлежат закону тяготения в обратном отношении квадратов расстояний. Но допустим противное... Наталья Петровна не может есть ботвиньи. Лошадь возвращается к своему стойлу. Игра случайностей преследует сына праха. Возьми и неси его выше». Дальше: «Я видел сон: ехали в мальпосте два голубя, один голубь пел, другой был одет в польском костюме, третий, не столько голубь, сколько офицер, курил папиросы. Из папиросы выходил не дым, а масло, и масло это было любовь. В доме жили две другие птицы. У них не было крыльев, а был пузырь, на пузыре был только один пупок, в пупке была рыба из Охотного ряда. В Охотном ряду Купфершмит играл на волторне, и Катерина Егоровна хотела обнять его и не могла. У ней было на голове надето 500 целк. жалованья и резо из телячьих ножек. Они не могли выскочить, и это очень огорчало меня». Вслед за этим идет: «Таня, милый друг мой, ты молода, ты красива, ты одарена и мила. Береги себя и свое сердце. Раз отданное сердце нельзя уже взять назад, и след остается навсегда в измученном сердце. Помни слова Катерины Егоровны: в шмант-кухен не надо никогда подливать кислой сметаны». Тут же и французская шутливая речь: «Mademoiselle! Aimer ou avoir aim6 cela suffit!.. Ne de- mandez rien ensuite. On rTa pas d'autre perle к trouver dans les plis t6n6breux de la vie... La jeune fille n'est qu'une lueur de reve et n'est pas encore une statue. — ». И тут же рядом — слова: «Кабыла и... паганец». Все это — по поводу одной романической истории. Так подготовляется язык «Войны и мира» — язык не повествовательной ее части, который гнездится в стиле мемуарной прозы, а язык диалогов.
«Зараженное семейство» было преодолением современного языка — языка журнальной, интеллигентской прозы. Использованный в комическом плане, язык этот тем самым был отодвинут Толстым для себя в сторону. Отход от 1856 г. к 1812 г. развязывал ему руки: персонажи 1812 г. могли говорить домашним «яснополянским» языком.
В черновой редакции «Зараженного семейства» была одна сцена, потом вычеркнутая, в которой воспроизводился, без особенной утрировки, язык публицистической прозы — и именно статей Чернышевского. Сцена эта была вычеркнута, вероятно, потому, что она не соответствовала общему фарсовому жанру пьесы и несколько разрушала систему словесных масок. В ней Толстой хотел высмеять отношение нигилистов к вопросам истории и исторической науки — вопросам, которые в это время очень волновали его самого. Студент дает урок Петруше; тема урока — «общий взгляд на исторические науки». Студент читает по тетради: «Так что исторический факт имеет интерес только в силу подтверждения идеи нации и освобождения человечества из-под ига... История человечества представляет ряд событий в своей последовательности, конкретно выражающий идею борьбы деспотизма и свободы. Свобода мысли, слова, поступка и наконец печатного слова — иначе прессы. Тут у меня не совсем дописано — я развиваю ту идею, что корень зла лежит в начале родительской власти и в злоупотреблениях, потом рабство женщины и наконец признание старшинства возраста и веры предков». Петруша вставляет реплику: «Да, я помню в журнале[496] была статья Маколея, он говорит...»
Студент перебивает: «Ну что Маколей? Это отсталые люди. Токвиль тоже, Монта- ламберт. Бокль еще, пожалуй, но тоже узкость взгляда». В беловом тексте от этой сцены остался след только в словах Петруши студенту: «Я вдумался в свое положение и убедился, что семья есть главная преграда для развития индивидуальности... Я сейчас читал Бокля. Он это самое говорит».
От этой сцены нити ведут назад — к педагогическим статьям Толстого и к его размышлениям о прогрессе. Имя Бокля, очень популярное в это время, мелькает в статье Толстого «Прогресс и определение образования». Здесь Толстой говорит: «Недавно мы прочли "Историю цивилизации Англии" — Бокля. Книга эта имела великий успех в Европе (это очень естественно) и огромный успех в литературном и ученом круге в России — и это для меня непонятно. Бокль анализирует законы цивилизации и весьма занимательно; но весь интерес этот потерян для меня и, кажется, для всех нас русских, не имеющих никаких оснований предполагать ни то, что мы, русские, должны необходимо подлежать тому же закону движения цивилизации, которому подлежат и европейские народы, ни то, что движение вперед цивилизации, есть благо. Для нас, русских, необходимо доказать прежде и то и другое. Мы лично, напр., считаем движение вперед цивилизации одним из величайших насильственных зол, которому подлежит известная часть человечества, и самое движение это не считаем неизбежным. Автор, так сильно восстающий против бездоказательных положений, сам не доказывает нам, почему весь интерес истории для него заключается в прогрессе цивилизации. Для нас же интерес этот заключается в прогрессе общего благосостояния. Прогресс же благосостояния, по нашим убеждениям, не только не вытекает из прогресса цивилизации, но большею частью противоположен ей».
Прогресс благосостояния против прогресса цивилизации — это сочетание Руссо, Риля и Прудона, сочетание, окрашенное сланянофильским «антиисторизмом! и идущее вразрез с публицистикой «новых людей». Не отходя от злободневных проблем, среди которых проблема философии, истории и методов построения исторической науки была самой острой, потому что имела не только академический интерес (об этом — ниже), Толстой в то же время сопротивляется современности. Домашний человек все решительнее и сознательнее выдвигается им против человека исторического, общественного. «Прогресс благосостояния» — это ведь и есть защита домашности против истории, против государства. Представители «новых людей» в «Зараженном семействе» обличаются с моральной стороны: их фразы о прогрессе и цивилизации уживаются рядом с подлостью и обманом; беспомощный и растерявшийся перед новыми людьми помещик, не пропускавший прежде дня, чтобы не побить камердинера Сашку, стоит в моральном отношении выше Вене- ровских, а няня, воплощение антиисторической домашности, оказывается не только самой честной, но и самой мудрой, самой прозорливой.
На злободневность Толстой отвечал фарсом. Это возможно было только потому, что план большого романа из эпохи 1812 г. уже определился. «Зараженное семейство» было передышкой, шутливой интермедией. Поэтому Толстой так легко отнесся к тому, что комедия не попала на сцену. Борьбу с современностью, с идеей прогресса и цивилизации в защиту домашнего человека, нужно было вести всерьез, но не на современном материале, потому что публицистические жанры не годились для Толстого. Для этого нужно было взять бурную историческую эпоху, эпоху войн и переворотов, и вывернуть ее наизнанку так, чтобы все эти бури и перевороты оказались ничтожными по сравнению с «настоящей» жизнью человека — жизнью человека в его естестве, в его «домашности». Исторический роман выбирался именно для того, чтобы по смыслу быть антиисторическим. Для такого замысла нужно было выбрать эпоху достаточно эффектную и в этой эффектности достаточно популярную, чтобы тем разительнее и демонстративнее была ее трактовка с неожиданной стороны. Роман должен был называться «Все хорошо, что хорошо кончается» — название, в котором проглядывает ирония. Ирония привела Толстого к «Декабристам»; отсеяв современность в «Зараженном семействе» и освободившись от элемента шутки, он очистил для себя область иронии более возвышенной и с этим настроением взялся за роман.
з
При создавшемся для литературы положении, при полном перевесе публицистики и остроте политических и социальных вопросов, обращение Толстого к историческому роману было совершенно естественным и закономерным. Под давлением журнальной публицистики и литературы очерков «беллетристика» отошла на второй план. Ее традиционные, живущие по инерции жанры получили литературно-реакционный характер. Возмущаясь этим положением, Н. М. Павлов, сотрудник аксаковского «Дня», писал в своих статьях: «Художественных повестей, вообще говоря, нет. Наша так называемая изящная словесность сошла на роман- фельетон... В наших журналах в отделе "изящная словесность" напрасно ищешь повести или романа: это опять все та же публицистика; она только рядится в форму повести или романа. Таково "Марево", таково "Взбаламученное море", таков невозможный и пресловутый роман "Что делать?", таковы еще "Отцы и дети", — к чести сказать, последний однако ж роман менее всех таков именно... Гордая со вчерашнего дня возбужденными у нас толками об так называемых социальных интересах, наша журналистика как будто уже брезгует теперь теми произведениями, интерес которых чисто художественный. Произведения такого рода являются в ней как бы уже на заднем плане. "Публицистика" — вот что — по мнению, нынче довольно распространенному, — должно высоко поднять всякий журнал, ищущий быть современным; а журналистика прежних дней, где все почти и ограничивалось художественным отделом, представляется уже чем-то ребячески-смешным и навеки пережитым без возврата... При неестественном и далеко не по нашим силам развившемся у нас журнализме — запрос на повести и романы огромный; а легкая возможность подцветить всякую беллетристическую дрянь «социальным интересом» и придать ей прочности дешевыми вариациями на современные темы — и вовсе избавляет авторов от необходимости строго обдумывать как общий план, так и подробности своих произведений, — они пекутся как блины»[497]. Человек совсем другого лагеря, редактор «Русского слова» Г. Е. Благосветлов, рассуждает на ту же тему в письме к Н. Шелгунову: «Отчего молодые беллетристы плохи и читаются мало? Оттого, что они вообразили, что роман можно писать как канцелярскую бумагу, как критическую статью, как опись белья, отдаваемого прачке. Будь они художники, подобно Тургеневу, их идеи давно бы прошли в публику и похоронили бы Тургенева... И пока молодое поколение будет пачкать свои идеи и не возьмет у писателей 40-х годов их изящной формы, их образности, их мастерства литературного, которые чувствовал только один Писарев, новые идеи будут влачить свое существование плачевным образом. Их будут уважать, но не будут читать»[498]. Такой компромиссный путь — путь литературной учебы у «классиков» — был, конечно, невозможен и неосуществим. Эпоха шла путем контрастов и противоположностей, а не путем их слияния и выхода к благополучию. Но самая характеристика положения литературы, сделанная и врагом эпохи и ее соратником почти одинаково, должна быть принята как объективный факт.
Та функция, которую несла прежде беллетристика, переместилась и переключилась в другие формы. Среди них значительную роль стала играть литература биографий, мемуаров и всевозможных исторических материалов. Повышенный интерес к истории, далеко вышедший за пределы узкого круга специалистов, был связан с злободневными проблемами эпохи, ощущавшей свое историческое значение. Еще в 1857 г. Герцен, говоря о новых западных книгах, писал: «В литературе все поглощено историей и социальным романом. Жизнь отдельных эпох, государств, лиц с одной стороны, и с другой — как бы для сличения с былым, исповедь современного человека под прозрачной маской романа или просто в форме воспоминаний, переписки». К началу 60-х годов журналы начинают заполняться статьями по истории и об истории — оригинальными и переводными. В предисловии переводчика к статье Гервинуса «Теоретический очерк истории» («Время». 1861. Т. VI) говорится: «При особой наклонности нашего времени к положительности в ряду специального знания, история получила огромное значение и, если так можно выразиться, популярность. Как в XVIII столетии каждый выслушавший курс философии и эстетики считал себя вправе и даже обязанным издать либо курс по одной из этих наук, либо монографию, — так в настоящее время в огромном количестве появляются курсы истории всеобщей и частной, ученые исторические исследования, полные истории, статьи по истории и т.д. Такое сочувствие к ней оправдывается самим предметом. История имеет дело с чисточеловеческой жизнью, с самыми разнообразными и многосторонними ее проявлениями. Немудрено поэтому, если в настоящее время история не только что разрабатывается сама по себе, как особая специальность, но и становится центром, к которому тяготеют другие области знаний — политические и юридические, философия и даже психология. Будучи в основании чистотеоретическим знанием, эти науки приобретают тем более силы и тем ближе становятся к истине, чем ближе становятся к истории, чем тверже опираются на факты, предлагаемые ею... То же значение получает история при решении даже текущих вопросов политической газеты и журнального фельетона».
В 1861 г. выходит известное исследование М. А. Корфа — «Жизнь графа Сперанского», заново поднявшее интерес к александровской эпохе. Развитие исторических интересов приводит к возобновлению «Чтений в общ. истории и древностей российских» и к основанию журнала «Русский архив» (1863 г.), особенно характерного для этой эпохи. Журнал этот не только был рассчитан, но и действительно обслуживал довольно широкий круг читателей (недаром он выходил двумя изданиями) — и именно потому, что в нем был дан широкий простор самым материалам (письма, анекдоты, воспоминания, биографии и пр.). Популярность истории подтверждается и другими, еще более убедительными фактами. К началу 60-х годов обычным явлением сделались публичные лекции по истории. В 1860 году С. М. Сухотин записывает в дневнике: «Нынешнюю зиму в Москве столько публичных лекций и столько на оных посетителей и посетительниц, что мы к весне должны сильно поумнеть»[499]. Большинство этих лекций — на исторические и философские темы. Зимой 1863/64 г. С. Соловьев прочитал целый цикл лекций по истории Европы в первую половину XIX в. В том же 1863 г. Сухотин отмечает успех записок Вигеля, которые читаются на разных собраниях. Еще любопытнее и симптоматичнее книги, изданные в эти годы М. П. Погодиным: «А. П. Ермолов. Материалы для его биографии» (1863) и «Н. М. Карамзин» (1866). Эти книги сделаны так, как современные нам «монтажи» — по-видимому, и роль их была, приблизительно, та же. Текст самого Погодина в них ничтожен — он только связывает переход от одного документа к другому. Книги состоят из цитат, систематически расположенных в естественном, большею частью хронологическом порядке.
Именно в этой атмосфере напряженного интереса к истории вообще и к историческому материалу в частности зародилась у Толстого мысль об историческом романе. В историко-литературном смысле роман Толстого возникает не в простой эволюции от русской беллетристики 50-х годов и не в прямой связи с русским историческим романом 30-х годов, а в гораздо более сложной исторической закономерности. Он является результатом кризиса традиционной беллетристики — результатом скрещения научных и литературных форм. Роман Толстого, как «Декабристы», так и «Войну и мир», надо вести не столько из беллетристики, сколько из исторической, биографической и мемуарной литературы 60-х годов.
Выбор эпохи для романа определился к осени 1863 г.; 5 сентября этого года А. Е. Берс пишет Толстому: «Вчера вечером мы много говорили о 1812 годе по случаю намерения твоего написать роман, относящийся к этой эпохе. Я помню, как в 1814 или 1815 году горел щит на Тверской у дома Бекетова, огромной величины, изображавший Наполеона, бежавшего и преследуемого воронами, которые его щипали и вместе пакостили на него». 18 сентября он же пишет: «действительно, это была замечательная и интересная эпоха; ты избрал для романа твоего высокий сюжет, дай бог тебе успеха». Тут же он сообщает Толстому некоторые подробности, рекомендует материал и обещает помогать.
Но Толстому нужен был материал особого рода, найти который было не так легко. Тогда же, в начале сентября, Толстой, как видно из ответного письма, обратился к старшей сестре Софьи Андреевны, Елизавете Андреевне Берс, с просьбой подыскать ему материал. Она ответила ему подробным и интересным письмом, показывающим, что в это время она была более начитана в литературе по 1812 г., чем Толстой: «Я исполнила твое поручение, любезный друг Левочка, поискала материалов для твоего романа и посылаю тебе список книг, в которых говорится что-нибудь о 12-ом годе. Их на русском языке замечательно мало, а очерков из общественной жизни почти совсем нет; все так много заботились о политических событиях и их было так много, что никто и не думал описывать домашнюю и общественную жизнь того времени. Тебе надо получить особенное откровение свыше, чтобы угадать по самым неясным намекам и рассказам. Постарайся послушать очевидцев. На днях я справлюсь в французских и немецких магазинах, но вряд ли я буду счастливее. Сколько я ни читала, я, сколько помню, не встретила ни одного описания русской общественной жизни в иностранных книгах. Я слушала некоторые рассказы, но все говорят о том, как мужики били француза, как хотели Кремль взорвать, в какой день кто и куда выехал, а как жили во Владимире, да в Туле да в Калуге эти выехавшие, никто о том ничего решительно не скажет. Ты очень трудную предпринял задачу, и журналов-то того времени никаких нет. Я тебе отметила те книги, где более говорится об общественной жизни, и если хочешь, я куплю их и прочту и отмечу хорошие места или сделаю сокращенные выписки, потому мне кажется, что я понимаю, что тебе нужно, а это тебе уничтожит скучную сторону твоего труда»[500].
Письмо это не оставляет сомнения в том, что в это время Толстой поставил себе задачу написать роман так, чтобы исторические события эпохи были только общим фоном, а основным материалом была бы частная жизнь людей, живущих в стороне от этих событий и не принимающих в них непосредственного участия. К письму был приложен список книг, из которых некоторые были отмечены крестиками: «Неотмеченные книги [поясняет Е. А. Берс] наполнены только военными рассказами, и они-то и есть самые дорогие». Против названия каждой книги проставлена ее цена. Приведу список этих книг, заменяя крестики звездочками: "Воспоминания очевидца, *Державин — Записки 1743-1812 г., *Кичеев — Воспоминания о пребывании, "Рославлев Загоскина, "Записки Современника с 1805-1812 г., *Кичеев — Воспоминания о пребывании, *Россестры, * Аксаков — Освобождение Москвы в 1812 г., Бутурлина — История нашествия Имп. Наполеона на Россию в 1812г., Император Александр I и его сподвижники в 1812, 13, 14 и 15 г., Липранди — 1) Не голод и не мороз были... 2) Русские или французы зажгли Москву, "Анекдоты, черты из жизни и слова гр. Милорадовича, Полевой — Повесть о великой битве Бородинской, Богданович — История отечественной войны 1812 г., Голицын — Офицерские записки, Михайловский-Данилевский — История отечественной войны, т. 4-й, 5-й.
Список этот, как основной, достаточно полно и дельно подобран. Он свидетельствует, между прочим, о распространенности в это время именно исторического образования (в частности — интереса к 1812 г.) в интеллигентной среде. «Русский архив» начал выходить только в 1863 г. — о нем Е. А. Берс, вероятно, еще не знала, а такие специальные издания, помещавшие статьи о 1812г., как «Военный сборник» или «Чтения в обществе истории и древностей российских», были ей, конечно, неизвестны. Из новых книг, вышедших к 50-летию 1812 г. (их было не много), выбрана и поставлена на первое место одна — именно такая, которая, действительно, дает большое количество бытовых деталей: «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве, в 1812-м году. С видом пожара Москвы» (без имени автора)[501]. Во вступлении автор сам говорит: «Много издано сочинений об этой знаменательной, отечественной эпохе; много и подробно в них рассказано, со всею хронологическою точностию, занимательного о политических событиях того времени; но подобные комментарии, как и все древние истории, заявляют одни общие черты и касаются только массы целого народа; в них нет частных описаний, принадлежащих одному лицу или семейству, а это также необходимо; ибо по частным выводам слагается общая характеристика и времени и, событий; с этой целью очевидец вознамерился издать свои воспоминания, касающиеся только происшествий его семейства». Неудивительно, что Е. А. Берс поставила эту книгу на первом месте: она, как видно из этих слов, отвечала той задаче, которую имел в виду Толстой.
Но к вопросу об источниках я вернусь ниже. Пока важно только установить то, что в 1863 г. Толстой интересуется не столько политической и военной стороной эпохи, сколько бытовой, домашней — в том числе жизнью провинциальных семейств, живших вдали от театра войны. Кроме «Воспоминаний очевидца», ему, например, очень пригодились письма М. А. Волковой к В. И. Ланской, тогда еще ненапечатанные[502].13 октября 1863 г. А. Е. Берс пишет Толстому: «Тебе кланяются Перфильевы. Настасья Сергеевна, узнавши о том, что ты намерен наградить нас романом эпохи 1812 г., — предложила мне послать тебе письма Марьи Аполлонов- ны Волковой, писанные в 1812 г. к ее матери гр. Ланской». 23 октября он пишет о том же: «Я прочел целый волюм писем Волковой, которые она писала Ланской в 1812 и 1813 годах; теперь читаю письма 1814 года. Для меня они интересны в высшей степени, она говорит в своих письмах о лицах, которых она знала в молодости, а я всех их под старость. Также весьма интересны ее описания об духе того времени, — и все и все в них интересно». Тогда же Толстой получил эти письма; 3 декабря 1863 г. А. Е. Берс пишет: «Как я рад, любезный Лев Николаевич, что тебе понравились письма Волковой, я также читал их с большим удовольствием. На днях пришлю тебе за 1815, 16, 17, 18, 19 и 20 год». К середине декабря 1863 г., когда
Толстой приезжал в Москву, что-то было уже написано; М. А. Цявловский даже предполагает, что в этот приезд Толстой дал свою рукопись на прочтение М. П. Погодину, с которым виделся и у которого брал какие-то материалы. В феврале 1864 г. Толстой опять побывал в Москве (в связи с вопросом о постановке «Зараженного семейства»), а к осени 1864 г. у него было уже готово десять печатных листов романа, которые и появились в «Русском вестнике» (1865. № 1 и 2).
По сохранившимся от этой первоначальной стадии рукописным материалам видно, что Толстой, действительно, не собирался вводить в свой роман описания политических событий эпохи и хотел даже вовсе обойти изображение исторических лиц. Фоном для домашней жизни его персонажей должны были служить батальные сцены, но их он тоже собирался давать не в стиле военных описаний, а в стиле своих Севастопольских рассказов — с разговорами солдат, с анализом душевных переживаний героев и т. д. Роман должен был по жанру мало чем отличаться от соответствующих романов хотя бы Р. Зотова — таких, как «Леонид» (1832), «Студент и княжна» (1838), «Два брата, или Москва в 1812 году» (1851), «Две сестры, или Смоленск в 1812 году» (1860). Разница должна была быть в большем отходе от истории в глубь семейной и бытовой жизни, в принципиальном подчеркивании разрыва между историческим и домашним человеком, в ироническом «антиисторизме», соответственно подбирающем и располагающем людей и события.
Толстовский антиисторизм, теоретически уже обоснованный в педагогических статьях, был тогда же иллюстрирован фактами — и именно на материале 1812 г. Толстой пробовал в своей школе давать уроки истории — и ничего не выходило: «Я начал историю, как всегда начинают, с древней. Но ни Момзен, ни Дункер, ни все мои усилия не помогли мне сделать ее интересною. Им не было никакого дела до Сезостриса, египетских пирамид и финикиян... Я надеялся, что подобные вопросы, как, например, кто были народы, имевшие дело с евреями, и где жили и странствовали евреи, должны были бы интересовать их, но ученики вовсе не нуждались в этих сведениях. Какие-то цари Фараоны, Египты, Палестины, когда-то и где-то бывшие, вовсе не удовлетворяют их. Евреи — их герои, остальные — посторонние ненужные лица. Сделать же для детей героями египтян и финикиян мне не удалось за отсутствием материалов. Как бы подробно мы ни знали о том, как строились пирамиды, в каком положении и отношении между собой были касты, к чему нам это?— нам, т. е. детям». Последняя оговорка очень характерна. Эти ученики и вся эта педагогика, конечно, подставные. Толстой проверяет на учениках самого себя и радуется, что они, представители «естества», не нуждаются в истории.
Ничего не вышло и с русской историей, пока Толстой не начал рассказывать о 1812 годе. Русская история удельного периода превратилась в пародию, которая великолепно изложена Толстым: «Вот он, как его, Барикав, что ль? — начал один, — пошел на... как бишь его — Муслав, Л. Н.? —подсказывает девочка. — Мстислав, отвечал я. — И разбил его на голову, — с гордостью говорит один. — Ты постой! река тут была. — А сын его войску собрал и на голову расшиб... как бишь его? — Да что ее никак не поймешь, — говорит девочка, которая памятлива, как слепой. — И то чудная какая-то, — говорит Семка. — Ну ее, Мислав, Числав! на что ее, чёрт ее разберет! — Да ты не мешай, коли не знаешь! — Ну, ты знаешь, ловок больно! — Да ты что пихаешься-то?» и т. д. Так разбазарили дети древний период русской истории, превратив борьбу удельных князей в потасовку между собой. Это, конечно, не просто описание урока, сделанное педагогом, а и пародия на учебники истории и на самую историю — пародия, подготовившая знаменитую пародийную страницу в «Войне и мире». Куликовская битва имела успех, но только потому, поясняет Толстой, что она задела национальное чувство: «Все были в волнении. — Вот так история! Ловко! — Послушай, Jl. Н., как он татаровей распужил! — Дай я расскажу. — Нет, я! — закричали голоса. — Как кровь рекой лилась!» Толстой размышляет: «Но если удовлетворять одному национальному чувству, что же останется из всей истории? 612,812 годы — и все. Отвечая на национальное чувство, не пройдешь всей истории. Я понимаю, что можно пользоваться историческим преданием для развития и удовлетворения всегда присущего детям интереса художественного, но это будет не история».
Особенно удачным оказался опыт с 1812 годом: «Я рассказывал историю крымской кампании, рассказывал царствование Николая и историю 12-го года[503]. Все это почти в сказочном тоне, большею частью исторически неверно и группируя события вокруг одного лица. Самый большой успех имел, как и надо было ожидать, рассказ о войне с Наполеоном. Этот класс остался памятным часом в нашей жизни. Я никогда не забуду его». Весь этот кусок придется процитировать целиком — тем более, что педагогические статьи Толстого мало теперь читаются.
«Я сел и начал рассказывать. Как всегда, минуты две продолжались возня, стоны, толкотня. Кто лез под стол, кто на стол, кто под лавки, кто на плечи и на колени другому; и все затихло. Я начал с Александра I, рассказал о французской революции, об успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне, окончившейся тильзитским миром. Как только дошло дело до нас, со всех сторон послышались звуки и слова живого участия. "Что ж, он и нас завоюет?" — "Небось Александр ему задаст" — сказал кто-то, знавший про Александра, но я должен был их разочаровать — не пришло еще время — и их очень обидело то, что хотели за него отдать царскую сестру и что с ним, как с равным, Александр говорил на мосту. "Погоди же ты!" — проговорил Петька с угрожающим жестом. "Ну, ну, рассказывай!" Когда не покорился ему Александр, т. е. объявил войну, все выразили одобрение. Когда Наполеон с двенадцатью языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу, все замерли от волнения. Немец, мой товарищ, стоял в комнате. "А, и вы на нас" — сказал ему Петька (лучший рассказчик). "Ну, молчи!" — закричали другие. Отступление наших войск мучило слушателей так, что со всех сторон спрашивали объяснений — зачем?" И ругали Кутузова и Барклая. "Плох твой Кутузов". — "Ты погоди" — говорил другой. "Да что ж он сдался?" — спрашивал третий. Когда пришла Бородинская битва и когда в конце ее я должен был сказать, что мы все-таки не победили, мне жалко было их; видно было, что я страшный удар наношу всем. "Хоть не наша, да и не ихняя взяла!" Когда пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, все загрохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец наступило торжество — отступление. "Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить" — сказал я. "Окарячил его!" — поправил меня Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы. Это его привычка. Как только он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сзади, и никто не замечал. "Так-то лучше! Вот-те и ключи", и т. п. Потом я продолжал, как мы погнали француза. Больно было ученикам слышать, что кто-то опоздал на Березине, и мы упустили его; Петька даже крякнул: "Я б его расстрелял, зачем он опоздал". Потом немножко мы пожалели даже мерзлых
французов. Потом, как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате. "А, вы так-то? то на нас, а как сила не берет, так с нами?" и вдруг все поднялись и начали ухать на немца, так что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа, посадили настоящего короля, торжествовали, пировали, только воспоминанье крымской войны испортило нам все дело. "Погоди же ты, — проговорил Петька, потрясая кулаками,— дай вырасту, я же им задам" Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили. Уже было поздно, когда я кончил. Обыкновенно дети спят в это время. Никто не спал, даже у кукушек глазенки горели. Только что я встал, из-под моего кресла, к величайшему удивлению, вылез Тараска и оживленно и вместе серьезно посмотрел на меня. "Как ты сюда залез?" — "Он с самого начала" — сказал кто-то. Нечего было и спрашивать, понял ли он: видно было по лицу. "Что ты расскажешь?" — спросил я. "Я-то? — он подумал, — всю расскажу". — "Я дома расскажу". — "И я тоже". — "И я".— "Больше не будет?" — "Нет". И все полетели под лестницу, кто обещаясь задать французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окорячил. — Sie haben ganz Russisch erzahlt (вы совершенно по-русски рассказывали), — сказал мне вечером немец, на которого ухали. — Вы бы послушали, как у нас рассказывают эту историю. Вы ничего не сказали о немецких битвах за свободу. Sie haben nichtsgesagt von den deutschen Freiheits-kampfen. — Я совершенно согласился с ним, что мой рассказ не была история, а сказка, возбуждающая народное чувство. Стало быть как преподавание истории и эта попытка была неудачна еще более, чем первые».
Ратуя против прогресса цивилизации, Толстой ссылался на тульского мужика; восставая против исторической науки, Толстой, хотя и скрывая это, ссылается на крестьянских детей. Статья «Кому у кого учиться» достаточно ясно показала, что дети были только экспериментом, оправдывающим теорию. Уроки истории были полемикой с современным историзмом — с тем «историческим воззрением», о котором с ненавистью писал Толстой в статье «Прогресс и определение образования».
Итак, «Война и мир», построенная на «исторических преданиях» больше, чем на документах, «исторически неверная», «сказка, возбуждающая народное чувство» и сознательно противопоставленная научным описаниям, была подготовлена уже этим уроком, которого Толстой, действительно, не забыл. Любопытно, что осенью 1863 г. у Толстого было, между прочим, намерение написать какую-то статью о 1812 г. для детского журнала, затеянного Е. Н. Ахматовой. 19 октября 1863 г. она отвечала Толстому на его письмо: «Спешу благодарить вас не за обещание, которое ваше сиятельство давать не хотите, но за намерение написать для "Дела и отдыха" статью о 1812 годе, я на намерение более полагаюсь, чем на обещания». Письмо кончается характерным призывом, обращенным к тому Толстому, который, как было известно, ушел из литературы: «Вы не можете забыть, что у вас есть талант, который надо же употребить в дело, а для кого же может быть для вас приятнее писать, как не для детей?»[504] Надо, кстати, иметь в виду, что конец 50-х и начало
60-х годов было временем развития литературы для детей и возникновения большого количества детских журналов (особенно в Петербурге — «Подснежник», «Час досуга», «Рассвет», «Собеседник», «Калейдоскоп», «Библиотека для детского чтения», «Забавы и рассказы», «Дело и отдых», «Семейные вечера») — характерный показатель для критических эпох, эпох переломов и сдвигов в литературе «взрослой».
Шестидесятые годы были, с другой стороны, эпохой широкого распространения лубочной литературы (из которой вышли потом «народные рассказы» Толстого). Библиографические столбцы «Книжного вестника» по отделу словесности заполнены перечислением лубочных романов и повестей. Еще в своем предисловии к первой «книжке для детей» Толстой, говоря о любви народа к лубочной литературе и не находя в этом ничего дурного, предупреждал: «Все это мы написали только для того, чтобы не ввести в заблуждение критика, встретившего в наших книжках, очень может быть, переделки Ермака с плясками и танцами или Английского Милорда Георга». Чичерин рассказывает, что в Париже Толстой покупал раскрашенные литографии какого-то Гренье и восхищался ими; в ответ на иронические замечания Чичерина, собиравшего тогда гравюры старинных мастеров, Толстой нагло писал ему: «Когда Рафаэль с картофельно-шишковатыми формами мне противен, а картинки Гренье приводят меня в умиление, я ни единой минуты не сомневаюсь, что Гренье выше Рафаэля». Так называемые низкие жанры, окрашенные пошлятинкой (как лубок, как цыганский романс), составляют совершенно необходимый и плодотворный элемент в работе крупных, определяющих эпоху художников. То, от чего, как от эстетической пошлости, отворачивается тонкий ценитель искусства или даже талантливый эпигон, оказывается «приводящим в умиление» и возбуждающим к смелому изобретательству художника более крупного масштаба. «Плохая» литература необходима для «хорошей» — это закон.
В «Войне и мире», как она задумывалась сначала, был учтен опыт уроков с крестьянскими детьми и чтения лубочной литературы. Начиная с названия («Все хорошо, что хорошо кончается») и кончая проектом издать роман с картинками Башилова, которые Толстой сам редактировал и которыми был очень заинтересован — весь роман должен был соприкасаться с «низкими жанрами»: с банальными великосветскими романами, с патриотической литературой, с романами того же Зотова, стоящими недалеко от лубка, и т. д. Повышение жанра, превратившее роман в то, что историки литературы стали называть «эпопеей», было сделано позже и уничтожило первоначальную природу романа не до конца. Эта первоначальная природа довольно явственно сквозит в ранних конспектах. В них нет никаких указаний на специальные исторические главы, на серьезные и подробные описания политических и военных событий. Указаны семьи, сделаны общие характеристики персонажей, намечены их взаимоотношения и основные эпизоды их жизни.
В первом, кратком конспекте нет даже вовсе упоминаний о войне — намечены персонажи и зафиксирован благополучный конец: «Берг женится на Александре, Борис — на Наталье, Иван — на Лизе, Петр — на кузине». Борис — сын Аркадия Мосальского, «чистый, глуповатый рыцарь-красавец»; Иван — его кузен, «гордец дипломат»; Петр — его родной брат, «кутила, сильный, дерзкий, решительный, непостоянный, нетвердый, но честный». Лиза, Александра и Наталья — дочери «глупого и доброго графа Толстого», женатого на «плебейке-воспитаннице»; у него есть еще сын Николай — «даровитый, ограниченный». Кроме этих персонажей, судьба которых должна была составить основу романа, имеются еще: «молодой пройдоха» Анатоль, «единственный сын богач Илья — кроткий, умница, женат на красавице б...и» и «ее брат дурак светский, делает карьеру нечаянно». Берг охарактеризован как «ловкий наглец». Вот и все. Самый язык этого конспекта — «рыцарь- красавец», «умная аристократка, недоступная пошлости житейской», «плебейка- воспитанница», «единственный сын богач», — так далек от литературного языка 60-х годов и так близок к языку зотовских романов, что об «эпопее» говорить не приходится.
Второй конспект, дающий подробную характеристику каждого лица и намечающий его роль в романе, убеждает в том, что история 1812 г. должна была быть только общим фоном, на котором выступает семейно-домашний узор романа. Каждая характеристика расположена по одинаковой схеме, состоящей из пяти пунктов: имущественное, общественное, любовное, поэтическое, умственное и семейственное. Характеристики вроде тех, какие делают графологи по почерку: «Имуществ. Богат, щедр, воздержан. Не понимает бедности. Обществ. Большие связи, честолюбив. Тактичен, тверд в исполнении долга. Кроток с подчиненными. Любовное. Постоянен. Любит одну всегда; чист, невинен, любит общество женщин. Поэтическое. В музыке не смыслит, но верный голос. Пишет стишки в альбом. Понимает и высоко ценит дружбу и семейную жизнь. Умственное. Много читает. Огромная память. Последователен, логичен. Математик хороший. Отлично говорит на языках. Хорошо в шахматы. Наполеона обожает». Такова характеристика Бориса, в котором, как это видно из описания его роли, много черт будущего Андрея Болконского. После каждой характеристики следует краткая биография персонажа с 1811 по 1813 год. Некоторые персонажи (Берг, Николай, Лиза — будущая Вера, Наталья, старик Волконский, Марья Волконская) уже близки к будущим персонажам «Войны и мира»; но характерно, что персонажи, определившие построение и в значительной степени идеологию будущего романа, или еще не выделены (как князь Андрей), или описаны гораздо более примитивными и грубыми чертами — как Петр (будущий Пьер Безухов). Петр здесь — богатый повеса, бретёр, шулер, бросается на женщин («любит быстро, страстно и тотчас же ненавидит, кого любит»); во время войны он идет в партизаны, «делает чудеса», потом «отдает все и имеет целью революцию и работает, как вол, за солдат». Здесь в одном лице — будущий Пьер и Васька Денисов вместе.
Намеченный этим конспектом жанр романа еще очень далек от будущей «эпопеи», оттого «величественного, глубокого и всестороннего содержания», о котором сам Толстой говорит в наброске предисловия. Он признается здесь, что его долго стесняли «предания» (т. е. литературные традиции): «Я боялся писать не тем языком, которым пишут все, боялся, что мое писание не подойдет ни под какую форму ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории». Этим признанием подтверждается и то, что я говорил выше о проблеме языка, и то, что я говорил о банальности жанра, о «зотовщине». Характерно самое выражение — «язык, которым пишут все»\ оно указывает на отсутствие резко выраженных стилистических школ и направлений в литературе этого времени. «Все» — это Тургенев, это гладкая «правильная» речь, а Толстому нужна шероховатость, нужны оттенки, нужна даже пошлятинка и грубость, нужны импровизационные, не зализанные литературой словесные конструкции. В такой же степени ему нужны скорее лубочные, банальные жанры романа, чем «Дворянское гнездо» (уже доведшее его до «Семейного счастья») или «Отцы и дети» (побежденные «Зараженным семейством»). Конспект во многих местах обнаруживает, и по языку и по сюжету, этот ход в вульгарность, это бегство от «преданий». О Борисе записано: «В Вильне был. Полька соблазняет его, он опять победитель. Пишет ей письма, и ее письма»; это — совсем из романа Зотова «Студент и княжна», где студент Генрих увлечен виленской полькой Юзефой и переписывается с нею. Характеристика Петра поражает своей размашистостью, доходящей до вульгарности: «Бросается на кузину. Она отталкивает его и влюбляется. Шалости, горит. Александра родила. В Петербурге связь с m-me В. (на бале встретил). Она умирает в родах. Министрам нет покоя. Получает пощечину, а Балакирева убивает, и еще другого. Играет. Все проигрывает... Аркадий по совету Бориса берет его к себе [зачеркнуто: связь с сестрой, с женой Аркадия]... Опять игра; близкие сношения с Волконской, делает ей предложение. "Вы одна не поддались мне" Она думает. Он сходится с танцовщицей, бьет ее. Потехи со старушками. Шулер- ничает. Убивает за то полковника». Потом Петр вдруг читает «Contrat Social» Руссо, потом идет в партизаны, «делает чудеса», потом «имеет целью революцию». Это какой-то авантюрный герой — без меры и без психологии. Ни масонов, ни Платона Каратаева и в помине еще нет. Никаких смертей не предполагалось — роман должен был кончиться всевозможными свадьбами, разрешающими все семейные конфликты и распутывающими все сюжетные узлы: «Все хорошо, что хорошо кончается». В таком виде, с картинками Башилова, роман намечен был к выходу в 1866 году. Он, конечно, не был бы ни в каком смысле «эпопеей».
Можно сказать уверенно, что весь роман в первоначальном замысле стоял по жанру многими ступенями «ниже» того, который получился. Это должен был быть совсем не «исторический», а семейный роман, происшествия которого развертывались бы в некоторой связи с военными событиями 1812г. Наполеон должен был служить одной из психологических мерок для персонажей — одни его обожают, другие презирают. Военные главы должны были вносить разнообразие тона и помогать переходам от одних персонажей к другим. Примерно так же, только совсем наивно, без мыслей об антиисторизме, без противопоставления современности, строились и романы Зотова. Целые главы в его романах отведены отступлениям, описывающим 1812 г., — но только для того, чтобы потом вернуться к действующим лицам, которые влюбляются, разлучаются, ищут друг друга, подвергаются опасностям и, наконец, женятся. Часто романам Зотова не хватает, в отношении жанра и конструкции, очень немногого, чтобы приблизиться к «Войне и миру». Конечно, нет в них смелости толстовского параллелизма, приводящего от одной сюжетной линии к другой, нет стилистических контрастов и «яснополянского» языка в диалогах. Но общее очертание семейно-исторической хроники, комбинирующей два плана, уже налицо. Разница в том, что хроника эта связана с лубочным жанром авантюрного романа — с тайнами рождения, со злодеями и пр.
В романе «Две сестры, или Смоленск в 1812 году» (указанном в списке Е. А. Берс) многие главы посвящены описанию военных событий 1812 г. — и сделано это с знанием материала и с умением подать его: «В истории России наступал знаменитый 1812 год. Хотя дипломатические переговоры и деятельно еще продолжались; хотя все политики и уверены были, что тогдашний повелитель западной Европы, Наполеон, не пойдет в Россию, оставя за собой Испанию с Англиею, оспаривающие его владычество на Пиринейском полуострове, униженную Австрию, подавленную Пруссию и всю прочую вассальную Германию, которые все ждали только благоприятного случая, чтобы разорвать свои постыдные оковы; но как мало-помалу французские войска приближались к русским границам, то и Россия начала приготовляться к оборонительной войне, если б новый Карл XII вторгся в ее пределы. Со всех концов обширной империи стекались к западным границам ее войска, пламеневшие ревностью еще раз померяться силами с ратоборцами своими при Аустерлице, Эйлау и Фридланде. Никто, конечно, не воображал, чтоб нашествие врагов могло далеко проникнуть в сердце России. Двина и Днепр почитались крайнею чертою возможного отступления русских». Такие описания сменяются традиционными переходами: «Но событие великой эпохи увлекло нас. Мы должны обратиться к семейным происшествиям: и тут драма была ужасная» и т. д. Потом новое описание — и новый переход: «Но великие воспоминания отвлекли нас от нашего рассказа частных семейных событий. Возвратимся к ним». Интересно, что кончается роман уже эпохой 1825 г. — правда, без всяких намеков на декабристов, а только с веселой свадьбой. Но ведь и эпилог «Войны и мира» мало чем отличается от такого финала. Основная разница в том, что домашность, семейственность толстовского романа была принципиальной, тенденциозной, между тем как у Зотова она была просто традиционной фабулой. Карикатурист «Искры» был не совсем неправ, когда, изобразив Толстого за работой (у конторки), разбросал по полу, в качестве основных источников, «Аглицкого милорда Георга», «Леонида» Зотова и «Рославлева» Загоскина. А если бы роман Толстого вышел в том виде, в каком он набросан в конспектах 1863 г., можно было бы даже обойтись без Загоскина.
В работе Толстого над романом надо различать, по крайней мере, четыре периода: работа 1863 г. — после прекращения «Декабристов» идо поездки в Москву в декабре 1863 г. (свидание с Погодиным); работа 1864 г. — после «Зараженного семейства» и до осени 1864 г. (написано 10 печ. листов, потом — падение с лошади и поездка в Москву, где чтение Жемчужникову и Аксакову); работа 1865-1866 г. (название «Все хорошо, что хорошо кончается», намерение кончить к 1867 г.) и работа 1867-1869 г. (название «Война и мир», выход отдельными томами, свидания с С. Урусовым, Ю. Самариным, М. Погодиным и переписка с ними). Я говорю пока только о первых двух периодах.
Бросающееся в глаза при чтении конспектов отсутствие собственно-исторических лиц и событий специально мотивировано в одной из ранних редакций начала. Это еще совсем не философия истории, а тот самый антиисторизм, которым Толстой вооружился в борьбе с современностью и с «Современником». Как видно по этой редакции, Толстой, действительно, намерен был совершенно обойти исторический материал — и именно потому, что самый историзм, самый принцип «исторического воззрения» отвергался им. Вот отрывок из этой редакции, демонстрирующий антиисторическую позицию Толстого: «Люциан Бонапарт был не менее хороший человек, чем его брат Наполеон, а он почти не имеет места в истории. Сотни жирондистов, имена которых забыты, были еще более хорошие люди. Сотни и тысячи не жирондистов, а простых людей Франции того времени были еще лучшими людьми. И никто их не знает. Разве не было тысячи офицеров, убитых во времена войн Александра, без сравнения более храбрых, честных и добрых, чем сластолюбивый, хитрый и неверный Кутузов? Разве присоединение или неприсоединение Папской области к Французской империи насколько-нибудь могло изменить, увеличить или уменьшить любовь к прекрасному работающего в Риме художника? Или изменить его любовь к отцу и к жене? Или изменить его любовь к труду и к славе? Когда с простреленной грудью [Раевской] [Тучков][505] офицер упал под Бородиным и понял, что он умирает, не думайте, чтоб он радовался спасению отечества и славе русского оружия и унижению Наполеона. Нет, он думал о своей матери, о женщине, которую он любил, о всех радостях и ничтожестве жизни, он поверял свои верованья и убеждения; он думал о том, что будет там и что было здесь. А Кутузов, Наполеон, великая армия и мужество россиян — все это ему казалось жалко и ничтожно в сравнении с теми человеческими интересами жизни, которыми мы живем прежде и больше всего и которые в последнюю минуту живо предстали ему. Историки — les chroniqueurs des fastes de l'histoire, видят только выступающие уродства человеческой жизни и думают, что это сама жизнь». Далее идет тот период, о котором я говорил в связи со вступлением к «Декабристам». Кончается весь этот период так: «Но не Наполеон и не Александр, не Кутузов и не Талейран будут моими героями, я буду писать историю [людей более свободных, чем государственные люди] людей, живших в более выгодных условиях для человеческой борьбы между добром и злом, людей свободных от бедности, от невежества [и независимых людей], но зато свободных и от обязанностей власти, историю людей, не имевших тех недостатков, которые нужны для того, чтобы оставить следы на страницах летописей».
Итак, история и исторические или государственные люди еще раз осуждены Толстым с моральной точки зрения. Особенно замечательно то, что в этой ранней антиисторической концепции и Кутузов оказался «сластолюбивым, хитрым и неверным». Вспоминается восклицание в школе: «Плох твой Кутузов!» Толстой и тогда никак особенно не реагировал на это восклицание. Иное отношение к Кутузову явилось, очевидно, в связи с общим изменением и повышением жанра, определившимся позже. В своем антиисторизме Толстой дошел до столь радикальных точек зрения, что стал, пожалуй, не менее нецензурным, чем радикалы противоположного лагеря. Это — новый образчик того нигилизма справа, о котором я не раз говорил раньше. П. Вяземский был по-своему прав, когда отнес роман Толстого, даже в его окончательной редакции, к разряду исторической нетовщины, а автора зачислил в состав представителей «нравственно-литературного материализма». Он спутал Толстого с «отрицателями», но это-то и характерно. Антиисторический, домашний анархизм Толстого, противоположный материалистическому историзму Чернышевского, в некоторых выводах естественно соприкасался с ним. Толстой писал в одной из редакций: «Жизнь с своими существенными интересами здоровья, болезни, богатства, бедности, любви брата, сестры, сына, отца, жены, любовницы, с своими интересами труда, отдыха, охоты, страсти — мысли, науки, музыки, поэзии, шла вне указов о министерствах и о коллегиях, как и всегда идет вне всех возможных правительственных распоряжений»[506].
Это было старое дворянское фрондёрство — ирония вправо; рядом с этим уживалась ирония влево, которой П. Вяземский не заметил, но хорошо заметили другие. Описывая в ранней редакции кутеж у Анатоля, Толстой заявляет, что он любит жизнь людей высших классов и предлагает читателю захлопнуть книгу и объявить автора идиотом, ретроградом и Аскоченским. Это адресовано прямо в редакцию «Современника», который писал в 1862 г.: «К своему имени, подписанному под статьей "Воспитание и образование", гр. Толстой и теперь мог бы прибавить напр. имя г. Аскоченского и других». Сопоставить имя Толстого с именем редактора «Домашней беседы» значило объявить его крайним ретроградом. Толстой не забыл этого. В первой главе ранней редакции, когда роман назывался еще «Три поры», Толстой, описывая старика Волконского («Генерал-аншеф»), сделал специальное отступление злободневного характера: «Мужики как этой деревни, так и всех других деревень князя, без чувства особенного рабского уважения, благоговения почти, не вспоминали и теперь еще — старики — не вспоминают о князе. Строг, но милостив был, как и всегда говорят они. Главное, что чувствуется в их похвалах — (тоже как и всегда бывает) это благодарность князю за то, что тот, кому они поклонялись и работали, был князь, генерал-аншеф, человек совершенно не похожий на них, никогда не доходивший ни до каких подробностей, никогда не приравнивавшийся к ним, гордый и чуждый для них. Как бы мне ни хотелось расстраивать читателя необыкновенным для него описанием, как ни хотелось описать противу- положное всем описаниям того времени, я должен предупредить, что князь Волконский вовсе не был злодей, никого не засекал, не закладывал жены в стены, не ел за 4-х, не имел сералей, не был озабочен одним поронием людей, охотой и распутством, а, напротив, всего этого терпеть не мог и был умный, образованный и столь порядочный человек, что, введя его в гостиную, теперь никто не постыдился бы за него... Он был, одним словом, точно такой же человек, как и мы люди, с теми же пороками, страстями, добродетелями и с тою же и столь же сложною, как и наша, умственной деятельностью».
Если выше антиисторизм обосновывался теоретически, то здесь он проявляется уже на практике: мужики говорили тогда, как и теперь, как и всегда; Волконский был точно такой же человек, как и мы. Тургенев сказал бы, что Толстой «закусил удила». Это так и было.
4
Редакция 1863 г. («Три поры») начиналась прямо с 1812 г. Мысль о том, что нужно начать роман с 1805 г., явилась у Толстого, вероятно, после поездки в Москву (в декабре 1863 г.) и свидания с М. Погодиным, отношения с которым установились именно с этого времени и имели большое значение для работы над романом. К концу 1863 г. или к началу 1864 г. относится письмо Толстого к Погодину, в котором он пишет: «Посылаю вам, многоуважаемый Михаил Петрович, нечаянно завезенную мною сюда вашу статью. Извините, что не отослал ее в Москве и не заехал поблагодарить Вас... Вечер, проведенный у вас, оставил во мне самые хорошие воспоминания; желал бы, чтобы они были такие же и для вас». Погодин был занят в это время составлением биографии А. П. Ермолова, печатавшейся в «Русском вестнике» 1863 г. и вслед за этим вышедшей отдельной книгой[507]. Надо полагать, значит, что вечер, проведенный Толстым у Погодина, был заполнен беседой на исторические темы и, конечно, на тему о войне 1812 г. Погодин тут же, по-видимому, дал Толстому ряд указаний и снабдил его книгами, которые посылались ему и после. 1 октября 1864 г. Толстой пишет ему: «Очень благодарен вам, уважаемый Михаил Петрович, за присылку книг и писем; возвращаю их назад, прося и вперед не забыть меня, коли вам попадется под руку что-нибудь по этой части. За что вы на меня сердитесь? Взятое у вас я тогда же возвратил вам — записку Корфа, а потом биографию Ермолова». Если к знакомству с Погодиным присоединить знакомство с П. И. Бартеневым, начавшим тогда издавать «Русский архив», то можно сказать уверенно, что именно поездка в Москву в декабре 1863 г. была первым поворотным пунктом в работе над романом. Исторические книги, рукописные материалы и беседы с Погодиным и Бартеневым должны были повлиять на Толстого и заставить его изменить первоначальный план, а отчасти и жанр романа.
Вероятно, именно в связи с этой естественной остановкой или паузой Толстой взялся за комедию, после окончания которой вернулся к работе над новой редакцией романа. В одном из набросков предисловия, относящемся, как я думаю, к 1864 г., Толстой говорит: «Но и в третий раз я оставил начатое, но уже не потому, чтобы мне нужно было описывать первую молодость моего героя, напротив, — между теми полуисторическими, полуобщественными, полувымышленными великими характерными лицами великой эпохи, личность моего героя отступила на задний план, а на первый план стали с равным интересом для меня и молодые и старые люди, мужчины и женщины того времени». Это признание интересно именно тем, что оно свидетельствует об отступлении от первоначального, исключительно семейного плана, о переходе от семейной хроники, с «героем» в центре, к несколько другому жанру, захватывающему представителей и деятелей «великой эпохи». Надо полагать, что большую роль в этом повороте сыграл Погодин. В том же предисловии Толстой далее пишет: «В третий раз я вернулся назад по чувству, которое, может быть, покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением которых я дорожу; я сделал это по чувству, похожему на застенчивость и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости при чтении патриотических сочинений о 12 годе? Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений». Весь язык и самая тема этого комментария обнаруживает следы каких-то влияний и бесед — и влияний, идущих именно со стороны историков и публицистов славянофильского толка: Погодина, И. Аксакова. Вероятно, их и подобных им имеет в виду Толстой, когда говорит о читателях, мнением которых он дорожит.
Как бы то ни было, роман приобретал новые очертания, превращаясь из семейного в военно-семейный и требуя для себя новых материалов и нового построения. Об этом Толстой и говорит в том же предисловии: «Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 году, я с этого времени намерен провести уже не одного, а многих моих героев и героинь через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 годов. Развязки отношений этих лиц я не предвижу ни в одной из этих эпох. Сколько я ни пытался сначала придумать романическую завязку и развязку, я убедился, что это не в моих средствах, и решил в описании этих лиц отдаться своим привычкам и силам. Я старался только, чтобы каждая часть сочинения имела независимый интерес». Здесь совершенно ясно формулирован отход от первоначального жанра — обычного романа с героем, с завязкой и развязкой (вроде романов Зотова) — к хронике большого масштаба.
К осени 1864 г. Толстой написал десять листов романа — кончая отъездом кн. Андрея из Лысых Гор на войну. Вся эта часть — исключительно семейная, вводящая в роман главных персонажей: Пьера, семью Ростовых и семью Болконских. Основным материалом для этой части послужили прочитанные раньше «Записки современника» (С. П. Жихарева) и письма М. А. Волковой к В. И. Ланской. Из «Записок современника» был взят материал для описания московской жизни и жизни в доме Ростовых; из писем Волковой — материал для переписки княжны Марьи с Жюли Карагиной и некоторые детали, а иногда и имена. Так, в письме от 24 июня 1812 г читаем: «Гагарины тоже достойны сожаления. Кн. Андрей решается отправиться в поход и предоставляет жене справиться с родами как знает». По- видимому, именно эта фраза дала имя Андрею Болконскому и определила его поведение в начале романа. Эта часть романа — особенно в том виде, как она была напечатана в «Русском вестнике» (в отдельном издании она подверглась значительным переделкам) — обнаруживает еще близкую связь с редакцией 1863 г. Пьер ходит здесь еще тем «героем», которому предстоит главная роль; наоборот, кн. Андрей, иронически поданный, относится еще к той стадии работы, о которой сам Толстой писал JI. И. Волконской — в ответ на ее вопрос, кто описан в лице кн. Андрея: «В Аустерлицком сражении, которое будет описано, но с которого я начал роман, мне нужно было, чтобы был убит блестящий молодой человек; в дальнейшем ходе самого романа мне нужно было только старика Болконского с дочерью, но так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо, я решил сделать блестящего молодого человека сыном старого Болконского. Потом он меня заинтересовал, для него представилась роль в дальнейшем ходе романа, и я его помиловал, только сильно ранив вместо смерти»[508].
В этом письме очень точно зафиксировано именно то, что нам сейчас важно — процесс изменения романа; оно прекрасно демонстрирует то, с чем некоторые теоретики, возлюбившие идею «единства», никак не хотят согласиться, принимая за личное оскорбление мысль о том, что роман — особенно такой большой, как «Война и мир» — растет и меняется в процессе работы, что не все в нем заранее обдумано и слажено, что автор растет вместе со своим романом и поэтому начальные части, хотя бы и в измененном виде, имеют больше связей с ранним замыслом, чем последующие. Это особенно сказывается в мотивировочном материале — в пространственных и временных «ошибках», которые возникают в результате свода редакций. Указание Толстого на то, что роман был начат с Аустерлицкого сражения, относится, очевидно, не к первоначальной стадии, начатой с 1812 г. («Три поры»), а к редакции 1864 г. Это подтверждается и тем, что в ранних конспектах никакого Андрея Болконского еще нет, а есть только старик Болконский с дочерью. Андрей появился в редакции 1864 г. как лицо совершенно эпизодическое, как «блестящий молодой человек», при помощи которого нужно было дать описание Аустерлицкого сражения; слова о том, что «неловко описывать ничем не связанное с романом лицо» и что потому пришлось молодого человека сделать сыном старика Болконского, с необыкновенной ясностью вскрывают мотивировочную природу родственных связей, получающих особо важное значение в связи с ослабленностью фабульных связей. Очень часто бывает, что мотивировочный элемент получает потом более важное значение и оказывается уже элементом сюжетным; так и вышло с кн. Андреем, для которого потом «представилась роль», и пришлось «помиловать» — т. е. перевести его из сословия мотивировочных элементов в сословие элементов сюжетных.
В редакции «Русского вестника» кн. Андрей еще носит на себе следы предварительного мотивировочного состояния. Его роль короткая — он должен погибнуть в Аустерлицком сражении, а поэтому его не нужно особенно углублять и психологизировать. Естественно, что при переработке этой первой части романа для отдельного издания (1868 г.), в котором кн. Андрею «представилась роль», Толстому пришлось внести значительные перемены в характеристику именно этой фигуры. В «Русском вестнике» появление кн. Андрея в салоне А. П. Шерер описано так: «Он был один из тех светских молодых людей, которые так избалованы светом, что даже презирают его. Молодой князь был небольшого роста, весьма красивый, сухощавый брюнет, с несколько истощенным видом, коричневым цветом лица, в чрезвычайно изящной одежде и с крошечными ногами и руками. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до ленивой и слабой походки, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною женой». Он все время морщится и гримасничает: «С кислою, слабою гримасой, портившею его красивое лицо, он отвернулся от нее [от жены]... Он поцеловал руку Анны Павловны с таким видом, как будто готов был бог знает что дать, чтобы избавиться от этой тяжелой обязанности, и щурясь, почти закрывая глаза, и морщась, оглядывал все общество». В окончательной редакции все это отсутствует. Став персонажем сюжетным, кн. Андрей получил не только физическое помилование, но и спецальную психическую нагрузку, оспаривая, таким образом, у Пьера право на звание «героя».
Очень важно в письме Толстого к JI. И. Волконской указание на то, что роман (т. е. редакция 1864 г.) был начат с описания Аустерлицкого сражения. Этим зафиксирован момент перехода от семейного романа (редакция 1863 г.) к военно- семейной хронике. В черновых текстах имеются наброски Аустерлицкой главы: она начиналась длинным рассуждением, направленным против военной науки («Серьезные люди весьма серьезно говорят и пишут о военных науках, тактике и стратегии, а я не понимаю, для чего и что может наука при решении вопроса, кто из двух побьет другого» и т. д.), за которым следовала пародия на описания битвы. Размышления о военной науке, высказанные здесь от лица автора, будут потом, в несколько смягченном виде, вложены в уста «помилованного» и получившего важную роль кн. Андрея. Персонаж, таким образом, получил повышение и по фабульной и по идеологической линии. Вместе с тем появление этих рассуждений о военной науке и описания Аустерлицкой битвы указывают на то, что отныне в план романа введен батальный материал — не только в виде общего фона, а в качестве элемента конструкции и жанра. Тем самым Толстой возвращается к эпохе своих севастопольских рассказов — к тем годам (1855—1856), когда он, благодаря этим рассказам, сделался популярным военным писателем.
Я уже цитировал письмо Толстого к Фету и запись в дневнике С. А. Толстой, свидетельствующие о военных и воинственных настроениях Толстого в 1863 г. Мысль об участии в походе скоро отпала, но мысли о войне от этого не исчезли, а наоборот — превратились в мечту, связанную с воспоминаниями о молодости и удальстве. Очень характерно в этом отношении письмо Толстого (осенью 1864 г.) к Саше Берсу, младшему брату С. А. Толстой: «Ты описываешь свою жизнь в жидовском местечке, и поверишь ли, мне завидно. Ох, как это хорошо в твоих годах посидеть одному с собой с глазу на глаз и именно в артиллерийском кружку офицеров. Не много, как в полку, и дряни нет, и не один, а с людьми, которых уже так насквозь изучишь и с которыми сблизишься хорошо. А это-то и приятно и полезно. Играешь ли ты в шахматы? Я не могу представить себе эту жизнь без шахмат, книг и охоты. Ежели бы еще война при этом, тогда бы совсем хорошо. Я очень счастлив, но когда представишь себе твою жизнь, то кажется, что самое-то счастье состоит в том, чтоб было 19 лет, ехать верхом мимо взвода артиллерии, закуривать папироску, тыкая в пальник, который подает 4-ый № Захарченко какой-нибудь и думать: "Коли бы только все знали, какой я молодец!"»[509] Здесь Толстой вполне совпадает со своим персонажем — Николаем Ростовым. Позже к его военным настроениям присоединяются политические и общественные соображения; в феврале 1866 г. он говорит на вечере у Сушковых (как записывает С. М. Сухотин), — «что он желал бы войны для России, совсем не в смысле кровожадном или завоевательном, а как возбуждения нравственных сил народа, чтоб мы забыли на время все наши регламентации. Перед Крымской войной и в начале Польского восстания было высокое настроение духа в народе»[510].
Слово «регламентация» — один из характерных терминов эпохи. Описывая начало 60-х годов, П. Анненков говорит: «Известно, что вслед за первыми проблесками оживившейся литературной деятельности наступила у нас эпоха регламентации убеждений, мнений и направлений, спутавшихся в долгий период застоя. Русский литературный мир еще помнит, с какой энергией, с каким талантом и знанием целей своих производилась эта работа приведения идей и понятий в порядок и к одному знаменателю. На помощь к ней призваны были исторические и политические науки, философские и этические теории. Всем старым знаменам и лозунгам, под которыми люди привыкли собираться, — противопоставлялись другие и новые, но при этом постоянно оказывалось, что всего менее поддавалось регламентации именно искусство, бывшее всегда, по самой природе своей, наименее послушным учеником теорий». Слово «регламентация» взято у Анненкова курсивом именно как термин эпохи — и именно в таком смысле, в каком употребил его в 1866 г. Толстой, один из «наименее послушных учеников» тогдашних общественных и научно-исторических теорий.
Характерно, что Толстой на вечере у Сушковых вспоминал о Крымской кампании: подтверждается мысль о том, что замысел «Войны и мира» связан с воспоминаниями о Севастополе — не только как реванш (торжество над Бонапартом)[511], но и как нравоучение. Эта связь хорошо формулирована самим Толстым в публицистическом вступлении к «Декабристам»: «Состояние, два раза повторившееся для России в XIX столетии: в первый раз, когда в 12 году мы отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в 1856 году нас отшлепал Наполеон III». Самый акцент на батальном материале, явившийся результатом военных настроений Толстого 1864— 1866 гг., имеет нравоучительный смысл, обращенный к современности; война, как средство «возбуждения нравственных сил народа», противопоставлена общественной «регламентации». Отсюда — вся сознательная тенденциозность романа; почти вовсе обойдено крепостное право; игнорируется такой характерный факт, как страх помещиков перед Наполеоном, несущим с собой освобождение крестьян; война, с точки зрения солдатской массы, изображается как нечто «веселое», бодрящее, поднимающее дух, и т. д.[512]
Злободневную полемичность «Войны и мира» и ее обращенность к современности, завуалированную позднейшими критиками и историками литературы, прекрасно чувствовали некоторые тогдашние критики; но особенно хорошо ее почувствовал и заметил, как может заметить только глаз беллетриста, Н. Лесков, приветствовавший в «Биржевых ведомостях» 1869 г. роман Толстого большой статьей, занявшей несколько номеров газеты. Восторгаясь сценой смерти кн. Андрея и предвидя нападки критиков на роман, Лесков пишет: «Одно это представление дает нам чувствовать в миросозерцании автора нечто иное, непохожее на мировоззрение целой плеады других наших писателей, и мы вправе сожалеть, что сочинение графа Толстого не может ожидать себе в наше время талантливого критического разбора. Мы знаем, как глядят и как взглянут на этот том те, которые у нас считают себя критиками. Каждый из них станет прикидывать его на масштаб своих направлений, и похвалит его за то, в чем найдет нечто отвечающее его направлению, и злобно укорит за то, что ему покажется вредоносным для этого направления. Это уже было, и это будет снова, но так будет долго и долго, пока тяжелые судьбы нашей литературы будут оставлять ее без критических талантов. Графа Толстого уже упрекали в том, что он "сентиментал, фаталист и миндальник"; другие столь же глубоко проницали свойства его творчества и хвалили его за какой-то особого рода реализм, здоровый реализм, имеющий честь нравиться схоластикам-идеалистам; теперь недостает, чтобы за приведенную сцену его упрекнули в поповстве, и этому нимало не мудрено случиться, и это опять будет столь же неосновательно, как укор сентиментальности и похвала за особый реализм». Статья Лескова кончается указанием на то, что роман Толстого «имеет в наших глазах еще большее значение в приложении к решению многих практических вопросов, которые время от времени могут повторяться и даже несомненно повторятся с свойственной им роковой неотвратимостью... Если зорче осмотримся и обсчитаем весь ворох своей коробьи, повернее, то увидим, что все эти бойцы и выжидатели, все эти верующие и неверные, одухотворяющиеся и лягуше- ствующие, выскочки и хороняки, — все они опять живы, и с нами опять... Клига графа Толстого дает весьма много для того, чтобы, углубляясь в нее, по бывшему разумевать бываемое и даже видеть в зерцале гадания грядущего»[513].
В ноябре 1864 г. Толстой продал 1-ю часть романа («Тысяча восемьсот пятый год») в «Русский вестник» и начал работу над 2-й частью. По новому плану эта 2-я часть должна была быть военной, и главными персонажами ее, естественно, должны были быть Андрей Болконский и Николай Ростов. Живя в Москве (Толстой лечил руку и прожил там весь декабрь), Толстой собирал материал и пробовал писать. Но дело не шло. 7 декабря 1864 г. Толстой пишет жене: «У меня еще горе: я начинаю охладевать к своему писанью, и, можешь себе представить, ты, глупая, с своими неумственными интересами, мне сказала истинную правду. Все историческое не клеится и идет вяло. Я утешаюсь, что от этого не идет вперед. Я расклеился». 8 декабря он опять вспоминает, как С. А. сказала, «что мое все военное и историческое, о котором я так стараюсь, выйдет плохо, а хорошо будет другое, семейное, характеры, психологическое. Это так правда, как нельзя больше». С. А., со своей стороны, пишет в автобиографии: «Очень огорчало меня, когда Лев Николаевич вдруг затоскует, разочаруется в своих произведениях, пишет, что ему не нравится его роман, и ему грустно. Это было особенно сильно в 1864 году, когда он сломал руку, и я пишу ему в Москву: "Что же это ты со всех сторон оплошал? Везде тебе грустно, и все не ладится. Зачем ты унываешь и падаешь духом? Неужели сил нет подняться? Вспомни, как ты радовался на свой роман, как ты все хорошо обдумывал, и вдруг не нравится!"»
Обилие материалов (в том числе рукописных), с которыми Толстой мог познакомиться в Москве, не радовало его — наоборот: «несмотря на богатство материалов здесь, или именно вследствие этого богатства, я чувствую, что совсем расплываюсь и ничего не пишется». От тяжелого состояния Толстой лечится чтением «Рославлева» Загоскина и английских романов: «Вчера утром читал английский роман автора Авроры Флойд[514]. Я купил 10 частей этих английских не читанных еще мною романов, и мечтаю о том, чтоб читать их с тобою», — пишет он жене 8 декабря 1864 г. По всем признакам работа над сырым материалом, обильно представленным в рукописях Чертковской и Румянцевской библиотек, была Толстому не по душе, не клеилась. Это тем более естественно, что историческая часть романа, сначала совсем отсутствовавшая, явилась не в связи с интересом к материалу самому по себе, а в связи с злобой дня — как материал публицистический, обращенный к современности; что касается батальной стороны, то здесь Толстому нужны были только элементарные фактические указания — остальное должно было явиться само собой из прежнего военного и литературного опыта. Очень характерно позднейшее, напечатанное после смерти Толстого утверждение П. Бартенева, знавшего всю историю работы Толстого над источниками и потому заслуживающее полного внимания: «Дело в том, что граф Толстой вовсе не изучал историю великой эпохи; как и вообще он не давал себе труда усидчивой, постоянной работы: можно сказать, что он постоянно захлебывался воображением». При жизни Толстого Бартенев молчал, и даже статья ветерана П. С. Деменкова (написанная в 1876 г.), из вступительной заметки, к которой я взял приведенную цитату, оказалась напечатанной в «Русском архиве» только в 1911 году — вероятно, потому, что написана в слишком резком тоне.
В. Шкловский был совершенно прав, когда заявил, что количество прочтенных Толстым для романа источников было совсем не так велико, как принято об этом говорить. Весьма вероятно, что Загоскину для своего «Рославлева» пришлось произвести гораздо большую работу над фактическим материалом — особенно если принять во внимание, что тогда не было таких готовых пособий, как Михайловский-Данилевский и Богданович. Толстой читал и выбирал исторический материал только до того момента, когда ему становилось ясно, что с ним сделать, и только для того, чтобы иллюстрировать то, что ему хотелось доказать. А так как в основе исторических глав и характеристик продолжал лежать тот же полемический антиисторизм, то и выбор материала делался совсем не так, как он делается историком или беллетристом иного, чем Толстой, типа. Толстому нужен был прежде всего простор, и потому для него характерно вовсе не количество материалов, а их качество. Так, не имеющие никаких исторических претензий «Воспоминания очевидца» или портреты генералов («которые мне были очень полезны», сообщает он жене из Москвы) Толстому важнее и интереснее, чем архивные материалы или специальные исследования. Ему нужны либо бытовые и психологические детали, либо общие утверждения. Совершенно незачем изображать Толстого ученым исследователем и кропотливым историком, когда он им не был и не мог быть. Количество материала, с которым можно познакомиться, произвело на него сначала, как это и должно было быть, настолько удручающее впечатление, что он даже остановил работу и «расклеился». Работа возобновилась не потому, что он преодолел весь этот материал, а потому, что он отошел от него и понял, как ему с ним распорядиться.
5
Вернувшись из Москвы, Толстой в феврале-марте 1865 г. взялся за продолжение романа. Первая часть, почти насквозь семейная и тем самым очень близкая к мемуарному жанру, не понравилась даже в том кругу, на который Толстой рассчитывал. 18 февраля 1865 г. П. Анненков пишет Тургеневу: «Рус. вестн. напечатал начало романа Л. Толстого: 1805 год — изумительное по подметке бесконечно малых и по картине нравов, а еще больше, что ничего из этого не выходит в сущности. Вот и разница между мемуаром и романом: скажи тот, что вот какие были люди — прелестно, а когда роман говорит только — вот какие были люди, то ответишь: чёрт с ними! Так по крайней мере со мной было»[515]. По этому отзыву видно, между прочим, что вопрос о разнице между мемуарным жанром и жанром романа был тогда очередным. Роман Толстого воспринимается на фоне не беллетристики, а исторической и мемуарной литературы. А. Д. Блудова писала П. Анненкову (4/16 марта 1865 г., из Ниццы): "1805 год" Толстого не слишком нравится мне, — больше плохого французского языка, чем русского, и несвязные разговоры без всякого интереса. — Может быть, это только введение в роман, но скучновато — а кн. Вяземский говорит, что даже и неверно. Если лица вымышленные, то безжизненные. — Если портреты, то не довольно похожи, чтобы можно было annoncer les masques»[516].
Последний упрек очень характерен: если это исторический роман, то читателю нужно видеть в персонажах портреты знакомых по историческим книгам лиц и узнавать их. Вне этого исторический роман кажется чем-то вроде вымышленного мемуара, т. е. фальсификацией, не вызывающей никакого интереса («чёрте ними!»). Романы зотовского типа, адресованные в иной, мало образованный круг читателей, имели успех, потому что знакомили с ходом исторических событий и возбуждали патриотические чувства. Роман Толстого не обещал и этого, а выведенные им вначале персонажи или вовсе не соотносились ни с какими историческими фигурами, либо были так завуалированы, что узнать их было трудно. Ни одно лицо не было явным портретом — процесс узнавания был затруднен обычным для Толстого методом слияния в одном персонаже нескольких прототипов. Так, старик Болконский, который до сих пор считается списанным с деда Толстого (Николая Сергеевича Волконского), списан не только с него, а в гораздо большей степени с фельдмаршала М. Ф. Каменского (старшего), о котором Толстой мог узнать много подрбностей и у А. Д. Блудовой, описавшей его в своих воспоминаниях, и у П. Бартенева, напечатавшего в 1868 г. письма Каменского к сыну. В комментарии к этим письмам Бартенев дает авторитетное свидетельство, не замеченное или забытое всеми исследователями: «Если позволительно лиц исторических сравнивать с лицами, созданными художественным творчеством, то нам кажется, что гр. М. Ф. Каменский напоминает чрезвычайно старика князя Болконского в книге: "Война и мир". Даже и внешняя физиономия, как описывают ее люди, знавшие гр. Каменского, удивительно похожа»[517]. Можно еще прибавить, что не только физиономия, но манера говорить, интонации взяты, по-видимому, из этих самых писем к сыну. В первоначальных редакциях, изображающих старика Болконского более грубыми и резкими чертами (любовница Александра и пр.), сходство было еще сильнее. А. Д. Блудова пишет о Каменском: «Сластолюбивый деспот, он, как многие богачи того времени, был неразборчив в своих связях, и наконец подпал под влияние грубой, даже некрасивой женщины, и, как сказано, проводил с нею в деревне все свободное от службы время; в Москве же, в своем законном семействе, он являлся каким-то повелителем, грозою всех домашних»[518]. К этим же воспоминанием А. Д. Блудовой (с которой Толстой был давно и хорошо знаком) восходят, по-видимому, и такие фабульные моменты романа, как желание Ростовых женить Николая на кн. Марье, и самый образ кн. Марьи; Блудова вспоминает: «Между тем мать его [т. е. молодого Каменского, Николая Михайловича] в Москве выбрала ему знатную, богатую невесту, добрую, с нежным сердцем, с пламенным воображением, но необыкновенно дурную собой, графиню Анну Алексеевну Орлову-Чесмен- скую; она полюбила Николая Михайловича; его красивая наружность, ловкость, воинская слава, все в нем пленяло ее, но в ней было болезненное сознание своей непривлекательности и неотступная мысль о корыстолюбивых планах своих женихов». Так, переплетая мемуарный материал с семейным и сводя разных лиц в одно новое, Толстой затушевывал свои прототипы и отнимал у читателя возможность узнавания.
Известно, что некоторые персонажи романа (особенно женские) писаны Толстым прямо с членов своей же семьи; в этом смысле многие главы «Войны и мира» носят совершенно домашний характер и как бы нарочно адресованы в интимный семейный кружок, который один может понять (т. е. «узнать») персонажей романа. Иначе говоря, эти главы романа написаны как интимный мемуар. С. А. Толстая сообщала сестрам 11 ноября 1862 г.: «Девы, скажу вам по секрету, прошу не говорить, Левочка, может быть, нас опишет, когда ему будет 50 лет». Это и было сделано. Понятно, что в семейном кругу роман слушали с напряженным интересом — и именно потому, что всех увлекал процесс узнаванця. Т. А. Кузминская описывала в письме к Поливанову, как Толстой в конце 1864 г. читал свой роман в семейном кругу: «Про семью Ростовых говорили, что это живые люди, а мне-то они как близки! Борис напоминает вас наружностью и манерой. Вера — ведь это настоящая Лиза. Ее степенность, отношение к нам верно, т. е. скорее к Соне, а не ко мне. Графиня Ростова — живая мама, особенно как она со мной. Когда читали про Наташу, Варенька Перфильева хитро подмигнула мне, но, слава богу, кажется, никто не заметил. Но вот, будете смеяться: моя большая кукла "Мими" попала в роман. Помните, как мы Сашу Кузминского венчали с ней, и я настаивала, чтобы он поцеловал ее, а он не хотел и повесил ее на дверь. Да, многое найдете в романе знакомого нам. Пьер понравился меньше всех. А мне больше всех. Я очень люблю таких. Маленькую княгиню хвалили дамы, но не нашли, с кого писал ее Лев Николаевич... На дамской половине стола начались разговоры, кого описал Лев Николаевич, и многих называли, а Варенька вдруг громко сказала: "Мама, а ведь Мария Дмитриевна Офросимова это вы, она вас так напоминает" — "Не знаю, Варенька, меня не стоит описывать" — сказала Анастасия Сергеевна [Перфильева], как всегда, решительно и скороговоркой. Левочка засмеялся и ничего не сказал... Но знаете, что Варенька правду сказала. По-моему, вышла смесь Марии Аполло- новны Волковой и А. С. Перфильевой. Ипполит, вы знаете, кого напоминает?» Еще до получения этого письма Поливанов, прочитав в «Русском вестнике» первую часть романа, пишет о том же Кузминской: «Верно вы прочли "1805 год" Много вы нашли знакомого там? Нашли и себя: Наташа так ведь напоминает вас? А в Борисе есть кусочек меня; в княжне Вере — кусочек Ел. Андр. и Софьи Андреевны есть кусочек, и Пети есть кусочек. А свадьба-то моя с Мимишкой — тоже не забыта. Я с удовольствием прочел все, но особенно сцену, когда дети вбегают в гостиную. Тут очень много знакомого мне. А поцелуй Наташи не взят ли Львом Николаевичем из действительности тоже? Вы, вероятно, рассказали ему, как когда-то лобыз- нули кузина вашего. Уж не с этого ли взял он. Вам, верно, знакомы все личности, с которых списывал Лев Николаевич или у которых он брал какую-нибудь черту для характера своих героев. Если знаете что-нибудь в этом роде, то не откажитесь черкнуть нам грешным». В ответном письме Кузминская, между прочим, рассказывает, что Наташу Толстой списывал с нее: «Боюсь, опишет историю с Анатолем. Папа не хочет этого, он будет сердит, он говорит: "Знакомые узнают Таню". А мама говорит: "Да ее после этого никто замуж не возьмет" Тихомиров, описывая тульского помещика Коптева, вспоминает: «Когда у них в долгие зимние вечера читали новинку того времени — "Войну и мир" Толстого, старая нянюшка Коптевых узнавала в героях романа семейных знакомых и сама говорила: "Вот это такой-то, этот такой-то"»39.
Вот каков был процесс и характер восприятия в кругу родных и знакомых. Для широкого круга читателей эти эмоции узнавания, превращавшие роман в семейный мемуар, отсутствовали. Совершенно ясно, что Толстой, пойдя таким своеобразным путем, рассчитывал не на узнавание, а на ощущение конкретной и интимной домашности. Путь был выбран приципиально — как вывод из антиисторизма. Тем самым, действительно, роман из исторического превращался в антиисторический. В литературу, в противовес общественным и политическим темам, была пущена принципиальная и густая домашность. Из писем Анненкова и Блудовой видно, что эта тенденция романа была не понята — домашность вызвала недоумение. Не понял ее и Тургенев, который 16/28 марта писал к И. П. Борисову (приятелю Фета и Толстого): «К истинному своему огорчению, я должен признаться, что роман этот мне кажется положительно плох, скучен и неудачен. Толстой зашел не в свой монастырь, и все его недостатки так и выпятились наружу. Все эти маленькие штучки, хитро подмеченные и вычурно высказанные, мелкие психологические замечания, которые он под предлогом "правды" выковыривает из-под мышек и других темных мест своих героев, как это все мизерно на широком полотне исторического романа! И он ставит этот несчастный продукт выше "Казаков"! Тем хуже для него, если это он говорит искренно. И как это все холодно, сухо, как чувствуется недостаток воображения и наивности в авторе, как утомительно работает перед читателем одна память мелкого, случайного, ненужного. И что это за барышни! Всё какие-то золотушные кривляки. Нет, этак нельзя; так пропадешь, даже с его талантом. Мне это очень больно, и я желал бы обмануться»[519]. Характерно, что Тургенев исходит в этом отзыве из предпосылки о «широком полотне исторического романа», не видя, что именно этой предпосылки у Толстого нет, а есть предпосылка совсем иного содержания. 23 января 1865 г., перед выходом «Русского вестника» с началом романа, Толстой писал Фету: «На днях выйдет первая половина 1-й части 1805 года. Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение да еще мнение человека, которого я не люблю тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого — мнение Тургенева. Он поймет. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера; печатаемое теперь мне хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступление. Но что дальше будет — беда!!! Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю; только бы не ругали, а то ругательства расстраивают ход этой длинной сосиски, которая у нас, нелириков, так туго и густо лезет». Надо полагать, что «ругательства» Тургенева не были сообщены Толстому.
Итак, Толстой приступил к войне, сохраняя, конечно, принципы антиисторизма и домашности, но изменяя жанр. Отныне роман должен был строиться на сочетании двух контрастирующих планов и, тем самым, двух контрастных стилей. В связи с этим встали совсем новые вопросы и потребовались новые источники. Явился вопрос о конструкции, до сих пор мало беспокоивший Толстого. Пока роман писался в семейном плане, трудность заключалась только в выборе персонажей и в определении судьбы каждого из них. Об этом Толстой и писал Фету 17 ноября 1863 г.: «Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний, для того, чтобы выбрать из них 1/тт — ужасно трудно. И этим я занят». Теперь явились трудности другого рода. По дневникам 1865 г. видно, что именно в этот момент ломался и строился заново весь план и весь жанр романа. После пережитого в декабре 1864 г. разочарования Толстой возвращается к работе: «Надо написать свой роман и работать для этого» (19 марта 1865 г.). 20 марта записано: «Крупные мысли! План истории Наполеона и Александра не ослабел. Поэма, героем которой был бы по праву человек, около которого все группируется, и герой — этот человек».
Здесь особенно знаменательно появление слова поэма — как обозначение того, что изменился не только план, но и жанр, и изменился именно в сторону «повышения», приближения к жанру поэмы. В записи от 30 сентября 1865 г., говоря о том, в чем есть поэзия романиста, Толстой пишет: «в картине нравов, построенных на историческом событии — Одиссея, Илиада, 1805 год». Об этой перемене свидетельствует и выбор книг для чтения: с одной стороны — «Фауст» Гёте, с другой — «Chronique de Charles IX» Мериме и «The Bertrams» Троллопа. О «Фаусте» записано: «Поэзия мысли и поэзия, имеющая предметом то, что не может выразить никакое другое искусство. А мы перебиваем отрывки от действительности живописью, психологией и т. д.». Эта мысль относится именно к вопросу о жанре и ставит его очень серьезно и глубоко: не отойти ли от «мелочности», от психологических деталей, и не поднять ли роман на степень «поэзии мысли», на степень философской поэмы? Этой записью, как я думаю, фиксируется момент, когда Толстой стал думать о вводе в роман, кроме семейного и военного материла, материала иного, скрепляющего те два и возвышающего весь жанр, — материала философского: мысль, потом осуществленная вводом философско-исторических глав, имевших большое и жанровое и конструктивное значение. Но об этом — ниже. Роман Троллопа изучался Толстым как образец сюжетного строения; 2 октября 1865 г. он с огорчением записывает в дневнике: «Писал. Но я отчаиваюсь в себе. Троллоп убивает меня своим мастерством. Утешаюсь, что у него свое, а у меня свое. Знать свое — или скорее что не мое — вот главное искусство. Надо мне работать, как пьянист». На другой день он записывает: «Кончил Троллопа. Условного очень много»[520]. Последние слова относятся, очевидно, к конструкции — к условностям завязки фабульных узлов и их развязки. От этих условностей Толстой решил отказаться, идя своим, уже прежде подготовленным, путем — путем контрастного параллелизма сюжетных линий, скрещения которых намечаются только пунктиром. Если избегать графических терминов, то эту конструкцию можно коротко назвать конструкцией перебивок, конструкцией не по принципу фабулы, а по принципу монтажа кусков.
Перемена жанра потребовала и новых источников — и именно для военных глав. Кроме Михайловского-Данилевского, Богдановича и Тьера, Толстой в 1865 г. читает воспоминания Мармона — «M6moires du Mar6chal Marmont, due de Raguse» (Paris, 1857, 9 томов). Об этом сочинении очень одобрительно отзывался еще Герцен в статье «Западные книги» — наряду с книгами Мишле, Прудона и Шарраса: «Из "Записок" особенно замечательны последние тома «Мемуаров» маршала Map- мона, испортившие много корсиканской крови в бонапартовской семье. Иначе и быть не могло: пучки лавровых венков развязал герцог рагузский, чтоб наделать из них простые розги. С каждым годом исчезает больше и больше prestige солдатской империи, и отяжелевший Наполеон, заменяющий упорными капризами тухнущий гений, окруженный своими кондотьерами в герцогских мантиях, готовыми предать его, как предали ему республику, являются совсем иными в записках Мармона, нежели в песнях Беранже и литографиях времен Карла X»[521]. Здесь уже вполне ясно намечена та трактовка Наполеона, которая развита Толстым. Чтение воспоминаний Мармона привело Толстого и к новым «крупным мыслям», и к окончательной перемене плана и жанра. Перед той записью о «поэме», которую я цитировал выше, Толстой записывает, в виде сжатого конспекта, то, что его заинтересовало в книге Мармона. Это — известная, часто цитирующаяся запись от 19 марта 1865 г., которая начинается словами: «Я зачитался историей Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю — роман Александра и Наполеона». При сличении следующей затем программы-конспекта с книгой Мармона совершенно ясно, что Толстой «зачитался» именно ею. Например, фраза Толстого: «Наполеон, как человек, путается и готов отречься от 18 брюмера перед собранием» явно соответствует следующим словам Мармона: «Bonaparte, peu accoutumd к la resistance, tout к fait Stranger аи spectacle imposant qu'offre toujours une assemble rdunie et constitute d'aprfcs les lois du pays, fut peut-etre plus frapp6 alors qu'il ne l'avait 6t6 au ddbut, de la hardiesse de son entreprise et de son irregularity il hdsita, balbutia, et joua un role peu digne de son esprit, de son courage et de sa renommde. Si on eOt rendu sur-le-camp le ddcret de mise hors la loi, dieu sait ce qui serait arri v6, tant les moyens ldgaux sont puissants, tant leur force est magique; mais les Conseils furent surpris»[522]. Все дальнейшее у Толстого (об Александре Македонском, о падении в лужу на Аркольском мосту и т. д.) вполне подтверждает, что источник записи — книга Мармона. Фраза Наполеона, записанная Толстым, — «De nos jours les peuples sont trop 6clair6s pour produire quelque chose de grand» — тоже приведена у Мармона (разговор с морским министром Декре). Следующая за характеристикой Наполеона характеристика Александра воспроизводит его традиционный, официальный портрет — «умный, милый, чувствительный, ищущий с высоты величия объема, ищущий высоты человеческой отреканием от престола» и т. д. Характерно, что мешающие этому портрету противоречия Толстой отводит: после слов «дающий одобрение, не мешающий убийству Павла» в скобках стоит — «не может быть». Эти слова, правда, могут быть отнесены непосредственно к последним словам — «убийству Павла»; близкий друг Толстого (о котором ниже будет много), С. С. Урусов, доказывал, что Павел умер естественной смертью. Но и в таком случае мешающее противоречие отводится. Так, отводятся в «Войне и мире» все противоречия — как об этом и было заявлено самим Толстым. К концу 1865 г., после трудной работы — с остановками, усталостью и недовольством, была закончена вторая часть романа (батареей Тушина и ранением Николая Ростова). Роман явно разрастался и принимал новые формы, о которых в начале работы Толстой не думал. 14 ноября 1865 г. он пишет А. А. Толстой: «Романа моего написана только 3-я часть[523], которую я не буду печатать до тех пор, пока не напишу еще 6-ти частей, и тогда — лет через пять — издам все отдельным сочинением». На самом деле роман оказался еще более обширным, но эту часть Толстой все же напечатал в «Русском вестнике». 1866. № 2, 3 и 4), с датой «21-го декабря 1865 г.» и с подзаголовком — «Война», противопоставлявшим ее содержанию первой части, где описывалась домашняя жизнь в Петербурге, в Москве и в провинции. В том же 1866 г. обе части вышли отдельным оттиском под названием «Тысяча восемьсот пятый год». Критика отнеслась к этой вещи довольно равнодушно. «Современник» в это время был уже закрыт. Наиболее характерная рецензия появилась в «Книжном вестнике». Здесь повторялись те же мысли; о русской беллетристике, которые высказаны были «Современником» после появления «Казаков». Привожу ее целиком:
«Имя графа Льва Толстого известно русской публике; некоторые его произведения ("Детство", "Отрочество", "Севастополь", "Рубка леса", "Два гусара") занимали видное место в русской беллетристике, даже в недавнее время ее блестящего, относительно, периода, когда имена гг. Тургенева, Писемского, Гончарова и Достоевского — пользовались полным сочувствием публики, и каждое новое их произведение давало темы для горячих толков и считалось чуть ли не событием. Давно ли было это время, а уже от него, как известно, не осталось даже и следов; все эти бывшие корифеи беллетристики, пережив свою славу, находятся в положении певцов, спавших с голоса, и благо еще г. Гончарову, что он один выказал достаточное самообладание вовремя остановиться и замолкнуть, чтобы об нем сохранилось воспоминание, как о певце с небольшим, но приятным голосом. Грустная история о том, как подобно Кравцову, гг. Тургенев и Писемский надорвались над ut diez'oM ("Отцы и дети" и "Взбаламученное море"), известна всем и каждому; известно также, что и это их не остановило и что суждено было публике прослушать и никитобезрыловские фельетоны, и "Довольно", и "Русских лгунов", и "Собаку"... г. Достоевский крепился долго, но наконец не выдержал и пошел по их следам, удивляя в наши дни публику своим ut diez'oM "Преступление и наказание" — последнее продолжение которого в восьмой книжке "Русского вестника" в состоянии вполне убедить даже самого снисходительного дилетанта, что и его, г. Достоевского, песенка спета и спета с неменьшим рыцарством и отвагою, чем пропел ее Никита Безрылов[524]. Sic itur ad astra наши литературные знаменитости — и с половины дороги возвращаются на землю обратно в виде загадочного аэролита, производя еще большее недоумение в среде русских читателей, чем произведения в роде "Записок из подполья" или "Странного пассажа в Пассаже". А между тем, в то недавнее время, о котором мы вспомнили, обратить на себя внимание в беллетристике, когда упомянутая нами плеяда светила на литературном горизонте, было не легко, для этого требовалось не мало таланта, и все-таки, писатель, представлявший несомненные его признаки, оставался на втором плане и значительно затмевался, так что произведения самого гр. Л. Толстого покойный критикА. Григорьев принял почему-то за "явление, совершенно обойденное русской критикой", хотя она вовсе не обходила и усердно занималась оценкою их, и отвела им место, и рассуждала, по своему исконному обыкновению, об них обильно и многословно. Нам даже помнится, что в начале шестидесятых годов мы читали в каком-то из журналов, преследовавших какие-то воздушно-эстетические цели, чуть ли не в "Библ. для чтения", обширный трактат в двух или трех статьях, главная мысль которого заключалась в том, что "важнейшею заслугою гр. Л. Толстого должно считаться отсутствие всякой тенденциозности". До какой степени такая похвала, похожая на поощрение мыслителя за то, что в строе его мысли нет направления — лестна, мы говорить не станем. Существует, да еще преблагополучно, целое воззрение, покоящееся на подобных положениях, а у нас ныне оно даже стремится к преобладанию, благодаря тому, что критические ферситы более живучи, чем действительные критики, не обладающие ни медными лбами, ни тем нахальством, какое проявляют различные Incognito. Дело не в этом, а в том что эстетик, писавший упомянутый трактат, обманулся (как и постоянно суждено обманываться эстетикам) даже в основном своем предположении, и граф JI. Толстой, писатель тенденциозный, что он сам поторопился доказать своими "Казаками", а пожалуй, даже и "Люцерном", хотя характер этих тенденций весьма своеобразный и даже несколько мистический. Как человек умный и талантливый, после этих произведений, граф JI. Толстой, вероятно, сознал несостоятельность многих из своих взглядов, но эти самые тенденции спасли его от той торной дороги, по которой пошли г-да Писемский, Тургенев, Достоевский, и новое его произведение " 1805 год", несмотря на все свои несовершенства, если и не возбуждает в читателе особого сочувствия, то по крайней мере — не претит, а и такое отрицательное достоинство при современном состоянии беллетристики не особенно часто радует читателя.
В томике, лежащем перед нами, перепечатаны первая и вторая часть " 1805 года", предварительно явившиеся в "Русском вестнике"; но мы прочли их в первый раз и прочли не без удовольствия. Некоторые страницы напомнили нам своею свежестью лучшие произведения этого автора, некоторые лица, выведенные им в рассказе (напр., князь Василий, княгиня Друбецкая, капитан Тушин), мастерски им очерчены, но в целом — этот "1805 год" представляет что-то странное и неопределенное. Сам автор, по-видимому, не знает, как определить свое произведение; в заглавии сказано просто "1805 год" графа Льва Толстого; и действительно, это не роман, не повесть, а скорее, какая-то попытка военно-аристократической хроники прошедшего, местами занимательная, местами сухая и скучная. Прочтя две части, нельзя дать себе отчета ни об основной идее произведения, ни понять, для чего и зачем автор выставляет своих бледных Николичек, Наташинек, Мими и Борисов, на которых невозможно сосредоточить внимания среди описаний военных действий, каких-то беллетристических реляций того времени, в чем, кажется, главный интерес произведения; не знаешь даже, фигурируют ли эти лица в рассказе в качестве героев, или по своему ничтожеству они служат отдельными группами для главного фона картины. Более удачно обрисованная личность князя Андрея приводит к тем же вопросам и недоумениям; фантомы аристократических лиц прежнего времени, за исключением уже упомянутого князя Василия, княгини Друбецкой и старого Ростова — тоже не удались автору, а между тем кроме этих лиц выведено им еще множество, и некоторые из них (Анатоль Курагин, Долохов и т. д.), кажется, в качестве главных действующих лиц; за их многочисленностью завязка произведения становится какою-то раздробленною, и неудовлетворенное внимание читателя утомляется. По прочтении 2 частей не знаешь даже, кончено ли произведение или оно служит прологом для какой-то эпопеи, чего-то оригинального и самобытного, но достаточно скучного и неопределенно-тенденциозного. Язык, которым написан "1805 год", хорош, как и во всех других рассказах Л. Толстого; но, по какому-то необъяснимому капризу, половина его действующих лиц говорит по-французски, и вся их переписка ведется на том же языке, так что книга едва ли не на треть написана по-французски, и целые страницы (напр., с 140 до 148-й I части) сплошь напечатаны французским текстом (правда, с подстрочным внизу переводом). Это оригинальное нововведение тоже действует на читателя как-то странно и решительно недоумеваешь, для чего оно могло бы понадобиться автору? Если он хотел своими цитатами, по массе своей делающимися злоупотреблением, доказать, что предки нашей аристократии начала текущего столетия, разные Болконские и Друбецкие, говорили чистым и хорошим языком, то для этого было бы достаточно одного его свидетельства, пожалуй, двух-трех фраз на книгу, и ему все охотно поверили бы, так как в этом едва кто и сомневался; поверили бы даже, что и жаргоны у них были безукоризненные, но читать книгу, представляющую какую-то смесь "французского с великорусским" безо всякой необходимости в этом, право, не составляет никакого удобства и удовольствия; еще на аристократических страницах "Русского вестника" оно более кстати, но для отдельного издания можно было бы поступиться французским текстом; впрочем, кабалистический шрифт, которым отпечатана книга, показывает, что это издание — только отдельные оттиски из знаменитого московского журнала»[525].
Эта рецензия надолго запомнилась Толстому. Как я уже указывал (в главе о Чичерине), следы от нее есть в тексте «Анны Карениной». Из людей, мнением которых Толстой дорожил, Тургенев сохранил пока свое прежнее отрицательное отношение к роману. 25 марта 1866 г. он пишет Фету: «Вторая часть 1805 года тоже слаба: как это все мелко и хитро и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, — трус, мол, я или нет? — Вся эта патология сражения? Где туг черты эпохи? где краски исторические? Фигура Денисова бойко начерчена; но она была бы хороша как узор на фоне, — а фона-то и нет». В письме от 27 июня 1866 г., возражая протир фетовских «рекомендаций инстинкта и непосредственности», Тургенев прибавляет: «Роман Толстого плох не потому, что он также заразился "рассудительством": этой беды ему бояться нечего; он плох потому, что автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то рабски списанных, современных генеральчиков».
Дружескую поддержку Толстой нашел только со стороны Фета, который энергично ободрял его. В письме от 16 июля Фет пишет: «Я искренно вас люблю — со всем как есть, с ожесточенным ловлением за ляжку барана, из которого, быть может, никогда ничего не выйдет экономического. Но я хорошо знаю, что из него выйдет самобытный пошиб толстовского писания — и что без Яснополянской школы и прогулок по зимнему лесу не было бы Льва Толстого, с "лягушкой выдумки твоей" Теперь ясно, почему я не вступаю даже в полемику с людьми, утверждающими, что в 5 годе нет 5 года, что Кутузов и Багратион списаны с современных генеральчиков etc. Для меня и это все Nebensache, я понимаю, что главная задача романа: выворотить историческое событие наизнанку и рассматривать его не с официальной шитой золотом стороны нарядного кафтана, а с сорочки, т. е. рубахи, которая к телу ближе и под тем же блестящим общим мундиром у одного голландская, у другого батистовая, а у иного немытая, бумажная, ситцевая. Роман с этой стороны блистает первоклассными красотами, по которым сейчас узнаешь ex ungue leonem. Но в нем, по-моему, есть верный промах, который подрезывает крылья — жадному интересу, с каким читаешь вещи вечные. В наш безобразный век русской лакейской литературы и жизни дьяков неумытых я более, чем когда-либо, симпатизирую людям порядочным, хотя, нечего греха таить (между своими), пустое французское, придворное воспитание сделало большинство людей порядочного общества презренными и ни на что в мире негодными пустарнаками. Несмотря на это я предпочитаю людей порядочных — поджигателям-поповичам. Семинарский пучок — есть искусственно и тщательно приготовленная свинья. Простите — увлекся любимой темой. Но порядочность не есть положение, а только отрицание всего непорядочного. Неругатель, нерыгатель, невор, непьяница — не забудьте, что нуль лучше и несомненней всего выполняет все эти условия. Не думаю, чтобы князь Андрей был приятным сожителем, собеседником и т. п., но всего менее он герой, способный представлять нить, на которую поддевают внимание читателя. Разве Гектор и Дон-Кихот не порядочные люди: а между тем они нечто и другое, во имя чего они интересны; тут, т. е. в деле искусства, своя порядочность — Гомер и Сервантес могли бы сделать главными героями и Ферсита и Санхо-Пансо, но не сделали бы той ошибки, в которые я впал в моих военных записках. Я вздумал группировать события около человека — нуля — героя. Это неисполнимо. Нельзя на белой бумаге писать водой. Пока князь Андрей был дома, где его порядочность была подвигом, рядом с пылким старцем отцом и дурой женой, он был интересен, а когда он вышел туда, где надо что-либо делать, то Васька Денисов далеко заткнул его за пояс. Мне кажется, что я нашел ахилесову пяту романа, а впрочем, кто его знает... Я говорю как старый столяр говорит молодому, отчего фанерка дует и не пристает к дереву. А быть может, и старый столяр врет»[526].
В своем ответном письме (от 7 ноября 1866 г.) Толстой благодарит Фета и говорит, что вывел для себя поучительное из его отзыва о кн. Андрее: «Он однообразен, скучен и только un homme comme il faut во всей 1-й части. Это правда, но виноват в этом не он, а я. Кроме замысла характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу и с которой [которым?] я не справлюсь, как кажется. И от этого в 1-й части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется. И это недостаток, который я ясно понял вследствие вашего письма и, надеюсь, что исправил».
Итак, кн. Андрей становится постепенно предметом особой заботы Толстого. Когда Толстой писал Фету, у него был закончен будущий первый том — Аустер- лицкое сражение и ранение кн. Андрея. Он был уверен в это время, что весь роман будет закончен к осени будущего, 1867, года. На самом деле к началу 1868 г. были закончены и вышли отдельным изданием только первые четыре тома — кончая Бородинским сражением, т. е. по позднейшему расположению — два первые тома и две части третьего. Вся первая половина 1867 г. ушла на работу над будущим вторым томом, посвященным почти исключительно семейным делам, среди которых самое важное в сюжетном отношении связано с Наташей и кн. Андреем: его неожиданное возвращение, смерть жены, увлечение Наташей и дружба с Пьером, отъезд Андрея, увлечение Наташи Анатолем («самое трудное место и узел всего романа» — как писал Толстой П. Бартеневу 1 ноября 1867 г.), вмешательство Пьера. Вот та роль, которая представилась Андрею и ради которой пришлось его помиловать в Аустерлицком сражении. Чтение английских романов (Троллоп и Брэддон) не прошло бесследно — оно сказалось и на характере и на развитии фабулы. Война использована как элемент авантюрной фабулы совершенно в духе английского семейного романа; в образовавшемся внутри романа любовном квартете (Наташа, Андрей, Анатоль, Пьер) Андрею нашлось вполне приличное место. Из «блестящего молодого человека» Андрей превратился в первого любовника.
Но этим роль кн. Андрея не была исчерпана. «Английский» период работы пока закончен. На очереди стоит вопрос о «поэме» — Одиссея должна смениться Илиадой. В сентябре 1867 г. Толстой едет осматривать поле Бородинского сражения и пишет жене: «Только бы бог дал здоровья и спокойствия, а я напишу такое Бородинское сражение, какого не было!» Кн. Андрей, исполнив роль первого любовника, должен теперь сыграть вторую половину своей роли — идеологическую, после чего его можно и нужно удалить со сцены, чтобы он не мешал остальным персонажам доигрывать свою Одиссею.
Часть четвертая
«ВОЙНА И МИР»
1
Тургенев уже в 1866 г. заметил, что Толстой заразился «рассудительством», но находил сначала, что это не опасно: «этой беды бояться нечего». Смысл этих слов, по-видимому, иронический: нечего бояться не потому, что он с этим легко и удачно справится, а потому, что это — не его область, и поэтому из этих попыток все равно ничего выйти не может. Но дело складывалось несколько иначе — и тот же Тургенев через три года завопит о том, что с Толстым случилась беда.
«Беда» началась уже в 1867 г. — когда Толстой подошел к 1812 г. Третий том романа (по прежнему расположению — IV) открывается рассуждением о причинах войны 1812 г. и о причинности в истории вообще. В том же томе, еще до Бородинского сражения, есть страницы, посвященные вопросу о военной науке и о войне вообще. Тем самым Толстой окончательно шагнул в другой жанр, намеченный дневником 1865 г. — в жанр «Илиады», повышающий прежний роман до степени «поэмы».
Уже во II томе «рассудительство» сказалось на обоих главных персонажах — на Пьере и кн. Андрее. Толстой заставил их встретиться и философствовать о добре и зле. Далее пошли батальные и исторические сцены: Фридландское сражение, с описанием госпиталя и солдатскими разговорами, и Тильзитское свидание императоров. Сделаны уже предпосылки для рисовки Наполеона и для будущих рассуждений о войне и об истории. Конец этого тома доводит «английскую» часть романа до апогея («узел романа» — т. е. именно фабульной его стороны). Все сделано для того, чтобы в следующем томе начать Илиаду и «закусить удила».
Тургенев очень точно и характерно определил этот переход Толстого словом «заразился». Эпоха 60-х годов была, конечно, эпохой «рассудительства» — и рас- судительства преимущественно на темы социальные и исторические. Если сначала Толстой, охваченный архаистическими тенденциями сопротивления современности, решил всему этому рассудительству противопоставить домашность, насыщенную инстинктами, то потом, в процессе работы, у него явилась естественная потребность, поддержанная советами друзей и чтением книг, повысить энергию и значение этого сопротивления. В противоположность Фету Толстой не мог и не хотел отходить в сторону и отводить душу только в письмах; в противоположность Тургеневу Толстой не мог и не хотел идти на компромиссы и заигрывать с современностью. Он предпочитал подвергнуться «заражению» (недаром и комедия его названа «Зараженное семейство») и бороться с этой «болезнью» своими методами.
К одному письму Тургенева (к И. П. Борисову), в котором он очень правильно утверждает, что роман Толстого «построен на вражде к уму, знанию и сознанию», П. Бартенев сделал интересное примечание, указывающее на влияние друзей Толстого — и больше всего давнишнего (еще со времени Севастополя) его приятеля, Сергея Семеновича Урусова: «Он и Страхов писали графу JI. Н. Толстому чуть ли не акафисты и натвердили ему, что без философской подкладки его "Война и мир" не будет иметь настоящей цены»[527]. Назвав здесь Страхова, Бартенев явно ошибся — Толстой тогда еще не был знаком со Страховым; на место Страхова надо поставить, скорее, М. П. Погодина. Во всяком случае, как это видно будет в подробностях ниже, частые поездки Толстого в Москву, особенно участившиеся после 1865 г. (за годы 1866-1868 Толстой приезжал в Москву не менее шести раз), сблизили его с целой группой лиц, которую можно даже назвать кружком Толстого. Главные лица этого кружка — С. С. Урусов, М. П. Погодин, Ю. Ф. Самарин и С. А. Юрьев: всё люди, так или иначе связанные со славянофильством, типичные архаисты. Из них Погодин мог особенно помочь в исторической части, а Урусов — в военно-теоретической. К встречам и беседам с этими людьми, надо, конечно, прибавить те новые источники, которые помогли Толстому превратить роман в «эпопею». Итак, я перехожу теперь к тому периоду работы над «Войной и миром», начало которого может быть отнесено ко второй половине 1867 г.
Уже в конце своей первой книги я остановился на связи «Войны и мира» Толстого с «Войной и миром» Прудона. Теперь этот вопрос надо развернуть, а также внести некоторые поправки и дополнения. Внимательный анализ первых стадий работы Толстого над романом приводит к выводу, что в этот момент связь романа с книгой Прудона и с пребыванием у него (в Брюсселе) мало заметна. Если считать, что в 1861 г. в воображении Толстого (в связи с замыслом «Декабристов») уже вырисовывался план будущего романа из эпохи 1812 г., то книга Прудона, конечно, могла привлечь его внимание и тогда; но пока роман складывался как семейный, домашний, книга эта не могла войти в число «источников». Положение изменилось после 1865 г.
Смерть Прудона, последовавшая в этом году, вызвала новый интерес к нему и породила большую литературу. Правда, популярность его и до того была в России очень велика — особенно после 1858 г., когда появилась его знаменитая книга «De la Justice dans la Revolution et dans l'Eglise». О Прудоне стали писать в журналах и газетах самых разнообразных направлений, иногда даже не называя его по имени — по-видимому, по цензурным соображениям. Так, «Северная пчела» (1859. № 3) в фельетоне о Мишле сопоставляет его книгу «L'Amour» с книгой Прудона, называя его просто — «один из замечательных современных мыслителей». О популярности этой книги Прудона свидетельствует и то, что Тургенев упоминает о ней и в «Накануне» и в «Отцах и детях». В «Накануне» Лупояров хвастается, что у него есть последняя книжка Прудона (гл. 34), а в «Отцах и детях» (гл. 13) Кукшина с возмущением спрашивает Базарова: «Как? Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона!» и рекомендует ему прочитать книгу Мишле. В мае 1861 г. вышла книга
Прудона «La Guerre et la Paix», и уже в августовской книге «Русского вестника» появилась большая статья о ней г. де-Молинари, а в декабрьской книге журнала «Время» — статья П. Бибикова под заглавием «Феноменология войны». Еще до выхода перевода этой книги Прудона отдельным изданием (1864) «Отечественные записки» (1863. № 5) поместили перевод отрывка из нее под названием «Бедность как экономический принцип». В «Библиотеке для чтения» (1863. № 11) появилась статья Ок. Мильчевского «Государственные и церковные партии в Западной Европе», в которой значительное место отведено Прудону.
Признаком популярности Прудона в России служит и то, что Е. Тур, поместившая в журнале «Время» (1862. № 4) статью о своей поездке за границу («Шесть недель в гостях и дома»), подробно рассказала встречу с Прудоном — с описанием его наружности и характера: «Это высокий, плотный, почти толстый мужчина, здоровяк, с румянцем во всю щеку. Ему, по-видимому, лет сорок, хотя он в самом деле гораздо старше. Лоб его огромен, но без тех впадин и характеристических выпуклостей, которые всегда почти замечаются на лбу людей гениальных. У Прудона большой закатистый лоб, мало волос, отчего он кажется лысым. Глаза его невелики, продолговаты и необычайно быстры. В них преобладает выражение тонкости и проницательности. Нос замечательно тонок, с маленькой ноздрей, немного приподнятой и почти прозрачной. В фигуре его и в выражении лица много той грубости, которая сильно не нравится в особенности женщинам. Тон его крайне резок, манеры угловаты и тоже резки. Это смесь французского крестьянина-силача, который одною рукою ворочает страшные тяжести, с русским мужиком- кулаком. Жившие долго в деревнях хорошо знакомы с этим типом русского человека, где ум, конечно односторонний, сметка, известного рода тонкость странно сочетались с грубостью и чем-то топорным во всей наружности». Разговор зашел о Польше, потом перешел на Россию. Прудон, друживший с Герценом и недавно познакомившийся с Толстым, интересовался освобождением крестьян и задал Е. Тур несколько вопросов. Очень интересно то, что дальше сообщает Тур: «К сожалению, я не могу привести всего разговора и его направления[528]; могу сказать только, что мнения Прудона так радикальны, что по своей крайности совпадают совершенно с противоположным ему направлением. Так, например, говорили о совершенном уничтожении телесных наказаний в тех странах, где еще они в употреблении. Прудон восстал очень сильно против такого вольнодумства. Dans I'homme il у a la bete, — резко произнес он, — et il faut punir la bete. Этот довод заставил меня вспомнить о наших доморощенных крепостниках, которые говаривали о своих крепостных: "Это животные — их надо пороть!" Одна молодая, очень образованная женщина, услышав такой отзыв европейской знаменитости, разрушающей так беспощадно старый порядок вещей, пришла в негодование и воскликнула: "Но ведь цивилизация именно и стремится к тому, чтобы в человеке не было животного, чтобы человек был человеком!" Прудон окинул ее взглядом пренебрежения, не удостоил ответа и продолжал разговор в том же тоне, развивая ту же гуманную мысль, что людей надо бить и сечь!» Общий итог такой: «Впечатление, вынесенное мною из двухчасового слушания беседы Прудона, не было приятно. Резкость суждений, угловатость приемов, некоторая грубость тона, самонадеянность, заносчивость напоминали самоучку-крестьянина, дошедшего до выработанных результатов, каковы бы они ни были, одним собственным умом». Характеристика эта, некоторыми своими чертами (радикальность мнений, совпадающая с реакционными взглядами, резкость и самобытность суждений, выработанных одним собственным умом), замечательно напоминает Толстого. Становится понятным, что такой человек должен был заинтересовать его.
Эпоха 60-х годов была эпохой радикальной вообще — и слева и справа: эпохой столкновения радикальных противоположностей. На русской почве Прудон был тогда явлением неясным, загадочным, разными своими чертами подходящим для разных и даже противоположных направлений. У него были поклонники и слева и справа; более того — каждая сторона доказывала, что он принадлежит именно к ней. В 60-х годах он был в России, несомненно, одним из «властителей дум», но именно поэтому о нем спорили идеологи самых разнообразных и самых противоположных систем[529]. Более того — к середине 60-х годов Прудон приобрел особенную популярность именно в правых, консервативных кругах русской интеллигенции; в то же время в левых кругах определялся взгляд на Прудона как на бесстрашного аналитика, но лишенного всякой положительной системы (Герцен). В 1863 г. М. Погодин обратился к нему с письмом, в котором просил его помочь своим авторитетом и убедить Европу в необходимости финансировать постройку железных дорог в России. Письмо начиналось словами: «Уверенный в вашем беспристрастии по прочтении вашей брошюры о Польше, столько, сколько всегда я был уверен в вашей горячей любви к человечеству, хотя и не соглашался с некоторыми вашими выводами, о коих, впрочем, имел я понятие, признаюсь, поверхностное, я решаюсь обратиться к вам с покорнейшею просьбою о вопросе общем и просить вашего содействия литературного, нравственного». Далее следовала общая перспектива тех выгод, которые получила бы Европа от проводки железных дорог в России: «В Европе люди умирают с голода, а мы не знаем, что делать с нашим хлебом, и урожайный год считается во многих местах величайшим несчастием. А Кавказ, Сибирь, Амурская область, Крым, Оренбург! Представьте себе, что Европа соединится с отдаленною Сибирью посредством дороги от Перми чрез Уральские горы; со всею среднею Азиею посредством дороги между Каспийским и Аральским морями (расстояние меньше 20 миль); с Персией и Каспийским морем посредством дороги между Поти и Баку чрез Тифлис, с Белым морем и Архангельском — и проч., и проч. Какое обширное поле откроется для Европейской торговли, промышленности, колонизации, для европейских ученых, художников, техников!»[530]
Конечно, такое обращение к Прудону похоже на чудачество (Прудон ничего не ответил), но самый этот факт показывает и то, что Прудон был вполне приемлем и ценим в правом лагере, и то, что он был в это время, в представлении многих русских, не только властителем дум, но и крупным практическим авторитетом. Борьба Прудона с западной демократией встречает восторг и одобрение в русской реакционной прессе. В. Скарятин, редактор «Вести», радуется, найдя в книге Прудона (Capacit6 politique des classes ouvrifcres») недружелюбный отзыв о коммунизме и о французской демократии: «время и рассуждение (пишет Скарятин), очевидно, имели на него свое действие». Г. де-Молинари, давая в «Русском вестнике» (1861, август) подробную характеристику Прудона, делает особенный акцент на том, что Прудон, виновный в возбуждении и раздражении народных страстей, являлся, с другой стороны, «неумолимым преследователем толпы правительственных социалистов и коммунистов», «вступал в рукопашный бой поочередно с гг. Луи-Бланом, Консидераном, Пьером Леру, Кабе и оставлял их измученными и израненными на поле битвы». Молинари считает, что «под личиной неистового демократа и мятежного социалиста скрывался замечательный ум, который по временам смотрел на вещи ясно и рассуждал правильно», и склонен думать, что «добро у него берет верх над злом: нападения его нисколько не поколебали принципа собственности, между тем как они окончательно потрясли в массах доверие к коммунизму». Совершенно понятно, что при таком истолковании Прудона имя его было популярным в русских реакционных кругах. А. М. Скабичевский рассказывает в своих воспоминаниях о некоем Лествицыне, заведывавшем в 1864 г. Рыбинской губернской типографией: «Будучи известным археологом, этот Лест- вицын сам по себе представлял удивительный антик, какие можно было встретить лишь в прежнее время, в глухой провинции. Представьте себе, что он соединял в себе поклонение Прудону (я нашел у него собрание всех сочинений Прудона) с обожанием М. Н. Каткова»[531].
Споры о том, к какому из направлений отнести Прудона и которому же из них можно по праву считать его своим, характерны для русской публицистики 60-х годов. Ю. Жуковский, экономист и сотрудник «Современника», знакомый с учением Маркса, писал о Прудоне в своей книге: «Именем Прудона в течение всей его деятельности пугали детей и еще более пугали взрослых, и пугали притом столь успешно, что масса образованного общества представляла себе этого писателя крайним отрицателем и разрушителем, требовавшим анархии в политике и одинаково подрывавшим гражданские основы гражданского быта. Время, однако, привело к некоторому смягчению первоначальных резких приговоров и к некоторому просветлению в этом хаосе представлений... Русский читатель привык прежде всего видеть в Прудоне какое-то воплощенное противоречие, которое жертвовало последовательностью ради страсти к отрицанию. В силу этой страсти, думает русский читатель, Прудон, много старавшийся разрушить, не оставил в наследство науке ни одной последовательной идеи, ничего не создал, кроме разрушительного красноречия. Нет ничего ошибочнее такого взгляда. Прежде всего мы убедимся, что Прудон не только не был таким страшным разрушителем, но что он даже был до известной степени консерватор, что он не только оставил кой-какую идею в наследство людям, но даже целую стройную самостоятельную систему»[532]. Характерная статья по поводу всех этих споров (под названием «Прудон и наши публицисты») появилась в «Книжном вестнике». 1866. № 8). Здесь сопоставляется вся разноголосица мнений о Прудоне: «Есть люди и идеи, которым, кажется, суждено вечно оставаться неразгаданными сфинксами, или, вернее, — есть люди, кеторым суждено вечно оставаться перед некоторыми явлениями в положении человека с разинутым ртом. Прудон, вероятно, еще не скоро перестанет быть сфинксом для России, и этому не мало способствует наша литература. Когда г-жа Тур яростно набрасывается на этого несчастного Прудона за его книги об искусстве и о рабочих классах, то это, без сомнения, есть результат ее, г-жи Тур, невинности. В подобной же невинности почтенный историк наш М. П. Погодин даже публично сознался, что, разумеется, делает ему честь». Далее речь идет о статье В. Скарятина («В №28 газета "Весть" погладила Прудона по голове»), о книге Ю. Жуковского и пр.
В 1865— 1866 гг. споры о Прудоне особенно усилились как в связи с его смертью, так и в связи с выходом русских переводов его книг: «Литературные майораты» (направленной против литературной собственности — вопроса и в России тогда очень боевого) и «Искусство, его основания и общественное назначение». Последняя книга вызвала шумную полемику — появились статьи Г. Эдельсона, К. Слу- чевского, Incognito (Е. Ф. Зарин), который называет Прудона «скандалом своего времени», и др. В конце концов Н. Курочкин (под редакцией которого вышел перевод книги об искусстве) поместил в «Отечественных записках». 1868. № 12) статью «Годы развития Прудона» (по поводу работы A. Court «La Jeunesse de Proud- hon»), в которой подвел итог спорам о Прудоне: «Всякие взгляды на Прудона как на революционера или консерватора, экономиста или социалиста, демагога или доктринера совершенно несущественны. В подверждение каждого из этих противоположных взглядов существует немало книг и статей, написанных с одинаковою степенью доказательности. Это явление происходит от того, что при громадности захвата идей Прудона он мог казаться иногда тем, иногда другим — в сущности же, не был ни революционер, ни консерватор, ни экономист, ни социалист и т. д. Он был просто самим собою и Прудоном, принимая, в своем страстном отыскивании истины, тот или другой путь мысли, смотря по тому, в какой схеме мышления ярче
выражалась, по его мнению, правда, по отношению к занимавшей его идее».
Вместе с развитием экономической науки (Маркс) имя Прудона теряло свое значение. Чернышевский, прежде считавшийся с Прудоном и относившийся к нему серьезно, потом совершенно переменил к нему отношение. В письме к сыну от 24 ноября 1873 г. (из Вилюйска) он говорит о Прудоне в крайне резком тоне. Речь идет о «прогрессистах», проповедующих пользу «борьбы» для прогресса («Дарвин и новейшие открыватели Америки», как пишет Чернышевский): «О, эти прогрессисты — умные люди. Одна беда им и от них: глупцы напишут глупости; они не потрудятся вникнуть в дело, а перепишут все сплошь, заменяя, например, аскетические термины механическими, или консервативные эпитеты — прогрессивными, или наоборот: прогрессивные термины, — если писавший глупец воображал себя прогрессистом, то — консервативными в переписывании глупою рукою воображаемого консерватора. Один из прогрессивных глупцов, имевших очень сильное влияние на всех глупцов без различия, был Прудон. Быть может, и даровитый от природы; быть может, и бескорыстный (хоть это — известная манера со времен Агатокла Сиракузского: пренебрегать светскими приличиями и не набирать себе денег; манера множества честолюбцев). Но каков бы ни был он от природы, он был невежда и нахал, кричавший без разбора всякую чепуху, какая забредет ему в голову из какой, — газеты ли, идиотской ли книжонки, умной ли книги, этого различать он не мог, по недостатку образования. И теперь — он один из оракулов людей всяческих мнений. И удобно ему быть им: какая кому нравится глупость, всякая есть у этого оракула! — Кому-нибудь кажется, что 2x2 = 5?— Ищи у Прудона, найдется подтверждение, с прибавкою "мерзавцы все те, кто в этом сомневается"; — другому кажется, что 2 х 2 = 7, а не 5, ищи у Прудона; найдется и это, с той же прибавкой». Вся эта тирада заканчивается словами: «Я всегда был человеком, смеявшимся над прогрессистами»7.
Итак, хотя Прудон и был в 60-х годах «оракулом», но «оракулом людей всяческих мнений», а вовсе не только идеологов революции и анархии. Не углубляясь в дальнейшие изыскания этого вопроса по существу, который увел бы слишком далеко, нимало не исчерпывая общей темы «Прудон в России», я ограничусь приведенным материалом, который совершенно достаточен и для того, чтобы убедиться в широкой популярности Прудона и его сочинений, и для того, чтобы сочетание его имени с именем Толстого (тоже не в целом, а в пределах «Войны и мира») не казалось неожиданным и странным. Впрочем, самое сопоставление этих имен в общем плане сделано давно; Н. Михайловский в статье «Шуйца и десница гр. Толстого» («Отечественные записки». 1875. № 7), защищая Толстого от упреков в противоречиях, говорит: «Дело в том, что противоречия — противоречиям рознь. Противоречия писаки, который говорит сегодня одно, а завтра другое, глядя потому, кто ему платит и обидело или не обидело его то или другое учреждение или лицо; противоречия, вытекающие из небрежности и легкомыслия, и т. п., словом, противоречия, вызванные не внутренним процессом умственной работы, постоянно направленной к одной цели, а сторонними причинами, конечно, должны подрывать доверие и уважение. Не таковы противоречия гр. Толстого. Я бы сравнил их с теми, которых можно не мало найти у Прудона. Замечу, что по складу ума, а отчасти и по взглядам гр. Толстой вообще напоминает Прудона. Та же страстность отношения к делу, то же стремление к широким обобщениям, та же смелость анализа и, наконец, та же вера в народ и в свободу».
Пора от общего вопроса о Прудоне в русской публицистике 60-х годов перейти к специально интересующему нас вопросу о книге Прудона «Война и мир». Я уже говорил, что книга эта, еще до выхода полного русского перевода (1864 г.), обсуждалась и частично переводилась в журналах. К переводу двух глав, напечатанному в «Отечественных записках» (1863. № 5), было сделано примечание: «В третьем году, в Брюсселе, вышла книга известного французского экономического писателя Прудона: La guerre et la paix, recherches sur le principe et la constitution du droit des gens, 2 т. В ней, как известно, автор рассматривает причины войн преимущественно исторически и старается доказать их необходимость при известном складе международных отношений... Что же касается его книги О войне и мире вообще, то, как известно, она гораздо слабее прежних его сочинений, полна нередко странных парадоксов, софизмов и противоречий, неприятно поражает многословием и скудостью фактических данных. Об этом у нас было много говорено». Уже предыдущая книга Прудона, очень нашумевшая («De la Justice dans la Revolution et dans PEglise»), изумила своей парадоксальностью, вызвала протесты — особенно со стороны защитников эмансипации женщин, и дала повод правым органам считать Прудона до некоторой степени своим единомышленником. Новая его книга вызвала не столько шум, сколько недоумение.
Г. де-Молинари, посвятивший этой книге большую статью в «Русском вестнике» 1861 г. (общую часть ее я цитировал выше), начинает ее следующими словами: «Нет сомнения, что в настоящую минуту очень кстати будет поговорить о войне и мире. Редко случалось, что Европа была так сильно взволнована и народы спрашивают себя с беспокойством, возрастающим ежедневно, когда и как восстановится надежная политическая прочность; когда и как можно будет сократить бюджеты войны, поглощающие цвет народных сбережений; когда и как наступит если не постоянный мир, то по крайней мере некоторое спокойствие и безопасность, достаточные для того, чтобы производительные предприятия вновь приняли свое обычное движение, одним словом, когда прекратится военный кризис, истощающий теперь всю Европу, как необходимыми для него непроизводительными издержками, так и препятствиями, которые он воздвигает предприятиям производительным. Новая книга г. Прудона, при таком общем беспокойстве и волнении умов, появилась как нельзя более кстати. Многие надеялись найти в ней разрешение современных затруднений. Оттого, не успело первое издание ее появиться у книгопродавцев, как уже все экземпляры были раскуплены. Но второе издание не идет с рук». После общей характеристики Прудона следует разбор этой книги и объяснение ее неуспеха. Я воспользуюсь этим разбором, дающим сжатое изложение всей книги; читатель получит, таким образом, одновременно представление и о самой книге и об отношении к ней «Русского вестника».
Молинари называет эту книгу «сочинением в высшей степени запутанным», способным «скорее посеять сомнение и беспокойство в умах, чем просветить их и успокоить: предлагая самые животрепещущие вопросы, автор ни одного из них не разрешает хотя сколько-нибудь удовлетворительно... Величайший недостаток г. Прудона, тот самый, которым прошумело его имя, есть преувеличение оригинальности, притязание разрушить и перестроить на свой манер все, до чего только он касается. Если он не первый занимался каким-нибудь вопросом, то непременно желает идти совершенно новым путем и оттого нападает гораздо сильнее на тех, за кем следует и у кого бессознательно заимствует, чем на своих противников. И все это с той целью, чтобы никто не подумал, что он идет по их следам. Во что бы то ни стало он хочет быть нововводителем, атак как для этого ему недостает истинно новых идей, то он силится придать новые формы истинным или ложным теориям, которые и перестраивает по своей фантазии. Так, например, в этой книге, Война и мир, он смотрит на мир точь-в-точь, как экономист или ученик аббата де-Сен Пьерра; он объявляет — и это последняя фраза его сочинения — «что человечество не желает больше войны». И что же? В начале своей книги он не только осыпает насмешками учеников добрейшего аббата де-Сен Пьерра, но превозносит, прославляет войну. Таким образом он упрочивает за собою оригинальность, превосходство над своими предшественниками, которых он без всякой пощады величает глупцами и невеждами; но в то же время он сбивает с толку читателя и затемняет свои идеи вместо того, чтобы объяснить их как следует». Следуют цитаты («Да здравствует война!» и т. д.), показывающие, что Прудон приветствует войну, называет ее «фактом божественным», благодаря которому человек является великим и доблестным — в противоположность животным. Г. Прудон доходит даже до антихриста для подтверждения своего положения. Итак, война законна и необходима, и вы не в состоянии даже вообразить себе, каким образом может окончиться война. И несмотря на то, — успокойтесь вы, добрые друзья мира, — она все-таки окончится во втором томе сочинения. Но сначала ее прославление, ее апофеоз будут по возможности полны. «Г. Прудон в этом отношении оставит далеко за собою всех хвалителей войны, даже самого де-Местра. Он не допустит возможности, чтобы сильная и здоровая нация могла устроиться, не получив крещения кровью, и в подтверждение слов своих он приведет пример американской нации, которую он не видал, не изучал и которой он представляет не портрет, но карикатуру... Теперь следует узнать, какая причина портит войну; каким образом война, имеющая в виду только чистую и возвышенную цель — решить, кому должно принадлежать политическое первенство и управление общественными силами, унижается до грабежей и разорения. Эта причина, искажающая войну, есть пауперизм. Пауперизм, по словам автора, есть явление общее и постоянное, источником его прежде всего служит тот факт, что ни у одного народа сила производительная не может сравниться с силой потребительного; потом, неравенство в распределении продуктов. Пауперизм поражает всех, как собственника, живущего своею рентою, так и пролетария, который существует только трудами рук своих... Вследствие этого пауперизм может существовать и существует как в высших кругах общества, так и в низших. Он во всякое время побуждал народы живиться на счет других народов посредством хищения и завоеваний. Он составляет одну из главных причин каждой войны. Автор рассматривает положение различных европейских народов и находит, что все они, начиная с Англии, страдают пауперизмом, порождающим войну... Так как все нации более или менее точит червь пауперизма, то война между ними всегда неизбежна. А разве война исцеляет пауперизм? Нисколько. Напротив, она только может усилить его, особенно с тех пор, как завоевание не влечет за собой обогащения победителей за счет побежденных; война увеличивает расходы тех и других, вот и все. Таким образом, война доходит до нелепого, она не имеет причины быть. Что же из этого выйдет? Автор отвечает на этот окончательный вопрос в последней части своего сочинения, носящей заглавие: Преобразование войны. Это преобразование состоит в перенесении антагонизма, прирожденного роду человеческому, с почвы войны на почву промышленности... Так оканчивается сочинение г. Прудона. Надо правду сказать, по началу никак нельзя было предугадать такой конец. Само собою разумеется, что я представил здесь только общую связь его книги, опуская бездну приложений, которые автор дает своим принципам. Эти приложения почерпнуты из всех исторических эпох, но преимущественно из новейшего времени. Так, например, г. Прудон рассматривает различные вопросы политические, вопросы о национальностях, о равновесии и пр., стоящие теперь на очереди, и решает их в своей книге; решения эти очень интересны. Вообще этот ультрареволюционер по своему мундиру, является в сущности одним из самых рьяных консерваторов, и нисколько не разделяет антипатии французских демократов к трактатам 1815 года; многие, может быть, найдут даже, что он слишком придерживается этих трактатов, слишком часто упоминает о них, в подтверждение "права и силы" Принцип национальностей возбуждает в нем мало симпатии. Полякам и французской демократии он даст очень суровый урок... Понятно, что книга Прудона не удовлетворила ни сторонников войны, ни сторонников мира. Она не бросила никакого света на грозные и животрепещущие вопросы; но она сильно подняла их, а это уже значит что-нибудь. Конечно, он мог бы поступить несравненно лучше, если бы не поддался своей врожденной наклонности производить как можно более шума и блистать оригинальностью во что бы то ни стало, если бы решился прямо и просто идти общим путем с юристами и экономистами, которые до него наблюдали и анализировали явления мира и войны. Он счел за лучшее пробить собственную дорогу, не замечая, что эта дорога, вместо того, чтобы вести человечество вперед, в благословенную область мира, обращает его назад на прежние пути войны. По своему обыкновению, он прежде всего старался поразить умы и провозгласил, что сила есть право, как провозглашал некогда, что собственность есть кража, порядок есть анархия. Но надо заметить, что в настоящее время эта шумиха слов не поражает никого; теперь все заботятся о ясности понятий, и никто не добивается ни поразительных эффектов, ни оглушительного треска; все начинают находить, что ученые эффекты г. Прудона устарели так же, как и театральные эффектым г. Гюго и его школы. Европейская публика обращает мало внимания на театральную обстановку и на эффекты ученые, литературные и драматические; требуется истина, которая была бы по возможности доступна всякому уму и поэтому была бы выражена в формах простых и ясных. К сожалению, этого нельзя найти в новом сочинений г. Прудона, и вот почему его книга, которая лет пятнадцать назад могла бы приобрести громадный успех, не заслужила в настоящую минуту от многочисленной публики ничего, кроме succfcs d'estime, как выражаются на театре».
Самое неожиданное в книге Прудона было, конечно, то, что он оказался сторонником и защитником войны — как «факта божественного», как факта «нравственной жизни», как «школы человечества». Совершенно в этом смысле говорил в 1866 г. о войне Толстой: «не в смысле кровожадном или завоевательном, а как возбуждение нравственных сил народа». Недавно опубликованная переписка Толстого с Чичериным, подтверждая догадки, высказанные мною в первой книге, дает возможность сделать некоторые дополнения. Толстой пробыл в Брюсселе, по-видимому, целый месяц и, вероятно, не один раз виделся с Прудоном. Он приехал туда в начале марта (1861 г.), а 11 апреля Чичерин пишетему: «Отчего ты так долго сидел в Брюсселе, будучи в шести часах от Парижа?» Из этих же писем видно, что Толстой закупил за границей целый ящик книг, среди которых были сочинения Прудона — и именно книга «De la Justice»; 4 марта 1861 г. (когда Толстой ехал в Брюссель) Чичерин пишетему: «Ящиктвой отправляю в Петербург. Прудона вынул, но нашел только 9 fctudes, а это не все». Провезти книги Прудона через таможенную цензуру было, очевидно, невозможно — надо было отправлять их особо. Надо полагать, что в Брюсселе Толстой достал и другие сочинения Прудона. Но есть признаки, указывающие на то, что особенное впечатление на Толстого произвели беседы с Прудоном и что одной из тем этих бесед был вопрос о войне (Прудон тогда только что кончил свою книгу), и в частности о Наполеоне. Я перехожу к этим признакам, прямо приводящим к военной философии толстовского романа и к ее источникам.
2
В первой книге я указал на то, что Толстой разошелся с Прудоном в оценке Наполеона. Но дальнейшие разыскания показали, что этого расхождения вовсе не было, а наоборот — было полное единодушие. Возможно даже, что именно Прудон и внушил Толстому такое отношение к Наполеону. В предисловии к своей книге Прудон рассказывает о тех мытарствах, которые ему пришлось пережить, устраивая ее издание. Издатели, боясь преследований, отказывались издавать ее. В связи с этим Прудону пришлось, очевидно, многое смягчить или вовсе исключить. В числе этих смягченных мест были, вероятно, и страницы о Наполеоне. Правда, в книге осталось несколько резких отзывов, но наряду с ними есть отзывы более положительные — они-то и ввели меня в заблуждение. Говоря о походе Наполеона в Россию, Прудон пишет: «На Наполеона нельзя было смотреть как на настоящего завоевателя, как на представителя цивилизации и прогресса, ибо если и можно согласиться, что он имел за себя идею, то не имел числа, не имел силы. Это был похититель самодержавия, нарушитель европейского спокойствия, авантюрист, которого надо было уничтожить во что бы то ни стало». На этом основании он даже оправдывает деятельность Ростопчина. В другом месте, говоря об Испанской войне 1808 г., Прудон пишет: «Даже сам Тьер, не упускающий случая представить в пользу своего героя смягчающие обстоятельства, не говорит ничего важного по этому предмету: своими рассказами о Баионских интригах он внушает нам такое же презрение к Наполеону-завоевателю, как и к Наполеону — государственному человеку. Несмотря на все ораторские уловки историка, приходишь в сомнение, не был ли император просто авантюрист». Если сопоставить с этими цитатами ту, которую я привел в первой книге, — получается впечатление полнейшего противоречия.
Противоречие это разъясняется обращением к черновым наброскам Прудона. Дело в том, что книга Прудона (и именно в той части, которая касалась Наполеона) далеко не исчерпывала тех мыслей и материалов, которые собрались во время работы над ней. Уже гораздо позже, в 90-х годах, были изданы черновые материалы, доказывающие, что Прудон очень тщательно работал над историей Наполеона, стремясь убедить в том, что Наполеон — ничтожный авантюрист, возвеличенный историками вроде Тьера, сочинения которого он приравнивает к романам Дюма[533]. В черновых бумагах найден, между прочим, листок, на котором, в числе начатых и задуманных работ, записано: под № 10 — «Parallfcle entre Napoldon et Wellington (refutation de M. Thiers)» и под № 13 — «Histoire condensde de Napoleon I-er d'aprfcs M. Thiers». Эти замыслы частично и были осуществлены в набросках, сделанных, по-видимому, в 1859 г. Здесь — и общая характеристика Наполеона, и календарь его «трудов и дней» («histoire condensde»), и противопоставление ему Веллингтона, и общие рассуждения о войне и военном искусстве.
Характеристика Наполеона совершено совпадает с той, которая у Толстого: «Все черты мелкой души: надменность, тщеславие, глубокий эгоизм, полное отсутствие человечности, презрение к людям; с ранних лет глубочайшая душевная развращенность; шарлатанство, хвастовство, противоречия, презрение к принципам; стремление все превращать в орудие власти — людей, общество, родину, справедливость, добродетель; революцию, порядок, религию, папство в такой же мере, как силу, порок, преступление. Его гений — гений разрушения и ничего больше». Описывая 18 брюмера, Прудон, ссылаясь на присутствовавшего в заседании депутата Куртуа, говорит, что Тьер сильно прикрасил действительность: «Бонапарт, маленький, безобразный, желтый с прямыми волосами, грязный, с единственным своим качеством — наглостью, говорил с таким сильным итальянским акцентом, что невозможно было его понять: "J'ai aves moi lou Diou de la guerra et de la fortiounaF' Таково было красноречие Бонапарта». С этой общей характеристикой связана критика военной деятельности Наполеона и военной науки вообще[534]. Прудон заявляет: «Это совсем не гениальный человек, если понятие войны соединимо с понятием гениальности... Надо разрушить славу воина и свести ее к уровню maitre d'armes». Следует рассуждение о войне, очень сходное с размышлениями кн. Андрея. Прудон перечисляет все (полемизируя опять с Тьером), что нужно войску, и замечает: «Но все это старо, как мир, даже для самого последнего унтера; это вовсе не дело гения, а простое ремесло; человеку, который распоряжается и которого слушаются, надо потратить на него не больше семи-восьми дней; для такого дела совершенно достаточно иметь методический ум администратора». Все это резко (иногда почти дословно) совпадает с размышлениями кн. Андрея, которые, как я указывал, в ранней редакции романа высказываются от лица самого автора: «Те, давно и часто приходившие ему во время его военной деятельности мысли, что нет и не может быть никакой военной науки и поэтому не может быть никакого так называемого военного гения, теперь получили для него совершенную очевидность истины... И отчего все говорят: гений военный? Разве гений тот человек, который вовремя умеет велеть подвезти сухари и идти тому направо, тому налево? Оттого только, что военные люди облечены блеском и властью и массы подлецов льстят власти, придавая ей несвойственные качества гения... А сам Бонапарте! Я помню самодовольное и ограниченное его лицо на Аустерлицком поле. Не только гения и каких-нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых высших, лучших человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского, пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно (иначе у него недостанет терпения), и тогда только он будет храбрый полководец». Сходство этих размышлений с тезисами набросков Прудона заставляет предполагать, что Прудон делился с Толстым своими соображениями о войне и военной науке — тем более, что Толстой, вероятно, рассказывал ему о своем участии в Севастопольской кампании, а вопрос о войне был один из наиболее интересовавших Толстого вопросов. Прудон же именно в это время закончил свою книгу и был очень увлечен ею, так что, вероятно, охотно говорил на тему о войне и Наполеоне. Слова Прудона в письме, характеризующие Толстого как «очень образованного человека», указывают на то, что беседы их были разнообразны.
Что касается связи романа Толстого с книгой Прудона, то некоторые доказательства я уже привел в своей первой книге; дополню их новыми. Противоречивое отношение к вопросу о войне, в котором упрекали Прудона, характерно и для Толстого. Механизм и обстановка войны изображаются у Толстого чертами ироническими: «Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира» и т. д. Об этой «безнравственной» стороне войны с большим негодованием говорит и Прудон, обличая милитаристов. Но для него, как и для Толстого, самый факт войны, самая природа войны — не в этом. «Война есть факт божественный», заявляет Прудон и сочувственно цитирует Жозефа де-Местра; Толстой, всякий раз, как он оставляет в стороне полководцев, а говорит о войне как таковой, изображает ее торжественно — как непонятное, страшное дело, «которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами». Один из главных тезисов Прудона, оправдывающих нравственную сторону войны — «право силы»; на этом понятии (близком к учению Дарвина) строится вся его теория войны. Вторая книга первого тома так и озаглавлена: «О природе войны и праве силы». Толстой пользуется этим термином, доказывая, что успех Наполеона зависел не от его воли, а от тех «случайностей», которыми распоряжалась история: «Случайность посылает ему в руки Энгиенского и нечаянно заставляет его убить, тем самым, сильнее всех других средств, убеждая толпу, что он имеет право, так как он имеет силу». В предисловии к своей книге Прудон говорит, что он «восстановил войну в ее древнем великом значении», и приводит миф о Геркулесе, заканчивая его следующими словами: «Мы не сделаемся хуже, если вместо того, чтобы пресмыкаться как пигмеи, сумеем при случае быть так же великодушны, как Геркулес. Впрочем, не ошибитесь: героизм — вещь прекрасная, но его время прошло; Геркулес и подобные ему герои — лица мифологические. Я уважаю силу; она блистательно положила на земле начало царству права; но я не желаю иметь ее властелином. Я не хочу ни Геркулеса-плебея, ни Геркулеса-Правительство, ни военных судов, ни судов св. Вемы». Я думаю, что именно этот прудоновский Геркулес, выдвинутый как эпиграф к книге, оставил след в романе Толстого. Рассуждая в эпилоге о власти (вопрос, для того времени непосредственно связанный с именем Прудона), Толстой говорит о воззрении древних на божественное начало власти и о том, что история отрешилась от этого воззрения и не может вернуться к нему; продолжая это рассуждение, он пишет: «Власть эта не может быть той непосредственной властью физического преобладания сильного существа над слабым — преобладания, основанного на приложении или угрозе приложения физической силы, — как власть Геркулеса». Это — почти цитата из Прудона.
Прибавлю еще одно. У Толстого женщины не понимают войны. В начале романа жена кн. Андрея говорит Пьеру: «Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно?» В III томе Толстой говорит о кн. Марье: «О войне княжна Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, перед людскою жестокостью, заставлявшею их убивать друг друга; но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все прежние войны». В книге Прудона есть специальное примечание, направленное против эмансипации женщин и связанное с прежней его книгой: «Война устанавливает громадное и ничем не поправимое неравенство между мужчиной и женщиной. Для того, кто постиг этот великий закон природы, войну, неспособность женщины к войне стоит миллионов других неспособностей. Семейная жизнь, действительно, есть единственное назначение женщины; вне семьи она сама по себе не имеет никакого значения, не может и не имеет права быть чем- нибудь на том неопровержимом основании, что не может воевать. Некоторые приверженцы равенства полов, принимая в буквальном смысле остроумные выходки фантазии, утверждали, что женщина может так же хорошо, как и мужчина, быть солдатом национальной гвардии, кавалеристом, пехотинцем, и нимало не затруднялись облечь ее в мундир и дать ей меч. Но мундир для женщины будет всегда только любовным переодеванием, чистою фантазиею, несомненным свидетельством поклонения пола слабого сильному».
Все эти сопоставления я делаю, как и всегда, не для того, чтобы установить факт заимствования или «влияния», а для того, чтобы понять скрытые для нас, несовременников, смыслы толстовского текста — чтобы понять и интерпретировать текст Толстого конкретными и современными ему текстами. Я исхожу в этом случае из предпосылки, при которой вопрос о заимствовании или влиянии сам по себе становится принципиально совершенно безразличным. Эта предпосылка — обязательность и неизбежность исторической соотносительности фактов, которая может выражаться и в заимствованиях и в совпадениях. Изучать факт исторически — значит изучать его соотносительно — сравнивая и сопоставляя. Важен смысл сходства, а не происхождение его. В данном случае можно быть уверенным, что в некоторых страницах Толстого скрыты следы бесед с Прудоном и чтения его книг, но важен не этот факт сам по себе, а то, что смыслы толстовского романа частично соотносятся с учением Прудона и что поэтому историческое понимание романа требует сопоставления его с Прудоном — так же, как выше надо было сопоставить его с Рилем и с немецкими народниками. Это — не круг «влияний», а круг тех исторических явлений, с которыми соотносится Толстой 60-х годов — не как индивидуальность, а как историческое явление.
Может явиться вопрос — почему никто из современников Толстого не заметил связи между книгой Прудона о войне и романом Толстого? Общее сходство Толстого с Прудоном, как я уже говорил, было отмечено Н. Михайловским. Что касается книги Прудона о войне, то необходимо принять во внимание, что, несмотря на споры о Прудоне в начале 60-х годов, имя его все-таки оставалось не совсем удобным, потому что оно официально числилось в списке революционеров: о Прудоне много писал Герцен, Прудон участвовал в его «Колоколе» и т. д. Публицистам правого лагеря было соблазнительно доказать, что Прудон-консерватор именно потому, что он считался одним из вождей революции. Естественно, что сопоставление имен Толстого и Прудона представлялось не совсем тактичным и уместным. Доказательством этому может служить один любопытный факт. Можно a priori быть уверенным, что книга Прудона о войне, не очень популярная среди обыкновенных читателей и критиков, была хорошо знакома М. Драгомирову, как военному теоретику. В статье о «Войне и мире» Толстого он, однако, нигде не упоминает о Прудоне, хотя подробно останавливается на теоретических взглядах кн. Андрея и на его суждениях о военной науке. Только одно место можно принять за намек: «кн. Андрей, как дилетант, вероятно не любил заглядывать в старые книги, а предпочитал черпать свою мудрость из модных, современных ему книг». Этот упрек сделан Драгомировым, конечно, по адресу Толстого; возможно, что, говоря о модных книгах, Драгомиров имел в виду именно книгу Прудона. Дело в том, что в 90-х годах, после опубликования черновых набросков Прудона о Наполеоне, Драгомиров напечатал французскую статью — «Napoldon et Wellington», направленную против взглядов и теорий Прудона10. Здесь, между прочим, цитируются стихи Пушкина и Лермонтова, но ни имени Толстого, ни названия его романа нет, хотя «Война и мир» Прудона упоминается. Вместо этого, приведя цитату из Прудона (его слова о том, что для войны не нужен гений), Драгомиров пишет: «Это совершенно то же самое, что сказал один из наших современников, одаренный большим талантом: "Разве гений тот человек, который вовремя умеет велеть подвезти сухари и идти тому направо, тому налево"?» Это — слова кн. Андрея, которые я цитировал выше. Итак, в статье о Толстом Драгомиров не называет «Войны и мира» Прудона, а в статье о Прудоне не называет «Войны и мира» Толстого. Это, очевидно, особая форма вежливости — нежелание компрометировать Толстого такими сопоставлением.
Для понимания военных глав толстовского романа необходимо иметь в виду еще одно имя, с которым неразрывно связана была тогда теория прославления войны и о котором уже упоминалось в статье Молинари, — имя Жозефа де-Местра. Прудон сам, в главе «Война есть факт божественный», приводит большую цитату из книги де-Местра и говорит о нем с уважением, несмотря на полную противоположность их общих взглядов — политических и социальных: «Война божественна сама по себе, говорит де-Местр, потому что она есть закон мира. Война божественна по таинственной славе, которая ее окружает, и по необъяснимому обаянию, какое она на нас производит. Война божественна по своему покровительству великим полководцам, из которых самые смелые редко погибают в сражениях, и то лишь когда слава их достигает апогеи и назначение их исполнено. Война божественна в самом своем возникновении; она возникает не вследствие произвола, а вследствие обстоятельств, которым и подчиняются те, коих считают ее виновниками. Война божественна по своим последствиям, которых не может предвидеть ум человеческий. Так говорит де-Местр, великий теозоф, в тысячу раз более глубокомысленный в своей теозофии, чем все так называемые рационалисты, приходящие в негодование от его слов. Созерцая войну, как явление божественное, де- Местр первый сознал, что ничего в ней понять не может, и этим показал, что отчасти понимал ее истинное значение».
Если при сопоставлении романа Толстого с книгой Прудона приходилось пользоваться косвенными указаниями и строить догадки, то с де-Местром дело обстоит гораздо проще. В дневнике 1865 г. (1 ноября) отмечено: «Читаю Maistre. Мысли о свободной отдаче власти». В письме к П. Бартеневу от 7 декабря 1866 г. Толстой, между прочим, просит: «Пришлите, пожалуйста, Архив и Местра». Имя де-Местра упомянуто и в самом тексте романа — в связи с рассуждением о преследовании отступающих французов: «бессмысленно было желание взять в плен императора, королей, герцогов, — людей, плен которых в высшей степени затруднил бы действия русских, как то признали самые искусные дипломаты того времени (J. Maistre и другие)». Де-Местр, проживший много лет в Петербурге (1803-1817 г.) в несколько фантастической должности полномочного министра Сардинского короля при русском дворе, заинтересовал Толстого, вероятно, в самом начале его работы над романом — не столько как автор «Soirees de St.-P6tersbourg», сколько как персонаж, как любопытная и характерная историческая фигура. Один из самых ранних источников, которым он пользовался, «Записки» С. П. Жихарева, могли возбудить в нем этот первоначальный интерес. Жихарев называет де-Местра великим мыслителем и описывает встречу с ним в 1807 г.; «Умные, красноречивые люди увлекательнее всякой книги: читая книгу, ты имеешь время поразмыслить и остеречься, а живое слово действует так внезапно, что не успеешь и опомниться, как ты уже в его власти. Вот хотя бы, например, и старший граф де-Местр, Сардинский посланник: я не хотел бы остаться с ним неделю один с глазу на глаз, потому что он тотчас бы из меня сделал прозелита. Ума палата, учености бездна, говорит как Цицерон, так убедительно, что нельзя не увлекаться его доказательствами... Давеча из церкви я зашел навестить старика Лабата... и нашел у него де-Местра, стоявшего перед камином и с жаром рассуждавшего. Из разнообразного, живого и увлекательного его разговора я успел схватить налету несколько идей, поразивших меня своею новизною. Он утверждал, что почти во всех случаях жизни надобно опасаться более друзей, чем врагов своих, потому что последние по крайней мере не введут вас в заблуждение своими советами»[535] и т. д. Можно думать, что фигура виконта в гостиной Анны Павловны Шерер списана отчасти с де-Местра; на полях одного из листков черновой рукописи, есть пометка: «У Анны Павловны. J. Maistre».
В дальнейшей работе над романом, как это видно и по дневнику и по письмам к Бартеневу, Толстой обратился к сочинениям де-Местра, и они стали одним из источников, использованным не только для военных и философских глав, но и для глав художественных. Имя де-Местра сделалось в эти годы очень популярным — и в Европе и в России. Изданы были его неопубликованные работы (в частности — о России), напечатана была переписка, охватывавшая весь период владычества Наполеона, вышло несколько книг о нем (С. Bartheldmy, R. de Sdzeval и др.). Основной тенденцией этих изданий было — реабилитировать де-Местра от обвинений в реакционности взглядов и возвеличить его память. В России тоже заинтересовались им. М. Стасюлевич в своей диссертации («Опыт обзора главных систем философии истории» — 1866) уделил ему целый рад страниц и объяснял причину нового интереса к его жизни и взглядам: «Де-Местр принадлежит к числу тех людей, значение и оценка которых может сделаться темою для самых противоположных декламаций... де-Местр умер тогда, когда эпоха его идей прошла, и, следовательно оставил по себе неприязненную память в нашем времени; а между тем недавно, на наших глазах, лет семь тому назад, все вдруг заговорили о нем не только без всякой вражды, но даже с интересом и с желанием возвести его в авторитет. Причиною такой новой загробной метаморфозы в судьбе де-Местра был тот новейший переворот, поставивший его отечество Сардинию во главе Итальянского королевства, в противность интересам Австрии, которую де-Местр преследовал глубокою ненавистью всю свою жизнь. Забытые его Les soirdes de St.-P6tersbourg явились снова в цитатах; в 1858 г. поспешили издать его Correspondance в Париже; в Турине сделали то же самое; у нас издали его переписку с Чичаговым».
Толстой воспользовался, прежде всего, письмами, которые де-Местр посылал из Петербурга своему королю и некоторым другим лицам в годы борьбы с Наполеоном[536]. Понятно, что такой материал заинтересовал Толстого и пригодился ему: это — не историческое сочинение и не воспоминания, а письма, которые писались во время событий, когда автор не знал еще, что будет дальше, и притом — письма лица, вращавшегося в высшем придворном кругу и пристально наблюдавшего. Есть страницы, которые Толстой взял отсюда почти цитатно. Так, вся глава, изображающая гостиную Анны Павловны в 1812 г. и разговор кн. Василия с Phomme de beaucoup de mdrite о назначении Кутузова главнокомандующим, смонтирована из письма де-Местра от 2/14 сентября 1812 г. «L'homme de beaucoup de mdrite» — это и есть, по-видимому, сам де-Местр; в своем письме он рассказывает так: «В то время, как происходили эти события, взоры всей столицы обратились на генерала Кутузова: общественное мнение призывало его на пост главнокомандующего. Кутузову не менее 70 лет, он толст и грузен, но очень умен и чрезвычайно хитер; он человек близкий ко двору — очень выгодное положение, но не раз вредившее ему. Он изуродован ужасающей раной: пуля когда-то прошла сквозь его голову и вышла через глазную впадину; глазница сместилась, и другой глаз, по естественной связи, тоже сильно пострадал; он плохо видит, с трудом держится на лошади, часто впадает в дремоту и т. д. Несмотря на эту физическую слабость, он близко связан с одной молдаванкой, о которой много говорили во время турецкой войны: носились слухи, что эта женщина была на службе у Порты, но я всегда смотрел на это подозрение как на выдумку, порожденную людским недоброжелательством: он прекрасно исполнил возложенную на него в этом деле задачу, лучше даже, чем можно было ожидать. Но несомненно, что, по этой ли причине или по другой, император не очень расположен к нему; возможно, что ему не нравится слишком сильная угодливость генерала — император не любит этого. Говоря об одном министре, он сказал с гримасой на лице: этот человек всегда поддакивает мне. Эта черта характерна. Во всяком случае император не питал особой благосклонности к Кутузову, но так как он чувствовал, что общественное мнение призывает его в главнокомандующие, то он внезапно возвел его в княжеское достоинство; никто не придал значения этой милости, и все в один голос говорили: «Это для того, чтобы не сделать его главнокомандующим»; но общественное мнение, продолжая действовать, достигло, наконец, такой силы, что государь не счел возможным сопротивляться; к этому, говорят, присоединился другой удобный повод, доставивший Кутузову еще раз благодарность общества. И вот его императорское величество вручил верховное командование князю Кутузову, ко всеобщему удовлетворению; надо признать, что, несмотря на его физические недостатки, ничего лучшего нет. За восемь дней до этого я слышал, как говорили: Чего вы хотите от слепого генерала?(Que voulez-vous faire d'un g6n6ral aveugle?) После назначения я обратил на это внимание того же лица и услышал ответ: Ах, боже мой! он видит совершенно достаточно. (Ah! mon dieu! il у voit assez)... Как только князь был назначен, один из его друзей стал его уговаривать, чтобы он требовал полной власти и пользовался бы ею. «Предоставьте дело мне», сказал он; и действительно, он добился всего, и теперь его можно считать императором русской армии. Меня уверяют (но я совсем не утверждаю этого), что его величество император, говоря ему: Государь и отечество оказывают вам эту честь (Le souverain et la patrie vous ddcernent cet honneur) — покраснел как девица, которой читают Жоконду. Я могу только утверждать, что в душе государь не был расположен к этому и что он сделал над собой большое насилие... Некоторые уверяют меня, что князь Кутузов, принимая назначение, поставил условием, чтобы его императорское величество не возвращался более в армию и чтобы великий князь, его брат, покинул ее, говоря вполне резонно о последнем, что он (Кутузов) не может ни наградить его за хороший поступок, ни наказать за дурной». Все французские фразы, которыми обмениваются у Толстого кн. Василий, Анна Павловна и l'homme de beaucoup de mdtrie, взяты прямо из этого письма де-Местра.
Целый ряд отдельных выражений, афоризмов и острот взяты Толстым у де- Местра. В том самом размышлении кн. Андрея, которое я сопоставлял с Прудоном, есть строка: «Армфельд говорит, что наша армия отрезана, а Паулучи, что мы поставили французскую армию между двух огней»; это — перевод из письма де-Местра: «C'est encore la peur qui dit, k la tete de deux armies de 100 000 hommes chacune: Je suis coupee\ au contraire, le vrai gdnie militaire dit, et il a raison: "J'ai mis I'ennemi entre deuxfeux"». Это письмо, вообще, послужило материалом для изображения Паулуч- чи и описания всех споров вокруг вопроса о Дрисском лагере. Так, одна из партий (восьмая), по словам Толстого, говорила, что «одно присутствие государя парализует 50 тысяч войска, нужных для обеспечения его личной безопасности»; де-Местр приводит именно эту фразу: «Sire, vorte seule presence paralyse 50 000 hommes, car il n'en faut pas moins pour garder votre personne».
Очень интересно заимствование, касающееся старика Болконского. Толстой рассказывает, что старик Болконский не имел постоянного места для ночлега — «то приказывал разбить свою походную кровать в галерее, то он оставался на диване» и т. д.; де-Местр, описывая смерть гр. Строгонова (как и старик Болконский — последний екатерининский вельможа), расказывает: «II n'avait point de chambre k coucher dans son vaste hotel, ni meme de lit fixe; il couchait k la manifcre des anciens russes, sur un divan ou sur un petit lit de camp qu'ilfaisait dresser ici ou la, suivant sa fantai- sie. De la chambre ой il s'6tait d'abord couchd dans sa dernifcre maladie, il se fit transporter dans une chaise k roulettes jusque dans sa galerie de tableaux, attenante k sa bibliothfc- que». Толстой взял все эти детали — вплоть до галереи, которая в обстановке Лысогорского, довольно простого дома не совсем понятна. Правда, одно указание на галлерею есть раньше («По дороге к комнате сестры, в галерее, соединявшей один дом с другим»), но можно думать, что галерея, в которой спал старик Болконский, попала в текст все же из де-Местра.
В военных рассуждениях кн. Андрея использован рядом с Прудоном и Ж. де- Местр. Кн. Андрей говорит Пьеру: «Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под Аустерлицом проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами, но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, и проиграли. А сказали мы это потому, что нам там незачем было драться: поскорее хотелось уйти с поля сражения». Де-Местр пишет 14 сентября 1812 г.: «Реи de batailles sont perdues physiquement. Vous tirez, je tire: quel avantage у a-t-il entre nous? D'ailleurs, qui peut connaitre le nombre des morts? Les batailles se perdent presque toujours moralement; le veritable vainqueur, comme le veritable vaincu, c'est celui qui croit l'etre».
Кроме «Correspondance diplomatique», Толстой пользовался, по-видимому, и другой известной книгой де-Местра — «Le soirees de St.-P6tersbourg». Седьмой диалог этой книги целиком посвящен войне (отсюда Прудон взял цитату о божественности войны). Война трактуется де-Местром как страшное явление, недоступное человеческому разуму — совершенно так, как у Толстого, где она называется «противным человеческому разуму и всей человеческой природе событием» или «страшным делом, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами». Я не буду сопоставлять тексты — для этого пришлось бы привести диалог о войне полностью. Мне достаточно здесь указать на самый факт использования Толстым сочинений и переписки де-Местра. Парадоксальное на первый взгляд сочетание имен Прудона и Ж. де-Местра на самом деле вовсе не так парадоксально — особенно в системе Толстого, являющейся не столько системой, сколько сплавом некоторых моральных и философских понятий. К тому же Прудон, как я уже говорил, вовсе не считался в это время в России безусловным революционером, а с другой стороны — Ж. де-Местр истолковывался как мыслитель вовсе не безусловно реакционный: когда-то (указывали его защитники) на него смотрели даже как на якобинца.
И в Прудоне и в де-Местре Толстой не искал системы и не интересовался ею. Ему нужен был материал, поддерживающий его «понятия» и помогающий ему осуществить задуманную конструкцию романа. Соответственно новому замыслу, в роман должны были войти рассуждения о войне и военные сцены, противостоящие другому, семейному плану. Толстой пользуется теми книгами, которые Драгомиров правильно назвал «модными» — книгами Прудона и Ж. де-Местра.
з
История работы Толстого над романом, как она шла от 1863 г.до 1867-1868 гг., явно показывает постепенный рост автора и вместе с ним — рост романа. То, что писалось в 1868 г., было очень далеко оттого, что было написано в годы 1864,1865, 1866. Вместе с приближением к концу роман приобретал новые жанровые и идеологические тенденции. Отошла на второй план не только первоначальная исключительная установка на домашность, но и первоначальная элементарная публицистичность. С одной стороны, материал несколько эстетизировался, приобретя качества «психологического анализа» вне обязательного противопоставления его современному историзму; с другой стороны, антиисторизм, первоначально грубо- отрицательный, не то что смягчился, но, вместе с общим жанровым и идеологическим повышением, повысился до степени особого рода «философии истории», которая развернулась только в 1868—1869 г. и вступила в роман, и как идеологический и как конструктивный его элемент, вместе с переходом от 1805 к 1812 г. Только тут окончательно выяснилось и сложилось соотношение двух планов, первоначально мешавших друг другу: одному, домашнему, была придана функция «картины нравов» — т. е. функция историческая, хотя материалом для этой картины послужили, главным образом, нравы вовсе не начала ХЕХ в., а Ясной Поляны 50—60-х годов; другому, военно-историческому, была придана функция жанровая — превращения романа-хроники в «поэму», в «эпопею». Английские романы (Троллоп, Тэккерей, Брэддон) помогли Толстому справиться с семейной фабулой; Гомер и Гёте вдохновили и придали ему смелости на внедрение и развитие не только батального, но и философского материала —как знака «эпического» жанра.
Однако Гомер и Гёте могли быть образцами только для осуществления уже задуманного жанра — самый же замысел этого жанра и материал для его создания должны были явиться независимо от этих образцов, в другой связи и в другой обусловленности. Дело опять-таки не во «влиянии» Гомера, Гёте или Троллопа, а в использовании их на основе уже готового замысла. Источники этого замысла — не Гомер и Гёте, а эпоха 60-х годов, с ее «рассудительством», с ее историческим пафосом, с ее напряженной борьбой, обострившей проблемы личности и исторического процесса. Выше, в связи с замыслом «Декабристов», я указывал на интерес к историческим книгам и лекциям, к мемуарам и биографическим «монтажам». Это было характерно для начала 60-х годов. Тогда же началось, а к середине 60-х годов еще усилилось, увлечение вопросами философии истории — интерес не только к фактам, но и к обобщениям. Среди общих проблем центральными оказались две: о сочетании индивидуальной свободы с исторической необходимостью и о причинности в истории.
Любой журнал начала 60-х годов содержит статьи и полемику на эти темы. Появление обширных исторических трудов в русских переводах — Вокль, Зибель, Шлоссер, Вебер, Рохау и др. (факт тоже очень характерный) приветствуется и обсуждается в прессе. Являются статьи под заглавиями: «Идеализм и материализм в истории» (В. Авсеенко в «Отечественных записках», 1863 г.), «О механических способах в исследованиях истории» и т. д. Большой шум вызывает статья Чернышевского «О причинах падения Рима» — и именно потому, что основной ее темой является вопрос о причинности в истории; вокруг его же статьи «Антропологический принцип в философии», тоже касающейся вопросов истории, разгорается бурная полемика (статья Юркевича — «Наука о человеческом духе»). Чернышевский объясняет механизм человеческой деятельности «законом необходимости»; «Библиотека для чтения», защищая Чернышевского от Юркевича (упрекавшего его в невежестве), печатает переводную статью «Об изучении истории», которая, по заявлению редакции, направлена почти прямо против мнения Чернышевского. В статье этой много места уделено вопросу о свободе воли и понятии «закона», метафорически применяемом в естествознании; предлагается заменить это слово словом «правило» или «формула», приводятся возражения против того, что мы будто бы знаем причинные связи фактов физического мира и т. д. История, по мнению автора, должна строиться так, чтобы она не угрожала нравственным принципам — в том числе принципу свободы воли: регулярность (т. е. закономерность) и свобода совместны, потому что свобода — в сознании. Статистика вовсе не открывает связи между причиной и следствием, хотя точно предсказывает, сколько человек в будущем году отправят письма по неверному адресу. Последнее направлено уже против Бокля, книгой которого увлекались тогда в России. «Книжный вестник» (1865. № 9), говоря о книге Шлоссера «Женщины французской революции», заявляет: «Исторические труды Бокля перевернули вверх дном наши понятия об истории и ее значении. Обе исторические школы, существовавшие до него, как объективная, так и субъективная, если не совершенно утратили бывшее свое значение, то радикально изменили черты свои пред нашим возмужалым пониманием. Объективный историк приблизился к романисту, субъективный — к публицисту. Как публицист смотрит на текущие события с личной своей точки зрения и подводит их под носимые им идеалы справедливости и полезности, так субъективный историк с такой же точки зрения взирает на явления минувшей жизни». Здесь особенно характерно указание на то, что объективный историк (т. е. историк прагматического типа, излагающий конкретные события) приблизился к романисту; остается указать и на обратный процесс — романист приблизился к историку.
К середине 60-х годов вопросы философии истории и построения исторической науки становятся уже темами университетского преподавания и ученых диссертаций. В. Герье читает вступительную лекцию — «Очерк развития исторической науки» и печатает ее в «Русском вестнике» (1865. № 10 и 11); М. Стасюлевич пишет диссертацию на тему — «Опыт исторического обзора главных систем философии истории», где, между прочим, много места уделяет изложению теории Бокля, поскольку она касалась вопросов причинности и закономерности. Основной тезис Бокля Стасюлевич излагает так: «Люди объясняли все движение в истории двумя гипотезами: или они ссылались на предопределение, основы которого представляют теологический характер, или на свободу воли человека, выводимую из метафизических воззрений; ни то ни другое неверно: история есть видоизменение человека природою и видоизменение природы человеком».
Итак, вопросы философии истории — и в частности вопрос о закономерности (свободе воли) и о причинности — имеют в это время совершенно злободневный характер, характер почти практической проблемы, разрешение которой важно не только для «мировоззрения», но и для поведения. Это совсем не то, что было в 40-х годах, когда философия истории обсуждалась в гегельянских кружках с точки зрения общей гносеологической системы — как проблема теории познания; теперь она стала проблемой теории поведения, теории общественной борьбы. Бокль, прилагающий свою теорию к истории Англии и вполне доступный широкому читателю, никогда не слыхавшему ни о каком «абсолюте» и ни о какой «феноменологии духа», заменил собою и Гегеля и Шеллинга.
Естественно, что это всеобщее увлечение философией истории как теорией исторического поведения должно было захватить Толстого и видоизменить его первоначальный антиисторизм. Уже по его педагогическим статьям и по пьесе «Зараженное семейство» видно, что он читал Бокля и интересовался вопросом о построении исторической науки и о ее задачах. Но это была эпоха его борьбы с идеей «прогресса цивилизации» и с «историческим воззрением». К середине 60-х годов Толстой занят уже другими вопросами — теми самыми, которые обсуждаются в журналах и составляют предмет журнальной полемики. Вспоминая потом о своей дружбе с Ю. Самариным и о спорах с ним, Толстой говорил Д. Маковицкому: «У меня была странная теория о развитии человека в зависимости от географического положения. Я ему прочел ее. Он не отвергнул ее, а сказал, что это надо разобрать, нельзя ни согласиться, ни не согласиться». Эта «странная теория» явилась у Толстого, очевидно, в эпоху всеобщего увлечения Боклем. Еще современники Толстого указывали на сходство философско-исторических глав «Войны и мира» с боклевской «мистической, фаталической» школой; Толстой ответил на это решительным отрицанием того, что между его воззрениями и школой Бокля есть какое-либо сходство или родство: «Несмотря на то, что прежде чем изложить такие, как мне казалось, странные и противоречащие общему взгляду мысли, я перечитал много, чтобы узнать, насколько я в своем взгляде расхожусь с другими людьми, думавшими о том же, я не нашел нигде этой мистической или какой-нибудь другой школы, на которую мне указывают».
Это заявление Толстого правильно только отчасти. Толстому, ценившему в себе и других «самобытность» мысли, всегда хотелось думать и казалось, что то, к чему он пришел, совершенно оригинально и никем до него высказано не было. Известен рассказ А. Амфитеатрова о том, как Толстой в 1882 г. пригласил к себе профессоров-экономистов — Чупрова, Янжула и Каблукова — и прочитал им свою статью о вреде денег: «Ученые выслушали труд Jl. Н. Толстого и в восторг не пришли. — Вам не нравится? — спросил несколько задетый автор. — Нет, очень нравится. Вы написали блестящий реферат. Но зачем вы его писали? Старая песня... —Кто же это говорил раньше меня? — уже вспыхнул Толстой: он был вообще не из терпеливых к противоречиям. — Как кто? — удивился Чупров, — но вы же дословно повторяете и теорию и мотивировку школы физиократов... — Физиократы?.. — Да, последний порог экономической науки пред Адамом Смитом... — Надо будет прочитать, — проворчал Толстой, очень недовольный. А профессора ушли и в недоумении и в восторге. — Пойми же ты, — рассказывал мне Чупров, — что за удивительная способность мысли, что за сила природная живет в мозгу этого человека. Своим умом, в одиночку, не имея понятия об экономической науке, проделать всю ее эволюцию до XVIII века и подвести ей именно тот итог, который был тогда исторически подведен... это неслыханно! Это сверхъестественная голова! это единственный, чудовищный феномен!»[537] Примерно то же самое было и с философией истории. Еще Чичерин вспоминал, что Толстой «пробовал читать Гегеля», но признался, что для него это — «китайская грамота». Н. Кареев, разбираясь в системе философско-исторических построений Толстого и указывая на внутреннюю их противоречивость, между прочим заявил: «Война и мир не заключает в себе указаний на то, чтобы Толстой изучал этот вопрос и был знаком с обширной литературой, посвященной именно решению историко-философских вопросов, а потому многие возражения, делаемые им историкам, являются, по крайней мере, запоздалыми, тогда как другие прямо обнаруживают незнакомство с тем, что делается в исторической науке»[538].
Дело втом, что книга Бокля имела в России особенный успех (гораздо больший, чем на Западе) не как ученое сочинение, а как книга публицистическая, явившаяся в самый момент полемики вокруг характерных для русской интеллигенции 60-х годов споров об идеализме, материализме, нигилизме и пр. Русский Бокль — явление не научной, а интеллигентской мысли, как и русский Прудон. И как Пру- дон, Бокль вовсе не был евангелием одной левой интеллигенции. В борьбе, разыгравшейся между дворянской и разночинной интеллигенцией, Бокль, как и Прудон, был использован обеими сторонами. Представители научной истории и, тем самым, враги интеллигентского дилетантизма, как например С. Соловьев, выступали против Бокля, не находя в его теориях никакого научного значения и оценивая его как легковесного популяризатора; что касается интеллигенции, то она спорила о Бок- ле именно потому, что находила в его книге ответы на злободневные вопросы политической и общественной жизни.
Толстой, еще в 1862 г. прочитавший Бокля, находил тогда, что он очень занимательно анализирует законы цивилизации, но что законы эти не обязательны для России. Та эпоха, с ее последними усилиями отстоять славянофильство, прошла, но Толстой, конечно, остался тем же архаистом, с налетом славянофильских тенденций. От антиисторизма он, вместе с новой эпохой, переходит к проблеме исторической закономерности, но отстаивает свои архаистические тенденции. Бокль был при этом учтен и даже частично принят — поскольку в его теории были элементы, не только не противоречившие этим тенденциям, но даже их поддерживавшие. С. Соловьев совершенно правильно указал на то, что «иеремиады» Бокля, нападающего на историков за то, что они «наполняют свои сочинения самыми пустыми подробностями, анекдотами о государях, о дворах, бесконечными известиями о том, что было сказано одним министром, что думал другой и, что всего хуже, длинными известиями о войнах, сражениях, осадах» и т. д. — что все эти иеремиады сильно запоздали: «Бокль не знал, что делалось в этом отношении у нас в России. Здесь очень долго утверждали, что русская история начинается только с Петра Великого... Эта крайность вызвала, как обыкновенно бывает, другую крайность; но как бы то ни было, верно одно, что очень задолго до Бокля в одной стране громко проповедовались его положения»[539]. Под «другой крайностью» Соловьев явно разумеет исторические взгляды славянофилов — их специфическое «народничество», ставящее во главу угла движение и характер народной массы. Таким образом, между воззрениями Бокля и историческими принципами славянофилов оказалось родство, благодаря которому поверхностному наблюдателю может показаться, что философско-исторические тезисы Толстого идут непосредственно и только от Бокля. Некто В. Лопатин, пораженный этим сходством, заявил: «Вся философия романа "Война и мир" есть следствие непосредственного впечатления Бокля на Толстого»[540]. Это совершенно неверно: Бокль — источник второстепенный и нехарактерный. Характерно и важно совсем другое.
К концу 60-х годов философия истории настолько входит в злобу дня, что становится одним из главных пунктов борьбы между идеологами разных направлений. Архаистам приходится бороться на два фронта: против разночинной интеллигенции, с их материализмом и нигилизмом, и против постепенно образующейся академической науки — с С. Соловьевым во главе. Тут Толстому одному было уже не справиться. Образуется кружок «самобытных» мыслителей, связанных со славянофильством и с архаическим «народничеством», — партия архаистов-чудаков, среди которых основную роль играет давнишний друг Толстого, С. Урусов. Возникает дружба (и именно идеологического характера) с Ю. Самариным, С. Юрьевым;
укрепляются идейные связи с М. Погодиным. Общими усилиями вырабатываются основы той самой «самобытной» философии, которая явилась на страницах V и VI томов «Войны и мира».
Что касается Бокля, то С. Урусов дает хороший ключ к объяснению замеченного многими сходства между его историческими теориями и философией Толстого. В своей книжке «Обзор кампаний 1812 и 1813 годов» Урусов, между прочим, говорит о том, что история все еще остается «на неподвижной точке эмпиризма», а между тем материалы собраны — «остается привести их в разумную систему, а потом вывести закон событий и общественных явлений вообще». В числе попыток такого рода Урусов называет «Дух законов» Монтескье, а затем пишет: «Относительно законов исторических событий мне приятно опереться на мнения русских мыслителей. Мало кому известно, что гораздо прежде, чем знаменитый Бокль высказал свое мнение об истории в прекрасном Введении к истории цивилизации в Англии, наш профессор М. П. Погодин высказал весьма глубокий взгляд на эту науку. Вот что между прочим говорит наш историк во вступительной своей лекции "О всеобщей истории", читанной в 1834 году в Московском университете. «Неужели, говорит Погодин, люди зависят от случая и подвергаются опасности погибнуть в сию же минуту со всеми своими чувствами, мыслями, надеждами, историею? Рассудок невольно противится принять такое нелепое положение. — Если человечество сохраняется, то сохраняется для чего-нибудь, то есть имеет цель, в себе ли, вне ли. Если оно имеет цель, то к ней необходимо ведет какой-нибудь путь, который должен быть пройден последовательно, от начала до конца, с которого оно совратиться не может. — Следовательно, человечество имеет законы своего движения. — Человечество есть, следовательно, но может не быть, следовательно, должно быть, следовательно, оно содержит в себе условия своего бытия. — Следовательно, есть законы для его действия, необходимость в происшествиях; есть путеводная десница, промысл, — есть бог в Истории». Тотчас за сим тот же автор так поясняет свою мысль: "К Испанцам приходят Вест-Готы, к Галлам Франки, и т. д., и все сии государства (западной Европы) начинаются одинаково от бракосочетания победителей с побежденными, и у всех происходит одно явление — феодализм. Каждое из них отделяется от прочих, занимается внутренними делами, живет особливою жизнию, и между тем к XVI столетию феодализм разрушается, и на его развалинах основывается единодержавие. У всех государей рождается одна мысль для утверждения своей новой силы — бессменные войска, коим уединенный монах, из глубины своей монастырской кельи, вручает сильнейшее средство, порох, найденный им на дне алхимической ступки. Даже по одинаковому человеку явилось в главных европейских государствах для окончательного низложения феодализма: Людовик XI во Франции, Филипп II в Испании, Генрих VIII в Англии, товарищи нашего Иоанна и Датского Христиерна. Не очевидно ли, заключает наш историк, что для основания всех сих государств, со всеми явлениями, зависящими от оного, есть один какой-то закон?"»
«В пятидесятых годах Бокль (Buckle), не читавши статьи Погодина, нападает на ту же мысль; он думает даже идти далее, предположив совершенно произвольно, будто человечество развивалось и развивается в зависимости от климата, почвы и художественных сторон различных местностей: но в этом омуте предположений он закруживается и сходит в могилу. Закон есть и может быть найден, но не синтетически, а эмпирически и анализом. Нынешняя Греция осталась неизменною по климату, почве и красоте местности, но не осталось и следа прежних Греков.
Мы знаем также, что население нынешней Турции развивается совсем не так, как развивалось прежнее население этой же местности. Таким образом, обнаруживается, что Бокль руководствовался ложными началами и предвзятыми мыслями».
Сам Толстой в «Войне и мире» тоже упоминает Бокля, но только для того, чтобы показать, что он не видит особой, принципиальной разницы между ним и старыми историками: «Во всех сочинениях новейших историков от Гибона до Бокля, несмотря на их кажущееся разногласие и на кажущуюся новизну их воззрений, лежат в основе эти два старые неизбежные положения» — т. е. что «народы руководятся единичными людьми» и что «существует известная цель, к которой движутся народы и человечество». В другом месте, говоря о понятии власти, Толстой опять упоминает Бокля — но опять только для того, чтобы демонстрировать его беспомощность: «Понятие это [власть] есть единственная ручка, посредством которой можно владеть материалом истории при теперешнем ее изложении, и тот, кто отломил бы эту ручку, как то сделал Бокль, не узнав другого приема обращения с историческим материалом, только лишил бы себя последней возможности обращаться с ним». Говоря о сходстве взглядов Толстого с Боклем, приводят обычно одно место из «Войны и мира», где говорится о том, что «для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами» и т. д. Но тут — не сходство, а частичное совпадение, идущее совсем из других источников. Не останавливаясь на них здесь (о них — ниже), укажу только, что та же мысль есть, например, у Прудона: «Пора обновить изучение истории. Слишком долго в ней видели только результат воли некоторых отдельных лиц. Надо представить революции, политику и войны в их социальных причинах. Показать, что деспотизм — в массе, а не в личности... Разрушить традиционных идолов, авторитеты, предрассудки; сделать историю одновременно и реалистической, и философской, а не вылизанной, доктринерской, приглаженной, quasi-идеальной, какова классическая история: вот была бы великая услуга для Франции и для человечества. Трактовать историю по методу психологии: революции — как кризисы, болезни, как горячку; анализировать и разоблачать ложных великих людей, ложных благодетелей, ложных героев, ложных гениев» и т. д. Итак, Бокль не только с точки зрения Соловьева, но и с точки зрения Урусова есть явление запоздалое — по крайней мере для тех, кто знает Погодина и славянофилов. И в самом деле, чтобы понять источники толстовской философии, надо обращаться не к Боклю, а к Погодину и Урусову, кроме которых у Толстого есть несомненная связь с Прудоном и Ж. де-Местром. Лекция Погодина, которую цитирует Урусов, была напечатана в книге, явившейся совсем в другую эпоху, и тогда мало замеченной, но теперь возрожденной. По письмам Толстого к Погодину, относящимся к 1868 г., видно, что именно в это время (когда Толстой работал над последними двумя томами и был в деятельном общении с Урусовым, Юрьевым и Самариным) между ними завязалась переписка на философско-исторические темы. Толстой пишет Погодину: «Меня очень обрадовало ваше письмо, многоуважаемый Михаил Петрович. Мысли мои о границах свободы и зависимости и мой взгляд на историю — не случайный парадокс, который на минутку занял меня. Мысли эти — плод всей умственной работы моей жизни и составляют нераздельную часть моего миросозерцания, которое бог один знает, какими трудами и страданиями выработалось во мне и дало мне совершенное счастие и спокойствие. А вместе с этим я знаю и знал, что в моей книге будут хвалить чувствительную сцену барышни, насмешку над Сперанским и т. п. дребедень, которая им по силам, а главное-то никто не заметит. Вы заметите и, пожалуйста, поговоримте. Назначьте время, когда бы мне повидаться с вами... За книгу благодарю: Прочту и уверен, что найду подтверждение своего взгляда»[541]. Книга эта, судя по другому письму Толстого (от 7 ноября 1868 г.), есть именно — «Исторические афоризмы». Толстой отвечает на предложение Погодина («лестное и заманчивое») принять участие в затеянной им газете: «Заманчиво же ваше предложение потому, что иногда и часто в последнее время мне приходят мысли о бессрочном историко-филологическом издании, направление которого вам известно лучше всех из вашей книги Исторические Афоризмы, которую вы мне прислали в Москве. Издание это, чтобы... определить его направление, я мечтал бы назвать: Несовременник. Все то, что могло бы рассчитывать на успех в 19-м и на хотя неуспех — но на читателей в 20 и дальнейших столетиях, имело бы место в этом издании. История, философия истории и грубые матерьялы истории. Философия естественных наук и грубые матерьялы этих наук, не тех наук, которые могли бы служить для практическ.., но тех, которые служили бы к уяснению философских вопросов. Математика и ее прикладные науки — астрономия, механика, искусство — несовременное. И все. Исключено бы было только то, что наполняет теперь работой 99/i00 всех типографий мира — т. е. критика, политика, компиляция — т. е. непроизводительный задор и дешевый и гнилой товар для бедных умом потребителей. Вот мои мечтания, живо опять вспомнившиеся мне при вашем предложении. Я сообщил их вам, потому что вы тот самый Погодин, который написал Ист. Аф., и как ни далеки кажутся газета и такое издание, мне представилась возможность сделки». Письмо это лишний раз подтверждает полемическую настроенность Толстого по отношению к «современности», но больше всего оно подтверждает наличие в это время идеологической связи между Толстым и Погодиным. Необходимо остановиться на книге Погодина «Исторические афоризмы»[542].
Эта книга была написана еще до эпохи русского гегельянства — в ней молодой Погодин выступал как последователь Шеллинга, прошедший школу «любомудрия». В ее основе лежит представление об универсальном духе, который определяет развитие человечества и разными своими чертами отражается в разных национальностях. Отсюда — характерное сочетание универсализма («История должна из всего рода человеческого сотворить одну единицу, одного человека, и представить биографию этого человека чрез все степени его возраста») с национализмом («всякий народ имеет свою физиономию, философию, нравственность, поэзию и религию»), исторической абстракции, делающей историка философом и поэтом, с конкретностью, сближающей историка с естествоиспытателем. Идеал истории — установление одного общего закона, по которому образуется человечество; открыв этот закон, история, тем самым, уничтожит сама себя: ясновидящему историку, историку-художнику, жизнь народов представляется уже не во времени, а в пространстве. Путь к отысканию этого общего закона — главный пафос книги. Погодин признает необходимость исторического эмпиризма — «прикладывать историю к готовой теории — то же, что класть ее на Прокрустово ложе», — но нужно стремиться «подводить под итоги и уменьшать число собственных имен». Исторические афоризмы — фрагменты этой будущей истории, попытки уловить некоторые черты общего закона, найти аналогии, сблизить факты, открыть в них просвечивание системы, услышать звуки исторической гармонии: «прочесть историю так, как глухой Бетховен читал партитуры». В соответствии с такой задачей Погодин касается здесь самых разнообразных проблем — и общих, и частных: сопоставляет разные науки, прибегает к сравнениям и аналогиям, строит догадки, ставит вопросы и т. д.
Урусов был прав, когда нашел у Погодина то, что впоследствии явилось у Бок- ля. Основы этого совпадения — разные, сходство в этом смысле — случайное, внешнее, вовсе не означающее тожества предпосылок и выводов. Таково же и сходство толстовской философии истории с теорией Бокля. Погодин, ища единого общего закона, останавливается, между прочим, на связи человека с природой — это та самая «странная теория о развитии человека в зависимости от географического положения», которую Толстой развивал Самарину. Погодин пишет: «Человек и природа сначала бывают связаны узами неразрывными и имеют одну общую историю; человек долго остается рабом земли, им обитаемой, и зависит от нее, как бы ее произведение, цветок или дерево. Образ его жизни, образ его мыслей, почти определяются ею. Здесь должно искать преимущественно источника различия в древних языческих религиях, образах правления и проч. Гора имеет свой климат, свой воздух, свой язык и свой образ мыслей; равнина также. Персианин, рожденный близ нефтяных источников, в стране неугасимого огня, поклоняется богу под сим образом, и его философия принимает два начала, свет и тьму. Вавилонянин, житель долин, над коими на вечно ясном небе сверкают звезды немер- цаемым светом, чтит светила и занимается прежде всех астрономиею. Жителей равнин гораздо легче содержать в повиновении, чем горцев. В средней Азии, на тучных пастбищах, без хлеба и леса возникает кочевой образ жизни, в плодоносном Египте земледелие, в приморской финцкии торговля, троглодитная архитектура среди естественных пещер Эфиопии. Вот отношение географии и вообще естественной истории к истории. Чем более человек образовывается, чем более духовная часть его совершенствуется, тем более выходит он из-под власти природы вещественной, и из раба ее делается властелином. Так душа младенческая, безусловно, повинуется телу, а человек зрелый может управлять и страстями». В другом месте Погодин ставит вопрос: «Количество воды в государстве не должно ли брать в расчет при взгляде на историю?»
Очень часто Погодин возвращается к самым общим вопросам философии истории — тем самым, о которых неустанно говорит Толстой в романе: о причинах и следствиях, о свободе и необходимости. Характерно при этом, что в большинстве случаев Погодин прибегает к сравнениям из мира физики или механики и к математическим терминам — то самое, что постоянно делает Толстой. Погодин пишет: «Как переплетаются следствия, отношения и причины! Всякое происшествие можно сравнить с многоугольником, который тысячами своих сторон прикасается к тысячам других многоугольников». Или еще о том же: «Всякое происшествие, как всякое движение по закону механики, есть следствие многих частных причин и сил». Афоризм, касающийся перспективы развития человечества, кончается сравнением: «Так тело падает к центру с увеличивающейся быстротою»[543]. Эта тенденция особенно ярко сказывается в одном афоризме: «Время настоящее есть плод прошедшего и семя будущего. Другими словами: в истории идет геометрическая профессия. Найдя среднее пропорциональное число, можно предвещать и будущее, как теперь прорекается прошедшее. Вот пример подобной пропорции: Если крестовый поход так относится к реформации, то как реформация относится к Z и проч.? КП Р = Р : Z. — Таким образом можно отыскивать и первый, и второй, и третий, и четвертый члены». Толстовский термин «дифференциал истории» взят, оказывается, у Погодина; в предисловии Погодин пишет: «История, скажу здесь кстати, имеет свои логарифмы, дифференциалы и таинства, доступные только для посвященных».
Соотношение свободы и необходимости — основная проблема исторической науки по Погодину, основное «таинство» истории: «Каждая наука имеет свои таинства: таинство истории — связь законов необходимости с законами свободы. Признаюсь, мне странно видеть, как многие мыслители могут до такой степени обманываться своею логикою, своею оптикою, что почитают себя понимающими это таинство или по крайней мере стыдятся как будто не понимать его». В своей вступительной лекции Погодин говорит об этой же проблеме: «История должна, мне кажется, с одной стороны, протянуть ткань так называемых случаев, как они один за другим, или один из другого следовали, ткань намерений и действий человеческих, по законам свободы. С другой стороны, она должна представить другую параллельную ткань законов высших, законов необходимости, и показать таким образом соответствие сих божественных идей к скудельным формам, в коих они проявлялись, показать, как сей так называемый случай бывает рабом судьбы, ответом на вопрос, на потребность. Сотканы ли сии ткани? Найдены ли сии законы? Показано ль их тождество? Определены ли случаи и их необходимость? Нет, Мм. Гг., напрасно некоторые из новых немецких философов в упоении ученой гордости мечтают в конце своих учебников, что они все постигли. Когда я читаю историю, в таком догматическом тоне написанную; когда не встречаю ни на одной странице никакого сомнения, недоумения, вопроса; когда вижу, что автор ее все знает, в противоположность Сократу, который под конец своей мудрой жизни узнал, что ничего не знает: то я теряю доверенность к его умствованию, сомневаюсь в его сердечном убеждении, и он, равно как и его товарищи, кажутся мне логическими машинами, которые сами себя обманывают, приводят молодых людей в заблуждение и приносят истории гораздо менее пользы, особенно в своих приложениях, нежели сколько думают. Нет — история есть самая младшая наука, и для системы ее по предложенному теперь идеалу собрано разве только что несколько материалов».
Достаточно после ознакомления с книгой Погодина перечитать философско- исторические главы «Войны и мира», чтобы убедиться в несомненной связи и соотношении основных воззрений Толстого (а иногда и терминологии) со взглядами Погодина. Иначе говоря, понимание толстовской философии истории невозможно без знакомства с книгой Погодина. Можно сказать, что беседы с Погодиным и чтение его книги были одним из основных источников и толчков к развитию философско-исторических глав романа. Многие афоризмы написаны точно специально для того, чтобы Толстой развернул их в рассуждение и применил бы к событиям войны 1812 г. Погодин пишет: «Каждый человек действует для себя, по своему плану, а выходит общее действие, исполняется другой высший план, и из суровых, тонких, гнилых нитей биографических сплетается каменная ткань истории». Этот афоризм Толстой мог бы взять эпиграфом ко всему роману — в особенности к тем главам, где он говорит о частной жизни людей, которая идет вне и помимо общих интересов: «И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени». Толстой говорит почти словами Погодина: «Провидение заставляло всех этих людей, стремясь к достижению своих личных целей, содействовать исполнению одного огромного результата, о котором ни один человек (ни Наполеон, ни Александр, ни еще менее кто-либо из участников войны) не имел ни малейшего чаяния». Афоризм Погодина развернут и акцентирован Толстым, потому что смысл его явно адресован в современность: это — своеобразная защита «домашности» («личных целей») против все той же интеллигенции, одушевленной пафосом исторического сознания и, тем самым, пафосом сознательного переустройства «общественной» жизни — ее социальных и политических условий. Прямо обращаясь к современникам, Толстой заявляет: «Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью». В другом афоризме Погодин говорит о движении народов: «Взгляните на реку весною за минуту пред вскрытием: как спокойны и неподвижны ее скованные воды! Но вдруг треснул лед, поднялась вода, и извороченные глыбы бурной чередою, одни через другие, понеслися в далекое устье. Вот всеобщее движение народов в IV и V веках. — Но кто им дал этот первый толчок? Отчего они, дотоле спокойные на своих местах, вдруг, кольца электрической цепи, прониклись одной силой и устремились куда глаза глядели, как будто не владея собою? И потом все уселись, успокоились. Ловить такие минуты — мудреная задача для историков- философов; изображать их прекрасная задача для художников-историков». Этот афоризм, еще с большим правом, чем предыдущий, мог бы стоять эпиграфом к роману Толстого. Погодин точно вызывает здесь его на соревнование — и Толстой принимает вызов: весь переход Наполеона он истолковывает как стихийное движение народов с запада на восток, после которого должно последовать их обратное движение — с востока на запад. Сохраняя даже стилистическую конструкцию Погодина, Толстой ставит вопросы: «Что такое все это значит? Отчего произошло все это?.. Какие причины этих событий?» и т. д. Даже погодинское сравнение откликнулось в эпилоге романа: «Прошло семь лет. Взволнованное историческое море Европы улеглось в свои берега... Волны большого движения отхлынули, и на затихшем море образуются круги» и т. д.
Если вспомнить, что отношения Толстого с Погодиным завязались еще в 1863 г., когда Толстой только начинал работу над романом и не собирался развертывать историческую его сторону, то можно сказать решительно, что в происшедших потом переменах всего плана и в повороте Толстого от домашности к историческому материалу, а затем и к философии истории Погодин сыграл очень значительную роль. Александровская эпоха, и в частности — эпоха отечественной войны, была одной из главных тем Погодина в 60-х годах. В 1863 г. вышла его книга об Ермолове, в «Русском архиве» он публиковал разные материалы и письма — в том числе письма Сперанского и большую статью о нем. Еще в «Исторических афоризмах» Погодин неоднократно останавливается на вопросе о Наполеоне и его падении; один из афоризмов гласит: «Происшествия складываются: всю Европу, например, в 1813 году мы видели в двух лицах, Наполеоне и Александре». Эта мысль возрождается у Толстого — когда он в дневнике записывает свою мысль: «написать психологическую историю-роман Александра и Наполеона». Любопытен самый термин Толстого — <шстория-роман»\ это не совсем то, что «исторический роман». Это должно стоять, по стилю и конструкции, гораздо ближе к жанру исторического повествования — ближе к Погодину, чем к Зотову или Загоскину.
Мы видели, что в философско-исторических главах «Войны и мира» есть стилистическая связь с Погодиным. В историко-литературном плане можно утверждать, что историческая часть романа, по жанру своему, идет именно от работ Погодина — и в частности от его ермоловской биографии-монтажа. Техника монтажа лежит в основе всей исторической части «Войны и мира». Демонстрация этого потребовала бы много места; я могу сослаться на книгу В. Шкловского и на те места своей книги, в которых я касался вопроса об источниках (например — сцена кн. Василья и l'homme de beaucoup de mdrite). Для примера остановлюсь на одной главе, описывающей приезд Наполеона из Дрездена в Вильну. Эта глава (и ближайшие следующие) смонтированы из двух источников — Тьера и Богдановича. Первый абзац («29-го мая Наполеон выехал из Дрездена») — почти дословный перевод из Тьера, но недостающая у Тьера конкретная деталь — «Он уехал в дорожной карете, запряженной шестериком» — вставлена из Богдановича: «Утром 11 (23) июня, к 6-му (польскому) уланскому полку, стоявшему на форпостах в соседстве берегов Немана, быстро подъехала дорожная коляска, запряженная шестеркою рысаков, в сопровождении нескольких гвардейских конных егерей». Эт егери упомянуты Толстым ниже — «поехал по направлению Ковно, предшествуемый замиравшими от счастья восторженными гвардейскими конными егерями». Следующая конкретная деталь — «Наполеон осмотрел реку, слез с лошади и сел на бревно, лежавшеее на берегу» — взята тоже из Богдановича: «Там он слез с лошади, сел на бревно у самого берега» и т. д. Выборка из материалов (немногочисленных) такого рода мелких деталей и их акцентировка — это тот самый, характерный для Толстого, монтажный прием, который возмутил Тургенева и заставил его назвать всю историческую часть романа «шарлатанством».
Иногда Толстой сохраняет и стилистические обороты источника, работая уже прямо по методу цитат. Тьер говорит, что войска Наполеона «текли, как три неистощимые потока» («semblaient couler comme trois torrents indpuisables»); это сравнение, употребленное мимоходом, Толстой развертывает: «12-го числа рано утром он вышел из палатки, раскинутой в этот день на крутом левом берегу Немана, и смотрел в зрительную трубу на выплывающие из вильковисского леса потоки своих войск, разливающихся по трем мостам, наведенным на Немане. Войска знали о присутствии императора, искали его глазами, и, когда находили на горе перед палаткой отделившуюся от свиты фигуру в сюртуке и шляпе, они кидали вверх шапки и кричали: "Vive Гетрегеиг!" и одни за другими, не истощаясь, вытекали, всё вытекали из огромного, скрывающего их доселе леса, и, расстроясь по трем мостам, переходили на ту сторону». Метод совершенно ясный: обыкновенная языковая метафора, употребленная Тьером, развернута, раздвинута, задержана, «педализирована» и превращена, таким образом, в стилистический прием. Мимоходная деталь превращена в монтажный кадр.
Монтаж разных источников часто приводит к ошибкам фактического характера, потому что внимание автора (монтажёра) обращено на сочетание фактов и деталей. Комбинируя Тьера с Богдановичем, Толстой не обратил внимания на то, что Тьер ставит даты по новому стилю, а Богданович — по старому (новый у него проставлен в скобках). Глава начинается словами: «29-го мая Наполеон выехал из Дрездена»; этот абзац сделан по Тьеру — 29-е мая дано по новому стилю. Далее Толстой переходит к Богдановичу — и оказывается, что 10 июня Наполеон уже догнал армию и ночевал в вильковисском лесу. На самом деле, если держаться нового стиля, Наполеон догнал армию только 22 июня[544].
Итак, постоянный и основной тезис моей работы, определяющий Толстого как архаиста, получает очень важное подтверждение фактом его близости с Погодиным, представителем архаической стадии славянофильства. Но дело не только в Погодине самом по себе — дело в том кружке архаистов, непосредственно связанных со славянофильством, о котором я уже упоминал. Письмо Толстого к Погодину, выше мною цитированное (с проектом «Несовременника»), заканчивается вопросом: «Читали ли вы книгу Урусова "Обзор 1812 и 13 гг."? Ежели читали, то вы бы очень обязали меня, написав мне короткое словечко, выражающее ваше о ней мнение». Это та самая книга С. С. Урусова, в которой Боклю противопоставлен Погодин. Таким образом переход от Бокля к Погодину, а от Погодина к Урусову монтируется сам собой — без всяких усилий с моей стороны. Загадочные источники, а вместе с ними и смыслы философско-исторических глав «Войны и мира», вплоть до их стилистической и терминологической стороны, начинают выясняться. Философия истории Толстого оказывается «самобытной» только в том смысле, что она противостоит современным научным и публицистическим системам как создание группы «самобытно»-мыслящих людей — чудаков, сохранивших традиции и понятия отошедшей эпохи и настроенных против современности. Среди них большинство — неудачники, биография которых сломлена напором 60-х годов; Толстой, хотя и не избежавший исторической травмы, но все же — удачник, и потому он берет на себя наиболее активную роль. «Война и мир» приобретает характер партийного выступления — декларации от имени «несовременников».
4
Некоторые современники Толстого знали о близкой связи философских глав «Войны и мира» с идеями С. Урусова, но позднейшие биографы и исследователи Толстого, избегающие историко-литературных сопоставлений — особенно если эти сопоставления ставят под вопрос его полную самостоятельность и «самобытность», совершенно упустили этот факт из виду. Книга Урусова, о которой Толстой запрашивает в письме к Погодину, не упоминается никем; между тем Б. Чичерин, говоря в воспоминаниях о философской необразованности Толстого и о том, что он, оставив Гегеля, «стал хвататься за всякую нелепость, порожденную невежеством», пишет дальше: «Как он прежде мудрецом считал Фета, так он величайшим мыслителем признал князя Урусова... После войны князь Урусов вышел в отставку и принялся писать философские статьи. Как-то раз Сергей Рачинский, в виде курьеза, принес нам изданную им брошюрку. Это была такая невероятная галиматья, что все присутствовавшие хохотали до упаду. Оказалось, что именно из этой брошюрки Толстой почерпнул все те исторические теории, которые он внес в свой роман "Война и мир": эти теории как раз отвечали той задаче, которую поставил себе Толстой и которая состояла в том, чтобы развенчать всех великих людей и все приписывать действию маленьких невидимых единиц, руководимых темными инстинктами».
Весь тон этого места воспоминаний, конечно, пристрастен и продиктован раздражением бывшего друга; утверждение Чичерина, что все теории Толстого почерпнуты из брошюры Урусова, конечно, неверно, потому что дело здесь, как мы видели, не в одном Урусове и, как увидим ниже, не в одной его брошюрке; но самый факт связи Толстого с Урусовым в работе над философско-историческими вопросами отмечен правильно. Вспомним приведенное выше примечание П. Бартенева—о том, что Урусов и Страхов (последнее — ошибка) «натвердили» Толстому, что без философской подкладки его роман не будет иметь настоящей цены. Наконец — еще одно, очень авторитетное свидетельство. 23 ноября 1869 г. Тургенев пишет И. П. Борисову (из Баден-Бадена): «С нетерпением ожидаю 6-го тома "Войны и мира", авось успел немногоразуруситься, и вместо мутного философствования даст нам попить чистой ключевой воды своего великого таланта». Слово разуруситься подчеркнуто самим Тургеневым — как термин, без объяснений понятный Борисову. Очевидно, друзьям и близким знакомым Толстого было известно, что Толстой обурусился — т. е. подпал под влияние Урусова, в результате чего роман стал наполняться «мутным философствованием». Так судили друзья. Посмотрим, что было на самом деле.
Толстой и С. Урусов стали приятелями еще во время Севастопольской кампании. Урусов служил тогда в Полтавском полку и славился своей храбростью и своими чудачествами. Он поступил на 4-й бастион, самый опасный: «Можно было беспрестанно ожидать его штурма, и бастион подвергался неумолкаемому убийственному огню. Того и искал Урусов», — вспоминает участник кампании В. И. Барятинский[545]. Артиллерист по образованию, Урусов был выдающимся математиком и шахматным игроком. В. Барятинский сообщает: «Урусов был известным игроком в шахматы, одним из первых в России, и играл по переписке со знаменитыми лондонскими, парижскими и нью-йоркскими игроками». Барятинский подробно описывает один из шахматных сеансов, когда Урусов, сидя спиной к шахматным столам, играл одновременно с тремя офицерами и спокойно продолжал игру, несмотря на близкие взрывы снарядов. Толстой в письме к шведским поборникам мира (1899 г.) рассказывает, между прочим, об одном поступке Урусова: «Я помню, во время осады Севастополя, я сидел раз у адъютанта Сакена, начальника гарнизона, когда в приемную пришел князь С. С. Урусов, очень храбрый офицер, большой чудак и вместе с тем один из лучших европейских шахматных игроков того времени. Он сказал, что имеет дело до генерала. Адъютант повел его в кабинет генерала. Через десять минут Урусов прошел мимо нас с недовольным лицом. Провожавший его адъютант вернулся к нам и, смеясь, рассказал, по какому делу Урусов приходил к Сакену. Он приходил к Сакену затем, чтобы предложить вызов англичанам сыграть партию в шахматы на передовую траншею перед 5-м бастионом, несколько раз переходившую из рук в руки и стоившую уже несколько сот жизней». После окончания войны Урусов жил в Москве и в своем имении (близ Сергиева Посада), продолжая заниматься математикой, шахматами и военными вопросами.
Когда Толстой уезжал из Севастополя в Петербург (1855 г.), Урусов дал ему рекомендательное письмо к известному славянофилу И. В. Киреевскому. По содержанию этого письма видно, что с Киреевским он находился в приятельских отношениях. О Толстом в письме сказано: «Рекомендую вам прекрасного литератора и вместе шахматного игрока, моего ученика, графа Льва Николаевича Толстого»[546]. Вообще, как видно из позднейших статей и писем Урусова, он близко стоял к московским славянофилам старшего поколения и относился сочувственно к их взглядам. Это был человек незаурядный, талантливый, но типичный архаист и чудак, в 60-х годах выглядевший человеком другой, давно отошедшей эпохи — с фантастическими идеями, со своим собственным, замкнутым от современности, миром понятий, представлений и интересов. Каждый вопрос приобретал в его уме характер причудливый, а иногда и курьезный. Очень характерно, например, его письмо к И. С. Аксакову, написанное в 1863 г. по поводу злободневного тогда польского вопроса; Урусов дает этому вопросу совершенно фантастическое освещение и предлагает еще более фантастические меры: «Давно дожидался отзыва вашего о польском вопросе; наконец дождался. Если бы взгляд мой был совершенно тождествен с вашим взглядом, мне оставалось бы молчать. Мне кажется, вы слишком снисходительны; борьба в Польше есть война против папистов и бонапартистов; тени нет польского вопроса. Ключ к решению занимающего нас вопроса в Париже: надо взять в плен Бонапартов. Один я, или даже с помощью гения П. А. Зарубина, ничего не могу сделать; надо с дюжину удальцов. Может быть, по прочтении прилагаемой статьи, которой я дал вид письма, найдутся умницы и богатыри, которые решатся принять участие в выделке аэростата по плану Зарубина и в экспедиции против Бонапартов. Правительство не решится на это, а потому надо действовать самому. С божией помощью все кончится хорошо»[547]. Статья Урусова осталась, очевидно, ненапечатанной, и замечательный проект его — неисполненным.
Дружба Толстого с Урусовым возобновилась и укрепилась к концу 60-х годов — именно тогда, когда Толстой работал над последними томами «Войны и мира». Урусов, издавший до этого несколько работ по высшей математике и по теории шахмат («Дифференциальные и разностные уравнения» — 1863, «Об интегральном множителе разностных и дифференциальных уравнений» — 1865, «О решении проблемы коня» — 1867), усиленно интересовался историей и теорией войн. Его любимое и страстное занятие было — установление всяческих «законов» (в том числе и исторических) при помощи математических формул и вычислений; он вычислял даже «закон смертности царей». В старости он занимался исключительно всякого рода вычислениями; Толстой, гостивший у него в 1899 г., пишет жене: «Князь очень мил. Встает в 3, 4 часа, ставит самовар, пьет чай, курит и делает свои вычисления. После обеда и весь день то же, за исключением отдыхов, пасьянсов и гулянья. Боюсь, что все вычисления эти не нужны. У него есть эта неясность мысли, самообманы- ванье, при котором ему кажется, что он решил то, что ему хочется решить. Папироски, водка изредка, в малых порциях, и чай — боюсь, еще более затуманивают. Но простота и стремление к добродетели — истинные, и потому с ним очень хорошо».
В 60-х годах Толстого с Урусовым особенно сблизили военные и исторические интересы. В 1866 г. Урусов издал книгу «Очерки восточной войны», посвященную Крымской кампании. По этой книге ясно видна идеологическая связь Урусова с славянофильством — и притом со славянофильством самого архаического типа. Вот одно из характерных публицистических отступлений Урусова: «По выражению одного великого ученого, нигде с такою силою не развиваются науки, как в России; еще немного пройдет времени — и мы опередим в научном образовании те народы, которые называют нас варварами: но не погаснет ненависть, и нас не перестанут называть варварами. Мы варвары, только потому, что любим правду и ненавидим ложь. Кого, например, в самой России называют западниками? Не тех, которые бреют бороды, не тех, которые содействуют развитию наук и искусств, даже не тех, которые покровительствуют немцам, любят языки западные и стараются о развитии русского народа искусственным, насильственным образом: сказанное наименование относится к тем, которые, под предлогом просвещения, стремятся врожденную нам любовь к истине, простоте, порядку и справедливости искоренить, заменить ее гнилыми западными нравственными началами». Интересно, что в этой книге Урусов неоднократно сопоставляет кампанию 1854-1855 г. с войной 1812 г. Связь этих двух войн между собой резко чувствовалась людьми того времени,— она, как я уже говорил, лежит и в основе военно-исторических сцен «Войны и мира», начиная с солдатских сцен и кончая самыми описаниями военных действий.
Ко времени появления этой книги относится, по-видимому, и начало особенной дружбы Толстого с Урусовым. Именно тогда, в 1866 г., Толстой начал разработку военно-исторической части своего романа. Между ними затевается деятельная переписка, а во время приездов в Москву Толстой видится с Урусовым и беседует с ним. К сожалению, письма Толстого не сохранились24 — их, по словам С. J1. Толстого, Урусов сжег, разгневанный отходом Толстого от православной церкви; приходится по письмам Урусова догадываться о том, что писал ему Толстой[548]. Переписка их была посвящена, главным образом, обсуждению военных и исторических вопросов. После ознакомления с нею становится ясно, что в разрешении этих вопросов и в трактовке их для романа (особенно специальных вопросов теории войны) роль Урусова была очень значительной. Прудон и Ж. де-Местр пригодились Толстому для философии войны и для трактовки Наполеона; Погодин помог ему в исторической и философско-исторической части; рядом с Погодиным, и как помощник в развитии философско-исторических идей, и как руководитель в военно-теоретической части романа, должен стоять Урусов.
В марте 1868 г. вышел IVтом романа (по позднейшему расположению 2 части III тома) — т. е. начало 1812 г. Уже до выхода этого тома, во время работы над ним, у Толстого с Урусовым были беседы на философско-исторические темы; это видно из письма Урусова, которое начинается словами: «С величайшим наслаждением прочел том четвертый вашего бесподобного романа; кажется мне даже, что этот том еше выше первых трех. С вашим воззрением теперь я вполне согласен, ибо вижу, что это не есть турецкий фатализм, а просто то, что мы называем предназначением». Письмо кончается припиской: «О Бородинском сражении непременно напишу». Сам Урусов в это время работал над книгой, специально посвященной анализу военной стороны кампании 1812 г. — той самой, о которой вспоминает Чичерин. Урусов пишет Толстому 26 мая 1868 г.: «Больших трудов стоило сочинение о законах войны, но, благодаря бога, все кончено. Заглавие дано такое: "Обзор кампаний 1812 и 1813 годов". Из IVтома позаимствовал о причинах войн. Обзор сделан краток, но выводы вышли неожиданно сложны. Страшные законы выведены, эмоции были сильны, не мог спать. Предвижу нападки и насмешки. Мне самому было и страшно и смешно следить за последовательным развитием законов. Кажется, если бы продолжать, не было бы конца. Вся история до того проста, что невольно хочется написать теперь, что будет завтра и после завтра, и т. д.».
Точное заглавие книги Урусова — «Обзор кампаний 1812 и 1813 годов, военно- математические задачи и о железных дорогах» (М., 1868). Книга открывается ссылкой на «Войну и мир» Толстого: «Суждения автора о причинах войны 1812 года и взгляд его на военные события внушили мне мысль искать исторические законы, преимущественно же законы войн, помощию математического анализа. Одна из задач Прибавления 1-го, относящаяся к перевозке войск по железным дорогам, послужила поводом для написания особой статьи о передвижениях войск (Прибавление II). До сих пор этого рода вопросы решались эмпирически, а потому в вычислениях моих заключается первая попытка облечь эту часть стратегии в формулу точной науки. Эта статья моя обнаруживает, сколь необычайное сходство, и даже в некоторых случаях тождество, существует между вопросами о передвижении войск и задачами шахматными». Далее идет речь о законах истории — и цитируется лекция Погодина (см. выше). Имена Урусова, Толстого и Погодина связаны в этой книге как имена единомышленников — как партия или кружок; к ним надо присоединить еще С. А. Юрьева и Ю. Самарина.
Толстой и Урусов стоят во главе этого кружка, очень боевого и хранящего заветы старших славянофилов; Погодин — их учитель и авторитет. Они увлечены фантастическими открытиями высших законов и борются сразу на два фронта: как дилетанты — против цеховой науки и ее представителей, как дворяне-архаисты — против разночинной интеллигенции 60-х годов. Математика для них — не просто наука, а партийный лозунг. В одном письме Урусова есть замечательное отступление в сторону: «Меня восхищает самостоятельность открытий и изысканий наших доморощенных гениев; недаром я сказал в "Очерках восточной войны", что самый гениальный народ наш. Вы заметили, может быть, в этой книжке мой афоризм, что нигде с таким успехом не развиваются науки, как в России. Теперь это оправдывается. Это замечено еще Гершелем. В одном из заседаний ученого общества в Лондоне этот великий астроном чрезвычайно жарко говорил за Россию; теперь этот отзыв оправдывается. На вопрос: как узнать — гениален ли, самобытен ли, могущественен ли такой-то народ и где более всего развивается просвещение?
Я отвечаю: все зависит от развития наук точных и преимущественно математики. Французская республика была могущественнейшим государством потому, что тогда были Лагранжи, Лежандры, Лапласы и проч.; теперь Франция ничтожна, потому что нет там математиков. Во время Гершелей Англия была наверху своего могущества, и теперь она на той же высоте потому, что есть там Томсоны, Темы и проч. В Пруссии — Эйлеры и Якоби. В Швеции Абель. У нас Остроградский, Че- бышев, Буняковский и Юрьев».
Итак, кружок Толстого — это кружок «самобытно» мыслящих людей, кружок «доморощенных гениев». Юрьева Урусов так и называет — «гением»; другой его «гений» — самоучка-изобретатель (впоследствии литератор и беллетрист) П. А. Зарубин, с которым Урусов собирался лететь на аэростате его системы в Париж для радикального разрешения польского вопроса и о котором писал в статье «По поводу франко-германской войны» («Русская беседа». 1871. Кн. II): «Народ, который произвел на свет такого механика, как П. А. Зарубин, не нуждается в чужих изобретениях. (Примечательно, что все изобретения Зарубина бесследно исчезают; нашему самоуничтожению нет пределов.)». Приезды Толстого в Москву сопровождаются свиданиями друзей и длительными ночными беседами на философские и исторические темы. Об одной из этих бесед Толстой вспоминал через 40 лет в разговоре с Д. Маковицким: «Помню, комната Урусова, Сергея Семеновича; был философский или религиозный разговор; не помню, о чем мы спорили с Урусовым, и решили послать за Самариным. И он приехал». В одном из писем к жене, относящемся, по-видимому, к началу 1869 г., Толстой описывает свой московский день: «Послал к Урусову. Он пришел ко мне: с ним проговорил все утро, и с ним поехал к Юрьеву и Самарину. Обоих их пригласил вечером к Урусову. Обедал у Урусова. От него, чтобы дать отдохнуть голове и посмотреть новую пьесу Островского, пошел в театр. Не досидел там и всей пьесы и вернулся к Урусову, где вчетвером договорили до 3-го часа. Исторические мысли мои поразили очень Юрьева и Урусова и очень оценены ими; но с Самариным, вовлекшись в другой философский спор, и не успели поговорить об этом. Я несколько разочаровался в нем». Эти свидания, беседы и споры заполняют почти все время; Толстой пишет в том же письме: «Но ты не можешь себе представить, как мало времени, когда есть дела, как мои, — такие как переговорить с Самариным, с Юрьевым, — дела, которые требуют сосредоточенного внимания». С другой стороны, Урусов пишет Толстому после одного из его приездов: «Вы видите, сколько явлений, влекущих за собою ваше посещение Москвы! Грешно будет, пользуясь свободой, оставаться в деревне. Впрочем, боюсь отвлекать вас от обязанностей и занятий, семья дороже всего».
Я уже говорил о том, что кружок Толстого стоял в оппозиции не только по отношению к разночинной интеллигенции, но и по отношению к цеховым ученым — особенно историкам. По поводу той самой статьи Соловьева, о которой я говорил выше (в связи с Боклем), Урусов пишет Толстому (12 декабря 1868 г.): «На страницах Вестника [Европы] помещена первая статья (продолжение будет) исторического содержания нашего историка Соловьева, явно направленная против Бокля, а тайно против нас. Заглавие: "Наблюдения над исторической жизнью народов". В действительности же это не наблюдения, а мнения Соловьева. Он старается доказать, что история народов есть не что иное, как история правительственных деятелей (то есть Бисмарка, Наполеона, Бейста и прочих чудовищ). "Что такое правительство?" — спрашивает Соловьев. "Правительство есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая поверка этой жизни"
Как вам эта чушь нравится?..» Далее Урусов описывает свою встречу с историком П. К. Щебальским: «Этот новый тип нынешних историков прехладнокровно начал излагать свои (то есть общие) мнения об истории по поводу Вашего сочинения и Ваших отзывов. Надо заметить, что Щебальский был военным и, между прочим, в Даргинской экспедиции. В доказательство влияния главнокомандующих на ход сражений он рассказал, как Воронцов своим присутствием ободрил солдат Лидер- са и пробился сквозь полчища Шамиля. Я ему возражал так: "Вам казалось, что решил сражение Воронцов; другому, например командиру какого-нибудь полка, казалось, что он одержал победу своими распоряжениями; третий в это время крепко помолился и бросился вперед; неприятель бежал, и победа приписана молитве. Отсюда видно, что в каждом событии усматривается тьма причин: которая же из них истинная причина? Прочтите со вниманием лучшие курсы истории: вы увидите в них во- 1-х хронику событий, заимствованную у Геродота, Тацита, и проч.; эти авторы сами сознаются, что за достоверность событий, ими рассказываемых, они не ручаются. Между тем на этих недостоверных хрониках нынешний историк основывает свой анализ; анализ состоит в приискивании причин событий. А так как деятельность второстепенных лиц неизвестна, то все явления приписываются главам народов. Из чтения такого рода историй один почерпает себе одного рода правила; другой, увлекаясь подвигами Александра и Цезаря, ищет им подражать; третий восхищается Фабрицием и т. д.; одним словом: история становится поучительным романом. Но есть ли в такой истории хоть тень науки? Если же это не наука, то как же не стараться об ее преобразовании! Эти-то старания поставить историю на степень науки вызвали на сцену Бокля и Л. Толстого. Толстой говорит, что история не есть наука о причинах событий, ибо за причину события, например вторжения 1812 г., можно принять столько же волю последнего солдата, сколько и волю Наполеона; история есть наука о законах исторических событий, а не о причинах. Открыть эти законы или содействовать их открытию — вот цель Бокля и Толстого. Если бы мы знали эти законы, то, не справляясь с хрониками, сказали бы, что за столько-то лет до нас было непременно такое-то, а не иное событие. Вы, историки, теперь в лесу без компаса: Толстой дает или хочет дать Вам компас, дабы вы могли выбраться из этого леса. Выяснить эту задачу Толстого и, по возможности, решить ее составляет цель моей книжки о 1812 и 1813 гг. Наши труды, может быть, ничтожны по результатам, но они выдвинут непременно историю из леса на чистое поле..." По-видимому, Щебальский согласился и понял, в чем дело; но барыни Новосильцовы, хоть они и писательницы, из рук вон. «Так и вы несогласны, — кричат они, — в том, что Наполеон был великим человеком!» Я вышел из терпения; поневоле вспомнишь Гоголя Коробочку. Вспотевши как Чичиков, я бегом домой и теперь еще сижу как в бане. Надеетесь ли вы втолкнуть в головы наших современников ту простую истину, что история есть наука об общественных законах, и поймут ли когда-нибудь читатели, что есть закон событий или явлений? Я не надеюсь; всюду вижу Коробочку. Остается писать и работать, как вы выразились, для XX столетия. Мне ужасно хочется с вами поговорить о средствах определить, в немногих словах, просто, ясно, наглядно, задачу истории; прежде всего чувствую необходимость кончить 3-й том и сдать его в печать с тем, чтобы, не изменяя ничего, во что бы то ни стало, окончить ваше чудное творение».
В борьбе с официальными историками Урусов берет Бокля под защиту — как своего попутчика, но вне этой борьбы отношение Урусова к Боклю гораздо более отрицательное. Предостерегая Толстого от ошибок при переводе сложнейших математических формул на язык разговорный, Урусов пишетему (26 марта 1869 г.): «Вы вдадитесь в критику, полемику отрицания, и толку не будет. Бокль так же поступил, и ничего не сделал, только возмутил все и всех. Открывайте законы, хотя и приблизительные, но положительные, а не отрицательные». Этот призыв проходит через все письма Урусова к Толстому — как его главное требование. В своей книге он старается осуществить этот принцип, стремясь к открытию законов войны как «простейшего из исторических событий». Он рассуждает так: «Армии суть самые несвободные общества; находясь под законами гражданскими, связанные сверх сего воинской дисциплиной, они составляются, двигаются, уменьшаются и вовсе исчезают с такою правильностью, что с незапамятных времен зародилась стратегия — наука о войне. В армиях замечается общий дух, общая сила, влекущая их вперед или назад, и никакая дисциплина, никакие полководцы не могут бороться против такого влечения. Стало быть, над армиями возможны такого рода наблюдения, которые необходимо должны нас познакомить с многими явлениями жизни общественной. Если мы узнаем законы войн, то для нас сделается ясным понятие о народных движениях, например, понятие о народной воле. А как только уяснится этот предмет, то есть общественная воля, то вся история развернется пред нами, как бы все происходило пред нашими глазами». Рассуждая далее о свободе и необходимости и устанавливая различие между законами субъективными («созданными человечеством») и законами объективными, Урусов формулирует: «Законы, создаваемые людьми, то есть те, которые1 выше названы субъективными, также подлежат изучению: но было бы нерационально начинать дело с конца, делать десятый шаг, не сделавши первого шага. Итак, прежде всего изучать должно объективные исторические законы и притом на таких обществах, которые менее всего свободны, то есть, как уже сказано, на армиях». Обосновав таким образом принципиальную сторону своей книги, Урусов делает краткий обзор главных сочинений по стратегии (Лойд, Ласси, Бюлов, Жомини, Ронья и последующая школа во главе с Наполеоном, главный теоретик которой — Клаузевиц), основное стремление которых — «изучать субъективные законы войны». Введение кончается словами: «Настоящее сочинение мое есть первый опыт найти и изучить фаталистические законы войны».
Понятие закона Урусов противопоставляет понятию причины. «Введение» начинается следующими словами, совершенно совпадающими с тезисами Толстого: «Мы не можем знать ни причину, по которой установлен тот, а не другой закон явлений, ни причину каждого явления в особенности; но можем знать самый закон; можем знать те неизменные правила, по которым одни явления сменяются другими, и одни события следуют за другими событиями. Нам известен закон квадратов расстояний, закон равенства угла падения углу отражения, закон удвоения населения в каждый промежуток времени от 15 до 25 лет; но почему именно эти законы установлены, а не иные, и какие причины производят различные явления природы, — мы не знаем и узнать не можем. В этом согласны все серьезно занимающиеся науками; они исследуют законы явлений, устраняя понятие о причинах этих явлений». Вспомним начало III тома «Войны и мира» — рассуждение о том, что причины войны 1812г., указываемые историками, недостаточны, что причины ее представляются в неисчислимом количестве, что миллиарды причин совпали для того, чтобы произвести это событие и что, следовательно, «ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться». Говоря о Бородинском сражении, Толстой опять возвращается к этому и возражает историкам: «На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что влияние Наполеонов на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное». Постоянно возвращаясь к этому вопросу, Толстой накопляет всё новые и новые доводы, прибегая, по примеру Урусова, к сравнениям из области физики и астрономии: «Причин исторического события нет и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскивания причин в воле одного человека, точно так же, как открытие законов движения планет стало возможно только тогда, когда люди отрешились от представления утвержденности планет... к явлению, которое мы рассматриваем, понятие причины не приложимо. В последнем анализе мы приходим к кругу вечности, к той крайней грани, к которой во всякой области мышления приходит ум человеческий, если не играет своим предметом. Электричество производит тепло, тепло производит электричество. Атомы притягиваются, атомы отталкиваются. Говоря о взаимодействии тепла и электричества и об атомах, мы не можем сказать, почему это происходит, и говорим, что это так есть, потому, что немыслимо иначе, потому, что так должно быть, что это закон. То же самое относится и до исторических явлений». Здесь Толстой мог бы прямо сослаться на Урусова, если бы это было нужно. Урусов, процитировав отрывок из «Войны и мира» (о фатализме в истории), пишет: «Прибавим от себя, что в общественной, исторической, роевой жизни человека мы даже вовсе не видим причинности, а усматриваем совершенно ясно только одно сочетание явлений. Иногда это сочетание явлений или сил бывает весьма просто, например такое: некоторый субъект, как нам кажется, произвел на свет такую-то войну, но и эта война произвела на свет этот субъект... Такое простое сочетание напоминает сочетание физическое: электричество производит теплоту, теплота производит электричество». Толстой не ссылался на Урусова, потому что он, как «удачник», взял на себя пропаганду теорий, выработанных в кружке неудачников, а еще и потому, что для романов обычай ссылок необязателен: тактически же было правильно держать источники своей философии истории в тайне от посторонних.
Вопрос о причинности, как видно по журнальным статьям на исторические темы, — один из самых злободневных для 60-х годов. «Реалисты», кладя в основу методы и проблемы естественных наук, отстаивают понятие причины и переносят его в историю, стремясь поставить ее на почву естествознания; в противоположном лагере естествознание (биология) вообще не пользуется симпатией — ему противопоставляется чистая математика и иногда астрономия или физика. В 1870 г. Толстой пишет в письме к Урусову:«Биология — меня огорчила. Как можно говорить об этом серьезно? Это только слово. Об этой мнимой науке можно говорить только тогда, когда не можешь или не хочешь серьезно мыслить».
Так определяется борьба между дворянской и разночинской наукой — не только в методах, но и в самом выборе наук. В этом смысле философский язык Толстого и Урусова, насыщенный математическими и физическими терминами, очень характерен. Все эти параллелограммы сил, квадраты расстояний, алгебраические уравнения и т. д. — вся эта «урусовщина» использована Толстым против разночинцев — «реалистов», с их дарвинизмом и с их стремлением сделать историю отделом естествознания. В конце «Войны и мира», в главе эпилога, трактующей вопрос о свободе воли, Толстой заявляет совершенно откровенно: «Только в наше самоуверенное время популяризации знаний, благодаря сильнейшему орудию невежества — распространению книгопечатания, вопрос о свободе воли сведен на такую почву, на которой и не может быть самого вопроса. В наше время большинство так называемых передовых людей, т. е. толпа невежд, приняло работы естествоиспытателей, занимающихся одной стороной вопроса, за разрешение всего вопроса». Урусов, настаивая на устранении причин при изучении явлений, рекомендует воспользоваться математическим методом и перенести его в историю: «Этот простой метод изумительно подвинул вперед различные части прикладной математики; благодаря этому методу двинулись вперед и естественные науки; наконец, даже политическая экономия, благодаря подчинению ее статистике, а сей последней — математике, облечена ныне в форму точной науки. По непонятным причинам одна только история, эта высшая, величайшая из всех трансцендентных наук, остается на той же неподвижной точке эмпиризма, на которой она находилась во времена языческие. Предмет истории есть совокупность тех законов, по которым развивались и развиваются общества». Толстой в эпилоге романа почти буквально повторяет слова Урусова; говоря о необходимости ограничить понятие свободы людей до бесконечности, он пишет: «Тогда, вместо отыскания причин, история поставит своей задачей отыскание законов. Отыскание этих законов уже давно начато, и все новые приемы мышления, которые должна усвоить себе история, вырабатываются одновременно с самоуничтожением, к которому, все дробя и дробя причины явлений, идет старая история. По этому пути шли все науки человеческие. Придя к бесконечно малому, математика, точнейшая из наук, оставляет процесс дробления и приступает к новому процессу суммования неизвестных бесконечно-малых. Отступая от понятия о причине, математика отыскивает закон, т. е. свойства, общие всем неизвестным бесконечно малым элементам... То же делают естественные науки: оставляя вопрос о причине, они отыскивают законы. На том же пути стоит и история. И если история имеет предметом изучения движений народов и человечества, а не описание эпизодов из жизни людей, то она должна, отстранив понятие причин, отыскивать законы, общие всем равным и неразрывно связанным между собою бесконечно малым элементам свободы».
Урусов много раз цитирует Толстого — в том числе приводит целиком всю аргументацию против тех, кто говорит о «плане скифской войны». По всему видно, что эта аргументация явилась плодом бесед с Урусовым о войне 1812 г. — Урусов цитирует здесь Толстого не только как единомышленника, но и как своего ученика. Цитата приводится как иллюстрация к собственным рассуждениям о неожиданном исходе первого периода кампании, искать причины которого, по мнению Урусова, значило бы «дать место произволу... ни Барклай, ни кто другой о преднамеренном отступлении не думал: все от мала до велика решились или атаковать неприятеля, пользуясь его растянутостию, или драться насмерть с целию отстоять Смоленск. Факты убедительно подверждают наш вывод: сперва решено было атаковать, а потом, по разным причинам, положено отстаивать Смоленск донельзя... Если Барклай сознательно заманивал Наполеона в глубь страны, для чего было соединяться под Смоленском? для чего отдавать распоряжения о переходе в наступление? для чего было стоять под Смоленском и чего-то выжидать? для чего, наконец, было бросать столь важный пункт, как Смоленск, и отстаивать совершенно ничтожную и гибельную позицию под Царево-Займищем?.. Все происходило гораздо проще, чем придумано писателями нашего времени... Очевидно, что Смоленск оставлен и разорен без всякой причины: можно и должно было держаться. Впрочем, говорим это не в осуждение Барклаю, а дабы показать только, что существуют мудрые фаталистические законы, которые в некоторых случаях вводят начальников в ошибки, в других же выводят их из затруднений». Все это рассуждение, после которого и следует цитата из «Войны и мира», обнаруживает полное сходство и даже тождество не только частных, но и общих предпосылок Толстого и Урусова. Это не совпадение, а результат совместной работы над военно- историческими вопросами. Урусов был, очевидно, главным военным авторитетом и источником для Толстого. Книга его оказывается необходимым и основным пособием или комментарием для понимания теоретической части «Войны и мира».
Две первые главы книги Урусова заняты анализом кампании 1812 г., который очень сходен с соответствующими главами «Войны и мира»; третья глава посвящена «основным законам стратегии». Тут вступает в свои права математика: «Слово закон принимается здесь в смысле математическом, то есть как выражение ряда явлений минувших и грядущих». Начинаются вычисления и формулы. Основные законы — «законы изменения масс армий»; делаются математические обобщения, касающиеся убыли войск при наступательных и оборонительных действиях. Следующая глава описывает кампанию 1813 г., и найденные формулы прилагаются к фактам. Глава пятая, особенно важная для Толстого, озаглавлена — «Законы сражений». Ее главная тема — вопрос о понятии «быстроты и натиска», которое, в переводе на математический язык, обозначается словами живая сила. Снова идут формулы и формулировки — вроде: «сила нападающего выражается живою силою массы М1\ то есть произведением из половины массы на квадрат скорости». В заключение ставится вопрос, чему надо приписать успехи Наполеона, выигравшего более 50 сражений: «Говорят, что Наполеону благоприятствовала фортуна; говорят, что он был гений, чародей, антихрист: все это может быть, но от этих определений нам не легче; причины остаются скрытыми. Но как только понятие о причинах отбрасывается и мы просто ищем закон явлений, те условия, при которых явление совершается, — тотчас же обнаруживается, что действие сказанных причин выражалось в быстроте и натиске, то есть в скорости и массе». Все эти рассуждения, законы и формулировки использованы Толстым — начиная с вопроса о роли Наполеона и полководцев и кончая математической терминологией. Самый стиль военно-теоретических глав романа совершенно совпадает со стилем Урусова. Эти главы, очевидно, вырабатывались совместно. Математическая терминология то и дело внедряется в язык Толстого: «Французское войско (по той стремительной силе движения, увеличенного теперь как бы в обратном отношении квадратов расстояний) уже надвигалось само собой на русское войско... Войска французские равномерно таяли в математически правильной прогрессии» и т. д. Вся книга Урусова построена на стремлении открыть законы войны при помощи математического анализа. Приемы математического анализа бесконечно малых (дифференциальное исчисление) применяются Урусовым и к общим вопросам истории. Так, например, Урусов пишет: «Главное препятствие к открытию законов нравственно-физических заключается в двух обстоятельствах: первое то, что в мире физическом всякая зависимость (функция) непрерывна, тогда как человеку, как существу по преимуществу нравственному, все явления, все зависимости представляются прерывными; второе, что явления общественные, весьма часто, и даже большею частию, приводят к функциям прерывным, с которыми обращаться мы не умеем. Непрерывные функции суммуются (интегрируются), но элементы, которые суммуются, неизвестны и невообразимы. Прерывные функции не суммуются, но элементы известны и вообразимы. Общие истины, общие законы, общие правила человеку доступны, но развитие множества из единства — недоступно. Эта двойственность функции есть лучшее доказательство двойственности природы и существования мира нравственного. При таких обстоятельствах, для устранения затруднений анализа, человек придумал комбинацию прерывного с непрерывным: прерывные элементы уменьшаются и вносятся в сумму или же, видоизменяя суммование, прилагаем его к элементам без всякого их изменения». Это рассуждение о функциях находим в «Войне и мире». Том V (по изданию 1869 г.), вышедший после книги Урусова, открывается вступлением: «Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Человеку становятся понятны законы какого бы то ни было движения только тогда, когда он рассматривает произвольно взятые единицы этого движения. Но вместе с тем из этого-то произвольного деления непрерывного движения на прерывные единицы проистекает большая часть человеческих заблуждений». Далее, приведя пример об Ахиллесе и черепахе, Толстой переходит к математике и, изложив сущность диференциального исчисления («эта новая, неизвестная древним, отрасль математики, при рассмотрении вопросов движения, допуская бесконечно малые величины, т. е. такие, при которых восстановляется главное условие движения» и т. д.), продолжает: «В отыскании законов исторического движения происходит совершенно то же. Движение человечества, вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно. Постижение законов этого движения есть цель истории. Но для того, чтобы постигнуть законы непрерывного движения суммы всех произволов людей, ум человеческий допускает произвольные, прерывные единицы». Это рассуждение о допущении прерывности в истории приводит к тезису: «Только допустив бесконечномалую единицу для наблюдения— дифференциал истории, т. е. однородные влечения людей — и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории».
Как видим, Толстой использовал здесь мысль Урусова и, развив ее, пришел к новому выводу и к новому понятию — «дифференциал истории», слегка намеченному у Погодина. Еще до выхода V тома Урусов пишет Толстому (16 ноября 1868 г.): «Жду с нетерпением ваших сообщений о дифференциале истории. Можно бы было прочесть их обществу математиков, но к сожалению, и там идут такие интриги против Юрьева и меня, что я решился на заседания не ездить и ничего не сообщать. Везде мерзость! Утешает меня очень Юрьев. Недавно приезжает ночью, застает меня в постеле и сообщает, что есть возможность открыть универсальный принцип физической природы; возможность зависит от интегрирования одного уравнения; общее же решение всех подобных уравнений предложено в моей новой французской книге; остается из общего вывести частное. Тотчас же взялся я за отыскивание этого частного, а Юрьеву останется перевести решение с языка математического на простой: если это удастся, то природа будет в наших руках. Вы понимаете, как меня задевает за живое ваш дифференциал истории: если это правда, что вы его нашли, то и нравственно-физические законы будут в наших руках... Вам необходимо знать, что дифференциал истории должен иметь то свойство, чтобы из суммы дифференциалов происходил закон (а не причина) событий. Если вы ищете причину, то не найдете; если же закон — найдете. Если вы ищете то самое для событий, что Сережа[549]ваш нашел в лесу (возле или после березы всегда растет сосна или ель), — вы найдете: ибо за некоторым событием непременно следует другое событие и остается только определить, какое именно за каким следует. Думаю, что это самое разумеете и вы, когда упоминаете о дифференциале. Только заметьте, что человеку доступны одни только истины общие, бесконечное же разнообразие развития множества из единства (дифференциалы из сумм) человеку недоступно, и вы составите исключение, если определите и уловите дифференциал. Я полагаю, что вы нашли то, что в математике называется первою производною. Производная почти всегда имеет прочное конечное значение, но дифференциал есть неизмеримое произвольно-малое количество».
Это письмо характерно тем, что в нем Урусов — не просто единомышленник и друг, а руководитель и советник. Он следит за тем, чтобы Толстой не впал в ошибки и не уклонился от намеченной задачи. Он постоянно беспокоится, как бы Толстой, которому выпало на долю быть главным проводником идей кружка, его «ударником», не сбился с правильного пути, не отошел бы в сторону. Каждый раз, как только он, при чтении корректур романа (а он не только читал, но иногда и вводил исправления), замечает, что Толстой не вполне следует его методам и советам, он пишет письмо, в котором предостерегает, поучает и пр. Так, в письме, из которого я привел цитату о Бокле, Урусов уговаривает Толстого оставаться на почве математики: «Вы были на почве математики. Вы первые возымели мысль открыть исторические законы объективные (не субъективные, то есть не юридические). Математика может предсказать, выиграется ли мое дело в окружном суде, — подавно она может открыть законы войны. По Вашему указанию я занялся и сделал первые открытия в моем "Обзоре" Устраняя причины (то есть предшествующие явления за собою последующие), я показал, что законы могут быть открыты и даже открыл закон усиления и исчезновения армий. Существование математических законов не только не отвергает, но, напротив, утверждает существование свободы. Я только угадываю и говорю: такое-то событие совершится. Но угадывать не значит подгонять... Вы встали на математическую почву, а теперь все делаете, чтобы соскочить с нее на почву произвола. Произведение из массы на скорость, или на функцию скорости, пути (пространства) и времени, — это формула математическая, но М. х произвольная» и т. д.
В другом письме Урусов возражает против второй главы VI тома (посвященной вопросу о партизанской войне), в которой Толстой воспользовался некоторыми идеями Ж. де-Местра и Прудона и подверг критике военную науку. Толстой иронизирует по адресу тактиков и выдвигает значение «духа войска», который «есть множитель на массу, дающий произведение силы». Это метафорическое использование математики и самая критика военной науки вызвали у Урусова возражения, которые он и сообщает в письме к Толстому:
«Благодарю, милый Лев Николаевич, что не сердитесь, я это узнал из того, что получил корректуры. Очень наслаждался! В среду получил, в четверг отнес. У Рис- са мне сказали, что 3 корректуры пошлются Вам, а потому считаю долгом объяснить причину поправок, сделанных мною в первых страницах.
1°. На первой странице я старался изменить полемические упреки в вопросительные; это необходимо потому, что многие историки смотрят на падение Государств так: статуя гниет, уже совершенно сгнила, остается только дать ей толчок;
толчок дан, и вся статуя разлетелась в прах; щелчок это есть война, а причину гниения видят одни в порче нравов, другие — в неразвитии. Знаменитый Михаил Никол. Муравьев, воспитатель Александра I, видел главную причину преобладания и падения Государств в большем или меньшем просвещении.
Вообще, решительного приговора историкам надо избегать; ибо Вам прямо укажут на его несправедливость.
2° Вы признаетесь, что Ваш х зависит и от вооружения, и от других элементов, а потом вдруг спрашиваете: но что такое дух? и отвечаете, что дух есть множитель, как будто х изображает только действие духа.
Дух есть сила, а сила есть неизвестная причина. Мало того что причина, но еще и неизвестная. Мы можем вычислять действия, проявления сил, а не самые силы.
3° Историки в том и погрешают главным образом, что ищут причину; надо искать законы, а не причины. Что касается до влияния духа армии, об этом половина курса тактики говорит без умолку.
Я Вам покажу об этом во всякой тактике целые рассуждения, подкрепленные примерами. Медем говорит: мы даем не безусловные правила; мы требуем прежде всего действий, сообразных с обстоятельствами. Взятие Гальберштата, Кареля и других городов в 1813 и 1814 приписывается именно духу. Поход Суворова в 1799 году — духу. Начало кампании Наполеона — духу. Сам Наполеон, прибыв еще генералом в упавшую духом армию, написал приказ с целью поднять дух. Но мне кажется, что толку до тех пор не будет, пока будут приписывать выигрыши и проигрыши какой-то причине, выражающейся в явлении; надо искать закон, а не причину. Вам могут сказать: "Вы говорите о воинском духе: хорошо! Но кто поднял дух в 1796 году в истории французской армии? Ответ: Бонапарт. Следовательно, Бонапарт выиграл кампанию" Вот к чему ведет ваша критика тактиков. К тому же в тактике Медема на каждом шагу говорится: "Правил нет, надо просто всегда действовать сообразно с обстоятельствами". Это самое я подтверждаю в конце Введения к обзору кампаний 1812 и 1813 годов. Тактиков не в чем упрекнуть относительно отсталости. Они виноваты только в том, что до сих пор не искали законов сражений и кампаний, а не искали потому, что не знают математики».
С особенной резкостью сказалось влияние военно-славянофильских тенденций Урусова на трактовке Толстым фигуры Кутузова. Я приводил выше цитату из первоначальной редакции романа, где Кутузов назван сластолюбивым, хитрым и неверным. Таким продолжало оставаться официальное отношение к Кутузову, сказавшееся в труде Богдановича об Отечественной войне и отсюда перешедшее к Толстому. Урусов значительную часть своей книги посвящает защите и возвеличению Кутузова и его тактики. В первой главе Урусов делает общую характеристику Кутузова, сопоставляя его с Наполеоном и возражая Богдановичу: «Если бы только в войнах с турками снискал себе славу до того времени кн. Кутузов, то и тогда выбор комитета пал бы на него; потому что в тогдашних критических обстоятельствах не военный гений нужен был нам, а великий ум; но этим именно даром обладал Кутузов, и вся Россия это знала. Впрочем, не с одними только турками сражался Кутузов. Истинную славу великого военноначальника Кутузов стяжал себе в 1805 году против Наполеона. В Аустерлицком поражении Кутузов участвовал как подчиненный Австрийского полковника Вейротера; но там, где он действовал как главнокомандующий, войска наши покрыли себя славой. Избранием Кутузова в звание главнокомандующего армиями труднейшая часть кампании выигрывалась. Каким образом довершится поражение Наполеона, об этом узнаем из весьма простого и ясного ответа, данного Кутузовым на вопрос одного из своих родных. Его спросили: "Неужели вы, дядюшка, надеетесь разбить Наполеона?" — Он отвечал: "разбить?.. Нет! а обмануть — надеюсь" Тактика Кутузова была понята и оценена более всего императором Александром. Эта тактика привела в 13-м году к Лейпцигу, а в 14-м к Парижу. Вот ее сущность '.Действуя против Наполеона, должно отступать, избегая боя; действуя против его маршалов, должно наступать; в случае же неизбежного сражения против Наполеона, дайте только направление обороне; частные начальники исполнят свое дело, если вы будете иметь в виду мудрое правило «laisserfaire». Обобщить это правило, распространить его на какого угодно генерала, весьма легко; в своем месте мы заявим эту тактику в виде математического закона.
Удивительно, что до сих пор никто не сделал этого вывода непосредственно из действий Кутузова. Кажется даже, что в 1813 году правила эти предложены были Кутузовым: эта тактика, лучше чем что-либо другое, определяет загадочную личность Наполеона. Из мемуаров этого человека трудно усмотреть что-либо выше самой обыкновенной посредственности; много в них хвастовства и самоуверенности. Из деяний его остался деспотизм и дикая конституция, пригодная только народам необразованным. Высокомерие, дерзость и бесчеловечность соединялись в нем с неправдивостью. Но как предводитель армий это был более чем гений: он был чародей. Кутузов, как светлый ум, давно оценил Наполеона как полководца; он избегал не армий Наполеона, а его самого, то есть того чародея, который неизвестно какою силою делал из людей то, что хотел. Богданович в своей истории 1812-го года говорит: "В течение всего периода Наполеоновских войн, полководцы, действовавшие с наибольшим успехом против французских войск, Веллингтон и Кутузов, оба отличались уменьем ослабить неприятеля, избегая решительной развязки дела". Но этот отзыв дает совершенно ложное понятие о таланте кн. Кутузова. Веллингтон был особый тип, своего рода талант, а Кутузов другой, совсем иного рода тип; сходство между ними такое же, как между англичанином и русским; какое именно? не знаю. Веллингтон прежде дал сражение, а потом соединился с Блюхером; Кутузов — сперва соединился бы, а потом дал бы сражение. Веллингтон мог разбить, но мог и быть разбитым; Кутузов не мог быть разбитым и никогда никем не был разбит. Сделавши ошибку сравнением Кутузова с Веллингтоном, Богданович по необходимости должен был впасть и в другую, и в третью ошибку. В томе III (стр. 402) автор говорит: "... хитрый Кутузов, донося о последствиях сражения (Бородинского), выказал его в виде победы, одержанной нашими войсками" Потом далее (стр. 405): "Кутузов весьма искусно направил свою армию, по боковой дороге, наперерез неприятелю; но двигаясь медленно, не воспользовался выгодами своего положения" Первое суждение показывает совершенное незнание Кутузова как человека и как гражданина; из другого же суждения обнаруживается, что, разбирая военные действия Кутузова, Богданович постоянно спрашивал себя: "Что сделал бы на месте Кутузова Блюхер? Как поступил бы Бенигсен? Что сделал бы Барклай?" Проще и рациональнее было бы спросить себя: сколько человек из "Великой армии" вернулось за Неман? С великим сочувствием отозвалась вся Россця на призыв Кутузова к заведованию армиями: не зная слов, сказанных Кутузовым своему родственнику, каждый повторял: "Наш человек божий проведет анархиста!" А как только поселилась в народе уверенность, что воевода не разобьет, а только "проведет" неприятеля, то не могло удивить никого и оставление Москвы».
Эта характеристика усвоена Толстым и положена в основу главы, специально посвященной Кутузову (т. VI по изд. 1869 г.), которая начинается словами: «В 12 и 13 годах Кутузова прямо обвиняли за ошибки. Государь был недоволен им. И в истории, написанной недавно по высочайшему повелению, сказано, что Кутузов был хитрый придворный лжец» и т. д. Далее Урусов, говоря о переправе французов через Березину, защищает Кутузова от упреков: «Сидя в кабинете и глядя на карту, кажется непонятным, как мог Наполеон вырваться из западни, в которую попал; казалось бы, что Кутузову следовало ударить от Орши... Но все это прекрасно в кабинете и на карте; наделе же все выходит иначе» и т. д. Толстой прямо цитирует Урусова: «Для тех людей, которые привыкли думать, что планы войн и сражений составляются полководцами таким же образом, как каждый из нас, сидя в своем кабинете над картой, делает свои соображения о том, как и как бы он распорядился в таком-то и таком-то сражении, представляются вопросы... Деятельность полководца не имеет ни малейшего подобия с тою деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую-нибудь кампанию на карте» ит. д.
В конце VI главы Урусов опять возвращается к вопросу о Кутузове — здесь тон его становится уже патетическим: «До сих пор мы думали, вместе со всеми военными, что выиграна была нами кампания 1812 года отступлением, заманиванием в глубь страны; так думали после Барклая, Дюмурье и другие генералы; но теперь оказывается, что Кутузов создал непреложное правило для ведения какой угодно войны. Сколь же гениален был наш маститый старец, "человек божий"! Буду надеяться, что по крайней мере теперь военноученые наши оценят гениального Кутузова. Мне особенно приятно сознаться, что я не считал императора Александра I таким гением, каким он представляется мне теперь. Во-первых, он предоставил сделать выбор главнокомандующего нескольким лицам; во-вторых, утвердил выбор; в- третьих, оценил нашего старца, пожаловав его в фельдмаршалы и наградив его как только мог; наконец, Александр I воскресил тактику Кутузова блестящим ее применением к двум последовательным кампаниям. Так, через полвека удается мне, совершенно впрочем случайно, проникнуть в события 1812 года и восстановить истину».
Наконец, специально Кутузову посвящено особое примечание к I главе; здесь особенно интересна характерная для славянофилов (ср. полемику с Чичериным) защита «фактического предания» и предпочтение его документам — точка зрения, усвоенная и Толстым. Урусов пишет: «Удивительно как легко критиковать действия главнокомандующих! легко, читая лекции об войне 1812 года, находить, что Кутузов не сумел воспользоваться своим положением! Весьма полезны лекции и критические обзоры войн; чтение кампаний Юлия Цезаря, Фридриха II и Наполеона образовывает хороших главнокомандующих: но в лекциях, как и в критике, надо соблюдать крайнюю осторожность, отнюдь не позволяя себе разрушать анализом великие верования народов, заимствованные ими из достоверных фактов. Довольно понятно, почему на Кутузова нападают иностранные писатели: но как объяснить себе те яростные нападки, которым подвергался и подвергается Кутузов от наших военных ученых? Чувствуют ли наши анализты, что, разрушая репутацию Кутузова, они тем самым оправдывают нелепое мнение, будто бы нашествие два- надесяти языков было отражено морозом. Нападая на Кутузова, не разрушают ли наши писатели основательное народное верование в свой русский гений? Народное верование в гений Кутузова не есть простой вывод a priori; оно образовалось не из сказочных преданий, а совершенно иным путем. Сверх преданий, письменных и устных, есть еще один их род, на который историки и анализты не обращают никакого внимания, между тем как достоверность этих исторических документов стоит неизмеримо выше даже той достоверности, какую признают за писаниями. Я говорю о том фактическом предании, которое, как некая сила, воздействовавши однажды на современников события, невидимо передается потомкам; то есть не рассказами, которые подлежат изменению, не частными записками, не чем-нибудь осязательным, а тайно, невидимо, непонятно. Трепещет и отчаивается сын, а потом внук, и т. д. Видит современник, видит сын современника, и внук, и правнук, и т. д. Дрожала наша земля в день Куликовской битвы, поборол Дмитрий татар, и хотя бы открылось теперь подлинное письменное признание нашего героя о том, что во время битвы лежал он поддеревом, я никак не позволил бы себе разрушить великую репутацию его. Все можно подделать, но не подделаешь ту силу, которую имеют факты. Мы знаем наверно, что Димитрий решился, что решение свое он осуществил необычайным побоищем, в котором народ дрался против непобедимой стройной армии; знаем наверно, что народ победил, — и уже никакая сила не может разрушить в нас веру в великое мужество Донского героя. Анекдотическая сторона предания всегда колебалась и прочности не имела; но непрерывная сила факта, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, не колеблется и не умирает; она остается и останется навсегда. Спросите наш народ о 1812 годе: книг он не читал, о планах главнокомандующих и понятия не имеет; но он знает, положительно знает, что земля дрожала, что тяжкая была година и что Кутузов провел Наполеона. Выслушавши это верование народа, каждый беспристрастный историк начнет разыскивать силу фактов, и он найдет ее в любой истории, даже самой враждебной относительно Кутузова и России. Перед ним раскроется следующий ряд достоверных фактов: Шестисоттысячная армия вломилась в Россию; Кутузов дал великое Бородинское сражение; Кутузов стоит у Тарутина, а Наполеон — в Москве: и вдруг опять везде одни русские да Кутузов. Добросовестный анализ поищет объяснения этому страшному событию и найдет его в том, что дивный план был задуман Кутузовым и буквально приведен в исполнение. И уже никак не позволит себе такой историк слегка отозваться о столь великом человеке; не станет он уверять читателей, будто бы "хитрый Кутузов солгал" или "не сумел воспользоваться выгодами своего положения". Небольшая армия, казаки и народ уничтожают непобедимую армию в 600 ООО человек; эта армия под Лейпцигом разбивает новые полчища; наконец, та же армия, из тех же русских крестьян, входит в Париж: — Чего еще больше? Но нет, историкам этого мало: им хочется, чтобы факты совершались непременно так, как пишутся в книжках. Вот, например, если бы Кутузов выпустил всю неприятельскую армию в целости из России, но при этом сказал бы: "Poussifere, je te laisse partir et ne veux pas te voir pdrir!.." О! тогда совсем было бы иное дело! Тьер превознес бы Кутузова, а наши историки сказали бы, что дескать сами неприятели наши сознаются в том, что Кутузов был великий полководец».
Итак, вся военно-теоретическая часть «Войны и мира», вплоть до трактовки Кутузова, сделанной, в противовес историкам, на основе «фактического предания», представляет собой результат работы кружка, в котором роль Урусова была очень важной. В недрах этого же кружка зародились и развились основы «доморощенной» философии истории, главная цель которой была противопоставить «объективные законы», выведенные математическим методом, обычному для историков и публицистов методу «отыскания причин», перенесенному из естествознания. Эта философия истории, по существу своему, была, конечно, антиисторична и шла вразрез с общественными тенденциями эпохи. Для Толстого эта критическая, «отрицательная» сторона теории была главной, между тем как Урусов серьезно лелеял мечту, что совместными усилиями они откроют все «законы» и что скоро не только природа, но и история будет в их руках — в руках кружка гениев. Поэтому Урусов огорчился, прочитав корректуры VI тома «Войны и мира» и увидев, что Толстой дальше повторений и «отрицаний» не идет. 12 мая 1869 г. он пишет Толстому: «Я позволю вам заметить одно: в шестой части слишком много повторений всего того, что вами уже высказано прежде. Я бы советовал ограничиться, относительно исторического отдела, тем, что сказано в начале шестого тома, и эпилогом, в котором сколь можно более сократить критику, полемику и вообще отрицательную сторону. То, что не хорошо — уже известно; ошибки историков уже неоднократно высказаны: — давайте положительную сторону». Урусов, помогший Толстому справиться с военно-теоретической частью и мечтавший об открытии «объективных законов», не учел того, что у Толстого есть свои собственные задачи и приемы, связанные с жанром и конструкцией романа.
Дело в том, что философский и военно-теоретический материал пригодился Толстому не только как материал идеологический, но и как материал конструктивный, стилевой. Вместе с переходом от жанра романа-хроники к жанру «эпопеи», иначе говоря — вместе с повышением жанра Толстому необходимо было ввести в роман новый стилистический элемент, более возвышенный, чем стиль семейных и батальных сцен. Необходимость этого элемента особенно ощущалась в разделах романа — там, где начинался новый том или новая часть. Жанр военно-исторической эпопеи, ясно обрисовывавшийся уже во время работы над IV томом (1868 г.), требовал «гомеровских» отступлений, которые служили бы конструктивными и стилистическими вехами, обособляя авторский тон повествования от диалога персонажей и от простого описания событий. И в самом деле, главные философские отступления «Войны и мира» расположены именно в местах разделов — как зачины. Первые три тома романа (по изд. 1868 г.), еще связанные с первоначальным «английским» жанром и потому не нуждавшиеся в особых стилистических разделах, не содержат в себе никаких гомеровских отступлений; монтаж этих томов построен на простом чередовании сюжетных линий, в основе которого лежит чередование батальных и семейных сцен. Только страницы, посвященные масонству, вводят в роман несколько новый элемент, но не связанный еще с авторским тоном, а только свидетельствующий о приближении к нему. Первый признак будущих авторских отступлений, связанных с повышением жанра, — короткие рассуждения, открывающие вторую часть третьего тома: «Библейское предание говорит, что отсутствие труда праздность, была условием блаженства первого человека до его падения» и т. д. Вместе с переходом к 1812 г. необходимость авторских отступлений, как элемента «эпического» жанра, стала ясной — и первая часть IVтома открывается длинным рассуждением о причинах войны 1812 г. и о фатализме в истории. Тем самым проблема нового жанра решена, и жанр этот предъявляет уже свои объективные требования — требования повторений. Вторая часть IV тома открывается опять рассуждением о войне 1812 г. («Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден» и т. д.), не только стилистически, но и тематически повторяющим многое из первого рассуждения. Резкий переход от этого рассуждения к дальнейшему повествованию о судьбах героев («На другой день после отъезда сына князь Николай Андреич позвал к себе княжну Марью») дает ощущение толчка — стыка двух стилистических элементов, нужное именно для того, чтобы философское отступление ощущалось как элемент конструкции, элемент жанра, как отступления Гомера в «Илиаде» или Гете в «Фаусте». В роман тем самым введена новая пружина, обеспечивающая ему движение вперед на большое пространство. Отступления начинают учащаться и приобретать все более и более торжественный тон — тон «вещаний». На смену Погодину с его «Историческими афоризмами» является Урусов — с математикой: появляются рассуждения о непрерывности движения, о дифференциале истории и пр. Таким отступлением открывается первая часть V тома: «Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения» и т. д. Жанровый закон повторений, пронизывающих всю систему романа, заставляет Толстого начать третью часть того же тома знакомым рассуждением: «Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений». Стилистическое тожество этих двух зачинов подчеркивает их конструктивную роль — именно как периодически возращающихся повторений. Закон этот действует до конца, усиливая свое действие. Первая часть VI тома начинается рассуждением о Бородинском сражении и о партизанской войне и кончается рассуждением о побеге французов; третья часть (эпилог), открывается большим отступлением философско-исторического содержания («Прошло семь лет» и т. д.), которое прерывается изложением фабульной развязки (свадьба Наташи и др.); оно затем возобновляется и занимает всю вторую часть эпилога — целых 12 глав, где повторяется многое из того, что говорилось раньше.
Просмотр романа с этой точки зрения убеждает в том, что философские и исторические отступления были введены Толстым, действительно, как элементы жанра — как знак эпопеи, аналогичный отступлениям «Илиады». Роман, написанный на сравнительно небольшом историческом материале, заполненный семейными эпизодами, к истории и к эпохе 1812 г. не имеющими никакого отношения, становится, благодаря этим отступлениям, якобы историческим и даже сугубо-историческим — не просто романом, как у Зотова или Загоскина, а эпопеей. Жанровыми и стилистическими приемами заменялся недостаток историчности как таковой. Отступления играли роль исторического эквивалента. На их фоне семейные сцены казались тоже историческими. Большинству современников, в том числе и Тургеневу, эта функция отступлений оставалась непонятной. Негодуя на VI том, в котором Толстой так и не «разурусился», Тургенев пишет (12 февраля 1870 г.) И. П. Борисову: «Если мы встретимся с Урусовым, то мы, вероятно, как водится, поспорим и, как водится, каждый останется при своем мнении. Во всяком случае, нельзя так легко разрешать вечный, более чем трехтысячелетний спор между необходимостью вещей и свободной волей, и уничтожение (как то делает Толстой) одной из спорящих сторон — не разрешение задачи; оно показывает только неустойчивость и незрелость мысли, сопряженные с детским нетерпением и самомнением недоучки». Урусов, относившийся к этим отступлениям по-своему и по-своему в них заинтересованный, тоже не понимал их функции и именно поэтому возражал против повторений и конструкции VI тома. Толстому Урусов был нужен как советник по военно-исторической части, а Урусов смотрел на него как на своего соратника и возлагал серьезные надежды на делаемые им «открытия». Письмо к Толстому от 26 марта 1869 г. кончается словами: «Не смущайтесь; вы непременно откроете, только не сейчас».
Когда Толстой, вместе с окончанием романа, отошел от исследования исторических законов и занялся греческим языком, Урусов глубоко огорчился и вознегодовал: «Мне кажется, что греческий язык есть диавольское искушение, на вас попущенное зато, что вы бросили созидать то, что начали. Право, бросьте... Будьте покойны в том, что я вечный ваш друг, хотя и досадую на вас ужасно. Желчь подымается, когда вспоминаю о греческом языке. Никак не думал, что вы так увлечетесь». Сам Урусов, увлеченный установлением объективных законов войны и истории, перешел от изучения 1812 г. к пророчествам. Уже в своем «Обзоре» он, говоря о тактике быстроты и натиска (живой силы), писал: «Можно предсказать, что если теперь прусские войска вторгнутся во Францию, то победа будет за ними; если же французы вторгнутся в Пруссию, то будет взят Берлин и победят французы. Но при этом опять оговариваюсь: не от того произойдет победа, что один вторгнется, а другой отступит; вторжение будет следствием каких-то причин, и победа будет следствием каких-то нравственных причин: но все причины выразятся в форме или пройденного пространства, или скорости, — в виде моментов или живых сил. Может случиться, что разбит будет тот, кто вторгнется: тогда победа выразится в живой силе. Если же я говорю, что победит непременно наступающий, то разумею, что живая сила одной стороны уравновесится таковою же силою другой стороны, моменты же сил не уравновесятся. В случае равновесия как в моментах, так и в силах, кампания будет нерешительная. Самая война будет или не будет, смотря по тому, воздействуют ли некоторые неизвестные причины или не воздействуют; но признаки войны существуют; действие причин выражается в несоответствии суммы народных имуществ движению народонаселении, или просто — числу жителей».
Война между Францией и Пруссией началась — и Урусов стал печатать в «Московских ведомостях» особые «Письма к издателям», в которых предсказывал ход событий. В первом из этих писем, датированном 22 июля 1870 г. («Московские ведомости» 1870 г., № 162), Урусов пишет: «Вторжение будет, но не в Германию, а во Францию, и притом произойдет оно, вероятно, по тому самому плану (в главных чертах), по которому совершалось в 1866 году в Богемию. Французская армия занимает такую же (относительно) центральную позицию, какую занимала австрийская в 1866 году, и, следовательно, она (то есть французская армия) будет иметь возможность разбить неприятеля по частям, направив сильный подвижной резерв сперва против одной армии, потом против другой. Но этою возможностью французы, по-видимому, не воспользуются, точно так, как не воспользовались ею в 1866 году австрийцы. Французы примут генеральное сражение между Мецем и Нанси; битва будет упорная и продолжительная. Вероятнейший исход ее — в пользу Пруссии. Французы уже сделали одну ошибку, именно ту, что не совершили переправы 16-го и 17-го июля: следовательно, можно ожидать и другой ошибки. Французам представлялась и представляется возможность действовать десантным войском: это обстоятельство производит в распоряжениях нерешительность. Десантом не следовало и не следует действовать, потому что нет наступательных действий со стороны Рейна. С горечью предвижу возгласы о гениальности Бисмарка и Мольт- ке, о геройстве их армии; проходу не будет никому от нахальности и фельдфебель- ства». Второе письмо, снабженное чертежом, содержит советы французам.
Тургенев, сам писавший о франко-прусской войне и державший сторону немцев, пишет 24 августа 1870 г. И. П. Борисову: «Я очень хорошо понимаю, почему Толстой держит сторону французов. Французская фраза ему противна, но он еще более ненавидит рассудительность, систему, науку, одним словом, немцев. Весь его последний роман построен на этой вражде к уму, знанию и сознанию, и вдруг ученые немцы бьют невеж французов! (Кстати, неужели юродивец, напечатавший в Московских ведомостях какие-то нелепые пророчества с планами, тот же самый кн. Урусов, с которым так дружен Толстой?)»
Да, этот «юродивец» был тот самый Урусов. Он в это время занимался вычислением «закона о смертности царей» и вопросом о военной реформе. Толстой писал ему по поводу этих занятий: «Вы мельком пишете о законе смертности царей. Мне это очень интересно. Я верю в это. Для царей закон этот должен быть очевиднее всех других людей, хотя и для них должно быть это дело завешено, так что можно догадываться, а знать нельзя. Если [бы] все было известно, для бога не было бы ничего интересного смотреть на нашу комедию. Да и мы бы перестали играть так серьезно свои роли. Если можете, напишите мне, в чем дело, это меня очень интересует. Геометрию вы свою продешевили. Я ее начал раз читать из второй части и часа три радовался, все понимая». В том же письме Толстой делится с Урусовым своими соображениями по злободневному тогда вопросу о военной реформе (см. статьи Урусова в «Беседе» 1871 г.), применяя все тот же математический метод: «Статья, которую я разорвал, о военн. реформе, была отчасти математическая. Вот что я говорил: 1) Войско есть сила, составленная из количества людей и времени, которое человек упражняется в военном деле. Отсюда 2) Чем больше времени, тем меньше людей. И, наоборот, чтобы сила не изменилась. И сила увеличивается и временем, и количеством. 3) В России денежные интересы государства и народа тожественны. Доказательством тому служит то, что государство может заставить всех мужчин идти в солдаты. Если оно может заставить всех идти в солдаты, то оно может вместо солдатства [на] всех наложить лишний налог деньгами. 4) Сила войска не увеличивается и не уменьшается просто по времени, которое люди проводят в военном упражнении, а увеличивается и уменьшается в какой-то профессии. Т. е. что 1200 солдат, из которых каждый пробудет три дня в службе, не будут равны одному 10-летнему солдату, а будут в 1000 слабее его. Или что 100 старых 5-летних солдат будут не равны 1000 ^-годовым солдатам, а много сильнее и т. п. И что, стало быть, если сила войска увеличивается в профессии времени, то чем дольше срок службы, тем выгоднее. Если эти положения справедливы, то вопрос военной реформы, суть которого есть вопрос о том, каким образом с наименьшими расходами иметь наисильнейшее войско, разрешается просто и совершенно противоположно прусскому решению. Выгода этого решения состоит в том, что надо только ничего не делать, не уничтожать тип старого русского солдата, давшего столько славы русскому войску, и не пробовать нового, неизвестного. А то выходит так, что славная навеки защита Севастополя именно она-то показала нам, что русский солдат старый не годится и надо выдумать нового получше, на манер прусского. Выходило так, как бы вышло у глупого хозяина, который раз, допьяна угостив гостей хорошим старым вином, в следующий раз, пригласив гостей, разбавил бы это вино квасом, чтобы казалось побольше вина».
Эти размышления и наброски были инерцией, действовавшей после окончания романа. Отойти от него после шести лет работы не так просто. Начинается тяжелая промежуточная полоса. Толстой жалуется в письмах на состояние тоски и нездоровья. Поехав осенью 1869 г. в Пензенскую губернию для покупки имения и остановившись в Арзамасе, Толстой пережил страшный припадок ночного ужаса, описанный им впоследствии в «Записках сумасшедшего». В письме к Софье Андреевне он сообщает: «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх, ужас, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного, мучительного чувства я никогда не испытывал и никому не дай бог испытать». Эта промежуточная полоса жизни приводит Толстого к новым всевозможным занятиям — школой, хозяйством, греческим языком, Шопенгауером, народной поэзией и пр. Так Толстой вступает в 70-е годы XIX в. — десятилетие, начавшееся для него Арзамасским ужасом и кончившееся «Исповедью». Эпоха домашнего счастья и душевного здоровья кончена. Толстому исполнилось 40 лет — самый трудный, пограничный возраст: возраст, с которым многие натуры не справляются; возраст трудный не только потому, что наступает медленное физиологическое и психическое приближение к старости, но и потому, что в этот момент человеку приходится обычно заново решать свою историческую позицию и судьбу. Новое поколение 25—30-летних людей вступает к этому моменту в жизнь — и история ставит перед стареющим человеком, связанным с прошлой эпохой, новые вопросы, а иногда и просто губит или отбрасывает его в сторону. Толстой прекрасно чувствовал эту стихийную сторону исторического процесса, эту физиологию истории. В одной из черновых редакций «Войны и мира» есть рассуждение на эту тему, явно обращенное к современности: «Был тот молодой период царствования, который всякий народ переживает раз пять в столетие — период революционный, отличающийся только тем от того, что мы называем революцией, что власть при этих революциях находится в руках прежнего правительства, а не нового. В этих революциях, как и во всех других, говорится о духе нового времени, о потребностях этого времени, о правах человека, о справедливости вообще, о необходимой разумности в устройстве государства, и под предлогом [для того чтобы удовлетворить потребности молодости разрушать старое и творить новое] этих идей и выступают на поприще самые неразумные страсти человека. Пройдет время и охота, и прежние нововводители точно так же упорно держатся за свое бывшее новое, а теперь старое, и отстаивают свое убранство квартиры против подросшей молодежи, которой опять хочется и нужно удовлетворить своей потребности попробовать свои силы». Этими словами Толстой подводил итоги «революции», наступившей после окончания Крымской кампании и смерти Николая I — третьей, если считать начало царствования Александра I и восстание декабристов за две первые. Вместе с наступлением 70-х годов нужно было ждать, по теории Толстого, четвертой революции, а вместе с ней — новых поворотов в исторической жизни, новых сдвигов и новых социальных проблем. Историческое чутье не обмануло Толстого.
«Война и мир» была для Толстого итогом 50-х и 60-х годов. Нужно еще остановиться на дальнейшей судьбе этого романа.
5
Главная задача той части моей книги, которая посвящена «Войне и миру», — показать процесс изменений, происшедших от момента замысла романа до его окончания. На протяжении всей работы Толстого над «Войной и миром» можно видеть два основных перелома: в 1865 г., когда замысел осложнился «романом Александра и Наполеона», и в 1867-1868 гг., когда Толстой перешел к эпохе 1812 г. Вместо первоначального названия, носившего сугубо семейный, «английский» характер — «Все хорошо, что хорошо кончается», явилось новое, взятое у Прудона и подчеркивающее философско-исторический, эпопейный жанр сочинения — «Война и мир». Таким образом, об этом романе совсем нельзя говорить как о романе единого плана — единого, заранее обдуманного замысла. Когда писался «Тысяча восемьсот пятый год», вышедший тогда же отдельным изданием, в замысел романа не входили еще не только философские, но и военно-теоретические главы. Уже в конце 1865 г., на переломе от старого к новому, Толстой почувствовал, как неправильно печатать такой роман частями, прежде чем он не написан до конца; в письме к А. А. Толстой (14 ноября 1865 г.) он сообщает: «Романа моего написана только 3-ья часть, которую я не буду печатать до тех пор, пока не напишу еще 6-ти частей, и тогда — лет через пять — издам все отдельным изданием». Это решение было выполнено не совсем — в «Русском вестнике» (1866. № 2, 3 и 4) появились военные главы первого тома, но все остальное вышло уже прямо отдельным изданием, правда, не сразу: в конце 1867 г. три первые тома, в марте 1868 г. — четвертый, в марте 1869 г. — пятый и в самом конце 1869 г.— шестой.
Такой процесс печатания романа не давал Толстому возможности перерабатывать более ранние части соответственно тому, во что превращались последующие. Только журнальный текст «Русского вестника» подвергся некоторой переработке при печатании отдельным изданием. Полной сводки текста сделано не было, так что внимательный читатель мог заметить, что между первыми тремя томами, вышедшими в 1867 г., и, например, пятым томом, вышедшим в 1869 г., есть стилистическая и жанровая разница. Это не бросалось особенно резко в глаза только благодаря «монтажному», эпизодическому типу романа; тем не менее критики и читатели самых разнообразных вкусов и направлений почти в один голос стали сетовать на то, что Толстой ввел в роман военные и философские рассуждения и тем самым отодвинул своих героев в сторону. Эти жалобы, помимо всего, были вызваны именно ощущением перемены, происшедшей в замысле романа, перемены не мотивированной и не подготовленной первыми томами.
Характерно, что жалобы эти начали раздаваться именно после выхода ГУ тома. Так, в газете «Голос» (1868. № 83) критик сетует на то, что в этом томе фабула не подвигается ни на волос: «Недостаток романического развития, замеченный в первых трех томах романа, обозначается в четвертом его томе еще резче и несомненнее. Автор не только не ведет далее своих героев, но даже, когда, уступая необходимости, говорит о них в связи с главным, собственно романическим замыслом романа, то повторяет лишь, в противоположность всем условиям художественного творчества, пережитые уже ими и известные читателю моменты. Так, отношения между Пьером Безуховым и Наташей Ростовой, завязанные на последних страницах третьего тома и обещавшие так много интересного, не подвинулись ни на шаг вперед, хотя Наташа успела уже оправиться от своей болезни и несколько поуспокоилась от вынесенных ею треволнений... Вообще, исторические события слишком выдвинуты вперед в книге графа Толстого; ими совсем подавляется течение романа; между тем, по самой задаче своего труда, автор дает нам не полное описание войн Александра с Наполеоном, а лишь некоторые моменты из этих войн; он не описывает ни одной битвы в общем ее ходе — ни Аустерлица, ни Бородина, а лишь изображает отдельные их эпизоды. Увлеченные мастерским, художническим изображением этих . моментов, этих эпизодов, читатели невольно упускают из вида нити самого романа, невольно забывают его; зато они тем тревожнее ищут в книге полноты исторического описания, ищут полной картины дней Аустерлица или
Бородина, и, разумеется, не находят; разочарованные, они снова обращаются к роману, но романа нет — его забыл и сам автор. Отсюда какая-то неудовлетворенность, какая-то неопределенность впечатления. Ни истории, ни романа нет в книге графа Толстого, а главное — нет в ней единства. Можно растянуть число ее томов до бесконечности, но можно и сократить их до двух, до одного, с ущербом, пожалуй, для наслаждения читателей (потому что они потеряли бы несколько мастерских сцен), но без малейшего ущерба для полноты задуманной интриги. Как недостает существа для завязки собственно романической, так недостает его и для исторических событий. Автор перескакивает от одного момента к другому без всякой внутренней между ними связи».
Последними словами критик указывает именно на то, что мы назвали бы теперь «монтажным» характером. Об этом же говорят и другие.критики. М. М-н пишет в «Иллюстрированной газете» (1868. № 37): «Разбирать "Войну и мир" трудно, потому что этот quasi-роман не составляет ничего целого. Он раздваивается на части: историческую и домашнюю. Историческая часть или плохой конспект, или фаталистические и мистические умозаключения, или подлинные письма на французском языке с подстрочным переводом — все это со второю частью не только плохо вяжется, но затрудняет чтение и лишает возможности следить за ходом романа, и без того сшитого на живую нитку». Критик «Харьковских ведомостей» (1868. № 48) пишет о том же IV томе: «Весь том состоит из целого ряда эпизодов, выхваченных почти по очереди то из исторических событий, то из жизни передовой части русского общества. Между этими следующими один за другим эпизодами до такой степени нет внутренней связи, что половину сцен (содержания, конечно, не исторического) можно поместить в любом месте произведения, и романическое действие по прежнему останется в своем ленивом полусонном развитии».
Последние тома (V и VI) только усилили это впечатление и вызвали еще более суровые упреки: «Видно, что автор едва дотянул непосильный труд до обязательного конца. Значительная часть книги, там, где дело касается исторических событий, наполнена выписками из документов и мемуаров того времени, известных читающей публике частию из богатых приложений, находящихся при сочинении г. Богдановича об Отечественной войне 1812 года, частию из статей, помещавшихся в "Русском архиве", выписок, не имеющих между собой никакой руководящей связи... Философия гр. Толстого принадлежит к числу тех же туманных и мистических призраков, которые представляются уму, еще не вошедшему в период исследования; постепенно исчезая по мере приближения и ближайшего с ними знакомства, они разлетаются в прах при первом прикосновении с жизненною правдою. Нельзя удержаться, чтобы не посоветовать гр. Толстому оставить в покое хляби и пучины философии и обратить свой талант на ту сферу объективного и художественного описания, в которой он так силен» (Русский инвалид. 1869. № 37). Или так: «Роман, как видно, совершенно обессилил творческую фантазию автора, и он во что бы то ни стало решился, наконец, покончить с ним как можно скорее и как можно короче; в шестом томе, состоящем из 290 страниц, собственно роману отведено немногим более половины, остальное занято какими-то политико-историко-философскими толкованиями. Не довольствуясь по- прежнему тем, что давал какие-то толкования вперемежку с романом, автор теперь всю вторую часть эпилога прямо назначил для диссертации по разным вопросам исторического философствования» (Новороссийский телеграф. 1869. № 263, А. Вощияников).
К этой общей досаде, высказанной самыми благожелательными критиками (как, например, Н. Ахшарумов и даже Н. Страхов), присоединилась другая досада, у иных принявшая форму свирепого гнева, — досада на самое содержание военных и философских взглядов Толстого, совершенно исказивших, по их мнению, картину Отечественной войны и превративших ее в «пасквиль». Некоторые указывали при этом на фактические ошибки Толстого, свидетельствующие о его плохом знакомстве с источниками. Таковы были выступления военных специалистов и «ветеранов» 1812 г. — П. Вяземского, А. С. Норова, М. Драгомироваи А. Витмера. К ним нужно присоединить и статью П. Дёменкова, напечатанную Бартеневым только в 1911 г., но написанную еще в 1876 г. Статьи эти почти совпадают в оценке романа как антипатриотического выпада против героев Отечественной войны и против дворянства той эпохи. Даже изображение Кутузова воспринято как карикатура, как пасквиль. Вяземский прямо относит роман Толстого к «школе отрицания и унижения истории под видом новой оценки ее», а автора — к числу «исторических прекращателей». Он обвиняет Толстого в том, что все лица эпохи превращены в Добчинских, Бобчинских и Тяпкиных-Ляпкиных: «не забывайте, что Гоголь уже гениально разработал и истощил до самой сердцевины поле нашей пошлости. Как после Гомера нечего писать новую Илиаду, так после "Ревизора" и "Мертвых душ" нечего гоняться за Ильями Андреичами, за Безухими и за старичками-вельможами... к чему, в порыве юмора, впрочем довольно сомнительного, населять собрание 15-го числа, которое все-таки останется историческим числом, стариками подслеповатыми, беззубыми, плешивыми, оплывшими желтым жиром или сморщенными и худыми! Конечно, очень приятно сохранить в целости свои зубы и волоса: нам — старикам даже и завидно на это смотреть. Но чем же виноваты эти старики, из коих некоторые, может статься, были — да и наверное были — сподвижниками Екатерины: чем же виноваты и смешны они, что бог велел им дожить до 1812 г. и до нашествия Наполеона?» Дёменков, тоже обидевшийся за этих стариков, видит в романе прямо «злую пародию» на эпоху, «злобно-сатирическое сказание», «хаотическую и антипатриотическую сказку».
К ветеранам отчасти примкнули и некоторые критики, как, например, историк П. Щебальский — тот самый, о котором с презрением отзывался Урусов. Свою статью о «Войне и мире» он, следуя за Вяземским, назвал очень характерно — «Нигилизм в истории». Он указывает на то, что между выходом первых трех томов и четвертого «графа Толстого посетила мысль исправить взгляд своих современников не только на описываемое им время, но и на историю вообще. Для этого он перевил свой рассказ дидактическою нитью и сообщил IV и V томам своего романа особое освещение, тенденциозность особого рода... Воззрения его вызвали многочисленные протесты: протестовали люди двенадцатого года, оскорбленные тем, что автор как будто унижает славу Отечественой войны, протестовали военные, находящие, что автор слишком мало знаком с военными науками, чтобы критиковать Кутузова и Наполеона, — словом, протестов сыпалось множество. В отдельности каждый из этих протестов не имеет большого значения в наших глазах: что за беда, в самом деле, что романист не знает стратегии! Что же касается до того, будто он отрицает славу двенадцатого года и унижает заслуги русского войска, то с этим мы не можем согласиться; нам кажется, что граф Толстой ко всему относится отрицательно, все старается сокрушить. Отрицает и Наполеона, и Кутузова, исторических деятелей и человеческие массы, личный произвол и значение исторических событий. Может быть, и не подозревая того, он вносит в историю полнейший нигилизм».
Такого рода приговорами Толстой зачислялся в лагерь «левых» — на это совершенно прозрачно намекают Вяземский и Дёменков. С другой стороны, «левые» выступили со статьями, доказывающими, что философия Толстого — «философия застоя» (Н. Шелгунов), что роман его есть «апология сытого барства, ханжества, лицемерия и разврата» и что сочувствие автора к своим героям и героиням зависит «от чувства некоторого сожаления об утраченных оброках» (М. М-н), что, наконец, «весь роман составляет беспорядочную груду наваленного материала», а на военное дело автор смотрит так, «как смотрят на него пьяные мародеры» (С. Навалихин). Таким образом, Толстой оказался не принятым ни левыми, ни правыми. Так и должно было случиться. Характерно, что справа на него напали, главным образом, за военные и исторические сцены, а слева — за сцены домашнего и помещичьего быта. И это было совершенно законное распределение. Последователь Риля и социальный архаист, Толстой сатирически изображает придворную и военную аристократию («наше, так называемое высшее общество, граф лихо прохватил», как выразился Салтыков), а аристократию поместную, землевладельческую изображает сочувственно и, как это следует по теории Риля, сливает помещика и крестьянина в одно целое. Богучаровский бунт описан только для того, чтобы закончить казавшуюся грозной картину «классовой борьбы» шутливой сценкой, ликвидирующей все недоразумения: «— Ты ее так дурно не клади, — говорил один из мужиков, высокий человек с круглым улыбающимся лицом, принимая из рук горничной шкатулку. — Она ведь тоже денег стоит. Что же ты ее так вот бросишь или под веревку, а она и потрется. Я так не люблю. А чтобы все честно по закону было. Вот так-то, да сенцом прикрой, вот и важно».
Благодаря такому своеобразному своему положению в современности Толстой примкнул одной стороной своего романа к «обличительному» направлению и был истолкован как «нигилист», как представитель левой «нетовщины», а другой — оказался среди «крепостников», среди представителей «старого барства». Н. Страхов, говоря о беспощадном анализе Толстого, признает: «Если смотреть на "Войну и мир" с этой точки зрения, то можно принять эту книгу за самое ярое обличение александровской эпохи, — за неподкупное разоблачение всех язв, которыми она страдала. Обличены — своекорыстие, пустота, фальшивость, разврат, глупость тогдашнего круга; бессмысленная, ленивая, обжорливая жизнь московского общества и богатых помещиков, вроде Ростовых; затем величайшие беспорядки везде, особенно в армии, во время войн; повсюду показаны люди, которые, среди крови и битв, руководятся личными интересами и приносят им в жертву общее благо; выставлены страшные бедствия, происходившие от несогласия и мелочного честолюбия начальников, — от отсутствия твердой руки в управлении; выведена на сцену целая толпа трусов, подлецов, воров, развратников, шулеров; ярко показана грубость и дикость народа (в Смоленске муж, бьющий жену; бунт в Бо- гучарове). Так что, если бы кто вздумал написать по поводу "Войны и мира" статью, подобную статье Добролюбова "Темное царство", то нашел бы в произведении гр. Jl. Н. Толстого обильные материалы для этой темы. Один из писателей, принадлежащих к заграничному отделу нашей литературы, Н. Огарев, когда-то подвел всю нашу нынешнюю литературу под формулу обличения, — именно сказал, что Тургенев есть обличитель помещиков, Островский — купцов, а Некрасов — чиновников. Следуя такому взгляду, мы могли бы порадоваться появлению нового обличителя и сказать: гр. Толстой есть обличитель военных, — обличитель наших воинских подвигов, нашей исторической славы». Далее Страхов выдвигает свою точку зрения, при которой эта обличительная сторона романа оказывается неважной. Это характерно для Страхова, а факт остается фактом. В этой части романа Толстой — «шестидесятник», хотя и «архаист» — архаист именно в том смысле, что он не отходит от современности, а борется с нею, и отчасти даже ее же средствами. Обличитель военных и придворных сфер, «лихо прохвативший» высшее общество, в то же время любуется Николаем Ростовым и противопоставляет всем вопросам и теориям современности семейную жизнь делового помещика, умеющего прекращать всякие бунты. Характерно, конечно, что полное и восторженное признание роман Толстого нашел именно у Страхова — нового представителя старой славянофильской идеологии, переродившейся, но сохранившей многие основы прежнего учения.
Из всех критических отзывов Толстого должны были особенно задеть статьи военных специалистов — особенно такие дельные, как статьи А. Норова и А. Вит- мера, указывавшие на серьезные фактические ошибки, противоречия, незнакомство с важными источниками и т. д. Напечатав в 1868 г., после выхода IVтома, свою ответную статью, он больше уже не выступал с опровержениями и с самозащитой. Но одна статья, принадлежавшая, очевидно, тоже военному специалисту, вызвала с его стороны любопытный письменный ответ, адресованный редактору «Русского инвалида». В № 96 этой газеты за 1868 г. появилась статья — «По поводу последнего романа гр. Толстого» (подпись — Н. JI.), автор которой, признавая крупные достоинства романа, спокойно и веско критикует его исторические, и военно-теоретические суждения и указывает на ошибки. По поводу рассуждений Толстого о военной науке автор, между прочим, пишет — как будто намекая на устарелость урусовского метода, которому подчинился Толстой: «Надо заметить, что пора математических и геометрических вычислений в военном деле безвозвратно прошла; теперь думают, что успех на войне зависит от совокупности множества условий, из которых ни одному, как бы оно ни было важно, нельзя дать преобладающего положения и оставить без внимания другие; в ряду этих условий, без сомнения, важнейшее место занимает нравственная сила, но это еще более заставляет признавать влияние на успех боя и распоряжений главнокомандующего, и места, на котором стоят войска, и их количества, как потому, что от этих условий прямо зависит нравственная сила войска, так и потому, что они имеют самостоятельное влияние на ход боя». Толстой пишет редактору (11 апреля 1868 г.): «Я сейчас прочел в 96 № вашей газеты статью г-на Н. JI. о 4-м томе моего сочинения. Позвольте вас просить передать автору этой статьи мою глубокую благодарность и радостное чувство, которое доставила мне его статья, и просить его открыть мне свое имя и, как особенную честь, позволить мне вступить с ним в переписку. Признаюсь, я никогда не смел надеяться со стороны военных людей (автор, наверное, военный специалист) на такую снисходительную критику. Со многими доводами его (разумеется где он противного моему мнения) я согласен совершенно, со многими нет. Ежели бы я во время своей работы мог пользоваться советами такого человека, я избежал бы многих ошибок. — Автор этой статьи очень обязал бы меня, ежели бы сообщил мне свое имя и адрес»27.
Письмо это (по-видимому, не посланное) показывает, что Толстой сам вовсе не был так уверен в правоте своих взглядов и оценок, как это может казаться при чтении романа. Многое было навеяно со стороны, многое продиктовано полемикой дня, многое было использовано и вложено в роман без особенной сверки с источниками. Поэтому некоторые отзывы критиков заставили Толстого оглянуться на собственное произведение еще раз — уже после того, как оно было окончено и вышло отдельным изданием. История текста и отчасти жанра «Войны и мира», оказывается, не кончается 1869 годом. Толстому пришлось, в конце концов, произвести переработку романа в целом и в значительной степени «разурусить» его.
Даже Страхов, с которым Толстой, скоро после выхода романа и его статей о нем, познакомился и сблизился, должен был, не отрицая достоинств философии Толстого, все-таки «сознаться со всею откровенностию, что одно дело вредит другому. Философские рассуждения гр. Jl. Н. Толстого сами по себе чрезвычайно хороши; если бы он выступил с ними в отдельной книге, то его нельзя было бы не признать отличным мыслителем и книга его была бы одною из тех немногих книг, которые вполне заслуживают название философских. Но в соседстве с хроникою "Войны и мира", наряду с ее животрепещущими картинами, эти рассуждения кажутся слабыми, мало занимательными, мало соответствующими величию и глубине предмета. В этом отношении гр. Jl. Н. Толстой сделал большую ошибку против художественного такта: его хроника, очевидно, подавляет его философию, и его философия мешает его хронике». Из этих слов Страхова совершенно ясно, что тенденции Толстого превратить роман-хронику в жанр эпопеи Страхов не понял, как не поняли ее и другие критики — и именно потому, что тенденция эта явилась неожиданно и немотивированно только в VI томе и стала в противоречие с первоначальным жанром. Эту тенденцию, по-видимому, смутно почувствовал Вяземский, но отнесся к ней насмешливо, сказав, что «после Гомера нечего писать новую Илиаду». А ведь у Толстого было именно такое намерение.
Весной 1873 г. Толстой, в связи с изданием собрания его сочинений, взялся за переработку «Войны и мира» и просил Страхова помочь ему в этом деле[550]. В результате этой переработки получился новый роман. До сих пор не было почему-то обращено внимания на то, что в новой редакции романа не только исключен французский язык, а военно-теоретические главы вынуты из основного текста и помещены в особом приложении («Статьи о кампании 12-го года»), но сверх того все философско-исторические рассуждения, служившие, как я говорил, зачинами отдельных частей романа, выкинуты совершенно. Н. Гусев пишет: «Серьезные исправления, сделанные Толстым в новом издании "Войны и мира", состояли, прежде всего, в том, что почти вовсе исчез французский язык, которым так недоволен был Боткин, и, во-вторых, в том, что выделены были в особое приложение историко-философские и военно-исторические рассуждения автора, ранее входившие в текст романа и в эпилог к нему»[551]. Это неверно: самое серьезное «исправление» состояло в том, что историко-философские рассуждения были выброшены вовсе — их в издании 1873 г. нет совсем. М. Цявловский в своей ценной статье «Как писался и печатался роман Война и мир» тоже не указывает этого факта, а говорит только, что рассуждения изъяты из текста и выделены в приложение.
В приложении сосредоточены главы о войне 1812 г., а знаменитые философские фрагменты, посвященные вопросам о причинности, о непрерывности и прерывности и пр., отсутствуют. В третьем томе романа выброшена вся начальная глава («С конца 1811 года началось усиленное и вооруженное сосредоточение сил Западной Европы» и т. д. — о причинах и фатализме в истории), так что том начинается с прежней второй главы («29-го мая Наполеон выехал из Дрездена» и т. п.); выброшено вступление, которым открывается вторая часть III тома («Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден» и т. д.), а остальная часть этой главы (со слов «В исторических сочинениях о 1812 годе») перенесена в приложение, где она образует гл. I, под особым заглавием — «План кампании 12-го года»; в последних двух главах второй части III тома (по изданию 1868 г. это были заключительные главы IVтома) выброшено все рассуждение о Наполеоне и о войне (начиная со слов «И без его приказания делалось то, чего Он не хотел» и т. д.); следующая за ними глава, открывавшая новую часть и посвященная вопросу о непрерывности движения («Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения»), выброшена; выброшено, конечно, и аналогичное вступление к другой части («Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений» и т. д.). Таким образом, из всей философской части «Войны и мира» сохранилось, и то в приложении, только то, что было в эпилоге; эта часть, под особым заглавием («Вопросы теории»), не ставит так остро вопрос о причинности и не пестрит математической терминологией — иначе говоря, в ней почти нет той «урусовщины», которой так сильно были окрашены зачины частей.
Эта перемена в тексте «Войны и мира» особенно существенна не только потому, что она свидетельствует, по-видимому, об отходе от Урусова, но и потому, что она имеет жанровое значение. Изъятие философских зачинов уничтожило именно тот эпопейный «гомеровский» знак жанра, о котором я говорил выше. Связанное с этим перенесение военно-теоретических глав романа в приложение совершенно ликвидировало тенденцию Толстого к превращению романа-хроники в эпопею — «Одиссеи» в «Илиаду». Роман почти вернулся к тому «английскому» типу, в каком он был задуман. Сделано это было без особой тщательности — почти механическим движением ножниц, вырезывавших все, что носило философский характер и осложняло семейную хронику отступлениями в сторону теоретических рассуждений. В связи с этим некоторые главы (например, глава о партизанской войне, лишенная предварительного рассуждения) местами обеднены смыслом, а местами и не совсем понятны. Видно, что Толстой, разочаровавшись в первоначальной конструкции, не мог сделать уже ничего, кроме механического изъятия. Работа делалась так небрежно, что следы ее остались в виде ошибок. Так, некоторые куски повторены дважды — они сохранились в тексте, но попали и в приложение. С другой стороны, в некоторых местах нарушены смысловые связи — и роман получил еще более «монтажный» кусковой характер. Интересно и знаменательно то, что вместе с уничтожением философских зачинов, которыми открывались отдельные части романа, уничтожению подверглось и самое это деление на внутренние части: в издании 1873 г. роман, вместо 6 томов, собран в 4, которые внутри ни на какие части не делятся — нумерация глав идет сплошная.
В истории русской литературы нет, кажется, ни одного аналогичного примера. Это — одна из типичных толстовских «измен», поставившая в затруднение всех будущих редакторов и издателей «Войны и мира», начиная с самой С. А. Толстой. В издании сочинений 1880 г. текст «Войны и мира» повторен по изданию 1873 г., но при следующем издании (так называемом пятом, 1886 г.), бывшем всецело в руках С. А. Толстой, проблема текста встала заново. Толстой в это время уже совершенно не интересовался вопросом об издании своих прежних сочинений — С. А. Толстая действовала самостоятельно, пользуясь помощью того же Страхова. И вот — она решила эту трудную текстологическую проблему по-своему: в пятом издании она поставила на места французский язык и все философские и военные рассуждения, взяв от 1873 г. только деление на четыре тома (но сохранив деление на внутренние части и разместив их соответственно четырем томам), а в шестом издании, выпущенном одновременно с пятым (1886 г.) и, как видно по внешности, предназначенном для более широкого круга читателей, французский язык отсутствует. Изгнание французского языка доведено до абсурда: в изд. 1873 г. французские солдаты поют свою песенку все же по-французски, как было и в издании 1869 г. («Vive Henri quatre, Vive се roi vaillant!»), а русский солдат подражает: «Вива- рика! Виф серувару! сидябляка...»; в шестом издании французы поют по-русски: «Да здравствует Генрих IV» и т. д., а русский солдат по-прежнему кричит: «Вива- рика!» и пр. Получилась совершенная бессмыслица, доказывающая, что в издании этого текста Толстой не участвовал. Вряд ли поэтому можно согласиться с М. Цяв- ловским, который считает, что, хотя оглавление 5-го издания написано рукой Страхова, но Толстой к этому изданию все же «руку приложил» и в восстановлении французского языка участвовал: М. Цявловский упускает из виду существование 6-го издания. Сочетание этих изданий указывает скорее на то, что в них обоих действовала рука С. А. Толстой, решившей проблему по-коммерчески: в более дорогом издании (большой формат и хорошая бумага) — с французским языком, в дешевом (малый квадратный формат и плохая бумага) — с русским языком.
Что касается самого Толстого, то для него в 60-х годах «Война и мир» была тем, чем она была в издании 1868-1869 г., а в 70-х годах стала тем, чем она стала в издании 1873 г. Обе эти редакции не представляют собой того абсолютного «единства» и той законченности, которую хотят видеть в романе иные теоретики. Первая редакция была написана сгоряча и так и не была сведена, потому что издавалась по мере писания; вторая редакция «исправлена» под давлением критики и того нового сдвига, который Толстой переживал в начале 70-х годов, но сделано это было, как я говорил, наспех, механически, без внутренней переработки, без решительного отказа от первой редакции, а скорее в виде необходимой уступки общему мнению и тому новому читателю, который требовал «упрощения».
Перед нами разительный и непоправимый факт: окончательного, несомненного, «канонического» текста «Войны и мира» нет и никакими средствами создать его невозможно. На тексте «Войны и мира» сказались перемены, происходившие в русской жизни и в поведении Толстого на протяжении десяти лет (1863—1873). От первоначального антиисторизма, продиктовавшего Толстому замысел довольно скромной, и по размеру и по материалу, военно-семейной хроники, Толстой, подгоняемый злобой дня, стал превращать хронику в историческую «поэму», в «эпопею» и вводить в нее целую систему философско-исторических взглядов; антиисторизм превратился в иторический «нигилизм», а роман-хроника — в какой-то новый жанр, получившийся из скрещения «романического действия» с историческим материалом и философскими рассуждениями. Жанр получился «отрицательный» — поскольку элементы, его образующие, противостояли друг другу как элементы враждебные. Эпоха, толкнувшая Толстого на вопросы истории, тогда злободневные, обесценила в его собственных глазах то, что еще так недавно привлекало и воодушевляло. Не так неправы были критики, находя, что в последних томах Толстой с усилием тянет свой груз и торопится проститься со своими персонажами. В борьбе с 60-ми годами Толстой задумал и начал свой роман; но как человек своей эпохи, хотя и архаист (одно не только не исключает другого, но неразрывно связано), он в процессе работы так изменился и так «заразился» этой самой эпохой 60-х годов, что стал ощущать себя историком, публицистом, поучающим современников и диктующим им истину. Недаром Толстой сам назвал в письме к Погодину (1868 г.) всю «романическую» сторону своего сочинения «дребеденью». Страхов, говоря об увлечении Толстого историческими вопросами, остроумно заметил, что «Бетховен считал своим главным призванием юриспруденцию и почти жалел, что слишком много времени посвятил музыке».
Роман Толстого не был новым жанром, а скорее — итогом и ликвидацией старых жанров русского романа. В нем скрестились и нашли свое завершение две основные линии русского романа, ведущие свое начало от 20-30-х годов: семейно-бытовой («помещичий») роман и роман военно-исторический. Эти обе линии были намечены Пушкиным («Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»). Развитие любовной новеллы и «светской повести», дошедшее через Лермонтова до Тургенева и в нем закончившееся, отодвинуло в сторону жанр романа; передовая литература 40-х годов («натуральная школа») шла тоже в стороне от романа и не заботилась о нем. Роман стал специальностью «второстепенных» авторов — Булгарина, Загоскина, Зотова и т. д. и превратился в «бульварный» жанр, предназначенный для «низкого» слоя читателей. Шестидесятые годы вызвали его к новой жизни — ему предстояло занять главное место в литературе. Началось «повышение» жанра, которое очень ясно сказалось на работе Толстого. Та же задача стояла и перед Достоевским, но он «повышал» другой материал, не имевший ничего общего с русским романом 30-х годов. Сам зная это, он очень точно и правильно охарактеризовал литературную позицию Толстого в письме к Страхову 1871 г.: «А знаете, это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним».
Список литературы
Чтобы не загружать текст книги лишними сносками, а текст примечаний повторением одних и тех же изданий, я даю сначала список основных печатных материалов, которыми я пользовался при составлении книги[552].
Переписка Л. Н. Толстого с В. П. Боткиным // Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. IV/ Ред. В. И. Срезневского. М., 1923.
Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник // Труды Публичной Библиотеки СССР им. В. И.Ленина. М.: ГИЗ, 1928. (Здесь — переписка Толстого с Б. Чичериным.)
Письма Я. Н. Толстого к жене. 1862-1910 гг. / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1913.
Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. 1857-1903 гг. / Изд. Об-ва Толстовского музея. СПб., 1911.
Толстой и Тургенев. Переписка / Ред. А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1928.
Дневники С. А. Толстой. 1.1860-1891 г. / Ред. С. Л. Толстого. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1928.
Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне: В 3 ч. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых., 1925-1926.
Чичерин Б. Н. Воспоминания. И. Москва сороковых годов. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1929.
Фет А. Мои воспоминания. 1848-1889 гг.: В 2 ч. М., 1890.
Письма И. С. Тургенева к И. П. Борисову. 1858-1871 гг. // Русский архив. 1910. Т. 1. Кн. 4.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Семидесятые годы
Часть первая
ПОСЛЕ «ВОЙНЫ И МИРА»
1
Статья Н. Страхова в «Заре». Статья С. Навалихина (В. Бервы-Флеровского)
в «Деле». Толстой и В. Берви в Казани. Берви в «Современнике». Книга Берви- Флеровского «Положение рабочего класса в России». Толстой и Берви.
Окончив «Войну и мир», Толстой надолго замкнулся в Ясной Поляне. Он явно обижен и разгневан на современность. «Я нынешний год не получаю ни одного журнала и ни одной газеты, — пишет он Фету 4 февраля 1870 г., — и нахожу, что это очень полезно»[553]. С. А. Толстая тогда же (24 февраля 1870 г.) записывает в своем дневнике: «Мы не получаем ни газет, ни журналов. JI. говорит, что не хочет читать никаких критик. "Пушкина смущали критики, — лучше их не читать". Нам даром посылают "Зарю", в которой Страхов так превозносит талант JI. Это его радует»2.
«Заря» — это был журнал неославянофилов, начавший выходить в 1869 г. Ближайшим сотрудником этого журнала был философ Н. Страхов. Он действительно решил превознести Толстого назло «нигилистам» и посрамить его старших современников— Тургенева, Островского и Некрасова — за то, что они, по мнению Страхова, колебались, метались из стороны в сторону или уступали и покорялись общему течению, не были «свободны».
Тургенев, например: «Чем только не был г. Тургенев, каким влияниям он не подчинялся? Каждое минутное настроение наших журналистов и наших литературных кружков отражалось на нем с такою быстротою и силою, какой мы едва ли найдем другой пример. Вот истинный раб минуты, человек, как будто не имеющий ничего своего, а все заимствующий от других... Колебания г. Островского не менее многочисленны, хотя менее были замечены и истолкованы читателям нашею критикою. Что же касается до г. Некрасова, то о нем давно известно, что он отдал свою музу в крепостное рабство известным идеям и направлениям»3.
Толстой — «богатырь, который не поддался никаким нашим язвам и поветриям, который разметал, как щепки, всякие тараны, отшибающие у русского образованного человека ясный взгляд и ясный ум, все те авторитеты, под которыми мы гнемся и ежимся. Из тяжкой борьбы с хаосом нашей жизни и нашего умственного мира... он вышел только могучее и здоровее, только развил и укрепил в ней свои силы, и разом поднял нашу литературу на высоту, о которой она и не мечтала»[554].
Вот слова, которые, конечно, должны были радовать Толстого. Но восторги Страхова имели свою почву — помимо действительных достоинств «Войны и мира»: он был не меньше Толстого обижен на современность, как и вся редакция «Зари». В. Авсеенко писал впоследствии о редакционном кружке «Зари»: «Мрачное настроение кружка было связано с общим положением дела. Крупные писатели, сошедшиеся в этом кружке, более или менее пострадали от новых течений в литературе и обществе. Все они имели свою долю личной обиды в движении того времени. Когда-то они были героями дня, за ними бегала толпа, их имена считались любимыми, притягательными — и вдруг выступили новые люди, восторжествовали новые вкусы, и старые кумиры оказались как бы в почетной отставке». О Страхове сказано отдельно: «Страхов был уязвлен равнодушием публики и критики к его эстетическим идеалам»[555].
Цитированная выше статья Страхова была не только защитой Толстого от нападений левой критики, но и самозащитой. Страхов выдвигал Толстого партийно — как новое знамя. В ответ на суждения «нигилистов», осуждавших роман за «философию застоя» (Шелгунов), Страхов называл его «полной картиной человеческой жизни», «полной картиной того, что называется историею и борьбою народов», «полной картиной всего, в чем люди полагают свое счастие и величие, свое горе и унижение». Защищая здесь же себя и свои «эстетические идеалы», Страхов сопоставляет Толстого с Пушкиным: Толстой — «поэт в старинном и наилучшем смысле этого слова; он носит в себе глубочайшие вопросы, к каким только способен человек, он прозревает и открывает нам сокровеннейшие тайны жизни и смерти»[556]. Не мудрено, что обыкновенные критики не могут понять этот роман: «Смысл истории, сила народов, таинство смерти, сущность любви, семейной жизни и т. п. — вот ведь предметы гр. JI. Н. Толстого. Что же? Разве все эти и подобные предметы — такие легкие вещи, что их может понимать первый попавшийся человек?»[557] Следует резкая и озлобленная характеристика этих новых, «первых попавшихся» судей: «Это люди — чрезвычайно тупые и в то же время чрезвычайно самоуверенные. Не имея ни ума, ни сердца, они однако же воображают себя все понимающими, способными сочувствовать всему хорошему... Они питают самую детскую, самую заразительную уверенность, что для их образования и их ума все доступно, все попятно. Первое следствие отсюда то, что они с полной важностию, с неописанным увлечением и жаром про- поведывают величайшие пошлости, сообразные мелкости их ума и сердца. Второе следствие — что все, чего они не понимают, они признают за совершенную глупость. И такие люди судили, судят и будут судить о "Войне и мире!"»[558]
Говоря об этих «тупых и самоуверенных» судьях, Страхов, несомненно, имел в виду, между прочим (а может быть, и главным образом), С. Навалихина, статья которого о «Войне и мире» появилась в журнале «Дело» (1868. № 6) под ядовитым заглавием «Изящный романист и его изящные критики». Никто не писал о романе Толстого так резко, так бесцеремонно, так самоуверенно и так несправедливо. Он называет роман «беспорядочной грудой наваленного материала», именует главных персонажей романа «изящными бушменами», видя в них только «умственную окаменелость и нравственное безобразие», самого же автора сравнивает с «ограниченным, но речистым унтер-офицером». По поводу рассуждений Андрея Болконского о «животном счастье» крестьянина и о важности для него физического труда Навалихин пишет: «Что было бы с нами, если б все принялись так рассуждать, как рассуждает сиятельный герой графа Толстого? Этот несчастный герой так скудоумен, что даже не способен понять, что уменьшение барщины не уменьшает труд крестьянина, а увеличивает его благосостояние, давая ему более свободного времени для работы на себя... Человек, который распоряжается жизнию и счастьем десятков тысяч рабочих сил и не в силах понять последствия и значение такого простого факта, как освобождение крестьянина от барщины, показывает ясно, что он не имеет ни малейшего понятия ни о своих обязанностях, ни о положении своем в обществе».
Совершенно ясно, что этими словами Навалихин предавал общественному позору не только «сиятельного героя», но и его сиятельного создателя — самого автора «Войны и мира». Роман в целом, резюмировал суровый критик, «смотрит на военное дело постоянно так, как смотрят на него пьяные мародеры».
Толстой, конечно, читал эту статью Навалихина, — в те годы он еще очень внимательно и взволнованно следил за отзывами критики. В 1883 г., когда о Толстом говорили уже совершенно иначе, он в разговоре с Г. А. Русановым вспоминал: «Прежде ведь меня ужасно бранили, совсем отрицали меня как мыслителя. Вы помните, что было после "Войны и мира"? Тогда еще меня занимало это и... помните ли вы статью Анненкова? Статья эта во многом была неблагоприятна для меня, и что ж? После всего, что было писано обо мне другими, я с умилением читал ее тогда... Вот до какой степени тогда бранили меня»[559]. В прерванной фразе («занимало это и...») Толстой, вероятно, хотел сказать «и даже волновало» или «огорчало».
Но знал ли Толстой тогда или узнал ли когда-нибудь потом, кто был на самом деле этот неизвестный критик С. Навалихин? Об этом он никогда и никому не сказал ни слова. А между тем Толстой и Навалихин знали друг друга еще со времен Казанского университета.
Навалихин — это Вильгельм Вильгельмович, или Василий Васильевич, Берви- Флеровский, одновременно с Толстым учившийся в Казани на юридическом факультете. Отец Берви был профессором физиологии в Казанском университете, и Толстой слушал его лекции10.
Старшие братья Толстого, Сергей и Дмитрий, были на одном курсе с Владимиром Берви, а Лев — на одном курсе с Вильгельмом. В журнале ежедневных занятий, который вел Толстой в 1847 г., есть запись: «Берви помешал» (46, 245).
Толстой был тогда в группе аристократов: по его собственным словам, «очень любил веселиться в казанском, всегда очень хорошем обществе» и жил, «не затрагивая непосильных вопросов» (34,397). Берви жил совсем иначе. Он еще в гимназии привык к одиночеству, к книгам и к «непосильным вопросам». Поступив в университет, он остался таким же одиночкой — сторонился веселых компаний, возбуждая этим насмешки и подозрения. В автобиографическом романе «На жизнь и смерть»[560]он вспоминает про университет: «Слушателям внушалось, что для молодого человека всего естественнее веселиться, и они представляли себе, что они поступили в университет только для того, чтобы свободно посещать трактиры, публичные дома и играть в карты. Особая натура Павлуши (т. е. Берви. — Б. Э.) не ускользнула от зорких взглядов начальства, и оно искусственно возбуждало к нему в товарищах презрение. Достигнуть такой цели было слишком легко; его печальная фигура, вечно покрытые желтыми пятнами штаны напрашивались на карикатуру»[561].
Когда Толстой, недоучившись, покинул Казань, в университете произошли большие перемены, изменившие положение Берви: «В университет перешло несколько молодых людей из Петербурга. Эти молодые люди принадлежали к обществу Петрашевского, Спешнева, Достоевского, Филиппова и пр. и к примыкавшим к ним кружкам. В безотрадной глуши отдаленного университета в первый раз явились студенты, которые занимались не лекциями, а наукой... На университет пахнул свежий западный ветер. Павлуше было ближе всего сойтись с ними, и он вскоре сделался интимным членом их кружка. Они взаимно развивали и вырабатывали друг друга и сами не заметили того, как они породили из себя явление оригинальное и небывалое не только в университете, но даже в городе. Они создали из себя людей, у которых образ мыслей, чувства, все интересы и вкусы были совершенно другие, чем у прочих жителей и даже у других студентов... Это была запорожская сечь среди города и студенчества, это было интеллигентное казачество»13.
На сцену явились Фурье, Прудон, Оуэн, Луи Блан — те книги, о которых Толстой тогда и не слыхал. «Попытки влияния на студенчество не остались бесплодными: благодаря им случившаяся тогда французская революция вызвала живой интерес в среде университета. Первые дни после того как эта весть дошла до студентов, были днями таких сильных ощущений, каких они не испытывали в течение всего своего студенчества. Тогда и в городе узнали, что существует социализм, и получили об нем некоторое смутное понятие»[562].
Толстой не был уже свидетелем этих перемен и ни о каком социализме еще не думал: «Жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели», потом решил, что «умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, т. е. быть практическим человеком», потом хотел вступить юнкером в конногвардейский полк, потом забрался в Ясную Поляну и хотел снять почтовую станцию в Туле. Трудно представить себе более резкий контраст, чем студент Берви и молодой граф Толстой, — и тем более трудно ожидать, что пути этих двух людей когда-нибудь сойдутся или по крайней мере пересекутся. А между тем случилось в конце концов именно так.
В 1856 г. в № 5 «Современника» была напечатана повесть Толстого «Два гусара», а в № 6 — повесть Берви «В глуши» (с подписью В. Б — и), очерк из жизни мордовского крестьянства. Прочитав этот очерк, Толстой написал Некрасову (2 июля 1856 г.): «Ну, уж повесть моего казанского товарища осрамилась, да и "Современник" осрамился; я воображаю, как "Петербургские ведомости" нападут на несчастного Берви, да и есть на что. Недаром вы всё скрывали это произведение и улыбались своей кошачьей улыбкой, когда об нем была речь. Мне кажется, никогда не было в "Современнике" напечатано такой дряни, да что в "Современнике" — ни на русском, ни на каком другом языке, вот как мне кажется. Может, и преувеличиваю, но такое было мое впечатление. Вроде жезла правоты, только язык хуже. Мне хотелось смеяться, но больно, как над близким родственником. Вы прочтите, я уверен, что вы не читали. Однократный и многократный вид в одном предложении сплошь да рядом и производит такое неприятное, немецкое впечатление. Ну, да содержание и всё, черт знает что такое» (60, 74).
Мнение Толстого об очерке Берви разделялось и другими сотрудниками «Современника» — кроме, по-видимому, Некрасова. В сентябре 1856 г. В. Боткин пишет И. Панаеву: «Рассказы Даля начал было читать, но после двух первых совсем потерял охоту продолжать чтение». Панаев отвечает: «Касательно Даля ты прав, но все-таки лучше печатать его, чем Данковских, Берви, Рафаловичей и прочих...»[563]Через пять лет Тургенев вспомнил об этом самом очерке Берви в письме к Анненкову — и именно в связи с Толстым: «На днях приехал сюда из Италии Толстой (JI. Н.)... Он мне читал кое-какие отрывки из своих новых литературных трудов, по которым можно заключить, что талант его далеко не выдохся и что у него есть еще большая будущность. Кстати, что это за г. Потанин, о котором так вострубил "Современник"? Действительно — он писатель замечательный? Дай-то бог, но я боюсь за него, вспоминая восторженные отзывы Некрасова о гг. Берви, Надежди- не, Ип. Панаеве и tutti quanti...»[564]
Итак, первое выступление Берви в литературе кончилось неудачей. Толстой мог торжествовать победу над своим «казанским товарищем», который в университете смотрел на него, вероятно, как на типичного представителя никчемной «золотой молодежи». Но Берви вовсе не собирался конкурировать с беллетристами дворянского лагеря и писать повести в стиле «Двух гусар». Он пал духом, но не оттого, что повесть его не понравилась Толстому и Тургеневу: «Писать я положительно не имею возможности: так писать, как они хотят, я не могу, а если я пытаюсь так писать, как по моему убеждению надобно, я не нахожу органа, я диссонанс в их гармонии. Я могу только помогать делом, насколько это зависит от моих сил; я пытался писать, чтобы достигнуть распространения и осуществления не общих идей, а специальных частностей, да и тут жестоко раскаялся: результат выходил прямо противоположный тому, чего я желал. Опять я вижу себя в прежнем положении; среди этого движения я чувствую то же гнетущее бессилие, которое давило меня во время застоя... Общество боится идей; оно их преследует и гонит, как что- то опасное, отгоняет их от себя судом и еще чаще своим презрением и своей ненавистью... Высказываться могут только немногие, и еще меньше число тех, которые могут быть услышаны»[565]. Общественное движение, начавшееся после смерти Николая I, не радует его: он видит всюду эгоизм и проповедь эгоизма: «Пусть освобождают крестьян, уничтожают откупа, строят железные дороги и делают преобразования в организации общественных властей, но если нравственная и умственная жизнь образованного общества, его взгляды на свои потребности не изменятся, народ скоро очутится в прежнем своем положении»[566].
Надо думать, что повесть Берви «В глуши» была напечатана в «Современнике» по инициативе Чернышевского. Симптоматичны в этом отношении слова Толстого в письме к Некрасову: «Вы прочтите, я уверен, что вы не читали». Это несомненный намек на то, что читал эту повесть и поместил ее в «Современнике» Чернышевский. Слова Толстого: «Мне кажется, никогда не было в "Современнике" напечатано такой дряни» — звучат как осуждение не только самой повести, но и новой позиции, занятой журналом после появления в нем Чернышевского.
Вероятно, именно в это время Берви познакомился с Чернышевским. Об этом он рассказывает в том же романе «На жизнь и смерть»: «На днях я возвращаюсь домой и нахожу у себя визитную карточку Чернышевского; я незнаком с Чернышевским, я понял, что он почему-нибудь заключил, что ему нужно увидать меня, и пошел к нему. Мне пришлось объясняться с ним, и нетрудно было заметить глубокое впечатление, которое произвело на него холодное и отчетливое изложение моего безотрадного взгляда на мою роль; но по тому, как стали вести себя со мною после этого близкие к нему люди, я увидал, что он хочет меня переделать — в настоящем моем виде я диссонанс в их гармонии. Ту жгучую боль, которую он мне этим причинил, я так же живо чувствую теперь, как в первый момент. Я чувствую ее потому, что во мне нет ни малейшего сомнения, что между нами Чернышевский — самый серьезный и светлый человек»19.
«Рациональный идеалист» (так называл себя Берви), фанатик, мечтавший о «мировой жизни» и о создании новой «религии равенства», не поладил с материалистом, строившим свою практическую программу на основах научной теории. В позднейшие годы отношение Берви к Чернышевскому стало еще более непримиримым. Живя в ссылке (в Вологде), Берви собирал у себя политических ссыльных и, произнося горячие речи, «выступал с яростной критикой Чернышевского, которого, между прочим, знал очень плохо. Так, на одном из вечеров обнаружилось, что он не читал совсем статей Чернышевского об общине. Один раз он заявил, что "Чернышевский в подметки не годится... Кельсиеву, который-де головою выше всех в России". Во время наших споров Берви особенно беспощадной критике подвергал роман "Что делать?". Одну из главных героинь этого романа, Веру Павловну, Берви называл столь нелестными именами, что их нельзя даже повторить...»[567]
Тогда же (в 1868 г.) в Вологде Берви написал статью о «Войне и мире». Она пошла в журнал «Дело», очевидно, через Шелгунова и была зашифрована псевдонимом — С. Навалихин. А вслед за этим Берви издал свою знаменитую книгу, печатавшуюся сначала отрывками в «Деле» (1867 и 1868 гг.): «Положение рабочего класса в России» (1869 г., под псевдонимом Н. Флеровский)[568].
Эта книга, ставшая своего рода евангелием для первых народнических кружков, была направлена и против учений Чернышевского, и против взглядов Толстого. Она состояла из художественных очерков, написанных по личным наблюдениям и по статистическим материалам. В первой части описана жизнь «работника Сибири, северной и пустынной России», во второй — «работника земледельческой России», в третьей — «работника промышленной России». Берви сам рассказывает, как и почему написал он эту книгу. Он использовал статистику губернских комитетов («писавшим эту статистику и в голову не могло прийти, что из ней кто- нибудь будет делать те выводы, которые я задумал») и прибавил к ним личные наблюдения, которые накопил во время странствований по России и Сибири. «Все оптимистические уверения, что в России рабочему живется лучше, чем в западной Европе, что у нас нет пролетариата и т. д., разлетались в прах... Я убеждался, что Россия — страна повального пауперизма, что все выгоды, доставляемые народу общинным владением землею и самостоятельным хозяйством, вполне уничтожаются тем грязным телом и тем невежеством, в котором он держится. Безучастие к страданиям рабочих людей превосходило все, что можно было встретить в Западной Европе. На Западе не было ни одной страны, где люди были так бедны, загнаны и несчастны. Чем усерднее я занимался этим предметом, тем более овладевал мною энтузиазм; наконец я вполне отдался ему. Я жил страданиями этого народа, я желал на себе испытать всю трудность его положения, чтобы изображать его во всей его реальности»22.
Книга Флеровского произвела на будущих «семидесятников» громадное впечатление — гораздо большее, чем «Война и мир» Толстого. О ней заговорили все журналы и газеты, но еще больше толков возбудила она в кружках молодежи, готовившейся к пропаганде новых идей. Один из учеников Берви-Флеровского, Н. А. Малиновский, писал в 1905 г.: «Припомним, как трепетали все наши нервы, когда картина за картиной раскрывал нам автор знаменитых исследований все ужасы голодного и бесправного существования многострадальной крестьянской Руси; когда со всех страниц книги несся на нас сплошной великий стон рабочего населения нашей земли»[569].
Другой «семидесятник», О. В. Аптекман, вспоминает: «"Положение рабочего класса" своим ярко выпуклым, конкретным содержанием, богатством и разнообразием красок, выхваченных из самой гущи народной жизни, кровью сердца автора написанными страницами будило наше чувство, заставляло биться наши сердца, возбуждая в нас беззаветную преданность и любовь к народу»[570]. В другом месте тот же Аптекман пишет: «Как современник, я без преувеличения могу засвидетельствовать, что появление этой книги было призывным набатом, раздавшимся неожиданно в тиши глубокой ночи: спящие, проснитесь! Все мыслящее общество встрепенулось... Молодежь была потрясена до глубины души». Эта книга, продолжает Аптекман, дала толчок «к изучению социально-философских вопросов вообще и в особенности — русской действительности (крестьянства, русской общины, обычного права, артелей, податного вопроса и т. д.); она, наконец, подготовила в известной мере революционное выступление молодежи ("хождение в народ")»[571]. Сам Флеровский вспоминает: «С первого дня своего появления книга эта наделала такого шуму и возбудила в обществе такой энтузиазм, что я ни в каких отзывах о ней периодических изданий не нуждался... Катков в "Московских ведомостях" провозгласил ее произведением умалишенного, но возбудил этим один только смех»[572].
Но и периодические издания обратили на эту книгу большое внимание, причем некоторые сопоставляли ее именно с «Войной и миром». «Заря», например, поместила свои отзывы рядом, в одном и том же номере (1870. № 1), намеренно противопоставляя эти две книги. Сначала идет восторженная и торжествующая победу статья Страхова о «Войне и мире» (та самая, о которой была речь выше), потом — насмешливая статья Д. Анфовского (Ф. Н. Берга) о «Положении рабочего класса», под ироническим заглавием «Скорое наступление золотого века»[573]. Ирония эта относилась главным образом к заключению книги, где указывалось на необходимость и неизбежность достижения «мировой жизни» — когда всякий будет заботиться не о себе, а о других. Большое значение в этом повороте Флеровский приписывал развитию чувства изящного: «Изящное в природе, впечатление ее цветов и форм создано для того, чтобы человек не относился к ней безучастно, чтобы окружающий его мир возбуждал в нем чувство любви и симпатии... Порожденное им чувство заставляет человека знакомиться с миром и с мировыми явлениями. Когда он под этим впечатлением сделает первый шаг и спросит себя, что такое эти звезды, которые над его головою, какова жизнь этого прекрасного мира, который его окружает, — в его воображении вырастут картины, которые по своей величественности превзойдут беспредельно впечатления, полученные его глазом, и еще теснее сделается его союз с природою, и он почувствует неотразимое желание жить великой, мировой жизнью»[574]. Высмеивая эту утопическую проповедь Флеровско- го, рецензент пишет: «Недостает здесь только одного, чтобы автор серьезно, разумным, научным способом показал, какими средствами может быть осуществлена эта всеобщая мировая жизнь, каким образом наши землевладельцы, с которых должно начаться дело и которые уже столько раз смотрели на звезды, в одно прекрасное утро посмотрят на них и проникнутся чувствами необыкновенной симпатии и любви и почувствуют желание жить мировою жизнью»[575]. Рецензенту трудно было предвидеть, что «в одно прекрасное утро», через несколько лет, Лев Толстой действительно проникнется этими чувствами и всенародно объявит, что он отныне желает жить той самой «мировой жизнью», о которой хлопотал Флеровский. Мало того: даже звезды сыграли в этом, по-видимому, некоторую роль, — как будто Толстой, прочитав Флеровского, решил в точности следовать его указаниям и советам. 19 апреля 1872 г. С. А. Толстая специально записала в своем дневнике: «Всю ночь Левочка до рассвета смотрел на звезды»[576]. А потом эти самые звезды и связанные с ними размышления о добре перешли в финал «Анны Карениной»: «Левин прислушивался к равномерно падающим с лип в саду каплям и смотрел на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его млечный путь с его разветвлением» (79, 397-398).
Страхов высказал свое мнение о книге Флеровского еще более резко и презрительно — уже прямо в сопоставлении с «Войной и миром». В статье «Взгляд на нынешнюю литературу», посвященной критике новейшего западничества («западничество разлагается и вырождается»), Страхов пишет: «Несостоятельность пред событиями нашей политической истории, несостоятельность перед явлениями нашей литературы (напр., перед "Войною и миром" гр. Л. Н. Толстого), ряд уступок, сделанных народному направлению, чувство внутренней непоследовательности, желание отодвинуть назад позицию всего лагеря и лукаво замаскировать это отступление, чувство отсутствия прочных и ясных идеалов — все эти черты, несомненно, принадлежат нашему западничеству в настоящую минуту. Серьезных, значительных западников нет: они в настоящее время невозможны. И при всем этом западничество не только не близко к падению, а, напротив, нарастает с каждым днем и никогда еще не было так могущественно, не захватывало собою такого множества умов. Оно составляет нашу привычку, наш предрассудок, наше староверство, нашу рутину, нашу умственную и нравственную болезнь. Поэтому оно прекратится не скоро и будет жить и нарастать даже при совершенном отсутствии внутренней силы. Но какое же плачевнейшее зрелище представляет в силу этого литература! Грустно подумать, какою безвкусною и никуда не годною трухою питается обыкновенно наша публика, на каком жалком чтении растут наши юноши и девы! Книги вроде Социально-педагогических условий умственного развития русского народаъх или Положения рабочего класса в России имеют величайший успех, читаются с жадностию, признаются плодами великой мудрости и учености. Одно может нас утешить в этом случае: эта публика, составляющая тонкий поверхностный слой русского народа, слой выветрившийся и все больше выветривающийся от внешних влияний, сама подвергается этим влияниям только на поверхности»[577].
Итак, «Война и мир» объявлена в «Заре» продуктом новейшей стадии славянофильства, твердо стоящего на своих позициях и опирающегося на народные массы, а книга Флеровского — продуктом разлагающегося, хотя и мощного по своему влиянию на интеллигенцию, западничества. Славянофилы объявили Толстого своим «богатырем», а «Войну и мир» — библией «народного направления». Для Страхова положение это казалось совершенно ясным и бесспорным; для Толстого оно, конечно, не было таким, хотя он и радовался, читая статьи Страхова о своем романе.
Вряд ли Толстой читал книгу Флеровского, хотя отзыв «Зари» и мог его заинтересовать. Зато он, несомненно, читал вторую его книгу — «Азбуку социальных наук»33. Эту книгу Флеровский писал по заказу кружка чайковцев, обратившихся в это время к социально-этическим вопросам. Необходима была книга по этике: «Кто же может написать такую книгу? К кому из наших писателей можно за этим обратиться? Остановились на Флеровском. Он тогда уже близко стоял к кружку. Живя в Любани, он частенько ездил в Петербург, чтобы повидаться с Натансоном и другими чайковцами. Мысль написать такую книгу пришлась по душе Флеров- скому»[578].
«Азбуку социальных наук» читали с не меньшим восторгом, чем первую книгу Флеровского. Н. А. Малиновский называет ее прямо «откровением»: «Это была целая философия коллективизма... она противопоставляла, как основной принцип исторической эволюции, дарвиновской борьбе за существование — «союз за существование»; общежитию, основанному на «хищнических» началах, она противопоставляла коллективистское мирно-трудовое начало общежития. Она доказывала, что завоевания, рабство и насилия никогда не способствовали прогрессу человечества и только альтруистические начала спасали мир от разложения и гибели»[579].
Толстой читал «Азбуку» Флеровского, вероятно, не в эти годы, а позже — когда отрекся от своего прошлого. В воспоминаниях Горького о Толстом описана одна замечательная сцена, свидетельствующая, между прочим, о том, что Толстого давно интересовала и беспокоила личность и деятельность Берви: «Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.
Вы знали его? — оживленно спросил JI. Н. — Расскажите, какой он.
Я стал рассказывать о том, как Флеровский — высокий, длиннобородый, худой, с огромными глазами, — надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, вареного в красном вине, вооруженный огромным холщовым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол, и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах JI. Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.
Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей-радикалов он — самый зрелый, самый умный, у него в "Азбуке" очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация — варварская, а культура — дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование — лживая выдумка, которой хотят оправдать зло»[580].
Действительно, вторая часть «Азбуки» (изд. 1871 г.) кончается суровым приговором над европейской цивилизацией: «Она точно так же, как и ее предшественницы, не учит людей жить создающею солидарность между ними мировой жизнью; она не развивает в них той силы, которая для каждого человека может сделаться источником наибольшего счастья; между тем до тех пор, пока люди этому не научатся, они не будут исполнять своего назначения и будут только уменьшать и собственное свое и чужое счастье. Могут ли считаться цивилизованными и нравственно развитыми те, которые видят, что девять десятых земной суши нуждаются в заселении, и которые все-таки утверждают, что людям для того, чтобы жить, нужно бороться между собою за существование, а не помогать друг другу? Пусть их самолюбие восстает против этого сколько им угодно, а я все-таки им скажу, что их цивилизация не сознательная, — варварская!»[581]
Можно подумать, что это писал Толстой последних лет. Семидесятник, читая религиозно-нравственные писания Толстого, сказал бы, пожалуй, о них: «Можно подумать, что это писал Флеровский или кто-нибудь из чайковцев». Н. Малиновский, например, считает, что система научной этики, построенная Флеровским, явилась во многом «предшественницей нравственного учения JI. Н. Толстого»[582]. Это очень важно и очень характерно. Мог ли Берви-Навалихин думать в 1869 г., что этот самый «речистый унтер-офицер» окажется через несколько лет чуть ли не его последователем?
О всевозможных «предшественницах» толстовского учения я буду говорить ниже. Пока важно другое. Толстой, оказывается, действительно интересовался Флеровским и даже представлял его себе «особенным». Слушая рассказ Горького, он прослезился, вероятно, не только потому, что услышал о хорошем человеке. Он не сказал Горькому, что знал этого человека еще в Казани; он не сказал (или не знал?), что этот человек написал когда-то жестокую рецензию на «Войну и мир»; он умолчал (или тоже не знал?) и еще об одном. В 1901 г. в разговоре с А. Б. Гольденвейзером об анонимной брошюре Чичерина Толстой сказал: «Нехорошо, что он не решился подписаться... что же старому человеку сделают? Говорят, что меня спасает мое имя, а вот Берви, который написал "Азбуку социологии" и теперь недавно за своей подписью напечатал что-то за границей. Ему семьдесят лет, живет он где-то в Екатеринославе или Кременчуге, и кто его тронет, старика?»[583]
Это «что-то», появившееся за границей, было сочинение «Три политические системы: Николай I, Александр II и Александр III. Воспоминания Н. Флеровского»[584]. Можно ожидать, что после всего пережитого, сделанного и высказанного Толстым в 80-х и 90-х годах, имя его будет произнесено в воспоминаниях этого «самого умного среди писателей-радикалов» с полным признанием и уважением. Но прямолинейный и суровый «Навалихин»[585], отстрадавший двадцать пять лет в ссылках и пожертвовавший всем для пропаганды своих идей, этот «апостол библейский» (как его называла С. Перовская), остался непреклонным и непримиримым до конца.
Многих победил Толстой своей «Исповедью», своим отказом от прошлого, но Флеровскому всего этого было мало. Для него Толстой был не более как последний из «кающихся дворян». Он мог торжествовать свою победу над тем самым графом, которого запомнил с Казани, но и только. Строгий ригорист, человек твердых убеждений, он подозрительно относился к такого рода «исповедям», чувствуя в них некоторый исторический расчет. В проповеди Толстого, повторявшей многое из его собственных мыслей, Флеровский мог видеть желание сохранить силу своего воздействия — те самые черты, о которых говорит в своих воспоминаниях о Толстом Горький: «Меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в "житие иже во святых отца нашего блаженного болярина Льва" он давно уже собирался "пострадать"; он высказывал... сожаление о том, что это не удалось ему, — но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а — с явным и — повторю — деспотическим намерением усилить гнет своих религиозных идей, тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете — заставить!»[586]Флеровский чувствовал эти особенности толстовской позиции еще гораздо острее и грубее — как давнишний современник и противник. У него не было никаких оснований ни для того, чтобы особенно преклоняться перед Толстым, ни для того, чтобы особенно щадить его. Страница его воспоминаний, посвященная Толстому, написана едко и беспощадно: «Толстой с его учением о непротивлении злу немало способствовал усыплению общества и поощрению его малодушия; восхищаясь идеей непротивления злу, оно проглядело все меры правительства, которыми уничтожались последние следы свободы в стране и окончательно убивалось умственное движение... В Англии Толстой был бы немыслим: если бы в
Англии знаменитый писатель и владелец земли ценою в 60 ООО фунтов стал бы проповедовать такие учения, как Толстой, то от него бы потребовали, чтобы он сам делал то, что он проповедует другим, иначе его и читать никто бы не стал: арендатор не платит ему денег — он должен молчать; книгопродавец продал его сочинения и деньги взял себе — он должен молчать; из письма с деньгами лакей вынул деньги, а письмо разорвал и бросил; Толстой должен сказать ему: "тебе нужны деньги, на тебе чек на 3000 фунтов, поди возьми сколько тебе надо". — При таком условии и среди совестливых англичан он сделался бы наконец нищим, а в России все его имущество растащили бы у него в один год; между тем известно, что его богатства не только не уменьшаются, но он их приумножает... Толстой — премилый человек, добродушный, благотворительный, между богатыми людьми трудно найти равного ему по добродетели, а все-таки учение его заключает в себе лицемерие, слово с делом у него не сходится, да и сходиться не может. Деспотизм до того деморализи- ровал русских, что лицемерие вовсе их не возмущает»[587].
Так закончилась история этих отношений, завязавшихся еще в Казани и длившихся, почти без личного знакомства, больше пятидесяти лет. Последним своим выступлением против Толстого Флеровский хотел показать, что, несмотря на сходство некоторых сторон толстовского учения с его идеями, между ними нет и не может быть ничего общего. Толстой остался для него представителем старой России, которая любила грешить и лицемерно каяться.
Толстой, конечно, сам чувствовал эту разницу. Слушая рассказ Горького, он прослезился не только потому, что услышал о хорошем человеке. Жизнь и личность Берви-Флеровского была для него болезненным соблазном и укором. Образ этого вольного скитальца, не связанного ни семьей, ни имуществом, не имеющего никакой собственности, кроме холщового зонтика и узелка с рисом, человека, которого никто не смеет упрекнуть в том, что он проповедует одно, а делает другое, — этот образ, очевидно, преследовал и воображение и совесть Толстого. Рядом с его сложной, запутавшейся в собственных страстях и противоречиях жизнью в воображении явилась жизнь противоположная: простая, свободная от власти, от хитрости, от лицемерия и покаяний. Здесь сказалась та историческая тяга к «юродству», которая овладела Толстым к концу 70-х годов. Отсюда же ведут свое начало те слезы, которыми Толстой прервал рассказ Горького.
2
Промежуточный период: новый уход из литературы. Работа над «Азбукой».
Увлечение хозяйством: Толстой в Самарской губернии. Неудачи и волнения.
Окончание «Войны и мира» было для Толстого началом невеселой полосы сомнений, исканий и борьбы с самим собой. Слева он объявлен реакционером, справа — нигилистом. Своим его признали только новые славянофилы, «почвенники», возобновившие борьбу с западниками. «Война и мир» — их хоругвь, с которой они выступают в крестовый поход на противника.
Но Толстой не принимал участия в этом походе. Он — в промежутке.
Промежуточные периоды — самое трудное в жизни писателя. Оконченный труд еще не отошел в прошлое. Инерция старого замысла и материала соблазняет продолжать ту же или подобную ей работу. В то же время появляется раздражающее и даже пугающее ощущение подражания самому себе.
У Толстого эти промежутки особенно мучительны и чреваты последствиями. Он так занят своей судьбой, своей исторической миссией, что всякая пауза, всякая остановка кажется ему катастрофой. Он сам признается в письме к А. А. Толстой в 1874 г.: «Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что du haut de ces pyramides 40 sifecles me contemplent[588] и что весь мир погибнет, если я остановлюсь» (62, 130). В первой половине этой замечательной формулы Толстой повторяет слова Наполеона, сказанные им в Египте, — слова того самого Наполеона, на которого он так напал в «Войне и мире». Там он писал: «Кутузов никогда не говорил о 40 веках, которые смотрят с пирамид» (72, 183); здесь он цитирует эти слова уже сочувственно — как основной принцип своего собственного поведения.
В этой формуле очень ярко выражены творческие стимулы Толстого, требующие непрерывного вмешательства, непрерывного воздействия, непрерывной деятельности. Конечно, именно эти стимулы сделали Толстого столь исторически живучим, но зато они же доводили его иногда в периоды неизбежных остановок и промежутков до отчаяния, почти до сумасшествия.
Отойти в сторону, подождать, заняться чем-нибудь не имеющим отношения к общественной деятельности, к истории Толстой не мог. Не будучи литератором или журналистом, он вместе с тем зорко следит за каждым движением общественной и литературной жизни и на все реагирует. Он как будто не допускает мысли, чтобы что-нибудь важное прошло без его участия или вмешательства. Когда идет Крымская война, он едет в Севастополь и пишет военные рассказы. Когда начинается спор об «Отцах и детях», он пишет повесть «Два гусара». Когда возникает полемика о «чистом» искусстве, он пишет повесть «Альберт». Когда поднимается вопрос о женской эмансипации, он пишет роман «Семейное счастье». Когда все начинают говорить о «народе», он бросает литературу, становится сельским учителем и пишет памфлет под заглавием «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» И так до конца: и «Война и мир», и начатый роман о Петре I, и «Анна Каренина», и «Исповедь», и народные рассказы, и «Воскресение» — все это было вмешательством Толстого в дела и события его эпохи, все это было результатом сложной исторической тактики и стратегии.
В его письме к Е. П. Ковалевскому, написанном в момент перехода от литературы к школе, есть афоризм, достойный стать эпиграфом к руководству по военному искусству: «Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы знать, что нужно делать, а в том, — чтобы знать, что делать прежде, а что после» (60, 328). Всегда делать — и не что-нибудь вообще, а именно то, что нужно сейчас. Этой мудростью или, вернее, искусством Толстой сам обладал в высшей степени.
И вот — Толстой в промежутке. Отошла не только работа над романом, длившаяся пять лет, — отошла целая эпоха, отошли все люди, с которыми Толстой вступил в литературу (Тургенев, Анненков, Дружинин, Боткин, Чичерин), отошла, наконец, и та литература, в которой он чувствовал себя своим. Уже в 1868 г. Толстой мечтал об издании журнала «Несовременник», в котором, как он с раздражением писал М. П. Погодину 7 ноября 1868 г., «исключено бы было только то, чтонапол- няет теперь работой "/т всех типографий мира, т. е. критика, полемика, компиляция, т. е. непроизводительный задор и дешевый и гнилой товар для бедных умов потребителей» (61, 208). В начале 70-х годов положение Толстого среди новых потребностей и запросов стало еще более сложным. Важность и нужность прежней «изящной словесности» перестала ощущаться: новые произведения или проходили незамеченными, или встречались наиболее влиятельной критикой с иронией и насмешкой. Этот факт отмечается в самой прессе: «Да, в наши дни положение писателя вообще, а начинающего в особенности — ужасное положение! Нужно много храбрости, чтобы выступить на сцену, и еще больше энергии и силы воли, чтоб на ней удержаться. При первом поднятии занавеса, при первых звуках первого монолога раздаются свистки и шиканье»[589].
Писателю продолжающему, и особенно ведущему свое литературное происхождение от 50-х годов, было в некоторых отношениях еще труднее, чем начинающему. Семидесятые годы были катастрофическими для многих писателей старшего поколения: и для Тургенева, и для Гончарова, и для Писемского, и для Лескова. То же случилось и с Толстым: он оказался, в сущности, без дела, без пути, без влияния. Навалихин начинал свою статью совершенно бесцеремонными, но имевшими некоторое основание и потому характерными словами: «Когда явился в свет роман гр. Л. Толстого "Война и мир", не было никакой причины говорить о нем; в массе общества имя Толстого едва помнили, и его неудачи в области его педагогических фантазий были более известны, чем его литературная деятельность»[590].
Первое решение Толстого — бросить писать и, во всяком случае, прекратить печатание. Летом 1870 г. он пишет Фету: «Я, благодаря бога, нынешнее лето глуп, как лошадь. Работаю, рублю, копаю, кошу и о противной лит-т-тературе и лит-т- тераторах, слава богу, не думаю» (61, 236-237). Осенью 1871 г., в ответ на приглашение сотрудничать в газете «Гражданин», он пишет редактору (В. П. Мещерскому): «Я ничего не пишу, надеюсь и желаю ничего не писать, в особенности не печатать; но если бы даже я по человеческой слабости поддался опять дурной страсти писать и печатать, то я во всех отношениях предпочитаю печатать книгой... По правде же вам сказать, я ненавижу газеты и журналы — давно их не читаю и считаю их вредными заведениями для произведения махровых цветов, никогда не дающих плода, заведениями, непроизводительно истощающими умственную и даже художественную почву... Газетная и журнальная деятельность есть умственный бордель, из которого возврата не бывает». Тогда же он пишет Страхову: «Но бросьте развратную журнальную деятельность... Про себя же скажу, что я... ничего не пишу и не хочется душой писать» (61, 257-258, 262).
Писательство объявлено «человеческой слабостью» и даже «дурной страстью». Однако дальше в том же письме к Мещерскому есть характерное противоречие, обнажающее настоящую основу этого нападения на литературу: «Мысль о направлении газеты или журнала мне кажется тоже самою ложною. Умственный и художественный труд есть высшее проявление духовной силы человека, и потому он направляет всю человеческую деятельность, а его направлять никто не может» (61, 258). Толстой явно оскорблен журнальными отзывами о «Войне и мире». Он отстаивает взгляд на художника как на властителя умов, стоящего вне всяких «направлений».
Итак — новый уход из литературы, но гораздо более трудный, сложный и болезненный, чем первый. В мрачное лето 1869 г. он доходил почти до сумасшествия, до признаков психического расстройства. С. А. Толстая записала об этом лете в дневнике: «Он сам много думал и мучительно думал, говорил часто, что у него мозг болит, что в нем происходит страшная работа; что для него все кончено, умирать пора и проч.»[591]. Это состояние затянулось и на следующие годы — как серьезная душевная болезнь. 9 декабря 1870 г. С. А. записала: «Все это время бездействия, по-моему умственного отдыха, его очень мучило. Он говорил, что ему совестно его праздности не только передо мной, но и перед людьми (т. е. прислугой. — Б. Э.) и перед всеми. Иногда ему казалось, что приходит вдохновение, и он радовался. Иногда ему кажется — это находило на него всегда вне дома и вне семьи, — что он сойдет с ума, и страх сумасшествия до того делается силен, что после, когда он мне это рассказывал, на меня находил ужас»[592]. Сам Толстой писал Фету летом 1871 г.: «Упадок сил, и ничего не нужно и не хочется, кроме спокойствия, которого нет». Тогда же — С. Урусову: «Никогда в жизни не испытывал такой тоски. Жить не хочется» (61, 253, 255). Осенью 1871 г. С. А. Толстая пишет своей сестре: «Левочка постоянно говорит, что все кончено для него, скоро умирать, ничто не радует, нечего больше ждать от жизни»[593]. В доме — настроение подавленности и страха: «Меня теперь постоянно страшно удивляет, — пишет Софья Андреевна сестре 29 сентября 1871 г., — что есть на свете что-то веселое, если кто-нибудь веселится»[594].
Прошло десять лет со времени первого отречения Толстого от литературы. Тогда он совершил сложный обходной путь — через школу, семью и хозяйство, после чего уже полузабытый автор «Детства» и военных рассказов явился перед читателями с «Войной и миром». Новое отречение приводит его на старый обходной путь. Уже осенью 1868 г. он набросал в записной книжке план «Азбуки». С. А. Толстая, описывая лето 1869 г., вспоминает: «Он стал читать русские сказки и былины. Навел его на это чтение замысел писать и составлять книги для детского чтения для четырех возрастов, начиная с азбуки»[595]. Тогда, десять лет назад, Толстой уверял Чичерина, что все другие дела и занятия — ничто в сравнении с его школой; теперь он пишет А. А. Толстой (в январе 1872 г.): «Пишу я эти последние года азбуку и теперь печатаю. Рассказать, что такое для меня этот труд многих лет — азбука, очень трудно... Гордые мечты мои об этой азбуке вот какие: по этой азбуке только будут учиться два поколения русских всех детей, от царских до мужицких, и первые впечатления поэтические получат из нее, и что, написав эту Азбуку, мне можно будет спокойно умереть» (61, 269).
Вопрос о народном образовании стоял в начале 70-х годов гораздо острее и определеннее, чем это было десять лет назад. Он дебатируется во всех журналах и газетах как один из самых злободневных и основных вопросов общественной и политической жизни. Область народного образования становится узловым пунктом классовой борьбы. Дворянство, напуганное событиями последних лет, уже не скрывает серьезности своего положения. Публицисты дворянского лагеря начинают откровенно говорить о грозящей их сословию опасности, о необходимости напряженной и организованной борьбы не только за свое экономическое и политическое благополучие, но и за «нравственное влияние» на массы. Вопрос о современном положении и роли дворянства выдвигается тем самым на первый план. В газетах начинается усиленная агитация, адресованная и к дворянству и к правительству.
От правительства требуют предоставления дворянству полной и действительной власти в деле руководства народной школой. К дворянству обращаются с увещеваниями «сознать свои недостатки, сознать свою органическую слабость, обдумать всю неизмеримую трудность дела, за которое, по призыву сверху, оно берется, и затем предпринять гигантские усилия, чтобы быть в силах и быть достойным взяться за это дело, сплотив себя в единое, крепкое духом и крепкое телом органическое целое... Дворянству предстоит ответить на вопрос: что оно и есть ли оно? и от того, как оно примется задело, будет зависеть не только участь вверяемого ему дела, но... и его собственная будущность»[596]. Статьи на тему «школа и дворянство» не сходят с газетных столбцов. Тон этих статей делается все более боевым и даже патетическим. Обсуждение вопроса о том, «кто будет осматривать школы, кто их будет открывать или закрывать, кто будет наблюдать затем, чтобы дурные и неспособные люди не могли быть учителями, кто будет распространять в школах и в народе хорошие книги и изгонять дурные», и т. д., заканчивается, например, следующей громкой тирадой, написанной в стиле прокламации: «Минута для дворянства, русского, поместного, в родословные книги по губерниям вписанного, настала весьма важная. Теперь не в фразах и не в заверениях дело, а в деле. Оно должно или доказать, что оно есть живое тело с умом и сердцем, или доказать, что правы те, которые его не признают. Средины нет!.. Оно, так сказать, прижато к стене. От него зависит его нравственное быть или не быть, и от него зависит политическая будущность России»[597].
На фоне этих дебатов о школе и дворянстве новое выступление Толстого в роли народного учителя и составителя «Азбуки» для всех детей, от царских до мужицких, получает очень важный и характерный для его социального поведения смысл. Его считают представителем и даже идеологом «дворянства русского, поместного, в родословные книги по губерниям вписанного». Он наследник того старого, ущербного, оппозиционного дворянства, которое давно (еще при Александре I) удалилось от службы и село на землю. Он аристократ-аграрий, отрицающий городскую цивилизацию и презирающий служилое и земское, либерально-буржуазное дворянство. Он в некотором роде «славянофил» (начало 70-х годов было эпохой новой вспышки славянофильских идей), уверенный в существовании особой соотносительной гармонии между землевладельческой аристократией и крестьянством. Тяга к мужику, уже давно подсказанная ему исторической действительностью, начинает приобретать теперь, под напором новых событий, более сознательный характер.
И вот Толстой начинает обдумывать план сложной кампании: против нового, буржуазного дворянства с его правительством и против «новых людей» — против новой, революционной интеллигенции. Наступает момент, когда он должен показать, что его позиция представляет собой единственно правильный путь борьбы и спасения. Его опорой, его «армией» должно быть крестьянство (и крестьянство именно зажиточное, хозяйственное) — это единственное патриархальное «сословие».
«Азбука» была первым, еще очень осторожным движением Толстого по намеченному пути. Десять лет назад он тоже выступил в роли народного учителя — очень шумно, очень откровенно, очень преувеличенно и очень противоречиво. Это было еще почти стихийное, почти инстинктивное движение, хотя в основе его уже был план борьбы с «умными». Теперь все стало более серьезным, более определенным и потому более осторожным. Эпоха яснополянского журнала была эпохой романтической и потому несколько наивной: Толстой, борясь с петербургской литературой, говорил тогда не столько об учении грамоте, сколько о том, «кому у кого учиться писать». Статьи писались со слезой и с яростью — с лирикой и с сарказмом. Теперь положение было другое. Нужно было действовать обдуманно, спокойно и твердо: некому и незачем было доказывать, что Федька и Семка пишут лучше, чем Пушкин и Гете, а надо было ясно и просто говорить о том, как обучать их грамоте и что давать им для чтения. Надо было вступить в борьбу с «просветителями» и «направленцами», но не прямо, не при помощи статей, а самым подбором материала. Враг настолько силен, что вести с ним борьбу открыто, в лоб, было рискованно. Надо было действовать с хитростью — так, чтобы часть врагов переманить на свою сторону и таким образом перессорить их между собой. По поводу рассказа «Кавказский пленник», появившегося до «Азбуки» в журнале «Заря», Толстой писал Страхову, деятельному своему помощнику: «А от публики я не только не жду суждений, но боюсь, как бы не раскусили. Я нахожусь в положении лекаря, старательно скрывшего в сладеньких пилюлях пользительное, по его мнению, касторовое масло и только желающего, чтобы никто не разболтал, что это лекарство, чтоб проглотили, не думая о том, что там есть. А оно уж подействует» (67, 285). Эти слова относятся и ко всей «Азбуке» в целом. Она скрывает в себе систему лечения от всевозможных вредных «интеллигентских» идей: общественных, естественнонаучных, исторических и пр.
«Азбука» Толстого направлена против основных методов и принципов новой педагогики. Системе разума он противопоставляет систему веры, системе науки — систему инстинкта и воображения, системе убеждений и идей — систему нравственных правил. Художественное слово использовано им здесь как противоядие, спасающее от разного рода просветительных теорий и идей. Это «лекарство» запрятано глубоко в пилюлях, но в некоторых местах книги полемическая тенденция выступает довольно явно. Никакого предисловия в «Азбуке» нет (па это все критики обратили внимание), но внутри есть разные «общие замечания для учителя», написанные в виде кратких советов и правил. Среди них есть очень характерные и очень принципиальные: «Для ученика, ничего не знающего о видимом движении небесного свода, солнца, луны, планет, о затмениях, о наблюдениях тех же явлений с различных точек земли, толкование о том, что земля вертится и бегает, не есть развязка вопроса и объяснение, а есть без всякой необходимости навязываемая бессмыслица. Ученик, полагающий, что земля стоит на воде и рыбах, судит гораздо здравее, чем тот, который верит, что земля вертится, и не умеет этого понять и объяснить» (22, 191). Каким образом земля стоит на воде и рыбах, ученик, конечно, тоже ни понять, ни объяснить не может, но Толстому это не важно, — Толстому важно противопоставить науке, которая кичится своей просветительной ролью, предание, которое должно приниматься на веру. На этот выпад Толстому вполне резонно отвечали: «Отчего же автор признает ребенка способным понять бессмыслицу относительно рыб и не признает возможным, чтобы он понял истину о вращении земли? Гораздо естественнее предположить, что он не поймет и первого (так как вряд ли кто возьмется ему объяснить это), а примет, конечно, на веру. В таком случае не лучше ли, чтобы он верил в действительность, нежели в бессмыслицу?»
А дело-то, конечно, в том, что Толстого возмущают самые претензии науки на раскрытие истины и тем самым на руководство человеческим поведением, на разумное построение жизни. Он принципиальный и ожесточенный враг такого отношения к науке. У него отношение к науке домашнее, хозяйственное. Вращается ли земля и «бегает», или стоит на месте — это и для хозяйства и для нравственности совершенно безразлично. Платон Каратаев, наверно, не знал, что земля «бегает», а жил правильнее тех, кто знает, — вот скрытый тезис Толстого. Иной предрассудок лучше и полезнее так называемой научной истины, потому что вера в науку влечет за собой соблазн — анализировать самые основы жизни, а это приводит к безверию, к отрицанию. Толстой сам говорит об этом в тех же «замечаниях»: «Избегайте весьма любимого... сообщения необычайных результатов, до которых дошла наука — вроде того: сколько весит земля, солнце; из каких тел состоит солнце; как из ячеек строится дерево и человек, и какие необыкновенные машины выдумали люди... Сообщая такие сведения, учитель внушает ученику мысль, что наука может открыть человеку много тайн, — в чем умному ученику слишком скоро придется разочароваться» (22, 192).
Его больше всего беспокоят естествознание и физика — науки, которые в 60-х годах обрели репутацию особенно важных для развития и, признанные виноватыми в распространении нигилистических идей, были потом торжественно изгнаны из программы «классического» образования. Толстой сам сочиняет естественнонаучные рассказы, в которых объясняет: «куда девается вода из моря», «для чего ветер», «отчего зимой двери разбухают», «отчего подушки под телеги вырезают не из дуба, а из березы», «откуда берется тепло на севере», «как делают воздушные шары», «как "придумано было" электричество», «что такое магнит» и т. п. Вопросы взяты из узкого круга практической, хозяйственной жизни и поставлены так, чтобы ответы не уводили в сторону, а шли бы по той же линии — для него или как. Детям совсем не нужно знать законы мироздания, — пусть они остаются тайной; но им полезно знать, что «если б не было ветра, нельзя было бы пускать змея», что «пока не знали магнита, не плавали по морям вдаль от берега» и т. д. П. Полевой очень остроумно заметил: «Все статьи изложены с той точки зрения, что природа устроена на пользу человека и представляет собою не более как обширное хозяйство»[598]. Действительно, Толстой пишет свои рассказы из физики тоном хозяина или управляющего природой — как руководство для крестьян. Ему важно только повысить в них наблюдательность и внушить им идею целесообразности и благоустройства природы, — идею, которая имеет нравственно-воспитательное значение. Он рассказывает не о природе самой по себе, а о том, как человеку с ней обращаться, чтобы извлекать выгоду и пользу, или о том, как она сама заботится о человеке.
Вот, например, статья о солнце: ни слова о его величине, составе, лучах, положении, ни слова о движении земли вокруг солнца и пр. «Заморозь чугун с водой, — он окаменеет. Поставь замороженный чугун на огонь; станет лед трескаться, таять, пошевеливаться; станет вода качаться, бульки пускать; потом, как станет кипеть, — загудит, завертится. То же делается и на свете от тепла. Нет тепла — все мертво; есть тепло — все движется и живет. Мало тепла — мало движенья, больше тепла — больше движенья; много тепла — много движенья; очень много тепла — и очень много движенья. Откуда берется тепло на свете? Тепло от солнца.
Ходит солнце низко зимой, стороною, не упирает лучами в землю, — и ничто не шевелится. Станет солнышко ходить выше над головами; станет светить в при- пор к земле, — отогреется все на свете и начнет шевелиться» (22,649). Вот толстовская космогония; каким образом и почему солнце «ходит» то низко, то высоко — об этом нет ни слова.
Вот другой рассказ — о магните. Он состоит из трех частей: легенда о том, как пастух Магнис, ища овцу, наткнулся на магнит, описание магнита и описание компаса. Вопрос «почему» совершенно отсутствует. Магнит описан просто как особого рода предмет («из себя магнит похож на железо»), найденный в земле и оказавшийся полезным для мореплавания. Вместо объяснений — подробное описание факта: «Если два магнита сводить концы с концами, то одни концы будут отворачиваться друг от друга, а другие будут сцепляться. Если одну магнитную палочку разрубить пополам, то опять каждая половинка будет с одной стороны цепляться, а с другой — отворачиваться. И еще разруби, — то же будет; и еще руби сколько хочешь, — все то же будет: одинакие концы будут отворачиваться, разные цепляться, как будто с одного конца магнит выпирает, а с другого втягивает. И как его ни разломи, все с одного конца он будет выпирать, а с другого втягивать. Все равно как еловую шишку, где ни разломи, все будет с одного конца пупом, ас другого чашечкой. С того ли, с другого ли конца, — чашечка с пупом сойдется, а пуп с пупом и чашечка с чашечкой не сойдутся» (22, 275). Вот и вся натурфилософия. Педагоги, конечно, возмущаются: «Это не имеет положительно никакого значения ни для одного ребенка!» — восклицают они.
Кроме рассказов из физики, есть в «Азбуке» и статьи или рассказы исторического содержания. Статьи эти не имеют ничего общего с исторической наукой и помещены совсем не для того, чтобы возбудить в детях интерес к вопросам общественного и государственного устройства или к историческому прошлому. Это предания, легенды и сказки нравоучительного характера, взятые из Геродота (о Камбизе), из Плутарха (об основании Рима и гусях, о Поликрате), из летописи Нестора (от библейского Ноя до смерти Владимира). Новая история России отсутствует: есть только рассказ о подвигах Ермака и легенда про Петра в Онежском крае. Нет ни малейшего намека на законы исторического развития, нет ни слова об основных событиях всемирной и русской истории. Рецензент «Вестника Европы» резонно пишет: «А между тем куда бы хорошо было... поговорить о великом Новгороде, о татарщине, о Грозном царе, о Минине, о Великом Петре, о двенадцатом годе, о Севастополе, об отмене крепостничества, о гласном суде». Другой рецензент делает естественный вывод: «J1. Толстой положительно избегал всего исторического в настоящем смысле слова, а потому поместил в своей книге только сказочки, имеющие некоторый исторический облик».
Как видно по рецензиям, педагоги, несмотря на осторожность Толстого, все- таки кое-что «раскусили». Особенно возмутило их его отношение к боевым тогда вопросам о методах обучения грамоте и арифметике. «Здесь автор является положительно реакционером всего того, что выработала в этом отношении современная педагогика, и обнаруживает некоторое к ней даже высокомерное отношение... Метода графа Толстого есть не что иное, как видоизменение буквенной системы, которая в настоящее время уже совершенно отвергнута как несостоятельная и наименее ведущая к цели... Автор "Азбуки" является совершенным реакционером в деле начального обучения, отвергающим все, что в этом отношении выработано современною педагогикою... Способ обучения гр. Толстого арифметике есть самый старый способ, допотопный, допесталоцциевский». Так, почти в один голос, заговорили педагоги о толстовской методике. Общий вывод по отношению к этим основным отделам «Азбуки» получился такой: «Шаг назад, а не вперед».
з
«Большая битва» с педагогами. Толстой в Комитете грамотности. Статья
Толстого «О народном образовании». Отзывы прессы. Затруднительное положение «Отечественных записок». Михайловский о Толстом.
Неудача с «Азбукой», отвергнутой передовыми педагогами и признанной ими за реакционное явление, приводит Толстого к решению выступить открыто и объявить своим врагам генеральное сражение. Об осторожности и скрытности нельзя было уже думать: неудачи в литературе, неудачи в хозяйстве, провал «Азбуки» — это уже похоже на катастрофу, на Ватерлоо.
Толстой советуется со Страховым, но Страхов отговаривает его от выступлений и высказывает попутно замечательно характерные соображения: «То, что Вы пишете о педагогах[599], глубоко верно, — пишет он Толстому летом 1874 г. — Вы попали в мир, с которым я знаком достаточно, хотя всегда от него устранялся, видя в нем одно пустомельство и не имея твердых точек опоры для суждения об этом деле... Вообще, кроме сильнейшего отвращения к немецкой искусственной педагогике, я ничего тут не знаю, и мне глубоко противны все эти люди, которые с непонятным жаром толкуют о том, чего не понимают. И вот Вы затеваете бороться с этою гадостью. Я прямо скажу, что мне за Вас неприятно. Сочувствую Вам вполне, буду следить с живейшим интересом и уверен, что Вы успеете высказать чудесные вещи. Но подумайте, Лев Николаевич, — ведь их несметное полчище; ведь они тупы и рьяны; ведь за них станет вся наша прогрессивная печать. Мне грустно будет, если Ваши силы и Ваше время будет тратиться на разбор и отражение всякой грязи, если какой-нибудь вздор будет Вас занимать и будет на Вас действовать сильнее, чем он того стоит... мне представляется дело большою битвою, на которую можно потратить сил столько, сколько угодно. Если Вы будете сражаться и до конца Вашей жизни, то все-таки очень мало уменьшите число и силу Ваших противников. Я согласен с Н. Я. Данилевским, что нас может отрезвить одно — война с Европою»[600].
«Большая битва» с педагогами, затеянная Толстым, кажется Страхову частным случаем общей борьбы с русским радикализмом, для действительного и окончательного поражения которого нужна война. Взятое в таком аспекте, выступление Толстого получает сугубо исторический и сложный смысл.
Толстой не послушался Страхова — и «большая битва» началась. Первые встречи с противником произошли еще до этого письма. В июне 1873 г. Толстой напечатал в «Московских ведомостях» (№ 140) «Письмо к издателям» о методах обучения грамоте, в котором заявил, что так называемый «звуковой метод» противен духу русского языка и привычкам народа, и предложил Московскому комитету грамотности сделать публичный опыт обучения нескольких учеников по тому и другому способу. 23 октября 1873 г. Комитет грамотности обсудил предложение Толстого. Возражая против этого предложения, Д. И. Тихомиров выразил пожелание, чтобы председатель Комитета обратился к Толстому с просьбой «выяснить пред Комитетом теоретические положения, на которых зиждется его способ, и внести в Комитет реферат, который и мог быть подвергнут разбору в одном из заседаний». Решено было предложение Толстого принять, но просить дать сначала объяснение его способа.
15 января 1874 г. Комитет грамотности собрался, чтобы выслушать и обсудить теоретический реферат Толстого. Собралось около ста человек — и среди них видные общественные деятели и педагоги, последователи Ушинского и Пирогова: «Места недоставало в просторном зале, — вплотную стояли в дверях, стояли и сидели на широких подоконниках. Одинаково интересовал и самый вопрос об обучении в народной школе и участие в заседании Jl. Н. Толстого»[601]. Но сражение, в сущности, не состоялось: Толстой отказался излагать теоретические основы своего метода («Я уже заявлял, что в преимуществе моего способа я убедился из практики, и предлагаю его с практической стороны») и предложил задавать ему вопросы. На главный вопрос, заданный Д. И. Тихомировым: «Как вы знакомите учеников с буквами?» — Толстой отвечал коротко и небрежно, явно высмеивая теоретические проблемы: «Я прежде всего чертил по стене углем или мелом на доске огромные буквы, хворостиной указывал на букву и называл ее, а дети повторяли. Таким образом я в один урок проходил всю азбуку, и уже на другой день все дети ее знали без ошибки» (77, 596). После этого педагогам стало ясно, что сражение не состоится, что спорить с Толстым о методах бесполезно и неинтересно. Корреспондент «Русских ведомостей», описывая общее разочарование, говорит, что Толстой отвечал «нескладно, апатично, с частыми остановками, путался и сбивался, противоречил себе на каждом шагу»[602]. Из дальнейшего выяснилось, что Толстой очень смутно представляет себе самые основы звукового метода, против которого он выступил. Тогда Д. И. Тихомиров прочитал ему лекцию об этом методе, и обсуждение кончилось.
Но перед самым концом заседания Толстой вышел из своей первоначальной роли и, раздраженный репликами педагогов, заговорил по существу — совсем не о методах обучения грамоте, а о том, что стояло за методом и что, конечно, составляло его настоящую принципиальную основу: «Я остаюсь при своем мнении, — упрямо заявил он, — потому что во всем том, что было высказано, я не нахожу доказательств, говорящих в пользу звукового метода. Замечу еще, что мой способ есть способ народа русского, я ему выучился у народа... Вопрос же о беседах и развитии — это вопрос, который не относится к делу. Я, как учитель, должен в этом случае только отвечать потребностям народа; родители требуют от учителя, чтобы он научил ребят читать и писать так, чтобы они могли прочитать указ, написали письмо; а о развитии родители не просят, за это жалования не платят; следовательно, учитель и не имеет никакого права развивать учеников» (курсив мой. — Б. Э.). Это решительное и парадоксальное заявление вызвало ряд новых выступлений, на которые Толстой отвечал еще более решительно и определенно: «Я не считаю себя вправе давать какое-либо развитие, потому что всякое развитие предполагает собою известное направление. В школу отдают детей не для того, чтобы развить в каком- нибудь направлении, а чтобы научить их чтению и письму. Мы можем смело учить тому, что не имеет вредного направления. Под развитием понятий я не разумею такого развития, которое, напр., дается при изучении арифметики, но известное направление ума, характера, которое не должно себе находить места в школе... Я допускаю в народной школе только математику и грамматику, так как, преподавая эти предметы, я могу избежать всякого направления. Арифметика не может иметь того вредного направления в смысле политическом, тогда как, обучая, например, истории и зоологии, вы можете оказать вредное нравственное влияние, смотря по тому, какой материал вам дан» (77, 598, 599).
Этими словами Толстой оправдывал не только свой метод обучения, но и самый состав и характер своей «Азбуки». От отступления он перешел в наступление и, конечно, заставил членов Комитета замолчать, потому что спор начал принимать неудобное для большинства политическое направление. Один из членов Комитета описывает финал этого заседания таким образом: «Партия графа Толстого пошла даже дальше, и некоторые высказывали, что они знают пример, как один мальчик, вследствие раннего развития, сделался поджигателем, другой — глухонемым, а третий написал фальшивый паспорт. Вот оно развитие-то!.. Прочь его — это язва!.. Зашла было в Комитете речь о направлении, но так как это вопрос щекотливый, то многие постарались отступить, и тогда великий тактик принял наступательный образ действия — объявил зловредность звуковой школы вообще и учение, способное развивать ученика, признал незаконным. Почему? — спросите вы. Потому что "развитие должно иметь известное направление, а это — и вредно и незаконно"»[603].
Заседание кончилось тем, что Комитет (по предложению председателя И. Н. Шатилова) просил Толстого дать два опытных урока в школе при фабрике Ганешина. Толстой согласился, но неохотно: «Пользы, боюсь, не будет, — писал он жене, — т. е. никого не убедишь, слишком глупы и упорны» (83, 214). На первый урок он не пришел по болезни; второй урок прошел бледно и остался неубедительным. Тогда решили поставить последний опыт — устроить две пробные школы и в течение шести недель вести занятия: в одной школе — по методу Толстого (учитель яснополянской школы П. В. Морозов), в другой — по звуковому методу (учитель — «звуковик» М. А. Протопопов). Через семь недель собралась экзаменационная комиссия. За несколько дней до экзамена Толстой писал брату Сергею: «Весь смысл в том, что будет на экзамене» (62, 78). 6 апреля состоялся экзамен, а 7-го были рассмотрены результаты. Экзаменационная комиссия пришла к выводу, что ученики Протопопова, учившиеся по звуковому методу, обнаружили и в чтении, и в письме, и в счете большую успешность, чем ученики Морозова.
Вот тут-то и разгорелись настоящие страсти. 13 апреля 1874 г. состоялось заключительное заседание Комитета — для подведения итогов. «Звуковики» торжествовали победу, но Толстой опять перешел в наступление и произнес большую речь (77, 602-605), нападая главным образом на известного педагога Н. Ф. Буна- кова. Он начал с указаний на ошибки, допущенные при сравнительном обучении, причем все эти ошибки были в пользу Протопопова и во вред Морозову. Среди этих ошибок оказались будто бы прямые и злонамеренные нарушения условий: Толстой заявил, что некоторые ученики Протопопова знали буквы и склады еще до начала занятий, и притом не по звуковому способу; что школы были слишком близко одна от другой, вследствие чего «ученики школы г. Протопопова учились невольно от учеников г. Морозова моему способу чтения»; что Протопопов отступил от основного правила звукового способа — начинать с бесед и «сколько возможно торопил обучением чтению и для этого давал своим ученикам книги на дом». Наконец, Толстой заявил, что ученики Морозова через две недели после поступления читали также, как теперь читают лучшие ученики Протопопова. Но это было только началом речи; далее Толстой заявил, что причина неудачи экзамена заключается в том, что «успехи измеряются сторонниками звукового метода не по знаниям, а по развитию».
Сказав это, Толстой повернул речь на свою любимую тему и стал высмеивать систему Бунакова, основанную на принципе развития. «Теоретических объяснений о том, что такое развитие и к чему оно нужно, я не нашел, а потому я сам попытался найти из наблюдений, что такое это развитие и откуда оно взялось. Из наблюдений я вижу, что под развитием подразумевается сообщение детям сведений о предметах, которые им известны. Напр., что деревья растут, а рыбы плавают, что вода мокрая и т. д. Все педагоги наши — Ушинский, Бунаков и др. единогласно настаивают на том, что главная часть времени должна быть занята беседами этого рода». Приведя разные смешные примеры из учебника Бунакова, Толстой стал доказывать, что все дело — в подражании Западной Европе и в незнании народа. Мало того, он заявил, что никакой принципиальной разницы между старой, церковной школой и новой нет: «Как в той, так и в другой школе особенное внимание обращается на чистоту в письме; как в новой школе, так точно и у церковников главная задача состоит не в чтении, а в чем-то другом; у одних — чтобы дети выучили Псалтырь и Часовник, у других — чтобы дети развились... Если нужно выбирать между двумя школами — церковной и новой, то я отдам предпочтение первой, так как церковная школа не так дурна, как новая, и даже не так притупляет учеников, как последняя».
Речь Толстого закончилась публицистической тирадой, направленной к дискредитации звукового метода: «Но мы здесь только говорим, спорим, а кто прав и виноват, судья в этом — народ, те самые крестьяне, которые платят нам и нанимают нас для того, чтобы мы им работали. Но что скажет народ, когда его детей не выучат читать и писать, но зато разовьют? Народ не знает, что такое развитие, и не требует его от школы; а все его желания состоят в том, чтобы школа сделала детей грамотными».
После этой речи у Толстого нашлось несколько единомышленников. Так, кн. Черкасский сказал, что сельская школа должна удовлетворять потребностям крестьянина, которые совершенно правильно охарактеризованы Толстым. Четырехмесячная война закончилась вничью, но это было своего рода победой «великого тактика», которому грозило совершенное поражение. Закрывая последнее собрание, председатель заявил: «Мы производили опыт, но он оказался недостаточным, чтобы высказать окончательное мнение относительно преимущества того или другого метода, а потому я предлагаю оставить этот вопрос открытым»[604].
На самом деле война вовсе не закончилась, а только началась, приняв совершенно определенный принципиальный характер и выйдя за пределы Московского комитета грамотности. Выяснилось, что дело идет, в сущности, вовсе не о методах обучения грамоте, а о понимании того, что такое «народ» и в чем состоят обязанности интеллигенции в отношении к этому «народу». Выступление Толстого в среде педагогов-народников (каким был, например, Н. Ф. Бунаков) носило особенно пикантный характер, потому что Толстой, исходя из своих воззрений, упрекал их в незнании парода и в непонимании его потребностей. Но вместе с тем он давал им повод и право квалифицировать его утверждения как резко реакционные: для этого достаточно было сослаться на его возражения против принципа «развития» и на его защиту старой, церковной школы. Выйти из этой борьбы с тем же титулом отсталого «ретрограда», с каким он вышел из обсуждения «Войны и мира» и «Азбуки», было ему совсем неинтересно. Он ведь предпринял эту борьбу, помимо всего другого, именно для того, чтобы преодолеть эту репутацию, чтобы заставить передовые круги интеллигенции прислушаться к его словам и убеждениям. Он вовсе не собирается идти в ногу с настоящими реакционерами-бюрократами, с чиновным дворянством, — он ищет совсем другой опоры и среды.
И вот, задетый за живое и огорченный неудачами в Комитете, он решает выступить публично и сказать все, что он думает. Прошло то время, когда он «старательно скрывал в сладеньких пилюлях пользительное, по его мнению, касторовое масло»: теперь надо преподнести это лекарство прямо, без всяких оболочек и пилюль. Сначала он решил прибегнуть к чужой помощи и написал письмо А. С. Суворину (издателю газеты «Новое время»), с которым у него были уже давнишние отношения, и именно в связи с яснополянской школой. «Дело в том, — пишет он Суворину, — что Моск. комит. грамотности втянул меня в разъяснение моего приема обучения грамоте, и, занявшись этим делом, я, к удивлению и ужасу своему, увидал, что то педантически тупоумное немецкое отношение к делу народного образования, с которым я боролся в "Ясной Поляне", за последние 15 лет пустило корни и спокойно процветает и что дело это не только не пошло вперед, но значительно стало хуже, чем было. В последнем заседании Комитета я, насколько умел, высказал, как я смотрю на это, и надеюсь, что расковырял немного этот муравейник тупоумия. Но я уверен, что слова мои неполные, спешные, переврут и почерком пера решат, что я ретроград, хочу воротиться к Псалтырю и т. д., и преспокойно опять наладят свою машину. Мне не нужно вам объяснять, как я смотрю надело. Мне кажется, вы сочувствовали направлению "Ясн. Пол.", и вам легко будет, пробежав протоколы заседаний, освежить в своей памяти мои выраженные в педагог, статьях 1860-х годов положения, от которых я ни на шаг не отступил. Просьба моя к вам состоит в том, чтобы в газете, в которой вы участвуете, противодействовать легкомысленному отношению к этому делу и, если есть человек, интересующийся и понимающий дело (я думаю, что вы такой человек), то отнестись к делу серьезно. Серьезный разбор дела не может не быть мне благоприятным» (62, 85—86).
Аналогичное письмо написал Толстой и Некрасову — в редакцию «Отечественных записок», прося обратить внимание на его пререкания с педагогами: «Граф выражал, — вспоминает П. К. Михайловский, — лестную для нашего журнала уверенность, что мы внесем надлежащий свет в эту педагогическую распрю. Письмо это, совершенно неожиданное, возбудило в редакции большой интерес. Собственно, Некрасов не особенно высоко ценил спор о приемах преподавания грамоте в народных школах, но гр. Толстой обещал отплатить за услугу услугой, разумея свое сотрудничество по беллетристическому отделу». Это был уже настоящий тактический шаг, особенно если учесть, что именно беллетристический отдел «Отечественных записок» в эти годы был очень скуден. «Плохая репутация фило- софско-исторической части "Войны и мира", — продолжает Михайловский, — заставляла опасаться, что в педагогической распре мы окажемся, пожалуй, не на стороне графа... В конце концов порешили на том, чтобы предложить самому гр. Толстому честь и место в "Отечественных записках": он, дескать, достаточно крупная и притом вне литературных партий стоящая фигура, чтоб отвечать самому за себя, а редакция оставляет за собой свободу действия. Но гр. Толстому этого было мало. В новом письме к Некрасову он повторял уверенность, что у него с "Отечественными записками" никакого разногласия быть не может, и, выражая готовность прислать статью по предмету спора, настаивал на том, чтобы наш журнал предварительно сам высказался»[605].
Действительно, 15 августа 1874 г. Толстой писал Некрасову: «Очень благодарен вам за вашу готовность помочь мне в моей борьбе с педагогами. Я получил письма от Михайловского с требованиями материалов для его статьи, но не мог ему послать то, что нужно. Педагоги борются за существование, и нет гадости, которой бы они побрезгали д ля достижения своей цели. Они лгали, выдумывали, и теперь тот протокол заседания Комитета грамотности, печатание которого было бы для них очень невыгодно, они умели так затянуть, что он до сих пор не вышел и едва ли выйдет. Мне очень жалко только то, что если теперь От. зап. возьмут мою сторону в этом споре, то это будет представляться поддержкою взглядов сотрудника, а не мнением, ничем не вызванным, редакции. Хотя я твердо уверен, что если бы редакция обратила серьезное внимание на этот вопрос, то она стала бы на совершенно сходную со мной точку зрения» (62,106). 30 августа Толстой послал Некрасову рукопись своей статьи, а в сопроводительном письме писал: «Я уверен, что редакция От. зап. не разойдется со мной во взгляде, который я излагаю в своей статье, и только желаю, чтобы публика хоть в самой малой доле признала ту важность, которую я приписываю этому делу... Несмотря на то, что я так давно разошелся с "Современником", мне очень приятно теперь посылать в него свою статью, потому что связано с ним и с вами очень много хороших молодых воспоминаний» (62, 110).
Любопытно, что в это же время (15 сентября 1874 г.) Толстой писал П. Д. Го- лохвастову: «Что делать, журнала негадкого нет, и "От. зап." гадки своей гадостью», и «Р. в» («Русский вестник». — Б. Э.) своей, противоположной той гадости, а середины нет» (62, 114). Итак, его обращение в «Отечественные записки» было действительно тактическим ходом, подготовлявшим новый натиск на врага. При создавшемся положении Толстой решил заключить временный союз с «гадкой своей гадостью» редакцией «Отечественных записок» — и именно с этим журналом, как наиболее влиятельным органом народнического направления. Побить Бунакова и его единомышленников при помощи такого журнала — этот план действий казался Толстому, очевидно, наиболее решительным и эффектным. 4 ноября 1874 г. Толстой опять писал Некрасову: «Очень рад, что статья моя понравилась вам и вообще редакции О. з. Соглашаясь с нею, я надеюсь, что редакция захочет и сумеет защитить этот взгляд на народное образование от тех нападений, которые будут на него направлены со стороны тупоумия и чиновничества. И радуюсь тому, что Н. К. Михайловский не оставил своего намерения высказаться по этому случаю. Если я могу быть ему полезен для справок и разъяснений, то я к его услугам» (62, 123).
Михайловский согласился высказаться по поводу спора «в качестве горячего почитателя гр. Толстого как художника, который вдобавок незадолго перед тем, в 1873 г., завоевал себе новое право на общую симпатию напечатанным в "Московских ведомостях" письмом о самарском голоде»[606]. Правда, Михайловский так и не написал обещанной им предварительной статьи (не хватило времени), но статья Толстого появилась под заглавием «О народном образовании»[607].
У редакции были, конечно, свои соображения: не говоря о том, что обещание Толстого сотрудничать в беллетристическом отделе было само по себе очень ценно, журналу было важно показать, что Толстой, недавний сотрудник «Русского вестника», ищет помощи и поддержки в «Отечественных записках» и выступает с проповедью «народолюбия», хотя и несколько своеобразного. Действительно, главным лозунгом статьи было уважение к народу и его потребностям: «Народ, в настоящую минуту жаждущий образования, как иссохшая трава жаждет воды, готовый принять его, просящий его, — вместо хлеба получает камень и находится в недоумении: он ли ошибался, ожидая образования как блага, или что-нибудь не так в том, что ему предлагают?» (17, 93). Такая постановка вопроса, конечно, подкупала редакцию «Отечественных записок». Вполне приемлема для журнала была и та часть статьи, где Толстой нападал на «земско-министерское ведомство» и на либерально-буржуазное дворянство. Выдвигая принцип «самородных» школ, возникающих по инициативе самого народа, на основе «свободного договора», Толстой громит новую бюрократическую систему: «С тех пор как в заведование школьного дела стали влипать более и более чиновники министерства и члены земств, в Крапивенском уезде закрыто 40 школ и запрещено открывать новые школы низшего разбора... многим покажется непонятным, что такое значит: воспрещено открывать школы. Это значит то, что на основании циркуляра Министерства просвещения о том, чтобы не допускать учителей ненадежных (что, вероятно, относилось к нигилистам), училищный совет наложил запрещение на мелкие школы у дьячков, солдат и т. п., которые крестьяне сами открывали и которые, вероятно, не подходят под мысль циркуляра» (17, 115).
Но рядом с этим в статье высказывались взгляды, совершенно противоречившие позиции журнала. О требованиях, предъявляемых народом к образованию, Толстой писал: «Требования эти следующие: знание русской и славянской грамоты и счет. Народ везде одинаково и несомненно и исключительно определяет для своего образования эту программу и всегда и везде ею удовлетворяется, — всякие же естественные истории, географии и истории (кроме священной), всякое наглядное обучение народ везде и всегда считает бесполезными пустяками. Программа замечательна не одним единомыслием и твердой определенностью, но, по моему мнению, широтою своих требований и верностью взгляда. Народ допускает две области знания, самые точные и не подверженные колебаниям от различных взглядов, — языки и математику, а все остальное считает пустяками. Я думаю, что народ совершенно прав» (77, 107). Здесь повторены те самые нападения на принцип «развития», которые смутили членов Комитета, и, конечно, эта точка зрения на образование не соответствовала взглядам журнала, проповедовавшего «хождение в народ» и пропаганду революционных идей.
Толстой стоит за «натуральную» народную школу — с учителем, который был бы человек, близкий к мужику: «дворянин, чиновник, мещанин, солдат, дьячок, священник —- все равно, только бы был человек простой и русский». Повторяя Риля, Толстой утверждает, что народ «всегда предпочтет сельского городскому учителю», и особенно защищает церковнослужителей: «Церковнослужители суть самые дешевые учителя, так как имеют оседлость и большею частию могут учить в своем доме с помощью жены, дочерей, — и они-то, как нарочно, все обойдены, как будто они самые вредные люди» (77, 118, 119). Идеал толстовской «народной школы» ведет свое начало от старых славянофильских учений. Маленькие домашние школы, без всяких научных «немецких» затей, без всяких взглядов, методов и теорий, без всяких естествознаний, историй и географий, — с грамотой, со счетом и со священной историей, с учителем-дьячком, попом или солдатом, которому не нужно ни книг Ушинского, ни 200 рублей жалованья, ни даже особого помещения («если хозяева-наниматели живут в курных избах, то и наемнику-учителю не пристало этим брезгать») (77, 116). Появление подобной «педагогической исповеди» (так первоначально называлась статья) в «Отечественных записках» должно было производить странное впечатление; зато совершенно понятно, что «Гражданин» кн. В. Мещерского, давно обращавшегося к Толстому с просьбой о сотрудничестве, целиком перепечатал эту статью, заранее оповестив об этом своих читателей: «Сообщаем читателям приятное известие. Мы получили от графа Льва Николаевича Толстого позволение перепечатать целиком его замечательную статью "О народном образовании", помещенную в прошлом году в "Отечественных записках" Печатание этой статьи отдельным приложением начнется с № 12».
Интересно, что в сентябрьской книге «Русского вестника» (т. е. одновременно со статьей Толстого) появилась статья К. Н. Цветкова «Новые идеи в нашей народной школе», направленная тоже против новой педагогики и как бы инспирированная выступлениями Толстого в Комитете. Местами автор говорит почти словами Толстого: «Развитие — это модное слово, без которого не обходятся никакие толки о школах. Сперва это понятие является в благоприличной форме: "народная школа должна не только научать грамоте, но и развивать умственные способности учащихся"; потом затаскивается, искажается и опошляется: нам нужны не школы грамотности, а школы развивающие, нам не нужно школ грамотности, нам нужны развивающие учителя и развивающиеся ученики, хотя бы и те и другие были "сносно безграмотны". Но что же такое это развитие?»[608] О Толстом в статье не упоминается, — вся она посвящена критике педагогических работ Н. А. Корфа («Наш друг» и «Русская начальная школа»); но надо полагать, что она появилась в «Русском вестнике» не без связи со статьей Толстого — как особый, очень хитрый ход со стороны редакции, считавшей Толстого своим сотрудником. Надо принять во внимание, что именно в это время велись переговоры между Толстым и редакцией «Русского вестника» о печатании «Анны Карениной». Толстой колебался и написал было письмо Некрасову с предложением печатать роман в «Отечественных записках», как бы чувствуя себя связанным данным прежде обещанием «отплатить за услугу услугой»; но письмо не было послано, — и роман стал печататься в «Русском вестнике».
Сентябрьская книга «Русского вестника» вышла позже «Отечественных записок», и можно уверенно сказать, что статья Цветкова (помещенная в самом конце номера) была напечатана специально для того, чтобы оттенить сходство точек зрения Толстого и «Русского вестника» на новую педагогику. Получился своего рода конфуз для «Отечественных записок» — тем более сильный, что имя Толстого в статье Цветкова не упоминалось. Выходило, что ничего особенно своеобразного, а тем более особенно передового в статье Толстого не было. Это положение было подчеркнуто еще тем, что газета «Биржевые ведомости» (1874. № 282), давшая восторженный отзыв о статье Толстого, ставила ее рядом со статьей Цветкова как явления одного порядка.
Сначала Михайловский подсмеивался над «Русским вестником» и над Катковым. В своем «Дневнике» («Отечественные записки». 1874. № 12) он, тоже нападая на педагогов (и на того же Корфа), описывает разговор с воображаемым «приятелем», который, между прочим, говорит: «За последнее время Толстой обидел меня, сильно обидел: ни романа своего, ни статьи о народном образовании в "Русский вестник" не отдал... Ну, бог ему простит, а я еще пока потерплю, посмотрю; не понравится, так уговорю М. Н. Каткова объяснить в передовой статье или в корреспонденции из Петербурга, что граф-де Лев, Толстой-де, смущает-де и проч.». Михайловский, очевидно, не знал, что в это время роман Толстого уже набирался в «Русском вестнике». 1 января 1875 г. Страхов писал Толстому (из Петербурга): «Приятно думать, что Вам хорошо заплатили; 20 тысяч еще небывалая цена за роман. Слухи о нем здесь ходят все сильнее и сильнее; одни говорят, что он явится в Отеч. записках, другие уверяют, что Стасюлевич (редактор-издатель «Вестника Европы». — Б. Э.) дал Вам 30 ООО. Я слышал, наконец, и суждения; Н. Н. Воскобойников, очень восторженный человек, который... нашел для своей преданности исход в ревностном служении Каткову, читал начало Вашего романа в гранках и говорил мне, что он выше Войны и мира»[609].
В первой книжке «Русского вестника» 1875 г. появилось начало «Анны Карениной», и положение редакции «Отечественных записок» стало затруднительным не только в практическом отношении (не удалось получить роман, который, конечно, сильно поднял бы подписку), но и в принципиальном. Педагогические журналы, почти единодушно восставшие против Толстого, недоумевали, каким образом его статья могла появиться в таком журнале, как «Отечественные записки». Журнал «Семья и школа» (1874. № 10. Кн. 2), напечатавший ответное «письмо» Н. Ф. Бунакова, писал в редакционном примечании: «Статья эта, по парадоксальности ее изложения, по громкой литературной известности и талантливости ее автора-романиста, по своеобразности взгляда его на русскую школу, привлекла общественное внимание к школе, пробудила и спавших членов русского общества вообще и дремлющих педагогов в особенности. Мы, безусловно, радовались бы появлению этой статьи или этой речи многоуважаемого автора, если бы его взгляд, хотя и проникнутый любовью к народу, но отчасти вредный для развития школы и дела народного национального образования, явился в другое время, при других обстоятельствах, а не теперь, когда он может лишь сделаться знаменем многих, считающих поворот назад единственным спасением. Своим заветным, но скрытым желаниям эти многие находят опору и отголосок во взглядах гр. J1. Толстого; опираясь на его авторитет (впрочем, более беллетристический),они начинают проповедь, что, кроме буки аз — ба и цифирного счета, ни школе, ни народу ничего не нужно. Будь эта статья помещена на страницах другого журнала, не будь она подписана именем гр. J1. Толстого, она прошла бы незаметною, на автора ее указывали бы пальцем, как на лицо, рассуждающее о предмете, совершенно ему чуждом, как на писание сотрудника какой-либо покойной "Вести"; но имя автора, репутация журнала подкупают читателя, усыпляют в нем критическое отношение к статье, позволяют положиться на слово автора». Редактор журнала «Народная школа» Медников заявил еще определеннее: «Появись статья не за подписью графа Толстого как всем известного писателя, и притом не в "Отечественных записках", журнале весьма известном и распространенном, а в каком-нибудь более скромном органе печати, — она не только не обратила бы ничьего внимания, а была бы еще отнесена к числу непоследовательных, лишенных логических оснований, странных, эксцентричных, бьющих на искусственную оригинальность; скажем более, таких, под которыми не подписался бы ни один из постоянных сотрудников "Отечественных записок"». В 1874 г. в реакционной газете «Русский мир» появилась статья В. Авсеенко, который, называя статью Толстого «замечательной» и всячески поддерживая его основные воззрения, указывает, что статья эта «попала в журнал, с направлением и духом которого не имеет ничего общего».
Против статьи Толстого выступили, с большей или меньшей резкостью, и «Неделя», и «Дело», и «Вестник Европы», и «Русские ведомости», и «Новое время», и многие провинциальные газеты. «Неделя» писала (1874. № 42): «Думая спасти нас от тупых формалистов и буквоедов, гр. Толстой впадает в противоположную крайность и рекомендует, вместо дорогих ученых-педагогов, пономарей, дьячков, отставных солдат и грамотных баб... Народ нельзя оставить на одной грамоте, цифири и на тех крепостных понятиях, на которых он стоит до сих пор». В другом номере та же «Неделя» писала (1875. № 36): «Если народ должен быть предоставлен сам себе, то, конечно, прежде всего его нужно спасти от бесед педагогов; но в таком случае, к чему и азбука гр. Толстого? Уж оставлять народ, так оставлять совсем. Выделите его, изолируйте, пусть он сам себе устраивает школы, пусть он сам себе пишет азбуки, сочиняет сказки, создает науку. Но гр. Толстой хочет не этого, а чего он хочет — понять вовсе не так трудно, хотя самому гр. Толстому это и не ясно. Он с таким же наивным добродушием, но с примесью мистического патриотизма, закидав своей шапкой не Европу, как ему кажется, а только Бунакова, Евтушев- ского и их школьный педантизм, взамен их ставит учителем Каратаева и ведет в Азию... Когда гр. Толстой пытается выступить педагогом-мыслителем, педагогом- руководителем и просветителем, — от него нужно бежать еще дальше, чем от педагогов-педантов».
Давнишний оппонент Толстого Е. Марков, вспоминая яснополянский журнал 1862 г., делает теперь очень мрачный вывод («Вестник Европы». 1875. № 5): «Тогда мы видели в нем человека, стоящего на одной с нами почве, добивающегося, с горячим увлечением художника и друга народа, более свежих путей. Мы боролись с ним, но мы сочувствовали ему. Теперь же гр. Толстой — не знаем, волею или неволею, — скорее, думаем из уважения к нему, неволею, т. е. без ясного сознания результатов своей попытки, — является в числе передовых бойцов той темной рати, которая была придавлена погромом великих реформ настоящего царствования, но которая в последние годы, пользуясь неблагоприятными условиями общей атмосферы, все с большею дерзостью поднимает свою голову. Теперь мы находим графа JI. Толстого в сообществе Цветковых и Юркевичей, журнала "Странник", "Епархиальных ведомостей", "Справочных листков" и "Гражданина" Новыми признаниями своими в "Отечественных записках" гр. Толстой, несомненно, хоронит своими собственными руками увлечения своей горячей юности, т. е. всю свою настоящую яснополянскую педагогию. От этого свежего юношеского порыва его неопытных тогда сил не остается ничего более... Яснополянская педагогия оказалась пустою шумихою слов, отрицающих, противоречащих, ничего не дающих; когда пена ее фраз осела, на ее месте явилась чуть мокренькая пустота, поневоле надобно было выбирать из двух. Для нас несомненно, что гр. Толстой не только выбрал бы, но на самом деле и очень сознательно выбрал дьячковщину... О, Цыфир- кин и Кутейкин, как мы были несправедливы к вам! Вы были своего рода Кирилл и Мефодий нашей российской педагогии, а мы легкомысленно осмеяли прах ваш».
«Отечественным запискам» надо было как-то ответить на все это. Признать свою редакционную ошибку и отречься от Толстого было невозможно, — оставалось защищаться и, следовательно, защищать или оправдывать Толстого. Пришлось Михайловскому взяться за это не очень легкое и не очень благодарное дело. Он придумал некоторую невинную хитрость: выступил с оценкой педагогических взглядов Толстого и откликов на нее от лица некоего «профана», плохо разбирающегося в педагогических вопросах, но очень заинтересованного творчеством и мыслями Толстого. Так начался «роман» между Михайловским и Толстым.
В январской книге «Отечественных записок» 1875 г. появилась статья под заглавием «Буря в стакане педагогической воды» («Записки профана»). Здесь Михайловский говорит: «Конечно, я не решусь толковать, например, о технических подробностях обучения грамоте: я в жизнь свою никого не учил ни по буквослага- тельному, ни по звуковому методу. Но не на подобного рода вещах сосредоточивается интерес затеянной гр. Толстым распри. Вопрос поставлен им так широко, что и профану найдется что сказать». Далее говорится о самой статье Толстого: «В этой статье, как говорит сам автор, как говорят все его противники (его сторонники этого не говорят), как оно в действительности и есть, выражаются, в сущности, те же мысли, что выражались пятнадцать лет тому назад вжурнале "Ясная Поляна" Но "Ясная Поляна", выражаясь языком школьников, "провалилась", а на долю статьи "Отечественных записок" выпал такой громадный успех, каким едва ли может похвалиться какое бы то ни было литературное явление прошлого года». Михайловский приводит цитату из статьи Медникова, объясняющего этот успех известностью Толстого и популярностью журнала. «Мысль г. Медникова, по-видимому столь лестная, а в сущности очень нелестная для постоянных сотрудников "Отечественных записок", есть мысль совершенно вздорная... Что же касается до утверждения его, что ни один из постоянных сотрудников "Отечественных записок" не подписался бы под статьей гр. Толстого, то оно решительно неосновательно. И с чего г. Медников вздумал, что редакция "Отечественных записок" напечатала бы статью гр. Толстого, если бы она в общем не была согласна с ее собственными взглядами? Об этом стоит сказать два-три слова. "Отечественные записки", как и всякий другой журнал, не могут, разумеется, брать на себя полную ответственность за все в них печатаемое. Условия нашей печати для этого слишком неблагоприятны. Я разумею не одни цензурные условия, а и количество и качество наличных литературных сил. Достойный внимания фактический материал, талантливость его обработки и известная точка зрения на вещи — вот три фактора всякой журнальной статьи. К сожалению, гармоническое сочетание этих трех факторов не составляет заурядного явления. Всякому журналу приходится печатать вещи или только ради их богатого фактического содержания, или только ради таланта автора». Далее идет рассуждение по поводу печатающегося в «Отечественных записках» романа Достоевского «Подросток» и сопоставление имен Толстого и Достоевского. В заключение Михайловский заявляет: «Статья эта отнюдь не может быть причислена к журнальному материалу, за который редакция не ответственна. Для этого она слишком резка, слишком определенна и затрогивает слишком общие и вместе с тем живые, насущные вопросы».
После предшествующих рассуждений о положении журнала и ссылок на роман Достоевского (а Достоевский и Толстой, по мысли Михайловского, явления близкие) заявление это звучит неуверенно и неубедительно. Остается подозрение: а может быть, «Отечественные записки» напечатали статью Толстого все-таки только «ради таланта автора»? Чувствуя возможность такого подозрения, Михайловский кончает свою статью прямой, но пока еще немногословной и осторожной защитой воззрений Толстого: «Как бы то ни было, но насколько я могу судить по разным разговорам, изо всех нападений на гр. Толстого наибольшее впечатление произведено упреками в фальшивой идеализации русского народа, в ложном патриотизме. На это есть особенные резоны. Для подобных упреков была уже подготовлена почва прежними суждениями критики о гр. Толстом. Недаром г. Медников ссылается на статьи журналов шестидесятых годов. Несмотря на довольно единодушное мнение, существующее в нашем обществе о гр. Толстом, мнение как о блестящем беллетристе и плохом мыслителе, он у нас совершенно не оценен, мало того — просто неизвестен. По странному смешению понятий этот глубоко оригинальный и яркий писатель причисляется у нас обыкновенно или по крайней мере считается очень близким к бесцветнейшему отрогу славянофильства, к так называемым "почвенникам" ("Время", "Эпоха", отчасти "Заря", предания которых, замаранные разными посторонними примесями, кое-как хранятся ныне в "Гражданине"). Посильную оценку воззрений гр. Толстого я постараюсь представить в следующий раз. Эта общая оценка даст нам возможность вполне оценить в частности и его педагогические воззрения. Может быть, тогда нам уяснятся и причины неожиданного успеха статьи "Отечественных записок" Успех этот для меня пока все-таки неожидан и необъясним».
Последней фразой Михайловскпй хотел, по-видимому, сказать, что редакция вовсе не придавала этой статье такого серьезного значения, какое ей придали критики, а потому и не посчиталась с некоторыми своеобразными оттенками суждений Толстого о народе и школе.
Прошло три месяца, — Михайловский молчал и не возвращался к вопросу о Толстом. За это время появились в печати статьи П. Ткачева «Народ учить или у народа учиться?» («Дело». 1875. № 4) и Е. Маркова («Вестник Европы», см. выше). Статья Ткачева была направлена не только против Толстого, но и против Михайловского; под ее заглавием стояли следующие слова: «Посвящается нашим профанам вообще и "Профану" "Отечественных записок" в частности». В самой статье Ткачев (под псевдонимом «Все тот же») пишет: «Да простят меня "профаны" "Отечественных записок" и всяких иных литературных и нелитературных органов! Мне кажется, что во всем этом педагогическом переполохе роль графа ограничивалась лишь тем, что он, воспользовавшись благоприятным моментом, первый крикнул: "Ату их, немецких педагогов! гони! поджаривай!" — и затем тотчас же скрылся. Разумеется, крик его остался бы гласом вопиющего в пустыне, если бы он не соответствовал "духу времени", если бы он не попал в тон господствующего настроения. Вот этому-то "духу времени", этому господствующему настроению и следует приписать всю ту честь и славу, которую профаны смиренно складывают к ногам яснополянского просветителя». Ткачев вспоминает, что Толстой уже во второй раз выступает в роли «гонителя и ненавистника всякой научной педагогики вообще и немецкой в частности». В первый раз он ни в ком, кроме «почвенников», не встретил сочувствия; теперь его проповедь попала в тон либералам, которые перехватили идею прежних «почвенников». Тогда с Толстым носились («как цыгане с писаной торбой») публицисты «Времени»: «Но, увы, они при всем своем рвении, или, лучше сказать, благодаря своему рвению оказали редактору "Ясной Поляны" медвежью услугу. Их защита всего более его скомпрометировала. "Профаны", которые теперь преломляют за него свои копья, отвернулись от него тогда с негодованием. Он стоял обеими ногами на той самой "почве", на которой произрастают теперь "Русский мир" и "Гражданин", он пел в унисон тогдашним гг. Мещерским и Саль- ясам, а так как симпатии общества были не на их стороне, так как все молодое и живое симпатизировало не им, а "теоретикам", то само собою понятно, что граф Толстой должен был потерпеть решительное фиаско, и глас его должен был остаться гласом вопиющего в пустыне». Теперь, как утверждает Ткачев, «взаимное положение и отношения наших литературно-общественных партий несколько изменились... Прежние "почвенники" обратились теперь сами в отчаянных теоретиков, даже в мечтательных утопистов. Они окончательно и, быть может, безвозвратно сошли со своего старого, излюбленного конька. Но конек остался, только теперь его оседлали и на нем поехали совсем другие люди... Эти другие принадлежат к тем именно слоям "культурного меньшинства", которые во время борьбы "теоретиков" с "почвенниками" стояли на стороне первых, которые являются обыкновенно носителями и хранителями "передовых" идей, господствующих в каждый данный момент исторической жизни общества... Двенадцать лет тому назад он (Толстой) потерпел фиаско, потому что тогда его проповедь попала в тон реакционерному меньшинству; теперь она попала в тон меньшинству либеральному... Тогда его осмеяли — теперь превознесли!»
Ткачев предвидит возражение, что статья Толстого понравилась нашему либеральному «профанству» исключительно благодаря ее смелым нападкам на педантизм петербургских педагогов; что же касается общих его воззрений на народное образование, то едва ли эти «профаны» могут им сочувствовать. «Я слышал, что и не один г. Медников так думает и что очень многие из заурядных читателей, не следящих за перипетиями нашей общественной мысли, были крайне удивлены, встретив в органе, издающемся под редакцией гг. Некрасова — Краевского, развитие той же самой педагогической философии, которая осмеивалась и побивалась в органе, издававшемся под редакцией только одного г. Некрасова. Наивные люди готовы были объяснить это загадочное самооплевание одним из тех недоразумений, в которые так часто и прежде впадал поэт и в которых он так красиво и трогательно умел каяться. Надеялись, что и теперь редакция журнала не замедлит смыть слезою покаяния грешную вылазку г. Толстого. Ждали октябрь, ждали ноябрь, ждали декабрь — и вдруг в январской книжке редакция, устами какого-то "профана", делает категорическое заявление, что она, редакция, вполне согласна с общими воззрениями яснополянского педагога и что каждый из ее постоянных сотрудников с величайшим удовольствием готов под ними расписаться. Вот-те и покаяние!.. "Профан" "Отечественных записок" не только заявляет полнейшую солидарность, от своего имени и от имени своих сотоварищей по журналу, с педагогическою теориею яснополянского просветителя, но и представляет даже некоторые, собственным умом измышленные соображения для его оправдания и вящего утверждения». Педагогическую теорию Толстого Ткачев называет «мистико-оптимистиче- ской», решающей все вопросы в пользу «народной души». Последовав философии Толстого, мы рискуем попасть из огня да в полымя: «Оставляя учителей в полнейшей неизвестности, как и чему следует учить народ, эта философия унижает и искажает цель и назначение народного воспитания. Из орудия цивилизации, из средства постоянно двигать народ вперед она превращает его в какой-то вечный тормоз, в орудие застоя и рутины. Школа только тогда и может оказать благотворное влияние на народное развитие, когда она стоит выше его насущных, исторически сложившихся потребностей, когда она преследует идеалы более разумные и более широкие, чем те, которые оно преследует; когда, одним словом, не она нисходит до уровня его требований, а его поднимает до своих требований. Напротив, если школа станет хлопотать лишь о том только, чтобы никогда не становиться вразрез с желаниями и стремлениями неразвитой массы, если она откажется от всякого принудительного влияния... на подрастающее поколение, в таком случае она волею-неволею должна будет противодействовать всякому прогрессивному движению и формировать детей по образцу отцов, т. е. увековечивать в первых ограниченность и невежество последних... Неужели наши либеральные профаны не понимают, что голос народа, что их собственный голос может иметь решающее значение лишь в сфере тех отношений, тех вопросов, которые непосредственно касаются их личного благополучия?.. Мудрость западноевропейской педагогики может проявляться в настоящее время в крайне нелепых и шатких формах, но ее основной принцип все-таки верен, разумен и непреложен. Между тем мудрость графа Толстого, независимо даже от ее практического приложения, в основе своей ложна и нелепа. Первая проникнута научным духом, вторая — мистицизмом».
От «Отечественных записок» (и, конечно, от Михайловского прежде всего) требовался новый ответ, в котором было бы дано развернутое объяснение и оправдание. В очередных «Записках профана» (№ 5-7) Михайловскому пришлось исполнить свое обещание: появилась статья «Десница и шуйца Льва Толстого», распространившаяся на следующие два номера и положившая начало популярной теории о «двойственности» Толстого. Михайловский погрузился в изучение старых педагогических статей Толстого и стал выискивать в них совпадения со взглядами «Отечественных записок». Найдя несколько такого рода «совпадений» (особенно в статье «Прогресс и определение образования») и посмеявшись над статьей Ткачева, Михайловский заявляет: «Итак, "либеральные" (если бы вы знали, читатель, как мне противно писать это истасканное слово) "Отечественные записки" напечатали, к удивлению многих, статью гр. Толстого. Этого мало. Они, устами Профана, заявили свою солидарность с этой статьей. Мало и этого. Они решаются заявить, что, и помимо этой педагогической статьи, они признают многие воззрения гр. Толстого своими собственными». Процитировав эти «многие воззрения» из той же старой статьи Толстого, Михайловский спрашивает: «Теперь я прошу объяснить мне: что общего между приведенными воззрениями и мистицизмом, фатализмом, оптимизмом, квасным патриотизмом, славянофильством и проч., в которых только ленивый не упрекает гр. Толстого... Я обращаю только внимание читателя на точку зрения гр. Толстого. Она, прежде всего, не нова. Она установлена лет приблизительно за тридцать до занимающей нас статьи, но отнюдь не славянофилами, а европейскими социалистами... Случайные совпадения мнений гр. Толстого с славянофильскими воззрениями разных оттенков возможны и существуют, но общий тон его убеждений, по моему мнению, самым резким образом противоречит как славянофильским и почвенным принципам, так и принципам "официальной народности". В этом меня нисколько не разубеждают и слухи об отрицательном отношении гр. Толстого к Петровской реформе. Надо, впрочем, заметить, что только первые, старые славянофилы ненавидели и презирали Петра. Теперешние же эпигоны славянофильства относятся к нему совсем иначе. Года два тому назад я был приглашен на вечер, на котором должен был присутствовать один довольно известный петербургский славянофил. "Живого славянофила увидите", заманивали меня. Я пошел смотреть на живого славянофила. Он оказался человеком очень говорливым, красноречивым и, между прочим, с большим пафосом доказывал, что Петр был "святорусский богатырь", "чисто русская широкая натура", что в нем целиком отразились начала русского народного духа. Это напомнило мне, что тоже прикосновенный к славянофильству г. Страхов одно время очень старался доказать, что нигилизм есть одно из самых ярких выражений начал русского народного духа... Я думаю, что если гр. Толстой исполнит приписываемое ему намерение написать роман из времен Петра Великого, то оставит эти несчастные начала народного духа, которые каждый притягивает за волосы к чему хочет, совсем в стороне. Быть может, он потщится свалить Петра с пьедестала, как личность; быть может, он казнит в нем человека, толкнувшего Россию на путь европейских форм раздвоенности народа и "общества"... Славянофильства тут все-таки не будет». Как бы назло Ткачеву, Михайловский все время оперирует старыми статьями Толстого — теми самыми, которые, по словам Ткачева, «попали в тон реакционному меньшинству». Михайловский видит в этих статьях совсем другое: «Почему читающей публике решительно неизвестны истинные воззрения гр. Толстого? Отчего они не коснулись общественного сознания? Много есть тому причин, но одна из них, несомненно, есть нравственное соседство пещерных людей, холопски, т. е. с разными привираниями и умолчаниями, лобызающих шуйцу гр. Толстого. Я на себе испытал это. Я поздно познакомился с идеями гр. Толстого, потому что меня отгоняли пещерные люди, и был поражен, увидав, что у него нет с ними ничего общего». Об этих «пещерных людях» (критиках «Русского вестника», «Русского мира», «Гражданина» и пр.) Михайловский говорит: «Эти несчастные не понимают, что то, что им нравится в гр. Толстом, есть только его шуйца, печальное уклонение, невольная дань "культурному обществу", к которому он принадлежит. Они бы рады были из него левшу сделать, тогда как он, я думаю, был бы счастлив, если бы родился без шуйцы». Вся остальная часть статьи посвящена развитию теории о деснице и шуйце Толстого, которую Михайловский называет гипотезой, но считает ее законной, «потому что без нее нет никакой возможности свести концы его литературной деятельности с концами. Гипотеза же эта объясняет мне все».
Рабочая гипотеза о шуйце и деснице и о переживаемой Толстым драме понадобилась Михайловскому, конечно, не столько для того, чтобы свести концы с концами в деятельности Толстого, сколько чтобы свести их в позиции и поведении «Отечественных записок». Очень трудно было доказать «сходство воззрений Толстого с воззрениями редакции «Отечественных записок» в тот момент, когда роман того же Толстого печатался в «Русском вестнике» — в органе «пещерных людей». Оставалось одно: предложить гипотезу, по которой все, что у Толстого было похоже (или могло казаться похожим) на взгляды «Отечественных записок», надо считать его «настоящим воззрением» — десницей, а все, что никак не годилось для такой операции, надо считать «печальным уклонением» — шуйцей. «Анна Каренина», например, целиком отнесена к шуйце: Михайловский заявляет, что ее появление в «Русском вестнике» много помогло педагогам, потому что окрылило врагов Толстого, в том числе и Е. Маркова. Так редакция «Отечественных записок» отомстила Толстому за его коварство: Михайловский довольно прозрачно намекает Толстому на то, что печатайся его роман у них — критики вели бы себя иначе.
Ответ Михайловского Ткачеву и Маркову принял очень обширные размеры; но характерно, что собственно о главном предмете полемики — о конкретных взглядах Толстого на организацию народной школы, высказанных в статье «О народном образовании», — Михайловский не сказал ни слова. В самом конце его статьи есть беглая и поражающая своей неожиданностью фраза: «Проект организации школьного дела, предложенный гр. Толстым, я защищать не буду» (курсив мой. — Б. Э.). Этой фразой, в сущности, вся многословная защита, вплоть до гипотезы о деснице и шуйце, сводилась к нулю. Михайловский негодовал, что «пещерные люди» хотят сделать Толстого левшой, лишая его десницы; но ведь по Михайловскому выходило, что Толстой тоже должен обязательно лишиться руки — только не десницы, а шуйцы: «Ах, если бы у него не было шуйцы!.. Какой бы вес имело тогда каждое его слово и какое благотворное влияние имела бы эта вескость!» Оказывается, гипотеза плохо помогала сводить концы с концами не только в отношении к журналу (о взглядах Толстого на организацию школы пришлось промолчать), но и в отношении к самому Толстому: какой же это вывод — сохранить десницу за счет шуйцы? Ведь вопрос все-таки ставился о целом и живом Толстом, а не о том, какого рода операции следует его подвергнуть: отнять шуйцу или десницу.
Михайловский несколько раз повторяет, что успех педагогической статьи Толстого неожидан для него и непонятен. Между тем успех этот совершенно понятен. Не говоря уже об остроте вопроса о народном образовании, статья Толстого по своему основному смыслу соотносилась с общей публицистикой, посвященной злободневному вопросу о судьбах дворянства и крестьянства. Книжка Ф. Фадеева, разобранная в «Гражданине» («Чем нам быть?», 1875), отвечала на этот вопрос характерным советом: нужно создать особый культурный слой — из крупного земельного дворянства и крупного купечества. Другого рода совет дает А. Коше- лев — «мыслитель, всегда вращающийся в кругу московских славянофилов» (по определению «Гражданина»), в брошюре «Наше положение» (Берлин, 1875): главное зло он видит в чиновниках и потому настаивает на предоставлении самых широких прав и возможностей земству. В. П. Мещерский печатает в «Гражданине» серию «Политических писем», в которых скорбит о падении старого «дворянского духа», о торжестве над ним «духа чиновника» и мечтает о создании «чего-то вроде дворянского помещичьего сословия как результата мирного и на взаимном доверии основанного сожития крестьян с помещиками». Земские либеральные учреждения он подвергает злобной и насмешливой критике и возмущается, что «нигилист нового завета» стал сочувственнее этому чиновническому духу, чем «дворянин с преданиями старого завета».
В «Гражданине» статья Толстого звучала совсем иначе, чем в «Отечественных записках», — именно как выступление «дворянина с преданиями старого завета», который сжился с «народом», знает его нужды и интересы и потому поражает врага, «нигилиста нового завета», его собственным орудием — заботой о «народе» и уважением к нему. Земельная аристократия и кондовое крестьянство, которому не нужно никакое так называемое «развитие», — вот настоящая основа русской жизни. В «Анне Карениной» Левин со своими мужиками, знающими лучше и тверже любого философа, как и для чего надо жить, последовательно противопоставлен представителям всех других классов и слоев: Каренину, Облонскому, Кознышеву, Вронскому, брату Николаю с «нигилистом» Крицким, прогрессивному помещику Свияжскому и купцу Рябинину.
«Большая битва», которую Толстой затеял с педагогами, кончилась чем-то похожим на победу: «Отечественные записки» оказались на его стороне и очень деятельно расправлялись с его противниками. Правда, редакция усиленно рекомендовала ему отказаться от шуйцы и остаться при одной деснице, т. е. превратиться, в сущности, в инвалида и потерять свою самостоятельность, свое особое положение «вне литературных партий». Но ведь отнять эту «шуйцу» насильно они не могли, а пока что достаточно было и такого условного признания.
Как бы то ни было, Толстой оказался в центре внимания не только как писатель, но и как мыслитель, к голосу которого надо прислушаться. Статья Михайловского кончалась знаменательными словами: «Ну что, читатель?.. Не прав ли я был, говоря, что, несмотря на всю свою известность, он совершенно неизвестен? Будущий историк русской литературы разберет, в чем тут дело, а дело-то любопытное, будет над чем поработать».
4
«Азбука» как демонстрация против современной литературы. Письма к Страхову о «возрождении в народностиОбращение к мировому народному эпосу.
Рассказ «Кавказский пленник
Исторический смысл толстовской «Азбуки» не исчерпывается тем, что было сказано о ней в предыдущих главах. Книга эта не только педагогическая: она представляет собой в то же время собрание литературных заготовок и этюдов. Педагогические занятия были для Толстого, помимо всего, особым методом решения очередных литературных проблем; так было в 60-х годах («Кому у кого учиться писать»), так получилось и теперь. Толстой работает над «Азбукой» не только как педагог, но и как писатель, ищущий новых путей. Отчасти именно поэтому «Азбука» не имела успеха у педагогов.
Педагоги похваливали «азбучные» рассказы Толстого, но задавали при этом очень характерный вопрос: «для кого же все это писано?» Одних удивляло, почему Толстой налег особенно на Эзопа, а Кольцова, Крылова, Пушкина и других пропустил; другие недоумевали, почему он «усиливается все излагать каким-то странным орловско-калужским наречием, полным провинциализмов и особенностей, которые ни с какой стороны не могут принести пользы». Некоторые отметили, что в книге слишком много басен, и объясняли это «ненавистью к дурно понятому реализму» и стремлением «развить нравственный элемент перед умственным». Некоторые, наконец, отметили и то, что почти все рассказы проникнуты покорностью судьбе, верой в слепой случай, фатализмом: «Тенденциозность содержания большинства рассказов парализует совершенно даже мастерское изложение автора». Особенно удивляло всех критиков то, что Толстой не дал в «Азбуке» места нашим «образцовым писателям»: Гоголю, Тургеневу, Решетникову, Успенскому, Марко Вовчку и другим, «более или менее удачно схватывавшим заветную жизнь народа и всего общества». Вопрос с педагогической точки зрения очень естественный; но именно на фоне этого вопроса и видно, до какой степени «Азбука» Толстого выходила за пределы собственно педагогических задач и часто не считалась с ними. Критики и педагоги не догадывались, что «Азбука» Толстого представляла собой демонстрацию не только против «звуковиков» и их системы преподавания, но и против «образцовых писателей», против литературных традиций.
Басни Эзопа, сказки и маленькие рассказы на примитивные темы — это опыты в области новых жанров и нового стиля. Толстой обращается к «азбуке» словесности: к древнему эпосу, к греческим классикам, к древнерусской письменности, к русскому фольклору. Ясная Поляна превращается в школу не столько для детей, сколько для самого Толстого. С. А. записывает в дневнике 1871 г.: «С декабря упорно занимается греческим языком. Просиживает дни и ночи. Видно, что ничто его в мире больше не интересует и не радует, как всякое вновь выученное греческое слово и вновь понятый оборот. Читал прежде Ксенофонта, теперь то Платона, то Одиссею и Илиаду, которыми восхищается ужасно. Очень любит, когда слушаешь его изустный перевод и поправляешь его, сличая с Гнедичем... Успехи его по греческому языку, как кажется по всем расспросам о знании других и даже кончивших курс в университете, оказываются почти невероятно большими»[610]. Сам Толстой пишет Фету: «С утра до ночи учусь по-гречески... Я ничего не пишу, а только учусь... Но как я счастлив, что на меня бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь; во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все (исключая профессоров, которые, хоть и знают, не понимают); в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной вроде Войны я больше никогда не стану» (61,247). Весной 1872 г. он пишет А. А. Толстой: «Эта азбука одна может дать работы на 100 лет. Для нее нужно знание греческой, индийской, арабской литератур, нужны все естественные науки, астрономия, физика, и работа над языком ужасная — надо, чтоб все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно» (61,283). Последнее требование относится вовсе не только к «Азбуке»: «Писать ему хочется, — записывает С. А. вслед за рассказом о занятиях Толстого греческим языком, — и часто говорит об этом. Мечтает, главное, о произведении столь же чистом, изящном, где не было бы ничего лишнего, как вся древняя греческая литература, как греческое искусство... Он говорит, что "нетрудно написать что-нибудь, а трудно не написать. Т. е. удержаться от лишнего пустословия, от которого почти никто никогда не удерживается"». Дальше С. А. прибавляет: «Мечтает написать из древней русской жизни. Читает Четьи-Минеи, житье святых и говорит, что это наша русская настоящая поэзия»[611].
Совершенно ясно, что работа над «Азбукой» вышла в конце концов далеко за пределы педагогики. «Азбучные» рассказы оказываются литературными этюдами и упражнениями: Толстой пробует освободиться от психологического анализа, и от «генерализации», и от «подробностей», и от длинных фраз. «Был один мальчик.
И он очень любил есть цыплят и очень боялся волков», — вот новый стиль Льва Толстого, автора «Войны и мира», которую он называет теперь «дребеденью многословной». Эта оценка относится и ко всей современной литературе, или «лит-т- тературе» (как Толстой презрительно выражается в письме к Фету), ко всем «образцовым писателям». Это видно из его писем к Страхову, написанных после окончания всей предварительной работы над «Азбукой», весной 1872 г., и содержащих итоги его новых опытов и размышлений.
В первом письме (от 3 марта) Толстой делится своими историко-литературными соображениями и намечает дальнейший ход русской литературы: «Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: — упадок поэтического творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии, и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода — музыки, живописи (и украшения) и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности. Последняя волна поэтическая — парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывет, бог даст, а Пушкинский период умер совсем, сошел на нет». Тут же нарисована парабола, сначала поднимающаяся над горизонтальной линией (Карамзин, Пушкин), потом спускающаяся (Лермонтов, Гоголь), уходящая под горизонт («мы грешные»), приближающаяся к горизонту («изучение народа») и вновь поднимающаяся над ним («будущие»). «Вы поймете, вероятно, что я хочу сказать, — продолжает после рисунка Толстой. — Счастливы те, кто будут участвовать в выплывании. Я надеюсь» (67, 274—275). Здесь же Толстой сообщает, что берется за новую работу — роман из Петровской эпохи. В ответном письме Страхов высказывает свою радость по поводу того, что Толстой взялся за писание, и прибавляет: «Я даже предчувствую немножко, что дело идет о слиянии с народною поэзиею, и хочу поговорить об Ваших волнах»[612].
Мысль о «возрождении в народности» была сама по себе не нова. Толстой высказывал ее еще в начале 60-х годов, но в более решительном тоне. Изучив тогда сборники русских песен, сказок и пословиц (Рыбникова, Афанасьева, Худякова), он объявил на страницах своего яснополянского журнала, что все сделанное образованными классами в области музыки и поэзии ничтожно «в сравнении с теми требованиями и даже произведениями тех же искусств, образчики которых мы находим в народе», что «Я помню чудное мгновенье» Пушкина и Девятая симфония Бетховена не так безусловно и всемирно хороши, как песня о «Ваньке-клюшнике» и напев «Вниз по матушке по Волге», что «Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости» (<?, 114). В боевом для 60-х годов вопросе о народности литературы, заново поднятом и освещенном революционными демократами во главе с Добролюбовым, Толстой занял позицию чрезвычайно радикальную и даже несколько нигилистическую; в основе ее лежат характерные для него внеисторические принципы. Теперь его позиция в этом вопросе как будто изменилась: он признает Пушкина «высшей точкой» прежней эпохи, он устанавливает соотношение между литературой и изучением народной поэзии, он намечает путь дальнейшего движения литературы, он надеется «выплыть» вместе с литературой будущего времени.
Но эти историко-литературные размышления имеют совершенно теоретический характер, а перед Толстым стоит сложная практическая проблема: что же делать сейчас, среди этого упадка литературы? Если пушкинский период «совсем сошел на нет», а «возрождение в народности» еще только намечается, то как же себя вести и что писать в настоящий момент? «Азбука» была характерным для Толстого ходом: он на время совсем отошел от литературы, чтобы посмотреть на нее со стороны. В процессе работы уяснились многие теоретические вопросы, в том числе и вопрос, изложенный в письме к Страхову. Но теперь наступало время вернуться к литературе со всем запасом новых наблюдений, опытов и решений, самым главным из которых было решение написать произведения «столь же чистые, изящные, где не было бы ничего лишнего, как вся древняя греческая литература».
Вопросу о дальнейшем творчестве посвящено второе письмо Толстого к Страхову (от 25 марта), заслуживающее особого внимания как своего рода литературный манифест, направленный и против славянофилов и против народников. Это письмо является ответом на письмо Страхова, который жаловался на отсутствие «свободы» для науки и литературы; надо полагать (письмо не сохранилось), что он имел при этом в виду резкие нападки на него слева — критический обстрел, которому были подвергнуты в это время его философские и литературные работы. У Толстого тоже не зажили еще раны, которые он получил при обстреле «Войны и мира», но он не согласен с ламентациями Страхова и его поведением: «Вы меня задели за живое, любезный Николай Николаевич. Мне стало грустно после того, как я прочел. Как и всегда, вы попали прямо на узел вопроса и указали его. Вы правы, что у нас нет свободы для науки и литературы, но вы видите в этом беду, а я не вижу. — Правда, что ни одному французу, немцу, англичанину не придет в голову, если он не сумасшедший, остановиться на моем месте и задуматься о том — не ложные ли приемы, не ложный ли язык тот, которым мы пишем и я писал; а русский, если он не безумный, должен задуматься и спросить себя: продолжать ли писать, поскорее свои драгоценные мысли стенографировать, или вспомнить, что и Бедная Лиза читалась с увлечением кем-то и хвалилась, и поискать других приемов и языка. И не потому, что так рассудил, а потому, что противен этот наш теперешний язык и приемы, а к другому языку и приемам (он же и случился народный) влекут менты невольные... поэт, если он поэт, не может быть несвободен, находится ли он под выстрелами или нет... Можно оставаться под выстрелами, можно уйти, можно защищаться, нападать. Под выстрелами нельзя строить, надо уйти туда, где можно строить.
Вы заметьте одно: мы под выстрелами, но все ли? Если бы все, то и жизнь была бы так же нерешительна и дрянна, как и наука и литература, а жизнь тверда и величава и идет своим путем, знать не хочет никого. Значит, выстрелы-то попадают только в одну башню нашей дурацкой литературы. А надо слезть и пойти туда ниже, там будет свободно. И опять случайно это туда ниже суть народное. — Бедная Лиза выжимала слезы, и ее хвалили, а ведь никто никогда уже не прочтет, а песни, сказки, былины — всё простое будут читать, пока будет русский язык.
Я изменил приемы своего писания и язык, но, повторяю, не потому, что рассудил, что так надобно. А потому, что даже Пушкин мне смешон, не говоря уж о наших элукубрациях, а язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, — мне мил. Язык этот, кроме того, — и это главное — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без костей; так набалован, что хочешь мели — все похоже на литературу. Народность славянофилов и народность настоящая две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный, источник тепла и света. Я ненавижу все эти хоровые начала и строи жизни и общины и братьев славян, каких-то выдуманных, а просто люблю определенное, ясное и красивое и умеренное и всё это нахожу в народной поэзии и языке и жизни и обратное в нашем» (61, 277-278).
Этим письмом Толстой объявляет о разрыве с интеллигенцией, с городской культурой и литературой. Разрыв мотивируется тактическими соображениями: «Под выстрелами нельзя строить, — надо уйти туда, где можно строить», надо бросить «башню дурацкой литературы» и пойти «туда ниже» — к народу. Однако это вовсе не значит, что Толстой тем самым примыкает к народникам; наоборот, он подчеркивает отличие и независимость своей позиции в этом вопросе от народнических теорий. Он настаивает, во-первых, на том, что решил изменить приемы своего писания не потому, что рассудил, что так надобно, и, во-вторых (что особенно важно), на том, что язык, которым он намерен писать, случайно оказался народным («он же и случился народный», «и опять случайно это туда ниже суть народное»). Толстой явно не хочет, чтобы его обращение к народному языку и поэзии сочли за простое следование славянофильским или народническим воззрениям; он хочет доказать, что его представление о «народности» не имеет ничего общего с этими воззрениями. Он утверждает, что его решение подсказано чисто писательскими, художественными потребностями: «противен этот наш теперешний язык и приемы... даже Пушкин мне смешон, не говоря уж о наших элукубрациях». Он пришел к народному языку не потому, что это народный язык («фольклор»), а потому, что его новые художественные принципы естественно («случайно» в этом смысле) совпали с принципами народной поэзии: он просто любит «определенное, ясное и красивое» и все это находит «в народной поэзии и языке и жизни». Интересно появление последнего слова: оно показывает, что дело здесь не только в языке, не только в писательских потребностях и принципах. Этим письмом намечается полный переход Толстого к крестьянству как к единственной опоре его идеологической позиции. Но пока это еще не ясно ему самому: поворот начинается с наиболее важного для него пункта — с вопроса о творчестве.
Как всегда, Толстой с замечательной чуткостью и волнением отзывается на требования современности, но в то же время он не хочет примыкать ни к какому лагерю интеллигенции и всякий раз противопоставляет ее теориям и направлениям свою особую тактику, основанную на внеисторических моральных и эстетических принципах. Посетивший Ясную Поляну в 90-х годах П. Перцов вспоминает, что в ответ на его слова о направлениях 60-х и 70-х годов Толстой сказал: «Что это за направления? Я не понимаю, что разумеют под этим словом. Я сам пережил все эти 60-е и 70-е годы и хорошо их помню, и могу вас уверить, что никаких таких особенных направлений тогда не было. То же было, что и в другое время»[613]. Толстой ведет себя так, как будто именно от его поведения зависит все дальнейшее движение истории. Когда все рассуждали о народном образовании, Толстой сделался учителем и стал доказывать, что народ вовсе не нуждается в том образовании, о котором хлопочет интеллигенция разных направлений. Когда все обратились к изучению народной жизни и стали рассуждать о «народности», он решил бросить «башню нашей дурацкой литературы» и писать народным языком, но не потому, что он «народный», а потому, что в нем «есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт», и потому, что этот язык — «лучший поэтический регулятор» (61, 278).
Оценка народного языка и поэзии, сделанная Толстым в письме к Страхову, явно совпадает с той, которую он давал греческим классикам, — с его мечтами о произведении «столь же чистом, изящном, где не было бы ничего лишнего, как вся древняя греческая литература». Русская Народная поэзия (как и древнерусская письменность) стала для него в один ряд с «Илиадой» и «Одиссеей» — не как «фольклор», не как материал для обработки, а как идеальный образец повествовательной чистоты, противостоящий современной литературе. Он, очевидно, вовсе не собирается просто подражать народному творчеству или заниматься имитацией: он хочет строить литературу на принципах мирового народного эпоса.
Первым опытом, осуществлявшим эти принципы, был рассказ «Кавказский пленник», написанный одновременно с приведенным выше письмом к Страхову. Толстой сам говорит: «Это образец тех приемов и языка, которым я пишу и буду писать для больших» (61, 278). Толстой сам охарактеризовал особенность художественной манеры, в которой написан «Кавказский пленник» и подобные ему рассказы «Азбуки»; когда Страхов уговаривал его напечатать что-нибудь из этих рассказов в журнале, он возражал: «Если будет какое-нибудь достоинство в статьях азбуки, то оно будет заключаться в простоте и ясности рисунка и штриха, т. е. языка; а в журнале это странно и неприятно будет — точно недоконченное. Как в картинной галерее, какой бы ни было, рисунки карандашом без теней» (67, 274). Действительно, «Кавказский пленник» — чистейшая графика. Это вовсе не подражание фольклору, а этюд, художественная задача которого состоит в чистоте и простоте рисунка, в четкости линий, в ясности и элементарности сюжета. Нет никакой психологической раскраски, никаких отступлений в сторону, никаких описательных подробностей. В основу положены простые, первобытные, «натуральные» отношения и чувства, лишенные всякой болезненности или утонченности, все действие построено на элементарной борьбе за жизнь. События рассказа происходят во время войны русских с горцами, но рассказчик не сообщает никаких исторических сведений, ограничиваясь одной короткой фразой: «На Кавказе тогда война была». Впервые у Толстого рассказ построен на самых событиях, на самом сюжете — на самом простом интересе к тому, чем дело кончится. От читателя не требуется ничего иного, кроме сочувствия к герою, которому грозит гибель. Недаром Толстой так увлекался Гомером: получилось нечто вроде миниатюрной «Одиссеи», противостоящей не только всей современной литературе, но и собственной грандиозной «Илиаде» — «Войне и миру».
Это совсем не фольклорная стилизация — ни по языку, ни по построению и сюжету. Материалом для рассказа послужили события из жизни самого Толстого на Кавказе (преследование чеченцами, чуть не взявшими его в плен) и некоторые книжные источники, описывающие кавказскую войну и плен («Воспоминания кавказского офицера» Ф. Ф. Торнау). По своему заглавию и сюжету рассказ кажется демонстрацией против пушкинской поэмы: романтический пленник превратился в простого офицера Жилина, мечтающего вернуться к матери в Россию; романтическая черкешенка, пылающая страстью, заменена девочкой-татаркой, которая не питает к пленнику никаких чувств, кроме обыкновенной жалости; вместо взволнованного, патетического стихового повествования — спокойная, сжатая речь простого рассказчика. Это подтверждается словами в письме к Страхову: «... даже Пушкин мне смешон». Однако какой смысл могла иметь такая борьба с Пушкиным в 70-х годах, когда имя его вовсе не было в особенном почете и когда не было заметно никакого особенного его влияния на литературу? Дело было, очевидно, не просто и не прямо в Пушкине: рассказ был направлен не против Пушкина, а против «периода Пушкина», о котором Толстой писал Страхову, что он «умер совсем, сошел на нет» (61, 278, 275; курсив мой. — Б. Э.). Эти слова надо понимать, очевидно, не как выражение сожаления, а, наоборот, как решительное утверждение того, что литература должна отказаться от прежних традиций. Против этих традиций и выступает Толстой со своим «Кавказским пленником», опирающимся на широкую базу мирового эпоса и обращенным к читателям всех классов и возрастов. Получился неожиданный результат: рассказ, как будто направленный против Пушкина, оказался стоящим гораздо ближе к пушкинской прозе, чем прежние вещи Толстого. Это совершенно естественно: принципы «простоты и ясности рисунка и штриха» должны были привести Толстого к прозе Пушкина, менее всего оцененной и использованной «периодом Пушкина». Как мы увидим дальше, «Повести Белкина» оказались настольной книгой Толстого во время его работы над «Анной Карениной».
Итак, дело не только в том, что Толстой обратился к народной поэзии и языку, но и в том, что он вступил в борьбу с современной интеллигенцией и ее литературой. В 1871 г. он настойчиво советовал Страхову — журналисту, человеку из мира городской интеллигенции — отрешиться от современности и писал ему: «Бросьте развратную журнальную деятельность. Я вам про себя скажу: вы, верно, испытываете то, что я испытывал тогда, как жил, как вы (в суете), что изредка выпадают в месяцы часы досуга и тишины, во время которых вокруг тебя устанавливается понемногу ничем не нарушимая своя собственная атмосфера, и в этой атмосфере все жизненные явления начинают размещаться так, как они должны быть и суть для тебя; и чувствуешь себя и свои силы, как измученный человек после бани. И в эти-то минуты для себя (не для других) истинно хочется работать, и бываешь счастлив одним сознанием себя и своих сил, иногда и работы... теперь же это — мое нормальное положение» (61, 262). Толстой с такой решительностью нападает на современную культуру, и, в частности, на литературу, что Страхов, все время несколько подлаживающийся к нему в своих письмах, начинает вторить ему, описывая Петербург как Вавилон, в котором царит одно тщеславие и жажда денег: «Знаете, здесь, мне кажется, становится понятна и здешняя литература. Какую жизнь видят пред собой те, кто пишет? Такую, которая не внушает никакого уважения, никакой любви, где эгоизм, жажда наслаждений и самолюбие действуют наголо, где деньги — все»[614]. Специально для Толстого (или, может быть, для укрепления своего «почвенничества») Страхов описывает «добродушных извозчиков и дворников», которые глазеют на весь этот Вавилон, «очевидно не принимая в свою душу ни единой черты из жизни, в нем совершающейся».
«Азбука» Толстого, его выступление против педагогов и статья «О народном образовании» — это все подготовка того поворота в жизни и творчестве Толстого, который осуществился в 80-х годах и в основе которого лежит решительное отрицание всякого исторического прогресса. Недаром одновременно с «Азбукой» он усиленно думает об истории и начинает писать исторический роман из Петровской эпохи. Михайловский был прав, когда утверждал, что отрицательное отношение Толстого к петровской реформе, которое, по слухам, будет высказано в его новом романе, нисколько не сближает его со славянофильством: «Общий тон его убеждений самым резким образом противоречит как славянофильским и почвенным принципам, так и принципам "официальной народности"». Надо, однако, прибавить, что тон этих убеждений достаточно резким образом противоречит и народническим принципам. «Азбучные» рассказы Толстого совпали с развитием народничества не потому, что Толстой приблизился к нему, а потому, что он вступил с ним в борьбу. Со всей определенностью это скажется через несколько лет, когда, пройдя через создание «Анны Карениной», Толстой возьмется за писание своих «народных рассказов» и создаст нечто вроде собственного фольклора.
Часть вторая
РОМАН ИЗ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ
1
Новые исторические замыслы. Русская историография 60-х годов. Смутное
время и эпоха Петра I как соотносительные злободневные темы. Вопрос о кризисе дворянства и о петровских реформах.
Как это было и десять лет назад, Толстой занялся школой и «Азбукой» не только ради педагогики самой по себе. Эпилог «Войны и мира» был выходом за пределы исторического романа: здесь Толстой вступал в полемику с современностью по основным философским и общественным вопросам. Педагогика была попыткой найти практическое приложение своим взглядам и занять в новой современности определенное положение. К этому шагу его особенно побуждало отношение передовой критики к «Войне и миру». Надо было доказать не только свое право на участие в современной жизни, но и свою правоту.
Но педагогика была только поверхностью тех умственных процессов, которые совершались в глубине. Закончив «Войну и мир», Толстой сейчас же берется за новую работу. Замыслы и планы сменяют друг друга. Отдыхать он не умеет и не может: «весь мир погибнет, если я остановлюсь». Вместо отдыха и успокоения следуют годы волнений и напряженных творческих усилий.
Осенью 1869 г. Толстой задумал было написать роман с характерами русских богатырей: «Особенно ему нравился Илья Муромец. Он хотел в своем романе описать его образованным и умным человеком, происхождением мужик, и учившийся в университете» (запись С. А. Толстой)[615]. Потом явился замысел комедии: «Он даже начал ее и рассказал мне довольно пустой сюжет, но я знаю, что это не серьезная его работа. Он сам на днях сказал мне: "Нет, испытавши эпический род (т. е. "Война и мир"), трудно и не стоит браться за драматический". Но я вижу, что он только и думает о комедии и все свои силы направил на драматический род»[616]. Действительно, именно в это время Толстой усиленно читает драматическую литературу: Шекспира, Мольера, Гете, Пушкина, Гоголя. Он колеблется между трагедией и комедией: комедия, думает он, в наше время возможна, но трагедия «при психологическом развитии нашего времени страшно трудна». Толстому не нравятся ни «Ифигения» и «Эгмонт» Гете, ни «Генрих IV» и «Кориолан» Шекспира, ни «Борис Годунов» Пушкина. Он пишет Фету, что хочет поговорить с ним о Шекспире, о Гете и вообще о драме, что целую зиму занят только драмой, что хочет почитать Софокла и Эврипида. «Русская драматическая литература, — записывает он, — имеет два образца одного из многих и многих родов драмы: одного, самого мелкого, слабого рода сатирического, "Горе от ума" и "Ревизор". Остальное огромное поле — не сатиры, но поэзии — еще не тронуто» (48—49, 345). Но после поездки к Фету (в феврале 1870 г.) он бросает все свои драматические замыслы: «На днях он был у Фета, — записывает С. А. Толстая, — и тот сказал ему, что драматический не его род, и, кажется, теперь мысль о драме и комедии оставлена»[617].
До поездки к Фету Толстой совсем было собрался писать историческую трагедию (по-видимому, в духе Шекспира) и взялся за чтение «Истории царствования Петра I» Н. Устрялова. 15 февраля 1870 г. С. А. Толстая записала: «Типы Петра Великого и Меншикова очень его интересуют. О Меншикове он говорил, что чисто русский и сильный характер, только и мог быть такой из мужиков. Про Петра Великого говорил, что он был орудием своего времени, что ему самому было мучительно, но он судьбою назначен был ввести Россию в сношение с Европейским миром. В истории он ищет сюжета для драмы и записывает, что ему кажется хорошо»[618].
Работая над «Войной и миром», Толстой постепенно входил в исторический материал, в философско-исторические проблемы. Еще до окончания «Войны и мира», в 1867 г., он начал искать подходящего для себя исторического героя. В это время он писал П. И. Бартеневу (издателю «Русского архива»): «Напишите мне, ежели это не составит для вас большого труда, материалы для истории Павла императора. Не стесняйтесь тем, что вы не все знаете. Я ничего не знаю, кроме того, что есть в Архиве. Но то, что есть в Архиве, привело меня в восторг. Я нашел своего исторического героя. И ежели бы бог дал жизни, досуга и сил, я бы попробовал написать его историю» (61, 166)[619]. Представление о Павле как о подходящем историческом герое сложилось у Толстого, очевидно, на основании напечатанных в «Русском архиве» 1864 и 1866 гг. материалов: «Любопытные и достопамятные деяния и анекдоты императора Павла Петровича (Из записок А. Т. Болотова)» и «Рассказы генерала Кутлубицкого о временах императора Павла I». Особенное впечатление должны были произвести на него главы из записок Болотова: «Государь самые первейшие минуты правления знаменует милостью», «Государь изъявляет кротость и незлопамятность при первом своем шаге», «Государь уже в первые дни своего царствования приступает к уменьшению роскоши», «Государь сокращает домашние расходы при дворце», «Государь не лишает дворянства дарованной родителем его ему вольности» — таковы характерные заголовки отдельных «анекдотов», собранных в этих записках.
Проект романа о Павле скоро отпал, но поиски «исторического героя» продолжались, как продолжались и общие размышления об истории и исторической науке. Весной 1868 г. Толстой часто виделся с М. П. Погодиным и беседовал с ним на исторические темы. Погодин в эти годы усиленно занимался изучением Петра I, о котором еще в молодости, в 20-х годах, написал драму. Вполне вероятно, что при свиданиях с Толстым он делился своими соображениями о деятельности Петра и о Петровской эпохе, — тем более, что вопрос о Петре I, получивший остро злободневный смысл в полемике западников со славянофилами, продолжал обсуждаться и в исторической литературе 60-х годов.
Русская научная историография родилась из полемики западников со славянофилами, а центральным пунктом этой полемики был вопрос о роли Петра I — о древней Руси и новой России. На вопросе о государстве, о превращении старой родовой и общинной Руси в Российское государство, сказалась основная разница в воззрениях западников и славянофилов. Западники были патетическими защитниками государственной, централизованной системы Петра и его реформ. Они и были главными создателями русской научной историографии, противостоявшей откровенно публицистическим и в этом смысле дилетантским «наскокам» славянофильских мыслителей.
Славянофилы выдвигали древний период русской истории (до XVI века) и возводили древнерусскую общину на степень идеала — как своеобразный «союз людей, основанный на нравственном начале». Западники, наоборот, изучали русскую историю преимущественно с XVI по XVIII век — как период постепенного роста государственного начала и превращения удельной Руси в великодержавную Россию. В 1849 г. появилось типичное в этом смысле исследование П. Павлова — «Об историческом значении царствования Бориса Годунова». В истории России он выделяет две эпохи — центральные, решающие, хотя и противоположные по своим стремлениям: Смутное время, которое Павлов называет очень характерно «безго- сударным», и Петровскую эпоху. Сравнительная характеристика этих двух эпох явно содержит намеки на злободневную полемику со славянофилами. Павлов пишет: «Стремление запоздалых людей начала XVII века произвести в обществе поворот к юридическому родовому быту, уже отжившему свой век, должно было оказаться вполне несбыточным. Ненавистники государственного развития и духовного усовершенствования явились мечтателями. Идеал их был не в будущем, а в прошедшем: они пытались поворотить историю назад»[620]. В конце книги эти две эпохи сопоставляются: «Обе исторические поры были энергической попыткой русского общества вырваться из душных объятий несостоятельной действительности и нравственно возродиться. Та и другая попытка к общественному возрождению были сделаны по практическим взглядам, совершенно различным. В пору безгосударную Русь силилась поворотиться к своему прошедшему; в эпоху петровского преобразования она устремилась к своему великому будущему. В первом случае она оказалась враждебной неотразимому историческому развитию, гоняясь за призраком; во втором, напротив, явилась вполне благоразумной, преследуя положительную действительность. В эпоху безгосударную Русь увлекалась преимущественно воображением, в Петровскую более повиновалась внушениям простого здравого смысла. Любопытные времена! Сколько жизни, энергии, движения во всем обществе! Сколько ярких, благородных, самоотверженных характеров! Предмет, достойный прилежного, внимательного изучения...»[621]
Характерно, что эта книга Павлова была выпущена новым изданием в 1863 г., когда западники уже явно побеждали: вышедшие к тому времени двенадцать томов соловьевской «Истории России с древнейших времен» подавили своей научной тяжестью построенные на «мечте» и на «воображении» работы славянофилов. Научная историография оказалась в руках западников. В своих воспоминаниях С. М. Соловьев третирует славянофильских историков, как невежд и фантазеров, незнакомых с фактическим материалом. Борясь с их антигосударственными «фантазиями», он еще в 1857-1858 гг. выступил со специальными полемическими статьями, в которых называл их исторические взгляды «антиисторическими» и, обрушиваясь на их «отрицательное направление», восклицал: «Бедная, бедная русская история! Последние полтораста лет должны быть из нее вычеркнуты: здесь порча вследствие господства чуждой образованности, но, по крайней мере, древняя допетровская история остается у нас? — Нет, из нее должны быть исключены два века, XVI и XVII, самые блестящие, самые любопытные, самые зиждительные века! — ибо здесь также порча от византийской формы... И такое разрушение истории производится во имя любви к ней!»[622]
Выходившие в это время тома соловьевской истории, несмотря на всю их «академичность», имели актуальный смысл, непосредственно соприкасаясь с очередными вопросами современности. Таковы были в особенности тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый тома (1864-1866 гг.), освещавшие Петровскую эпоху. Ученик Соловьева В. О. Ключевский вспоминает: «В это время, в пору сильнейшего общественного возбуждения и самых напряженных ожиданий, в самый разгар величайших реформ, когда-либо испытанных одним поколением, в год издания Положения о земских учреждениях и Судебных уставов 20 ноября, Соловьев издал четырнадцатый том своей "Истории России", в котором начал рассказ о царствовании Петра после падения царевны Софьи и описал первые годы XVIII века. Казалось, редко работа историка так совпадала с текущими делами его времени, так прямо шла навстречу нуждам и запросам современников. Соловьеву пришлось описывать один из крутых и глубоких переломов русской жизни в те именно годы, когда русское общество переживало другой такой же перелом, даже еще более крутой и глубокий во многих отношениях»[623].
На основе этих злободневных аналогий и ассоциаций к середине 60-х годов развивается обширная литература исторических очерков, повестей, романов и пьес. Исторический жанр становится настолько характерным и популярным, что Салтыков-Щедрин пишет свою сатиру на современность в форме «летописи», пародируя «фельетонистов-историков» (Семевского, Мельникова-Печерского, Мордов- цева, Шишкина) и подшучивая над «грозным образом» неунимающегося старика Погодина. Замечательно, что в ответ на истолкование «Истории одного города» как исторической сатиры, высмеивающей прошлое России, Салтыков категорически заявил Пыпину: «Мне нет никакого дела до истории, и я имею в виду лишь настоящее. Историческая форма рассказа была для меня удобна потому, что позволяла мне свободнее обращаться к известным явлениям жизни»[624].
В середине 60-х годов К. Д. Кавелин напечатал знаменательную программную статью «Мысли и заметки о русской истории», в которой приветствовал возрождение русской исторической науки: «С каждым десятилетием, а в последнее время чуть ли не с каждым годом, русская история выигрывает в интересе, значении и важности... Торная дорога кончилась, предстоит идти целиком, наугад, ощупью, и тогда-то наступает время глубокого раздумья. Народная мысль разрешается в целый ряд вопросов, догадок и предположений, посреди которых мало-помалу и созревает народное самосознание, единственный верный руководитель на этой ступени развития... Возмужавшее и окрепшее народное самосознание приходит к правде в истории и вступает на твердый путь в практической жизни»[625]. Как ярый государственник и теоретик великодержавной России, Кавелин останавливается главным образом на двух моментах: на царствовании Ивана Грозного и на Петре. Такие события, как бунт Разина и выступление Пугачева, он обходит совершенно. Смуту начала XVII века он затрагивает только мимоходом: он истолковывает ее как несколько непонятное, но, во всяком случае, временное уклонение от нормы («удивительная, загадочная вставка в русскую историю»), связанное с притоком в Великороссию «элементов, чуждых ее общественному складу». Русская история оказывается в основе своей историей Великорусского государства с фигурами Ивана Грозного и Петра I в центре.
Против этой националистической и государственнической концепции выступили историки-федералисты, среди которых самым ярким и популярным был Н. Костомаров. Он занялся изучением именно тех «чуждых элементов», от которых отворачивался Кавелин: вечевые республики древней Руси, раскол, бунт Разина, южнорусское казачество и Богдан Хмельницкий, Смутное время — вот основные темы Костомарова, явно связанные с настроениями и взглядами новой революционно-демократической интеллигенции. Возмущенный этими тенденциями, С. М. Соловьев объявил (в своих «Публичных чтениях о Петре Великом») виновниками «так называемого Смутного времени» казаков — «людей, которые, ушед- ши от тяжкого труда, от надзора правительственного и общественного, начинают заниматься дурным промыслом» и «гулять, живя на чужой счет, т. е. грабя своих и чужих»[626].
Так определилась соотносительность двух злободневных для 60-х годов исторических тем: Смутное время (включая сюда и царствование Ивана Грозного) и эпоха Петра I. Особенную популярность и остроту приобрела тема смуты, вызывавшая ряд аналогий с «эпохой реформ». Польский вопрос, «нигилисты», угроза крестьянской революции, дворянская фронда — все это располагало к тому, чтобы с разных точек зрения толковать современность как новую «смуту». Ряд статей, очерков и исследований, посвященных отдельным вопросам, лицам и эпизодам Смутного времени, завершается работой Костомарова «Смутное время Московского государства». Полемические выступления Соловьева тоже связаны, конечно, с аналогиями, сближающими Смутное время с современностью. Явно намекая на Костомарова и его единомышленников, Соловьев писал: «В последнее время, когда русская мысль, недостаточно установленная правильным научным трудом, произвела несколько странных явлений в нашей литературе, в некоторых так называемых исторических сочинениях выказалось стремление выставить этих героев леса и степи, разбойников и козаков, с выгодной стороны, выставить их народными героями, в их деятельности видеть протест во имя народа против тягостей и неправды тогдашнего строя государственной жизни... Хорош протест во имя народа, во имя народных интересов, протест, состоящий в том, чтоб мешать народному труду, мешать труженикам трудиться и посредством труда улучшать свое положение! Хорош протест против неправды под знаменем лжи, под знаменем самозванства! Нет, все наше сочувствие принадлежит не тем, которые ушли, но тем, которые остались... Наше сочувствие принадлежит не тем, которые, как бичи божий, приходили из степей, чтоб вносить смуту и опустошения в родную землю, которые умели только разрушать и не умели ничего создать: наше сочувствие принадлежит тем, которые своим честным гражданским трудом созидали, охраняли и спасали»[627] и т. д. Интерес к смуте и к эпохе Ивана Грозного быстро сказался и в искусстве, особенно в театре: «Дмитрий Самозванец» Н. Чаева, «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» Островского, «Смерть Иоанна Грозного» А. Толстого (за которой последовали «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис»), «Смута» Бицына («народная быль в 5 действиях») — таков основной репертуар театров за годы 1865—1867. Символика «смуты» коснулась даже оперного репертуара: в 1869/70 г., одновременно с «Войной и миром» Толстого, явился «Борис Годунов» Мусоргского. Против увлечения исторической драмой выступает, наконец, журнал «Дело» (1871. № 3); он называет это увлечение «гнилым дилетантизмом» и призывает к созданию пьес на современном материале: «В нашей исторической драме скудность сюжетов и лиц дошла до комического толчения воды все в той же ступе: Иван Грозный, Борис, Самозванец, и опять Самозванец, Грозный, Борис. Даже статисты-то носят все те же клички — Мстиславских, Шуйских и Воротынских».
Но тема «смуты» (как это особенно ясно видно из «Публичных чтений о Петре Великом» Соловьева) явилась в соотношении и противопоставлении с другой исторической темой, во многом гораздо более актуальной и болезненной, — с темой Петра I и его эпохи. Соотносительность этих двух тем определилась уже в литературе 20—30-х годов (особенно у Пушкина), их противопоставление принадлежит более позднему времени как результат полемики западников со славянофилами. В 60-х годах, после отмены крепостного права, вопрос о Петре возник заново как вопрос о судьбах дворянства, о его дальнейшей экономической и политической роли. Славянофильская теория, трактовавшая Петра как злого гения, нарушившего естественный ход истории, уже отживала свой век. Старая постановка вопроса снималась как архаическая: перед лицом новой эпохи основные темы прежней полемики утрачивали свой смысл и остроту. Если историки-федералисты (Костомаров, Щапов) трактуют Смутное время как движение народных масс, то «великодержавные» историки начинают осмысливать Петровскую эпоху как эпоху не менее «народную», чем другие.
Коренные и наиболее упорные славянофилы продолжали свои нападения на Петра, выражая в них оппозицию новым порядкам (И. С. Аксаков, И. Беляев), но неославянофилы, или «почвенники», борясь уже не со старым западничеством, а с «нигилизмом», готовы смотреть на Петра иначе. А. Майков излагает в письме к Ф.Достоевскому (1868 г.) целую программу «средней истории», противополагая Запад и Восток; в этой программе роль Петра трактуется совсем заново: «Раздел Европы на Восточную и Западную. Борьба их. Азия с Татарами и Турками помогает Западу. Коварное поведение Запада: помогу, лишь покорись папе. Слабость и падение Востока. Возрождение его с громов полтавских: общеславянское значение
Петра и рост России (курсив мой. — Б. Э.). Колебание весов: мы теперь в периоде самой роковой схватки... А кстати о Петре: Соловьев нашел и печатает — как он тогда уже решил восточный вопрос и как его понял — как мы с Вами! Жаль только, что он круто бороды брил... Погодите — и не сердитесь — мы все будем гордиться Петром (и не так, как при Николае, не как Кукольник), простив ему кое-что. Но забавно, как в нем ошиблись западники! Грустные люди, опять повторю! "Под бременем познаний и сомнений"!.. до времени состарились они! да им ли понять Петра — царя, выросшего посреди народа, что ни говори (курсив мой. — Б. Э.). Никто так не повредил [у нас] Петру, как западники»[628]. Достоевский не рассердился и отвечал: «Мне нравится Ваша мысль о всеславянском значении Петра. Я первый раз в жизни эту идею услыхал, и она совершенно верная»[629].
Споры славянофилов с западниками приходили к концу: потомки «антиисторического» направления начинали сговариваться с Соловьевым. Но вопрос о Петре этим не был решен или снят с обсуждения: он вступал в новую фазу, при которой на месте старых проблем (Востока и Запада) оказались новые, еще более острые, еще более практические. На очереди был вопрос о судьбах русского дворянства, с каждым днем терявшего свое влияние, свою силу. Имел ли Петр в свое время «всеславянское» значение или не имел и внес ли он «порчу» в русскую историю или нет — эти проблемы стали уже академическими. Жизнь выдвинула новый вопрос о Петре как об инициаторе дворянского раскола и кризиса, как о виновнике падения и оскудения кондового, земельного дворянства.
Под влиянием реформ в дворянской среде развились новые, фрондерские настроения. Еще в 1858 г., после речи Александра II к московскому дворянству, Л. Толстой пишет замечательную «Записку о дворянстве» — нечто вроде прокламации, в которой пародирует эту речь и называет ее «оскорбительной комедией», а в отношении правительства к помещикам видит «умышленное коварство»: «Молясь богу или нет, но не правительство подняло этот вопрос, и не оно высоким доверием и благодарностью и угрозой резни подвигает его... Ежели бы, к несчастью, правительство довело нас до освобождения снизу, а не сверху, по остроумному выражению государя императора, то меньшее из зол было бы уничтожение правительства» (5,270). Здесь же Толстой возражает против распространившейся аналогии между Александром II и Петром I (как прежде — между Николаем I и Петром): «Ежели некоторые в порыве излишнего восторга, а другие, избрав великое дело поприщем подлой лести, умели убедить государя императора в том, что он 2-ой Петр I и великой преобразователь России и что он обновляет Россию и т. д., то это совершенно напрасно, и ему надо поспешить разувериться; ибо он только ответил на требование дворянства, и не он, а дворянство подняло, развило и выработало мысль освобождения» (5, 268).
Вопрос о кризисе дворянства составляет одну из основных тем в публицистике 60-х годов и неизменно связывается с вопросом о Петре и его реформах. Отсюда это переходит и в историческую науку как предмет специального исследования. В этом смысле очень характерна, например, диссертация А. В. Романовича-Сла- ватинского «Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права» (1870). В предисловии автор сам подчеркивает актуальность своей книги: «Дворянство, конечно, всеми своими интересами кровно связано с пережитым порядком вещей, но ввиду нового нарождающегося порядка предстоит новое положение в государстве. В чем будет заключаться это новое положение дворянства? Жизнь ответит на этот вопрос и разрешит его сообразно своим роковым требованиям. Для нас несомненно одно: дворянство в настоящее время переживает кризис... Нам казалось поэтому своевременным отдать себе отчет в том, как устанавливалась прежняя привилегированность дворянства, как пользовалось оно своими привилегиями во благо нации и государству?»[630] Заканчивая книгу, автор повторяет: «Над Россией занимается новая заря; для дворянства, созданного и организованного пережитыми потребностями государства, наступает пора кризиса»[631].
Петровская эпоха служит в этой книге главной точкой, с высоты которой делаются обзор и анализ фактов: «Табель о рангах легла краеугольным камнем нашей государственной службы; влияние ее на последующие судьбы нашего дворянства неисчислимо»[632]. Автор настаивает на том, что в основе своей русское дворянство — более служилый, чем землевладельческий класс. В этом утверждении и состоит главная тенденция этой книги. Петровская реформа с этой точки зрения оказывается естественным выходом из прежнего двойственного положения, а отмена крепостного права — естественным историческим финалом, после которого дворянству не остается ничего иного, как поставить крест на своих старинных землевладельческих претензиях и привилегиях.
В рецензии на эту книгу М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «В числе вопросов, разъяснение которых наименее было доступно для нашей литературы, долгое время числился вопрос о русском дворянстве как об одном из факторов нашей общественной и государственной жизни. По-видимому, причина этой заповед- ности заключается в тех несовершенствах, которыми страдала эта корпорация и которых раскрытие полагалось преждевременным. Но эта-то мнимая преждевременность, кажется, всего больше и принесла дворянству вреда. Под сенью ее сословные несовершенства отверждались и усложнялись, задатки же силы действительной отступали все больше и больше на задний план. С самого начала парализованное табелью о рангах, дворянство наше пошло путем пассивности и отчужденности от истинных интересов народной жизни и, наконец, высказало очень мало предусмотрительности относительно такого явления, как крепостное право, которое в действительности более связывало его, нежели доставляло выгод... Книга г. Романовича-Славатинского... представляет первый опыт обстоятельного исследования о русском дворянстве, произведенного без преувеличений, но и без умолчаний»[633].
В публицистике 70-х годов катастрофическое положение дворянства признается уже фактом, ведущим свое начало именно от Петровских реформ. Дворянские публицисты деятельно и взволнованно обсуждают вопрос — «чем нам быть?» (так озаглавлена брошюра Р. Фадеева 1874 г.) и предлагают разные меры для предотвращения гибели. В. Мещерский печатаете «Гражданине» (номера 11—45 за 1875 г.) свои «Политические письма», в которых утверждает, что главное зло — в победе чиновнического духа над дворянским и что начало этому злу было положено Петром: «Когда дворянство составляли бояре, тогда оно составляло исторически сложившееся сословие с политическою силою, с юридическими правами и с влиянием непосредственным на народ... Петр 1-й уничтожает дворянство как бояр: они ему ненавистны именно потому, что представляют собою политическую и народную силу, и вместо бояр создает дворянство, обязанное государственною службою, и доступ в это дворянство открывает всякому посредством табели о рангах... Чиновничество явилось в виде гидры, которая должна была иметь голову и подымать ее везде, где дворянству вздумалось бы проявлять свою самостоятельность. Одних дворян посадили к делам государства в силу чиновнических регламентов, другая часть дворянства, сильная богатством и связями, вошла телом и духом в новую область европейской придворно-государственной жизни... третью часть бояр разослали по деревням. Таким образом, дворянство как боярское сословие было при Петре разорвано на мелкие клочки»[634].
Итак, вопрос о Петре I и его реформах возник заново в связи с фрондерскими настроениями в дворянской среде, в связи с определившимся оскудением земельного дворянства. Учитывая это положение, Кавелин писал в своей статье: «К Ивану Грозному, к эпохе Самозванцев, к Алексею Михайловичу мы относимся спокойно и объективно; все это уже давно прошло, забыто, и мы почему-то наивно воображаем, что интересы и вопросы тех времен давно исчезли без следа. Но Петр как будто еще жив и находится между нами»[635]. Кавелин правильно отмечает разницу в отношении современности к темам Смутного времени и Петровской эпохи: первая тема используется только по линии общих аналогий и художественной символики (отсюда ее распространение именно в литературе и в театре), между тем как вторая существует в качестве острой злободневной проблемы.
Вопрос о судьбах дворянства (и именно о судьбах кондовой, земельной аристократии) давно тревожил Толстого: мысли на эту тему встречаются уже в его юношеском дневнике. Рассказывая о первом появлении Толстого в писательской среде (1855—1856 гг.) и о спорах его с Тургеневым, Фет пишет: «При тяготении нашей интеллигенции к идеям, вызвавшим освобождение крестьян, сама дворянская литература дошла в своем увлечении до оппозиции коренным дворянским интересам, против чего свежий, неизломанный инстинкт Льва Толстого так возмущался»22. В «Анне Карениной» можно найти ясные следы этого «инстинкта» — этой тревоги за земельную аристократию, которую Толстой в эти годы считает еще социальной базой России. Левин возмущается тем, что Облонский продал лес купцу Рябинину: «Ты скажешь опять, что я ретроград, или еще какое страшное слово; но все-таки мне досадно и обидно видеть это со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу и, несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу». Когда разговор заходит об аристократизме Вронского, Левин разражается целой тирадой: «Ты говоришь: аристократизм. А позволь тебя спросить, в чем состоит этот аристократизм Вронского или кого бы то ни было, — такой аристократизм, чтобы можно было пренебречь мною? Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого бог знает с кем не была в связи... Нет, уж извини, но я считаю аристократом себя и людей подобных мне, которые в прошедшем могут указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования (дарованье и ум — это другое дело), и которые никогда ни перед кем не подличали, никогда ни в ком не нуждались, как жили мой отец, мой дед... Мы аристократы, а не те, которые могут существовать только подачками от сильных мира сего и кого купить можно за двугривенный». Весь тон этой тирады показывает, как близко был затронут этими вопросами Толстой. Облонский, Вронский и Левин являются как бы представителями тех трех частей дворянства, о которых писал Мещерский: служилой, придворной и земельной. Но в «Анне Карениной» эти вопросы отодвинуты на второй план; предшествовавшая этому роману работа над Петровской эпохой была коренным образом связана с тревогами за исторические судьбы русского земельного дворянства.
2
Полемика Толстого с С. Соловьевым. Отрицательное отношение к исторической науке. Увлечение Шопенгауэром: проблема свободы воли, вопрос об истории.
Полемика с историками, начатая Толстым в эпилоге «Войны и мира», продолжалась и по окончании романа. Главное острие этой полемики было направлено против Соловьева. 2 апреля 1870 г., уже начав работу над романом из Петровской эпохи, Толстой записал несколько слов, в которых можно видеть прямое возражение против нападений Соловьева на казаков, на «героев леса и степи»: «Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть» (48—49, 123). Еще в конце 1868 г. С. Урусов писал Толстому, что в «Вестнике Европы» появилась первая статья Соловьева под заглавием «Наблюдения над историческою жизнью народов», «явно направленная против Бокля, а тайно против нас... Он старается показать, что история народов есть не что иное, как история правительственных деятелей (то есть Бисмарка, Наполеона, Бейста и прочих чудовищ)». Далее Урусов приводит цитату из статьи Соловьева: «Что такое правительство? Правительство... есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая поверка этой жизни»23. В большой записи от 4 апреля 1870 г. Толстой решительно возражает против этих взглядов Соловьева: «Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Правительство стало исправлять. — И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России. Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство? — Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю». Толстой говорит о «народной жизни» — о жизни тех, «кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре», «кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары».
Таков был первый слой предпосылок к построению нового исторического романа, еще в то время не начатого, — слой, заложенный уже в философско-истори- ческих главах «Войны и мира». После ознакомления с работами Соловьева отрицательное отношение Толстого к исторической науке стало еще более резким. Является второй слой предпосылок, намеченный еще в «Исторических афоризмах» Погодина: исторической науке противопоставляется «история-искусство». 5 апреля 1870 г. Толстой записывает следующее большое рассуждение: «История хочет описать жизнь народа — миллионов людей. Но тот, кто не только сам описывал даже жизнь одного человека, но хотя бы понял период жизни не только народа, но человека, из описания, тот знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни, нужно искусство — дар художественности, нужна любовь. Кроме того, при величайшем искусстве нужно много и много написать, чтобы вполне мы поняли одного человека. Как же в 400-х печатных листах (самое многотомное историческое сочинение) описать жизнь 20 миллионов людей в продолжение 1000 лет, т. е. 20 000 000 х 1000? Не придется буквы на описание года жизни человека... Что делать истории? Быть добросовестной. Браться описывать то, что она может описать, и то, что она знает — знает посредством искусства. Ибо история, долженствующая говорить необъятное, есть высшее искусство. Как всякое искусство, первым условием истории должна быть ясность, простота, утвердительность, а не предположительность. Но зато история-искусство не имеет той связанности и невыполнимой цели, которую имеет история-наука. История-искусство, как и всякое искусство, идет не вширь, а вглубь, и предмет ее может быть описание жизни всей Европы и описание месяца жизни одного мужика в XVI веке» (48—49, 124-126).
Такова была рецензия Толстого на труд Соловьева: говоря о 400 печатных листах, он имел в виду, очевидно, именно его «Историю России с древнейших времен». В более позднем наброске, посвященном вопросу об истории и о законе прогресса, Толстой описывает спор некоего Николая Николаевича с «профессором истории из Москвы». Это, по-видимому, Соловьев: «профессор с бородой», «лицо умное, твердое и спокойное», «видно, чувствует себя ferr6 k glace[636], особенно — по своему предмету». Спор идет о законе прогресса. «Николай Николаевич говорил, что закон прогресса, который есть единственная руководительная нить истории, никем не доказан и более чем сомнителен. — Как же, — повторил он несколько раз, — закон прогресса для всемирной истории, а 9/10 рода человеческого: Китай, Азия, Африка, идут по обратному закону. — Профессор отвечал, что закон прогресса видится во всех народах исторических, и что наука до неисторических народов не имеет дела. Николай Николаевич замялся и сконфузился. — Так вы и знать не хотите про них? — Профессор: — Они не входят в область науки. — Николай Николаевич замолчал». Это явная полемика с «Наблюдениями над исторической жизнью народов» Соловьева, где говорится о «народах, сошедших с исторической сцены»: о Китае, Египте, Ассирии, Вавилоне и т. д. Набросок заканчивается мыслями Николая Николаевича об исторической науке: «Забавно то, что в истории только и интересна философская мысль истории. Т. е. закон, по которому она живет, который они нашли в истории. Что мне за дело, кого завоевал Аннибал или какие у Людовика XIV были любовницы. Мне интересен закон, т. е. что из этого выходит. А он говорит: закон прогресса. И когда я хочу проверять этот закон, он говорит: проверяй его только по нашей науке, которая и основана на этом законе... Они говорят, прежде чем спрашивать, годна ли наука, они говорят: поверь науке, изучай ее; точно также, как религиозные миссионеры. Изучи, работай над ней, посвяти ей годиков 10, пусть у тебя волоса за ней повылезут, тогда не усумнишься. И правда, не усумнишься, потому что жалко тебе будет потраченных на нее трудов и годов. Он уж не может со мной согласиться. Ему надо отречься от 10 лет трудов... Главный интерес состоит именно в ее философском значении, т. е. мне хочется знать, какие истины доказывает история, что же выходит из того, что были Пунические и такие- то войны, и такие-то законы (17, 139—140).
Многое в этой полемике ведет свое начало от «Войны и мира» — от периода бесед и переписки с Погодиным, Урусовым, Самариным, Юрьевым и пр. Можно думать, что и замысел петровского романа связан с работами Погодина. Первоначальный тезис Толстого о Петре, записанный С. А. 15 февраля 1870 г. («Про Петра Великого говорил, что он был орудием своего времени, что ему самому было мучительно, но он судьбою назначен был ввести Россию в сношение с Европейским миром»)[637], подготовлен Погодиным. В статье 1863 г. («Петр Первый и национальное, органическое развитие») Погодин писал: «Древней России необходима была реформа, обновление, преобразование во что бы то ни стало... ей нужен был сильный, ловкий, смелый оператор»[638]. Стремясь показать на фактах эту неизбежность и необходимость, Погодин занялся биографией Петра — и именно первыми годами его царствования. Он работал над этим материалом одновременно с Толстым. В 1875 г. вышла отдельным изданием книга Погодина «Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. 1672-1689» — результат многолетнего изучения. Книга эта в наше время была бы названа историческим романом — настолько она беллетристична.
Но общие мысли об истории и исторической науке, записанные Толстым в 1870 г., идут значительно дальше, а отчасти в сторону оттого, что было им высказано в эпилоге «Войны и мира». Эти мысли имеют свой источник, указанный самим Толстым. 30 августа 1869 г. Толстой писал Фету: «Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? — Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочел и Канта)... Не знаю, переменю ли я когда мнение, нотеперь я уверен, что Шопенгауэр — гениальнейший из людей. Вы говорили, что он так себе кое-что писал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении. Я начал переводить его. Не возьметесь ли и вы за перевод его? Мы бы издали вместе. Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться имя его неизвестно? Объяснение только одно, — то самое, которое он так часто повторяет, что, кроме идиотов, на свете почти никого нет» (61, 219). Б. Чичерин, вспоминая о Толстом этих лет, насмешливо говорит: «О философии он не имел понятия. Он сам признавался мне, что пробовал читать Гегеля, но что для него это была китайская грамота. Шопенгауэр, рекомендованный ему Фетом, был его единственной пищею»[639].
Толстой ошибается, думая, что, кроме него да Фета, о Шопенгауэре никто не знает. Это было одно из тех характерных для Толстого «открытий», над которыми Тургенев посмеялся в это же время в письме к Фету: «Предоставьте Толстому открывать, как говаривал Вас. П. Боткин, — Средиземное море»[640]. Здесь, как и в других аналогичных случаях, сказалась разница между «автодидактом» Толстым и «людьми сороковых годов», еще в молодости прошедшими школу европейской философии. Не гозоря о Западе, где реакция 50-х годов вызвала в буржуазных кругах повышенный интерес к философии Шопенгауэра (Германия, Франция), увлечение ею скоро проникло и в Россию. Шопенгауэра «открыл» гораздо раньше Фета и Толстого Тургенев. Бывший гегельянец, Тургенев пишет в 1862 г. мрачное письмо Герцену, в котором советует: «Шопенгауэра, брат, надо читать поприлежней, Шопенгауэра»[641]. Поворот от Гегеля к Шопенгауэру — характерный для 60-х годов исторический факт: результат встречи «людей сороковых годов» с новой эпохой, с «новыми людьми». В предисловии к французскому переводу «Отцов и детей» (1863) П. Мериме писал (очевидно, со слов Тургенева): «Не так давно в Санкт-Петербурге мыслили и по Гегелю, в настоящее время в большой славе Шопенгауэр»[642]. В. Боткин, в 1855 г. еще находивший, что Гегель «исполнен поэзии», к концу жизни (в 60-х годах) погружается в чтение Шопенгауэра: «Он усвоил его глубочайшее презрение к толпе и народным массам и его энергические проклятия беспредметному философствованию умников, разлагающих только без конца и цели одну собственную мысль», — писал о Боткине Анненков[643]. Толстой никогда не был гегельянцем и не принадлежал к «людям сороковых годов». Тем легче было ему согласиться с Шопенгауэром, что система Гегеля — «абсурд и бессмыслица», «пустой набор фраз» или даже «шарлатанство».
Увлечение Толстого Шопенгауэром (в отличие, например, от Тургенева) идет главным образом по линии религиозно-этической, моральной. Он «ассимилирует» себе куски его философской системы и переводит их на свой собственный язык. Это увлечение оставило свои следы на эпилоге «Войны и мира», вторая часть которого (12, 296-341) представляет собою особое философское рассуждение не только об исторической науке, но и о свободе воли. Главы, посвященные вопросу о свободе воли и необходимости (VIII, IX, X), были написаны, несомненно, после ознакомления с сочинением Шопенгауэра на ту же тему («Die beiden Grundprobleme der Etik»). Толстой формулирует прежде всего общую проблему: «Вопрос состоит в том, что, глядя на человека как на предмет наблюдения с какой бы то ни было точки зрения — богословской, исторической, этической, философской, — мы находим общий закон необходимости, которому он подлежит так же, как и все существующее. Глядя же на него из себя, как на то, что мы сознаем, мы чувствуем себя свободными.
Сознание это есть совершенно отдельный и независимый от разума источник самопознавания. Чрез разум человек наблюдает сам себя; но знает он сам себя только через сознание». Далее следует рассуждение о свободе: «Для того чтобы понимать, наблюдать, умозаключать, человек должен прежде сознавать себя живущим. Живущим человек знает себя не иначе как хотящим, т. е. сознает свою волю. Волю же свою, составляющую сущность его жизни, человек сознает и не может сознавать иначе, как свободною» (12, 323—324).
Ряд опытов и рассуждений показывает человеку, что «полная свобода, которую он сознает в себе, — невозможна, что всякое действие его зависит от его организации, от его характера и действующих на него мотивов; но человек никогда не подчиняется выводам этих опытов и рассуждений... Сколько бы раз опыт и рассуждение ни показывали человеку, что в тех же условиях, с тем же характером он сделает то же самое, что и прежде, он, в тысячный раз приступая в тех же условиях, с тем же характером к действию, всегда кончавшемуся одинаково, несомненно чувствует себя столь же уверенным в том, что он может поступать, как он захочет, как и до опыта. Всякий человек, дикий и мыслитель, как бы неотразимо ему ни доказывали рассуждение и опыт то, что невозможно представить себе два разных поступка в одних и тех же условиях, чувствует, что без этого бессмысленного представления (составляющего сущность свободы) он не может себе представить жизни... Если понятие о свободе для разума представляется бессмысленным противоречием, как возможность совершить два разные поступка в одних и тех же условиях... то это доказывает только то, что сознание не подлежит разуму» (12, 323-325).
Источник этого рассуждения (вплоть до терминологии) — в трактате Шопенгауэра о свободе воли. Шопенгауэр начинает с вопроса о самосознании: «Что заключает в себе самосознание? или: как человек непосредственно сознает самого себя? Ответ: непременно хотящим». Далее Шопенгауэр констатирует, что непосредственное самосознание, не считающееся с разумом и тем самым не сознающее причинности и мотивации поступков, ощущает волю свободной: «Я могу хотеть, и когда буду хотеть известного деяния, то подвижные члены моего тела, лишь только я захочу, неминуемо приведут его в исполнение». Иначе говоря: «Я могу делать, что хочу». О закономерной необходимости самосознание не имеет никаких сведений, потому что она лежит вне самосознания, в мире объектов. «Самосознание каждого человека свидетельствует, что он может делать что хочет. Так как можно себе представить, что он может хотеть вполне противоположных поступков, то из этого во всяком случае следует, что, если хочет, он может делать и противоположное. Невозделанный ум смешивает и отождествляет это с тем, что человек и в каждом данном случае мог бы хотеть двух противоположностей, и называет это свободою воли». В следующей главе («Воля перед сознанием других вещей») Шопенгауэр обсуждает вопрос о свободе воли с точки зрения разума, останавливаясь на понятиях причины и мотива. Он приходит к следующему выводу: «При предположении свободы воли каждый человеческий поступок являлся бы необъяснимым чудом — действием без причины». Вместе с тем «никакая причина в мире не производит своего действия вполне сама собою, впустую и из ничего... Всякое действие слагается из двух факторов, одного внутреннего и другого внешнего, именно из первоначальной силы, присущей тому, на что действуют, и определяющей причины, которая понуждает ту силу здесь обнаружиться. Первоначальная сила предполагает всякую причинность и всякое объяснение из нее самой; потому именно это последнее никогда всего не объясняет, а постоянно оставляет нечто необъяснимое. Это видим мы во всей физике и химии: в их объяснениях повсюду предполагаются силы природы, которые обнаруживаются в явлениях и в подведении под которые состоит все объяснение. Самая сила природы не подлежит никакому объяснению, и есть принцип всякого объяснения... Так, явления магнетизма сводятся к первоначальной силе, называемой электричеством». В итоге всех рассуждений Шопенгауэр приходит к выводу: «Все, что совершается, от величайшего до последней мелочи, совершается необходимо». Этот вывод Шопенгауэр сопоставляет с воззрением древних на фатум. Однако это не снимает вопроса о нравственной свободе высшего порядка — об ответственности за поступки. «Как бы совершенно мы ни были убеждены в необходимости, с которою наступают наши деяния, никому и никогда не придет в голову оправдать свой поступок этою необходимостью и сваливать вину на мотивы, потому что при наступлении их деяние было невозможно. Ибо всякий человек очень хорошо видит, что эта необходимость имеет субъективное условие и что объективно, т. е. при существующих обстоятельствах, следовательно, под действием определивших его мотивов, все-таки вполне был возможен совершенно иной, даже вполне противоположный поступок, если бы только он был другим человеком... Человек во всякое время делает только то, что хочет, и делает однако же это необходимо. Это происходит потому, что он сам уже есть то, что он хочет: ибо из того, что такое он есть, необходимо следует все, что он всякий разделает». Философско-исторический «фатализм» Толстого, изложенный в эпилоге, явно связан со взглядами Шопенгауэра на свободу воли. Говоря о силах природы и о бесконечности причин, Толстой повторяет Шопенгауэра. Некоторые формулировки Толстого звучат как цитаты из Шопенгауэра: «Если даже один человек из миллионов в тысячелетний период времени имел возможность поступить свободно, т. е. так, как ему захотелось, то очевидно, что один свободный поступок этого человека, противный законам, уничтожает возможность существования каких бы то ни было законов для всего человечества». Но главная тема толстовского эпилога лежит за пределами трактата Шопенгауэра. Толстой занят не столько вопросом о свободе воли самим по себе, сколько вопросом об исторической пауке, об исторических законах, — тем самым вопросом, который так деятельно обсуждался им в переписке с С. Урусовым в 1868-1869 гг. В связи с этой задачей общая проблема формулируется Толстым так: «Если существует один свободный поступок человека, то не существует ни одного исторического закона и никакого представления об исторических событиях». Решение этой проблемы выражено в заключительных словах: «Необходимо отказаться от сознаваемой свободы и признать не ощущаемую нами зависимость».
Итак, в эпилоге «Войны и мира» Толстой использовал философию Шопенгауэра («ассимилировал себе») только в той мере, в какой ему нужно было развернуть систему возражений против исторической науки, построенной на понятиях прогресса, причинности и пр. В философском наброске, датированном 6 декабря 1868 г., Толстой записывает основные положения: «Геометрия — наука потому, что допускает бесконечное движение, не спрашивая, что оно такое и где его конец, но изучая только соотношения движений точек — линий. Математика не спрашивает о причине, что из чего, оттого и доходит до результатов. Цель философии — узнать общие законы, для этого надо отрешиться от личности. Личность есть точка линий и соотношений их только в движении личности» (7,132). Таковы были предпосылки, заготовленные Толстым для философского эпилога в период деятельного общения с С. Урусовым, настаивавшим на применении математических методов к изучению истории. Проблема личности привела к вопросу о «границах свободы и зависимости», тут-то и пригодился Толстому трактат Шопенгауэра о свободе воли — с его разделением самосознания и разума, с его утверждением «первоначальных сил», не подлежащих объяснению, с его решительным признанием необходимости каждого человеческого поступка.
После «Войны и мира» Толстой продолжает думать над проблемами истории. По приведенным выше записям 1870 г., направленным против Соловьева, видно, что мысль Толстого идет постепенно в сторону от теорий Урусова, возлагавшего все надежды на математику. В противовес исторической науке, протягивающей «воображаемые линии», выдвигается понятие «истории-искусства». Эта новая точка зрения могла явиться в связи с чтением главного сочинения Шопенгауэра — «Мир как воля и представление». Здесь (и в основном томе и в дополнительном) очень много говорится об исторической науке в сопоставлении с искусством и философией. В § 51 основного тома Шопенгауэр говорит: «История относится к поэзии как портретная живопись к исторической: первая дает истину в частном, вторая в общем; первая владеет истиной явления и может из него показать оную, вторая владеет истиной идеи, которую нельзя отыскать в отдельном явлении, но которая говорит изо всех них... то, что значительно само по себе, а не по отношению, настоящее развитие идеи окажется гораздо вернее и яснее в поэзии, чем в истории, и потому первой, как ни кажется это парадоксально, следует приписать гораздо более собственной, настоящей, внутренней правды, чем последней... По отношению к познанию существа человечества я должен даже биографиям, в особенности автобиографиям, придать большее значение, чем собственно истории, по крайней мере в том виде, в каком ее обыкновенно обрабатывают... верно изображенная жизнь отдельной личности показывает в тесной сфере образ действия людей во всех его оттенках и видах... При этом, однако, в единственно рассматриваемом здесь отношении, именно по внутренней значительности явления, совершенно все равно, составляют ли вещи, вокруг которых вращается действие, мелочи или важное, крестьянские ли то дворы или царства, ибо все эти вещи, сами по себе не имея значения, получают таковое только потому и настолько, насколько они двигают волю».
В дополнительном томе этот параграф развернут в особую главу (38) — «Об истории». Здесь Шопенгауэр старается доказать, что претензии истории па значение науки неосновательны: «Наука, будучи системою понятий, трактует всегда о видах, история же — об индивидах. Поэтому можно было бы назвать ее наукой об индивидах, если б это не было противоречием... Далее, так как история непременно ведает одно лишь единичное и индивидуальное, которое по природе своей неисчерпаемо, то выходит, что она знает только наполовину и несовершенно... Даже самое общее в истории само по себе только единично и индивидуально, например целая эпоха или главное событие. Поэтому частные факты относятся к этим общим фактам только как часть к целому, но не как случай к правилу, как это бывает во всех прочих науках, имеющих дело с понятиями, а не с одними только фактами... В действительной науке частное и единичное есть самое достоверное, потому что основано на непосредственном наблюдении, общие же истины, выводимые из частного и единичного, благодаря этому заключают иногда некоторую долю лжи. В истории мы видим совершенно обратное явление: здесь самое общее есть самое достоверное, например — исторические периоды, смены правителей, революции, войны и мирные договоры; частности же событий и взаимная связь их уже не так достоверны и притом тем менее, чем более будем пускаться в эти подробности. Поэтому чем специальнее история, тем она занимательнее; но зато она тогда еще менее достоверна и во всем почти приближается к роману». Нетрудно заметить, что приведенное выше размышление Толстого по поводу истории Соловьева написано не без влияния этих мыслей Шопенгауэра об исторической науке.
Дальнейшие рассуждения Шопенгауэра должны были прямо поразить Толстого сходством с некоторыми его мыслями и взглядами. Шопенгауэр хочет убедить, что история является прямою противоположностью философии: «В то время как история уверяет, что во всякое время было нечто другое, философия доказывает, что во все времена было и будет одно и то же. И точно, сущность человеческой жизни, как и природы, всегда одна и таже, и потому для основательного познания ее требуется лишь глубокое понимание. История же старается заменить это понимание знанием подробностей, т. е. старается заменить глубину знания шириною... История на каждой странице показывает нам одно и то же, только под различными формами. Но кто не заметил этого в одной или немногих формах, тот вряд ли и узнает это после изучения всех форм. Главы во всемирной истории, собственно говоря, различны между собою только по именам и числам, а не но содержанию, которое всегда одно и то же». Далее Шопенгауэр упрекает историческую науку в том, что она в своих построениях ничего не говорит о нравственном усовершенствовании, потому что оно не подвержено переменам: «Но нравственная сторона-то и есть самая важная, как об этом свидетельствует наше внутреннее глубокое сознание, и она-то коренится только в индивидууме, давая направление воле его. Поэтому только жизненное поприще отдельной личности имеет единство, связь и полное значение; только это поприще имеет нравственный и назидательный смысл. Только внутренние происшествия, поскольку они касаются воли, имеют истинную реальность и могут считаться действительными событиями, потому что только воля есть вещь сама в себе. Каждая личность есть микрокосм (малый мир), в котором заключается весь мир — макрокосм; а этот последний содержит не более, нежели первый». Исходя из этих предпосылок, Шопенгауэр утверждает: «Истинная философия истории состоит именно в убеждении, что, несмотря на все бесконечные перемены и путаницу, всегда остается одна и та же неизменная сущность, производящая то же самое сегодня, что и всегда. Следовательно, она должна познавать тождество во всех происшествиях старого и нового времени, Востока и Запада, и усматривать везде одно и то же человечество, несмотря на всякие различия обстановки, костюмов и нравов».
Мысли Шопенгауэра об истории и исторической науке послужили Толстому опорой для работы над новым историческим романом. Этот роман должен был, очевидно, содержать в себе уже не только полемику с историками, по и художественное раскрытие проблемы, поставленной в «Войне и мире», — проблемы человека и истории. Противоречия историзма и антиисторизма, составляющие философскую основу «Войны и мира», должны были найти здесь свое разрешение.
з
Связь замысла романа о Петре с «Азбукой». Первые наброски и изменение замысла. Дальнейшие наброски «Старое и новое». Образ Петра. Работа над материалами и неудача.
17 декабря 1872 г. Толстой пишет Страхову: «До сих пор не работаю. Обложился книгами о Петре I и его времени; читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника. На что ни взглянешь, все задача, загадка, разгадка которой только возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит туг. Мне даже кажется, что ничего не выйдет из моих приготовлений. Слишком уж долго я примериваюсь и слишком волнуюсь. Я не огорчусь, если ничего не выйдет» (61, 349). Эти признания проливают свет на самый замысел. Петровская эпоха окончательно определилась в сознании Толстого как «узел русской жизни», т. е. как эпоха, с которой современность связана неразрывными нитями. Роман должен был не только раскрыть Петровскую эпоху, но и показать корни современной России: решить проблему дворянства и крестьянства, города и деревни, цивилизации и пр. Определяющим моментом для построения романа было собственное сложное положение Толстого: положение помещика-аристократа, не согласного ни с официально-бюрократическим строем, ни с превращением России в буржуазно-капиталистическую страну, ни с идеями, теориями и поведением революционно-демократической интеллигенции. Недаром Толстой так долго примеривался и так волновался: задача была слишком трудна. Слова «я не огорчусь, если ничего не выйдет», указывают на то, что он сам стал сознавать чрезмерную трудность этой задачи. «Подробности» не помогали: историческая живопись как таковая была для Толстого делом чуждым.
Зима 1872/73 г. проходила в попытках взяться за писание романа. Описывается «потешная война» — военные маневры осенью 1694 г. под селом Кожуховом (около Москвы). Петровское время уже вступает в свои права: Петр вызывает на «ратное учение» служилых помещиков из двадцати двух городов. Завязывается тот самый исторический «узел русской жизни», о котором Толстой писал Страхову: начинается борьба Петра с дворянством. Некоторые наброски, относящиеся к этому периоду, получают особое и характерное заглавие: «Старое и новое». Толстой приступает к изображению этой исторической борьбы. «Был слух, — пишет Толстой в начале одного наброска, — что собирают войско опять в Крым на Татар, и много помещиков отписывались больными и отплачивались деньгами, чтоб не идти в поход. Но князь Иван Лукич (Щетинин), хоть и много было дела в деревне, хоть и копны не все еще свезены были, как получил приказ, так стал собираться, приказал свое именье старшему сыну с княгиней и день в день, в срок пришел к Москве со своими лошадьми, людьми и обозом. И привел с собой кн. Иван Лукич, мало того, вполне всех людей и лошадей по списку, но лишним привел своего середнего любимого сына Никиту на аргамаке с саблей, ружьем и пистолетами» (/7,192). Князь Иван Лукич Щетинин — новый герой Толстого, заменивший собой Ивана Андреевича Толстого. Интересно, что новый герой тоже связан с родословной Толстого: прабабкой Толстого была рожденная Щетинина, Александра Ивановна.
Наброски 1872-1873 гг. недаром озаглавлены «Старое и новое». Рассказывая о приезде князя Щетинина в Москву на ратное учение, Толстой говорит: «Старый князь, хоть и 23 года не был в Москве — с тех пор, как его сослали в вотчины при царе Алексее Михайловиче, — все, что он видел в Москве и теперь в войске, было ему не в диковину. Хоть и было нового много теперь, чего он не видывал прежде, он уже прожил 6 десятков и видал всячину. Старому умному человеку ничто не удивительно. Старый умный человек видел на своем веку много раз, как из старого переделывают новое, и как то, что было новое, опять сделается старое, потому в новом видит не столько то, почему оно лучше старого, не ждет, как молодые, что это будет лучше, а видит то, что перемена нужна человеку» (/7, 193). Совершенно ясно, что это сказано не только о Щетинине и не только о Петровском времени. Наброски Кожуховского похода обрываются на сцене роздыха, данного войскам 5 октября, вдень именин Лефорта. У Щетинина гости, среди которых князь Хованский и дьяк Курбатов, сват Щетинина, с сыном, Преображенским солдатом. Хованский — враг петровских нововведений, дьяк Курбатов — поклонник нового немецкого строя. Завязывается спор. Курбатов хвалит немецкий военный строй. Щетинин советует ему не соваться в ратное дело. Курбатов возражает: «Дело ума. Немец ученее тебя, он и придумал. Кто же зелье выдумал, наш что ли. Кто пищаль приладил, наш что ли? нет». Он обращается за разъяснением к Хованскому: «Так что ли, князь?» Хованский, «человек особистый, грузный», отвечает уклончиво: «Твое здоровье». Курбатов повторяет вопрос. «Я тебе вот что скажу (отвечает Хованский. — Б. Э.). Как проявились Немцы, стали им пропуск давать, не стало строенья на земле, и все к матери. — И князь Хованский сморщился, махнул рукой. — Потому в книгах писано, тебе, я чай, известно. От чуждого чуждое поядите». Спор разгорается: «Курбатов поджал губы и опять распустил их, чтоб выпить меду. Выпив, сказал: — Без ума жить нельзя. Теперь все по планту разнесут и видна. — Да чего по планту, — сказал Щетинин. — А того, что не твоего ума дело. — Моего, не моего. (Меж них была враждебность, обыкновенная между сватами.) Ты пузо-то отрастил небось не на Немца, а на Русского. — Нет слова, а когда Царь умнее нас с тобой». Эта реплика Курбатова придает возникшему спору особую политическую остроту: «Щетинин вспыхнул, красное лицо в белой бороде. — Царь! — сказал он. — Быть ему здорову, — и выпил». Следует характерная реплика Хованского: «Царь млад! — Хованский махнул отчаянно рукой». Это вызывает целую гневную тираду со стороны Щетинина: «А и млад не млад, нам его не судить, нам за него богу молить, что он нас кормит, нас учит, дураков. Ты сына отдал и думаешь бяда. Да скажи мне Царь батюшка: отдай сына. Возьми. Сейчас двоих отдам. Любого, а то всех бери. Я ни живота, ни детей не пожалею, да не к тому речь. Ты говоришь, — тебе немцы наболтали, а ты и брешешь, что в Московском полку силы нет. Ну выходи, кто, —ей, Демка, давай Аргамака» (/7,191—192). На этом набросок прерван, а вместе с ним прерван и оставлен весь замысел — начать роман Кожуховским походом и сделать Щетинина героем.
Как видно по сохранившемуся материалу, Толстой думал развернуть картину, рисующую отношение бояр-помещиков к Петру и его нововведениям. Щетинин — не враг Петра, как Хованский, но и не безусловный поклонник нововведений, как дьяк Курбатов. Фигура Щетинина была, вероятно, еще не вполне ясна Толстому, как не ясна была ему и личность самого Петра.
В одном из набросков Кожуховского похода рядом с князем Щетининым появляется молодой солдат из новых потешных, дьячий сын Щепотев. Он приходится сватом сыну Щетинина — они женаты на родных сестрах. Заходит спор о лошадях; Щепотев утверждает, что «от конницы в бою проку мало», а старик Щетинин, распалившись, предлагает вывести против него одного на коне четырех пеших с ружьями: «В прах те расшибу; вот какой толк» (/7, 186). На этом набросок прерывается. В варианте намечено продолжение: «Когда кн. Иван Лукич стал садиться (на коня. — Б. Э.), он был пьян, стар, осклизнулся по стремени, оборвался и упал. Щепотев засмеялся. Молодой князь, не говоря слова, замахнулся копьем, ратови- щем, расшиб в кровь голову Щепотьеву. Щепотьев выхватил тесак, хотел драться. Его удержали. Тогда Щепотев ушел в Кожухово, и через час времени за молодым Щетининым пришли по государеву приказу Преображенские потешные двое и 10 стрельцов, связали молодому князю руки и отвели его в Кожухово» (77, 187).
Этот эпизод заменен другим — спором Щетинина с дьяком Курбатовым, но солдат Алексей Щепотев появляется заново в набросках Азовского похода. Теперь он уже не дьячий сын, а по одному варианту — попов сын, по другому — из бедных дворян. В варианте намечена его биография, уже не имеющая ничего общего с князем Щетининым: «В тот самый последний набор Преображенских солдат записался в Преображенском попов сын Алексей, из села Всесвятского. Отец хотел его на свое место поставить, но Алешка, хоть и понятлив был к грамоте, не захотел быть попом, убежал от отца и задался в холопство к боярину Шереметеву по знакомству с дворецким боярским. И, бывши в холопстве, попался в воровстве и был пытан, но очистился огнем и отпущен. А в этом году записался в Преображенское и прозван Щепотевым, за то, что у него походка мелкая, с перевальцем». Итак, Толстой, оставив среду бояр-помещиков, которых он описывал в Кожуховских набросках, берется за новый материал и пишет новое начало романа.
«Из Воронежа к Черкаску на кораблях, на стругах, на бударах вниз по Дону бежало царское войско. Войско с запасами хлебными и боевыми шло в поход под Азов». Так начинается новая первая глава (77, 200—210). Это один из самых законченных и интересных набросков. Дана картина движения тысячи трехсот стругов по Дону; на них плывут войска с «запасами», а позади всех плывет царь Петр «в тридцати вновь построенных кораблях с приказами, казною и начальными людьми». Подробно описано весеннее утро после ночного дождя: «К утру на небе стояли прозрачные тучи, и на левой стороне, на востоке, каймою отделялось чистое небо, и на этой кайме поднялось красное солнце, взошло выше, за редкие тучи, но скоро рассыпало эти тучи, сначала серыми клубами, как дым, а потом белыми курчавыми облаками разогнало эти тучи по широкому небу и светлое, не горячее, ослепляющее, пошло все выше и выше по чистому голубому небу». Так подготовляется появление царя, который на своем корабле обгоняет струги. Царь машет шляпой и бросает ее в воздух; она падает в воду. Алексей Щепотев, плывший на одном из стругов, бросается в воду, достает шляпу и взлезает на царский корабль. Следует сцена Петра с Щепотевым. Впервые дается описание царя — так, как видит его солдат Щепотев. «Алексей был теперь в том раздраженном состоянии души, когда человек чувствует, что совершается в один миг вся его жизнь, и когда обдумает человек в одну секунду больше, чем другой раз годами.
Пока шел Царь, он оглядел его всего и запомнил так, что, покажи ему потом одну ногу царскую, он бы узнал ее. Заметил он в лице скулы широкие и выставленные, лоб крутой и изогнутый, глаза черные, не блестящие, но светлые и чудные, заметил рот беспокойный, всегда подвижный, жилистую шею, белизну за ушами большими и неправильными, заметил черноту волос, бровей и усов, подстриженных, хотя и малых, и выставленный широкий, с ямкой, подбородок, заметил сутуловатость и нескладность, костлявость всего стана, огромных голеней, огромных рук, и нескладность походки, ворочащей всем тазом и волочащей одну ногу, заметил больше всего быстроту, неровность движений и больше всего такую же неровность голоса, когда он начал говорить. То он басил, то срывался на визгливые звуки. Но когда царь засмеялся и не стало смешно, а страшно, Алексей понял и затвердил царя навсегда».
По концу наброска видно, что эпизод с шляпой должен был изменить всю биографию Щепотева. Царь оставляет его при себе: «Очнувшись на другое утро от вина, которого поднесли ему, Алексея одели в новый кафтан и портки и башмаки и послали его к царю». На этом набросок прерывается. Толстой сделал попытку дать сразу, в самом начале романа, фигуру Петра, хотя бы в виде портрета. Попытка эта, очевидно, не удовлетворила его: портрет набросан слишком осторожно, неуверенно, несмотря на обилие физических деталей. Психологический образ Петра Толстому неясен. На этом опыте он убеждается еще раз, что «разгадки» для личности
Петра у него нет. 24 января 1873 г. он пишет Голохвастову: «Я уже дошел в своем изучении времени до той степени (вы верно это испытывали), что начинаешь вертеться в заколдованном кругу. С разных сторон повторяют одно и то же, и знаешь откуда. Неужели только?
Есть у меня еще надежда на родословные. Не знаете, нет ли чего в этом роде? В особенности Шереметевы и Апраксины. С другой стороны, я дошел до того периода, когда, начитавшись описаний того времени, всегда ложных, с пошлой европейской, героичной точки зрения, испытываешь озлобление па эту фальшь и, желая разорвать этот волшебный круг фальши, теряешь спокойствие и внимательность, которые так нужны» (62, 5).
Итак, тщательное изучение материалов не только не помогло, но затруднило: Толстой чувствует себя в «волшебном кругу фальши». Он совсем не исторический живописец, которому нужно только собрать детали и смонтировать их; он взялся за эпоху Петра с тем, чтобы разгадать ее «поэзией», методом «истории-искусства», а это никак не получается. Среди набросков, относящихся, вероятно, к 1873 г., есть один, в котором Толстой пробует подойти к эпохе с новой стороны, сбоку или снизу, не так прямо, как в сцене Щепотева с царем. Петр «тешится» в Москве — празднует взятие Азова; а в это время в Тверскую заставу въехали два мужика, братья Посошковы. Они направляются котцуАвраамию, строителю Андреевского монастыря. Из исторических источников Толстой знал, что «в конце 1696 или начале 1697 года монах Аврамий, бывший... строителем в московском Андреевском монастыре, подал царю тетради, в которых указывалось, что именно в поведении Петра соблазняет народ... Аврамия пытали, чтоб сказал... про людей, которые к нему прихаживали. Монах показал, что друзья ему... да села Покровского крестьяне Ивашка да Ромашка Посошковы, и те все, бывая у него в Андреевском монастыре, такие слова, что в тетрадях написано, говаривали»[644]. Ивашка — это Иван Тимофеевич Посошков, автор книги «О скудости и богатстве».
Иван Посошков спрашивает знакомого десятского, стоящего на карауле: «А это что ж палят?» Караульный отвечает: «У царя гулянье. Азов празднуют». — «Так, — сказал Иван и посмотрел на брата. — ...Так, так, — гуляет. А нынче дни прощеные. Приведет ли бог вернуться. Прости Христа ради, дядя Елистрат». — «Бог простит. Простите и нас грешных» (77, 211). На этом набросок прерывается. Было, очевидно, намерение начать роман так, чтобы показать прежде всего борьбу с Петром, недовольство им в народе.
Толстой не согласен со славянофилами и вовсе не собирается отстаивать допетровскую Русь. Он только настаивает на том, что «цивилизация» должна быть своя и что народ это и делает. Отсюда вывод, направленный против Соловьева: «не правительство производило историю», а народ. Тут возник вопрос о самом Петре, потому что образ его должен был получить ту или другую характеристику, то или другое истолкование. Толстой постепенно подходил к этой задаче и попробовал решить ее в одном из набросков Азовского похода (Петр и солдат Щепотев). Набросан внешний портрет Петра — и не прямо, а с точки зрения Щепотева (как это делалось и в «Войне и мире»). Петр составлен из контрастов — вплоть до голоса, который то басит, то срывается на визгливые звуки. Когда Петр смеется, становится не смешно, а страшно.
Другого Петра в набросках Толстого нет, хотя в выписках собран разнообразный и большой материал для его характеристики. По признаниям в письмах видно, что чем больше Толстой читал и вдумывался, тем более трудной становилась задача, намеченная первоначально. Дело было не в «мозаике» самой по себе, а в исходных принципах. Все элементы для мозаики были как будто готовы, а дело не подвигалось. 31 января 1873 г. С. А. Толстая записывает в своем дневнике: «Чтение материалов продолжается. Типы один перед другим возникают перед ним. Написано около десяти начал, и он все недоволен. Вчера говорил: "Машина вся готова, теперь ее привести в действие"»[645].
Толстой не знал, как выйти из основного противоречия, намеченного еще в записях от 4 и 5 апреля 1870 г. Соловьев неправ, «история-наука» все сглаживает и проходит мимо главного — это Толстой утверждает решительно; но как решить загадки Петровской эпохи, если подойти к ней с методом «истории-искусства» и ничего не сглаживать? Как понять роль Петра, его жизнь и поведение? Как осветить отношение к нему народа? Эпоха 60-х годов, поставив заново вопрос о реформах Петра, не подсказывала никакого решения относительно его личности и деятельности в целом. Кавелин был во многом прав, когда писал в «Вестнике Европы» (1866, № 2), что «для верной оценки Петра Великого наше время едва ли не самое неблагоприятное... Мы до сих пор продолжаем относиться к нему как современники, любим его или не любим, превозносим выше небес или умаляем его заслуги; но число его поклонников редеет, а число порицателей растет...» «Нас вводит в заблужение темперамент преобразования, оригинальная, своеобразная форма, приданная ей необыкновенной личностью Петра. Вот, как нам кажется, существенная и единственная причина всех наших недоразумений... Много, много еще пройдет времени, и пока для Петра наступит спокойный, беспристрастный, нелицеприятный суд, который будет вместе и разрешением вопроса о том, что мы такое и куда идем».
В 1874 г. А. С. Суворин напечатал статью «Литературный портрет Л. Н. Толстого». Знакомство Суворина с Толстым относится еще к 1862 г., в 1872 г. Суворин просил Толстого написать для «Русского календаря» свою биографию, а в 1874 г. Толстой обращался к Суворину с просьбой помочь в борьбе с педагогами. Можно думать, что в эти годы Суворин имел точные сведения о деятельности Толстого. Поэтому некоторые сообщения, имеющиеся в его статье, заслуживают внимания. Суворин говорит о «Войне и мире» как о «лучшем украшении нашей словесности», только несколько испорченном философскими рассуждениями; затем он пишет: «Если он (Толстой. — Б. Э.) напишет роман из времени Петра Великого — года два назад об этом много говорили, — эту нелюбовь к выдающимся людям мы увидим еще яснее. По рассказам людей, с которыми граф Л. Н. беседовал о Петре Великом, выходит, что этого государя он низведет в разряд скорее смешных, чем великих людей. Я не выдаю этого за истину, но я считаю, что это возможно, потому что нимало не противоречит его логике. "Народу Петр представлялся шутом, — говорил будто бы о нем граф Л. Н., — народ смеялся над ним, над его затеями и все их отвергнул" Опять народ и его воззрения!..»[646] Если Суворин и сгустил несколько краски, то это не делает его сообщение недостоверным. Вполне возможно, что в 1873 г. Толстой пришел к подобному выводу, — на это намекает набросок с братьями Посошковыми, едущими в Андреевский монастырь. Позднейшая работа над романом (1879) подтверждает эту версию. Можно думать, что этот поворот в отношении к Петру был главной причиной того, что в марте 1873 г. работа остановилась.
7 марта 1873 г. Толстой сообщал Фету: «Работа моя не двигается... я не огорчусь уж очень» (<?2,15). Последние слова указывают на то, что самый интерес к продолжению этого романа ослабел: изменилась концепция, окончательно отпали все прежние наброски, — нужно было начинать заново. И не только писать заново (брать другой период), но и изучать заново. Между тем надежды на то, что при дальнейшем изучении прояснятся загадки этой эпохи, не было. 20 марта С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Все лица из времен Петра Великого у него готовы, одеты, наряжены, посажены на своих местах, но еще не дышат. Я это ему вчера сказала и он согласился, что правда. Может быть и они еще задвигаются и начнут жить, но еще не теперь» (/7, 632).
Действительно, наряженные в костюмы XVII века и посаженные на своих местах лица из Петровской эпохи пока не задышали и не задвигались. Убедившись в этом, Толстой прервал работу над историческим материалом и взялся за другое.
Еще в 1870 г., одновременно с замыслом исторического романа, у Толстого мелькнул другой замысел: «Вчера вечером, — записала С. А. 24 февраля, — он мне сказал, что ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и невиноватой и что, как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины»[647]. Теперь, в 1873 г., бросив работу над историческим романом, Толстой вернулся к этому замыслу. Началась работа над «Анной Карениной».
4
Переход от исторического сюжета к семейному. Отношение Толстого к
«женскому вопросуСтрахов о книге Милля и письмо Толстого к Страхову.
Шопенгауэр и А. Дюма.
19 марта С. А. Толстая записала в дневнике: «Вчера вечером JI. мне вдруг говорит: "А я написал полтора листочка и, кажется, хорошо". Думая, что это новая попытка писать из времен Петра Великого, я не обратила большого внимания. Но потом я узнала, что начал он писать роман из жизни частной и современной эпохи»[648]. Надругой день С. А. сообщила об этом событии сестре: «Вчера Левочка вдруг неожиданно начал писать роман из современной жизни. Сюжет романа — неверная жена и вся драма, происшедшая от этого»[649].
Для самого Толстого переход от исторической темы к семейной не был, конечно, столь неожиданным. После «Войны и мира» были естественны и возможны два пути: либо показать исторический «узел» русской жизни и тем самым разгадать современные ее общественные и бытовые загадки, либо, наоборот, взять человека вне всякой истории. Эти две области были в сознании Толстого соотносительными, как это видно по «Войне и миру». Недаром замыслы исторического романа и романа о «неверной жене» явились одновременно.
Принципиального различия между историческим и неисторическим сюжетом для Толстого нет. На отрицании этого различия, в сущности, и построена идеологическая база «Войны и мира», резко отличающая этот роман от обычных исторических романов. В основу «Войны и мира» была положена система концентрических кругов, охватывающих всю область человеческой жизни — от личных и семейных проблем вплоть до проблем исторических и народных. Однако эти большие проблемы (личности и истории, народа и государства) были поставлены только теоретически и притом полемически: художественного решения для них не нашлось, — этому препятствовал самый принцип концентричности. Люди были показаны на фоне исторических событий, но самый исторический процесс был дан в виде отвлеченных рассуждений о причинах и законах, о свободе и необходимости и пр. После «Войны и мира» Толстой обратился заново к этим большим проблемам. Философско-исторические страницы романа уже не удовлетворяли его: в новом издании (1873) он частью вынул их совсем, частью перенес в «приложение», признав тем самым их несвязанность с художественным материалом. Петровская эпоха была выбрана как «узел русской жизни» — именно с тем, чтобы от концентрических кругов перейти к системе связей и переплетений. По всем наброскам 1872-1873 гг. видно, что Толстой хотел взять историю конкретно: связать историческую и частную жизнь людей в один узел и затем распутать этот моток. Несмотря на все усилия, это не удавалось, потому что в основе замысла было все-таки намерение не столько развязать исторический узел, сколько разрубить его: показать, что настоящая жизнь людей идет независимо от истории, что в основе своей человеческая жизнь неизменна и т.д. Исторический материал сопротивлялся этой тенденции. Чем глубже Толстой входил в него, тем труднее становилась задача. Позднее Толстой сам признавался: «Из Петровской эпохи я не мог написать потому, что она слишком отдалена от нас, и я нашел, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас» (/7, 639-640). Оказалось, что роман из Петровской эпохи пришлось бы сделать историческим в полном смысле этого слова, т. е. отказаться от основных принципов «Войны и мира», снять противоречия историзма и антиисторизма. Этого Толстой и не хотел и не смог бы сделать: он предпочел сбросить со своих персонажей их исторические костюмы.
В одном из ранних набросков (№ 7) промелькнула фраза, оказавшаяся потом лишней: «Все смешалось в царской семье»; она пригодилась для нового романа: «Все смешалось в доме Облонских». Эта стилистическая связь скрывает в себе связь самых замыслов, казалось бы столь далеких друг от друга. Идеологическая тональность обоих замыслов одна и та же: Толстому нужно найти «узел жизни», чтобы решить проблему человеческого поведения. Каким методом добраться до этого узла — методом «истории-искусства» или методом простого искусства — безразлично: нити, составляющие этот узел, уходят одним своим концом в историческую жизнь, а другим — в жизнь частную, семейную. От «Семейного счастия» Толстой перешел к «Войне и миру», с тем чтобы установить самую наличность этих нитей между исторической и частной жизнью. Теперь, потерпев неудачу в попытках связать эти нити в один исторический узел, он возвращается к семейному материалу, решив заменить тему «семейного счастья» темой семейного несчастья. Роман открывается афоризмом, который как бы нарочно подчеркивает и эту связь с прежними романами, и этот отход: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». (У Лермонтова: «История счастливых людей не бывает никогда занимательна». —- «Странный человек».)
«Семейное счастие» было откликом на полемику о женском вопросе. В 60-х годах вопрос этот становится одной из самых злободневных и боевых тем русской публицистики и беллетристики. Достаточно вспомнить, какое внимание было ему уделено в романе Чернышевского «Что делать?» и как сильно реагировали читатели и критики на эту сторону романа. Толстой написал тогда комедию-фарс «Зараженное семейство» — «в насмешку эманципации женщин и так называемых нигилистов». Описанная в эпилоге «Войны и мира» семейная жизнь Пьера продолжает эту полемическую линию. Здесь есть и специальные рассуждения о «призвании женщин». Сохранился набросок десятой главы эпилога (ч. 2), представляющий собой более пространную редакцию[650]. Набросок начинался полемикой с Тургеневым — по поводу его предисловия к роману Ауэрбаха «Дача на Рейне». Говоря о романе Ауэрбаха «Жена профессора», Тургенев пишет: «В этом... произведении он также в первый раз коснулся вопроса, который с тех пор все более и более его привлекает, в который он старается все глубже проникнуть, — вопроса о браке, во всей его важности и полноте, со всеми его почти неразрешимыми противоречиями и постоянным стремлением к разрешению и примирению»[651]. Толстой отвечает на эти слова Тургенева: «Вся неразрешимая сложность таинственного вопроса о браке, которую, по уверению г. Тургенева, разрабатывает г. Ауербах вместе с другими европейскими и нашими мыслителями, заключается в том же, в чем заключается сложность вопроса питания человека, который хочет за один раз съесть два или 10 обедов... Тот, кто захочет жениться на двух и трех, не будет иметь ни одной семьи. Результат брака — дети. Детям в нравственном мире, как воздух и тепло в физическом, необходимо влияние отца и матери, живущих в единстве согласия семьи. Единства и согласия семьи не может быть при двух или трех матерях и отцах». Далее Толстой переходит к вопросу о призвании и поведении женщины и приводит возражения «милых дам, которые, как бы награждая меня, удостаивают чтением мою книгу» (очевидно — «Войну и мир»): «Почему же, милый граф, хорошая мать не должна чесаться и умываться?» Затем приводится возражение фельетонного критика: «Автор по своей особенной логике (так как художник всегда говорит глупости, когда он вторгается в нашу область мыслей), кажется, предполагает, что все назначение женщины состоит в рожании и воспитывании детей, и по невежеству своему не слыхал того, что выработала новейшая социальная наука о назначении женщины, игнорирует о той разработке неразрешимого вопроса о браке и т. д. и т. д.». Толстой отвечает на эти недоумения и возражения: «Достоинство человека не заключается в том, чтобы он имел какие бы то ни было качества и знания, а только в том, чтобы он исполнял свое призвание. Призвание мужчины — это рабочие пчелы улья человеческого общества — бесконечно разнообразно, но призвание матки, без которой невозможно воспроизведение рода, — одно несомненное.
И, несмотря на то, женщина часто не видит этого призвания и избирает мнимые —другие. Достоинство женщины состоит в том, чтобы понять свое призвание. Женщина же, понявшая свое призвание, не может ограничиться кладением яичек. Чем более она будет вникать в него, тем более это призвание будет захватывать ее всю и представляться ей бесконечным» (7, 133, 134).
Итак, Толстой — решительный противник «женского вопроса» и всего того, что по этому вопросу «выработала новейшая социальная наука». Описывая в эпилоге «Войны и мира» поведение Наташи, он заявляет: «Толки и рассуждения о правах женщин, об отношениях супругов, о свободе и правах их, хотя и не назывались еще, как теперь, вопросами, были тогда точно такие же, как и теперь... Вопросы эти и тогда, как и теперь, существовали только для тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получаемое супругами друг от друга, т. е. одно начало брака, а не все его значение, состоящее в семье».
В 1869 г. вышла в двух русских переводах книга Дж. Стюарта Милля: «Подчиненность женщины» (с предисловием Н. Михайловского) и «О подчинении женщины» (с предисловием Г. Благосветлова). Книга имела такой успех, что уже в 1870 г. вышло второе издание первого перевода с предисловием М. Цебриковой. С ответом на книжку Милля и на предисловия к ней Михайловского и Благосветлова выступил Н. Страхов в журнале «Заря» (1870. № 2). «Наше печальное время, — начинает свою статью Страхов, — очень любит всякого рода вопросы. Возбудить, поднять, поставить вопрос считается заслугою, некоторым умственным подвигом. Подвергать сомнению существующие мнения и установившиеся порядки признается делом не только позволительным, но и похвальным, как самая правильная и законная деятельность ума. Многие притом уверены, что все области человеческой жизни так и кишат вопросами, что стоит только поумнее взяться за любой предмет, и он тотчас обратится в вопрос». Статья направлена против женского вопроса и против постановки его в русской публицистике. Страхов считает, что Россия в этом вопросе ушла далеко вперед по сравнению с Англией и что книга Милля ни в каком отношении не указ для русских.
Последние главы статьи Страхова посвящены вопросу об «идеале женщины» — вопросу, обойденному в книге Милля. Английская женщина — «это очень высокий тип женской красоты и женских душевных качеств, и с этим типом не могут равняться наши русские женщины, несмотря на то, что издавна находились в несравненно лучшем юридическом положении. Вот сторона женского вопроса, очевидно вовсе упущенная из виду Миллем. Между тем эта сторона вполне действительная и для нас весьма важная. Во многих русских семействах девушек учат английскому языку именно для того, чтобы сделать им доступною английскую литературу, в которой отразился образ английской женщины. Английские романы составляют обыкновенное, давно у нас принявшееся и заведомо доброкачественное чтение для женщин и девушек. Англия — классическая страна чистых семейных нравов, подобно тому как Франция есть классическая страна любовных похождений. Вот сторона дела, которую, по-видимому, никак нельзя упускать из виду и которая не может нас не интересовать. Что будет из русской женщины? Даст ли она миру новый образец красоты человеческой природы или же останется примером бесцветности и, пожалуй, какой-нибудь нравственной уродливости?»
Поставив так вопрос и отчасти опираясь на книгу самого Милля, Страхов приходит к выводу, что «для большинства замужних женщин невозможно посвящать себя другим делам, кроме простых обязанностей хозяйки и матери семейства». Политические права, оказывается, нужны только старым девам и пристроившим всех своих детей старухам. «Общий вывод, — пишет Страхов, — совершенно ясный: для общественных дел требуется женщина бесполая, то есть или такая, которая не имеет пола от рождения, или такая, которая перешла уже за пределы полового возраста». Он упрекает Милля за то, что его книга построена на юридических проблемах, что в ней нет ни слова «о любви и супружеской нежности... Легко было бы однако же усмотреть, что не будь половых различий и половых отношений между женщинами и мужчинами, не было бы вовсе и женского вопроса... Отношения между полами, эти таинственные и многозначительные отношения, — источник величайшего счастья и величайших страданий, воплощение всякой прелести и всякой гнусности, настоящий узел жизни, от которого существенно зависит ее красота и ее безобразие, — эти отношения упущены из виду Миллем и не внесены им в женский вопрос. Это значит: философ выпустил из рассматриваемого явления самую существенную его сторону».
Толстой в это время еще не был знаком со Страховым, но статья о женском вопросе так заинтересовала его, что он написал Страхову письмо. Он «обеими руками подписывается» под ее выводами, но решительно возражает против «уступки», которую Страхов допускает в отношении к «бесполым» женщинам: «Таких женщин нет, как нет четвероногих людей. Отрожавшаяся женщина и не нашедшая мужа женщина все-таки женщина, и если мы будем иметь в виду не то людское общество, которое обещают нам устроить Милли и пр., а то, которое существует и всегда существовало по вине не признаваемого ими кого-то, мы увидим, что никакой надобности нет придумывать исход для отрожавшихся и не нашедших мужа женщин: на этих женщин без контор, кафедр и телеграфов всегда есть и было требование, превышающее предложение. — Повивальные бабки, няньки, экономки, распутные женщины. Никто не сомневается в необходимости и недостатке повивальных бабок, и всякая несемейная женщина, не хотящая распутничать телом и душою, не будет искать кафедры, а пойдет, насколько умеет, помогать родильницам. Няньки — в самом обширном народном смысле» (61, 231—232).
Замечательно, что в один ряд с этими «няньками» Толстой ставит и «распутных женщин». «Семья только в самом первобытном и простом быту может держаться без помощи магдалин, как это мы видим в глуши, в мелких деревнях; но чуть только является большое скопление в центрах — большие села, маленькие города, большие города — столицы, так являются они и всегда соразмерно величине центра. Только земледелец, никогда не отлучающийся от дома, может, женившись молодым, оставаться верным своей жене и она ему, но в усложненных формах жизни, мне кажется очевидным, что это невозможно (в массе, разумеется). Что же было делать тем законам, которые управляют миром? Остановить скопление центров и развитие? Это противоречило другим целям. Допустить свободную перемену жен и мужей (как этого хотят пустобрехи либералы) — это тоже не входило в цели провидения по причинам ясным для нас — это разрушало семью. И потому по закону экономии сил явилось среднее — появление магдалин, соразмерное усложнению жизни. Представьте себе Лондон без своих 80 тысяч магдалин. Что бы сталось с семьями? Много ли бы удержалось жен, дочерей чистыми? Что бы сталось с законами нравственности, которые так любят блюсти люди? Мне кажется, что этот класс женщин необходим для семьи, при теперешних усложненных формах жизни. — Так что, если мы только не будем думать, что общественное устройство произошло по воле каких-то дураков и злых людей, как это думают Милли, а по воле, непостижимой нам, то нам будет ясно место, занимаемое в нем несемейной женщиной». И тут же — ссылка на Мишле, которого Толстой читал еще во время работы над «Семейным счастием»: «Призвание женщины все-таки главное — рождение, воспитание, кормление детей. Мишеле прекрасно говорит, что есть только женщина, а что мужчина есть le male de la femme[652]» (61, 232-233).
Можно сказать с уверенностью, что это странное письмо (оставшееся, кстати, непосланным), содержащее в себе оправдание проституции, признание ее общественно необходимым фактом, восходит к какому-то книжному источнику. Письмо было написано 19 марта 1870 г. — уже после того, как у Толстого явился замысел романа о «неверной жене». Особенно должно было его заинтересовать утверждение Страхова, что отношение между полами — «настоящий узел жизни, от которого существенно зависит ее красота и ее безобразие». Эта мысль была для Толстого не нова, — в еще более резкой формулировке он мог прочитать ее у Шопенгауэра, которым тогда увлекался. При глубокой заинтересованности Толстого вопросами пола, брака и семьи его внимание должны были привлечь такие главы в книге Шопенгауэра, как «Жизнь рода» и «Метафизика половой любви» («Мир как воля и представление», второй том). Шопенгауэр утверждает, что половая любовь играет важную роль «не только в пьесах и романах, но и в действительности, где она после любви к жизни является самой могучей и деятельной изо всех пружин бытия, где она беспрерывно поглощает половину сил и мыслей молодого человечества, составляет конечную цель почти всякого человеческого стремления» и т. д. Далее Шопенгауэр утверждает, что глубокая важность этой человеческой потребности касается «жизни и характера всего человеческого рода в будущих веках», что здесь «воля индивидуума выступает в своем повышенном качестве, как воля рода», и что именно на этом «зиждется пафос и возвышенный строй любовных отношений, трансцендентный момент восторгов и страданий любви, которую поэты в продолжение тысячелетий не устают изображать в бесчисленных примерах, ибо нет темы, которая по своему интересу могла бы сравниться с этой: трактуя о благополучии и горести рода, она так же относится к другим темам, касающимся только блага отдельных личностей, как геометрическое тело к плоскости. Вот почему так трудно заинтересовать какой-нибудь пьесой, если в ней нет любовной интриги; вот почему, с другой стороны, эта тема никогда не исчерпывается и не опошляется, хотя из нее и делают повседневное употребление». Наконец, анализируя отношения между полами, Шопенгауэр приходит к следующему выводу, уже вплотную подводящему нас и к замыслу романа и к теме выше цитированного письма Толстого к Страхову: «Супружеская верность имеет у мужчины характер искусственный, а у женщины — естественный; и таким образом, прелюбодеяние женщины как в объективном отношении, по своим последствиям, так и в субъективном отношении, по своей противоестественности, гораздо непростительнее, чем прелюбодеяние мужчины».
Но настоящий и несомненный источник этого письма — двадцать седьмая глава второго тома «Parerga mid Paralipomena»: «О женщинах». Если до сих пор я говорил о близости некоторых мыслей Шопенгауэра и Толстого, то в данном случае можно говорить уже о прямом цитировании. Шопенгауэр утверждает, что европейская система моногамии построена на ложном и противоестественном принципе эквивалентности мужчины и женщины. При этой системе «число замужних женщин сокращается, и остается множество неустроенных женщин, которые в высших классах влачат существование в качестве бесполезных старых дев, а в низших принуждены заниматься несоразмерно тяжелой работой или становятся женщинами легкого поведения (Freudenmadchen), которые при таком положении однако необходимы для удовлетворения мужского пола; они являются открыто признанным сословием, социальная задача которого — сохранять от разврата снисканных судьбой женщин, которые нашли себе мужей или надеются их найти. В одном Лондоне их насчитывается 80 ООО». Совершенно очевидно, что именно отсюда заимствовал Толстой свое утверждение о необходимости «этого класса женщин для семьи» и справку о количестве «магдалин» в Лондоне. Но характерно, что исходные точки зрения Шопенгауэра остались при этом в стороне: Толстой продолжает утверждать, что «род человеческий развивается только в семье», и необходимость появления «магдалин» связывает с «усложненными формами жизни», а не с принципом моногамии, как Шопенгауэр. Он пользуется Шопенгауэром, но «разрывает» его систему в тех случаях, когда она не совпадает с его взглядами или «правилами».
Толстой мечется в поисках «узла жизни», чтобы развязать его. Сначала он возлагал надежды на историю: исторический роман должен был показать то, чего не в силах показать историческая наука. Но, взявшись за работу, он постепенно стал убеждаться в том, что исторический материал связывает его, что волнующие его вопросы вовсе не требуют обращения к истории. Чтение Шопенгауэра утвердило его в этом еще более. Тогда на первый план выступил другой замысел, скрыто присутствовавший уже в «Войне и мире» и органически связанный с давними размышлениями о женщине, о браке, о семье: замысел романа о семейном несчастье, о «неверной жене». Дополнительным толчком к осуществлению этого замысла явилось чтение одной французской книги, появившейся в 1872 г. и написанной на волновавшую Толстого тему. 1 марта 1873 г. Толстой написал Т. А. Кузминской: «Слободина твоего я достал 3-ю часть и прочел и удивился, что ты нашла. Ничего нет, кроме вечных благородных юношей студентов, от которых избави нас, господи. Прочла ли ты rhomme — femme? Меня поразила эта книга. Нельзя ждать от француза такой высоты понимания брака и вообще отношения мужчины к женщине» (62, 11). Поразившая Толстого книга — трактат Александра Дюма-сына (автора «Дамы с камелиями»), появившийся в 1872 г. под заглавием «L'homme — femme. Rdponse h M. Henri d'Ideville»[653]. В этой книге обсуждается характерный для французской буржуазии послевоенного периода вопрос: как поступать с неверной женой — убивать или прощать? Книга Дюма вызвала во Франции большую полемическую литературу на тему брака и измены.
Дюма-сын уже в 60-х годах стал выступать в роли моралиста и проповедника. Его пьесы выходят в новых изданиях с обширными предисловиями, в которых он обсуждает проблемы социальных и семейных зол. «Он рассуждает, он исследует, он, скажем прямо, догматизирует. Он обладает истиной, он знает, что должно спасти мир. Он пишет, чтобы возвестить эту истину: быть моралистом и реформатором нравов — такова его задача, такова основа его художественной деятельности... В нем, как во многих художниках этого времени, но в особенно сильной степени, сказался рост личного влияния, столь характерный для современных литераторов. Он полон такой веры в себя, в свои идеи, в свою мудрость, что у него нет никаких сомнений и он не допускает никаких возражений. Самая недостаточность его первоначальной умственной культуры оказывает ему при этом помощь... Его незнание, очень значительное, позволяет ему приписывать все самому себе — думать, что он открывает то, о чем он узнает, и что он изобретает то, что он открывает. Воодушевленный идеей, которая только что явилась ему, он приписывает ей сразу важное, господствующее значение. Он рекомендует ее как способ исцеления от всех болезней. Он возвещает ее миру как своего рода евангелие». Так говорит о Дюма историк французского театра Думик42.
Совершенно понятно, что Толстой, очень следивший за французской литературой, должен был обратить внимание на деятельность Дюма и заинтересоваться его творчеством. Весьма вероятно, что он знал о Дюма и до прочтения книги «L'hom- me — femme»: «Дама с камелиями» и роман «Дело Клемансо» (1866) были достаточно популярны в России; но после этой книги имя Дюма становится для Толстого именем друга и единомышленника. В 1893 г. он пишет статью «Не-делание», в которой обрушивается на Золя за его речь к парижским студентам и противопоставляет ей письмо Дюма по поводу этой речи. О работе над этой статьей он сообщает JI. JI. и М. JI. Толстым: «Теперь пишу о двух статьях Зола и Дюма, которые мне прислал редактор "Revue des Revues" Очень интересные письма о духе времени и о том, чем это кончится и что делать. Dumas говорит: "Я думаю, что теперь наступает время, когда мы серьезно примемся исполнять слова: любите друг друга, не разбирая того, кто сказал их, бог или человек". В этом одном он видит выход из тех противоречий, в которых мы запутались. А Зола, напротив, очень глупое» (66,351). В письме к Н. Н. Ге Толстой говорит о том же: «Еще написал статью о письмах Зола и Дюма о современном настроении умов. Мне показалось очень интересно: глупость Зола и пророческий, поэтический голос Дюма» (66, 365)[654].
В статье «Не-делание» Толстой нападает на Золя за его веру в науку и труд и восторгается словами Дюма. «Как ни странно это может казаться тем, — говорит Толстой, — которые, читая сочинения писателей, видят только внешнюю сторону писания, а не душу писателя, тот самый Дюма, который написал "Dame aux camd- lias", "Affaire Cldmenceau" и др., этот самый Дюма видит теперь будущее и пророчествует о нем. Как ни странно это кажется нам, привыкшим представлять себе пророка в звериной шкуре и в пустыне, пророчество остается пророчеством, несмотря на то, что оно раздается не на берегах Иордана, а печатается на берегах Сены в типографии Голуа, и слова Дюма — действительное пророчество и носят на себе все главные признаки пророчества: во-первых, тот, что слова эти совершенно противоположны всеобщему настроению людей, среди которых они раздаются; во-вторых, тот, что, несмотря на это, люди, слышащие эти слова, сами не зная почему, соглашаются с ними и, в-третьих, главное, тот, что пророчество содействует осуществлению того, что оно предсказывает... Зола советует людям не изменять своей жизни, а только усиливать деятельность в раз принятом направлении, и этим внушает им неизменение их жизни, Дюма же, предсказывая внутреннее изменение чувств людей, внушает им его» (29, 194).
Интерес Толстого к Дюма был настолько серьезен, что смерть Дюма в 1895 г. была для него большим огорчением. В 1897 г. он вспоминает об этой смерти в письме к жене: «Сережа вчера мне сказал, что Генри Джордж умер. Как ни странно это сказать, смерть эта поразила меня, как смерть очень близкого друга. Такое впечатление произвела на меня смерть Александра Дюма. Чувствуешь потерю настоящего товарища и друга» (84, 298).
Несогласный с освещением женского вопроса, как он ставился в русской передовой печати, Толстой находит себе поддержку в книге Дюма, который говорит не о правах, не о юридическом и общественном положении женщины, а о браке, о семье, об отношениях между мужчиной и женщиной. Основное в жизни («настоящий узел жизни», по выражению Страхова) — борьба между мужским и женским началом: «борьба страшная, вечная, ежедневная, непрерывная, тем более ужасная, что борющиеся сначала обожают друг друга или верят, что обожают». Брак — это треугольник, составленный из бога, мужчины и женщины. Женщина — существо низшее, полное мелкого любопытства и всегда готовое изменить. Ее спасение в семье: муж должен оказывать на нее нравственное воздействие, воспитывать и по возможности прощать. Но есть женщины, которые не поддаются никакому воздействию или воспитанию: таким нельзя прощать — их надо убивать. Последние страницы книги «L'homme — femme» содержат советы воображаемому сыну, которые кончаются словами, вызвавшими обширную полемику: «Но если, несмотря на все твои предупреждения и разъяснения, несмотря на твое знание людей и обстоятельств, несмотря на твою добродетель, терпение и доброту, ты все-таки обманут, если ты соединил свою жизнь с недостойным тебя созданием, если попытки сделать ее своей супругой оказались тщетными и ты не спас ее материнством — этим земным искуплением женского пола, если, не желая тебя слушаться ни как супруга, ни как отца, ни как друга, ни как учителя, она не только бросает твоих детей, но уходит с первым встречным и производит на свет других детей... если закон, взявший себе право связывать, отказывается от права развязывать и объявляет себя беспомощным, — объяви сам себя судьей и палачом этого создания. Это не женщина... это — чистейшее животное, это обезьяна из библейской страны Но это Каинова самка — убей ее». В качестве иллюстрации к этому положению Дюма написал драму «Жена Клавдия», в которой муж, убедившись в невозможности исправить жену и спасти от нее свое дело, убивает ее. В большом предисловии к этой пьесе Дюма говорит о книге «L'homme — femme»: «Я постарался в этой книге объяснить физиологически, социально, библейски это особенное создание, которое ошибочно называют женщиной, которое я назвал обезьяной из страны Но».
Исходя из борьбы мужского начала с женским, Дюма рисует мрачными красками самые отношения между полами и самую семейную жизнь, как она обычно складывается: «Наиболее честные выполняют требования общества и перед лицом мэра или священника клянутся любить друг друга. Они более или менее держат свое обещание. И вот они впрягаются и тянут жизнь вдвоем, как волы, которые тащат плуг, по камням и по грязи, под солнцем и дождем, с трудом, терпеливо, молча прокладывают борозды, не спрашивая, что в них посеют и что вырастет. Необходимость подгоняет их, когда они хотят остановиться... Они дают жизнь другим существам, которые будут похожи на них, и они умирают, как родились, как жили, как создавали, как делали все, не зная сами, что они делают. Так у малых и бедных, у черни. Та же судьба у богатых и великих — с той разницей, что они стоят несколько выше на общественной лестнице, лучше едят, хуже переваривают и тащат за собой только свои страсти, свои пороки, свои личные несчастья и огорчения, в которых они почти всегда сами виноваты. Такова общая, внешняя картина жизни людей — огромных людских стад, которые толпятся, кормятся, мычат, размножаются, дерутся, умирают, исчезают и возобновляются среди полной равнодушия природы, которая с убийственным хладнокровием кормит и пожирает их». Обряд свадьбы, по словам Дюма, «зрелище грустное, похожее на человеческое жертвоприношение». Переходя к самым интимным сторонам брачной жизни, Дюма пишет: «Вы наконец одни! Это живое создание принадлежит тебе. Ее семья и общество отдали ее тебе после того, как она сама объявила о своем доверии к тебе. Одновременно алтарь и жертва в том таинстве, которое сейчас будет совершено, она ждет бога, от которого должна принять смерть и жизнь, потому что нечто должно в ней умереть и нечто должно родиться». Дюма решительно заявляет: «Нет ни одной женщины, кем бы потом она ни стала, которая не говорила бы со стьщом, с ужасом, с отвращением, с грустью об этом первом столкновении с действительностью». Так иллюстрирует Дюма свое основное положение — о трагической борьбе женского начала, формирующего и пассивного, с мужским.
Странно, конечно, что эта французская буржуазная «философия» могла «поразить» Толстого и вызвать у него такую восторженную оценку; но надо помнить, что Толстой — совершенно особый читатель: он никогда не входит в систему, в мировоззрение чужого автора, а только берет и ассимилирует себе отдельные элементы, задевающие его за живое. Так было с Шопенгауэром, так было и с Дюма. Его «поразили» именно совпадения некоторых своих мыслей и настроений с мыслями Дюма, хотя их источники, их основы были совершенно различны. Можно привести некоторые примеры. 12 января 1872 г. Толстой пишет А. А. Толстой: «Варя, моя любимица, выходит замуж за Нагорного, и я в первый раз испытал чувство жестокого отца, какие бывают в комедиях. Хотя в молодом человеке нет ничего дурного, я бы убил его, если б он мне подвернулся на охоте. И я своей мрачностью расстроил их ребяческое, так называемое, счастие; а не могу иначе. Избави бог дожить до невесты дочери. Это чувство жертвоприношения, заклания на алтаре какого-то страшного и цинического божества» (67, 269). Эти строки написаны до чтения книги Дюма, а между тем они выглядят отголоском этого чтения — вплоть до слов о «человеческом жертвоприношении». Другой пример — из более поздней эпохи. В воспоминаниях В. Лазурского приводится разговор о браке, происходивший в Ясной Поляне в 1894 г.: «По его (Толстого. — Б. Э.) глубокому убеждению, те, которые говорят о браке как о каком-то празднике, те, которые в романах кончают свадьбой, словно это так хорошо, что дальше и писать нечего, — все они мелют сущий вздор. Уж если нужно сравнение, то брак следует сравнивать с похоронами. Человек шел один — ему привязали за плечи пять пудов, а он радуется»[655].
Трактат Дюма о женщине пригодился Толстому в его борьбе с женским вопросом, объявленной уже в эпилоге «Войны и мира». По планам и наброскам к «Анне Карениной» видно, что Толстой имел намерение вступить в прямую полемику с «нигилистами». В первом коротком плане есть запись: «О чем ни заговорят нигилисты — дети, состояние, — все приводится к неясным положениям» (20, 586). В другом плане записано: «Алексей Александрович едет разводиться. Обед у Облонского. Нигилисты в Петербурге» (20, 6). В одном из ранних черновиков девятой — десятой глав четвертой части (обед у Облонских) книга Дюма фигурирует в споре о женском образовании: «Вдруг разговор перешел в конце обеда на последнюю французскую полемику между Dumas и Е. Girardin о l'homme — femme. Разговор при дамах велся так, как он ведется в хорошем обществе, т. е. искусно обходя все слишком сырое, и разговор занял всех сильно, несмотря на то, что Долли, поняв всю тяжесть этого разговора для Алексея Александровича, хотела замять его. Студент и Ровский[656] стали спорить... Студент, разумеется, защищал права женщин, Ровский развивал и подкреплял мысль Дюма. Он говорил, что ее надо убить. И это мнение так шло к его атлетической фигуре, черным глазам и зловещему их блеску, что невольно верилось, что он говорил то, что думал» (20, 338). В окончательном тексте книга Дюма не упоминается, но разговор о женском образовании и женских правах остался. Здесь явно использованы статья Страхова по поводу книги Милля и то самое письмо Толстого к Страхову, которое было приведено выше. Песцов говорит словами Милля и его русских последователей (см., например, предисловие Цебриковой к русскому переводу Милля): «Женщина лишена прав по недостатку образования, а недостаток образования происходит от отсутствия прав. — Надо не забывать того, что порабощение женщин так велико и старо, что мы часто не хотим понимать ту пучину, которая отделяет их от нас». Сергей Иванович Кознышев отвечает Песцову словами Страхова: «Вы сказали права... права занимания должностей присяжных, гласных, председателей управ, права служащего, члена парламента... Но если женщины, как редкое исключение, и могут занимать эти места, то, мне кажется, вы неправильно употребили выражение "прав£". Вернее бы было сказать: "обязанности"». Степан Аркадьевич поднимает тот самый вопрос, который был темой письма Толстого к Страхову в 1870 г.: «Да, но что же делать девушке, у которой нет семьи?» Долли отвечает словами Толстого: «Если хорошенько разобрать историю этой девушки, то вы найдете, что эта девушка бросила семью, или свою, или сестрину, где бы она могла иметь женское дело». Реплики старого князя Щер- бацкого, которыми заканчивается весь этот разговор, звучат как шутки самого Толстого: «Все равно, что я бы искал права быть кормилицей и обижался бы, что женщинам платят, а мне не хотят». В ответ на слова Песцова о том, что женщина стеснена и подавлена сознанием невозможности быть независимой и образованной, старый князь шутит: «А я стеснен и подавлен тем, что меня не примут в кормилицы в Воспитательный Дом». На фоне этого разговора история Анны и Кити выглядит как полемический ответ на все рассуждения о «женском вопросе» — как развитие тех самых взглядов на женщину, которые были изложены Толстым в эпилоге «Войны и мира», в письме к Страхову и сродство с которыми «поразило» Толстого в книге Дюма.
Итак, замысел «Анны Карениной» был в основе своей достаточно подготовлен и «Семейным счастием», и «Войной и миром». Помимо этого он был подготовлен и самой линией русского семейного романа, если считать началом этой линии «Евгения Онегина» Пушкина. Русский роман 70-х годов уходил в сторону от этой традиции, превращаясь в роман социальный (Тургенев, Достоевский, Салтыков- Щедрин). В то самое время, когда Толстой кончал «Войну и мир», Салтыков-Щедрин писал в «Господах ташкентцах»: «Мне кажется, что роман утратил свою прежнюю почву с тех пор, как семейственность и все, что принадлежит к ней, начинает изменять свой характер. Роман (по крайней мере в том виде, каким он являлся до сих пор) есть по преимуществу произведение семейственности. Драма его зачинается в семействе, не выходит оттуда и там же заканчивается. В положительном смысле (роман английский), или в отрицательном (роман французский), но семейство всегда играет в романе первую роль.
Этот теплый, уютный, хорошо обозначившийся элемент, который давал содержание роману, улетучивается на глазах у всех. Драма начинает требовать других мотивов; она зарождается где-то в пространстве и там кончается... Роман современного человека разрешается на улице, в публичном месте — везде, только не дома; и притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом»[657]. Но у Толстого был свой литературный путь, своя историческая миссия: ему было суждено сказать то «последнее слово» в области русского семейного романа, которое Достоевский усмотрел уже в «Войне и мире». Этим действительно «последним словом» не только в русской литературе, но и в творчестве самого Толстого, и была «Анна Каренина».
Часть третья
«АННА КАРЕНИНА»
1
«Анна Каренина» и западные традиции. Первоначальный замысел и наброски.
Первый период работы и остановка. Переписка со Страховым. Возобновление работы и печатание. Искание «подмостков» и отношение к Страхову.
«Анна Каренина» — единственное в мировой литературе XIX века произведение, соединившее в себе столь, казалось бы, несоединимые вещи, как внутренняя история страсти и злободневные вопросы общественной жизни, помещичьего хозяйства, науки, философии, искусства. Мало того: соединение этого обильного и разнообразного материала сделано без помощи какого бы то ни было замысловатого композиционного приема; роман построен на очень открытом и простом параллелизме двух линий. Если между этими линиями и образуются временами какие-то связи или соединения (Кити и Вронский, Анна и Левин), то они оказываются легким пунктиром и никакого фабульного значения не имеют. Роман держится не сцеплением событий самих по себе, а сцеплением тем и образов и единством отношения к ним. Толстой сам писал в ответ на критические замечания С. А. Рачинского: «Суждение ваше об А. Карениной мне кажется неверно. Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи. Поверьте, что это не нежелание принять осуждение — особенно от вас, мнение которого всегда слишком снисходительно; но боюсь, что, пробежав роман, вы не заметили его внутреннего содержания» (62, 377).
Роман по началу кажется сделанным по европейскому образцу, чем-то вроде сочетания традиций английского семейного романа и французского «адюльтерного». Во французской критике встречались даже иной раз суждения (очевидно, довольно распространенные) об «Анне Карениной» как о типичном французском романе: «В сущности говоря, это роман, каких много во французской литературе. Не следует забывать, что Толстой подвергся влиянию нашего народа и имел дружеские отношения с нашими писателями — вот почему Анна Каренина, в известном смысле, заставляет вспомнить Мадам БовартК Французские критики, в известном смысле, правы, когда они видят в «Анне Карениной» следы изучения Толстым французской литературы — Стендаля, Флобера; но, увлекаясь патриотизмом, они не видят главного — того, что «Анна Каренина» (не говоря о русских традициях, восходящих к Пушкину, о чем речь впереди) представляет собой не столько следование европейским традициям, сколько их завершение и преодоление. Однако это получилось не сразу. История создания «Анны Карениной» есть история напряженной борьбы с традицией любовного романа — поисков выхода из него в широкую область человеческих отношений. Роман скрывает в себе большое внутреннее движение: это не простое единство, а единство диалектическое, явившееся результатом сложных умственных процессов, пережитых самим автором.
Работа над «Анной Карениной» была начата 18 марта 1873 г., а в мае того же года Толстой сообщил Страхову, что роман вчерне уже закончен. После летнего перерыва, 23 сентября, он извещал Фета: «Я начинаю писать, т. е. скорее кончаю, начатой роман» (62, 48). В феврале 1874 г. он сообщил Страхову, что роман готов. «Какие чудесные известия, бесценный Лев Николаевич! — писал в ответ на это Страхов 22 февраля. — Дело, которое совершается в Ясной Поляне, до того важно и для меня драгоценно, что я все боюсь чего-то, как, бывало, боишься и не веришь, что женщина тебя любит. Но Вы пишете, что все готово; ради бога берегите же рукопись и сдавайте ее в типографию»[658]. 2 марта Толстой поехал в Москву, чтобы сдать в типографию (для отдельного издания) первую часть романа: вторая часть переписывалась.
Итак, не прошло года со времени первого наброска, а роман уже закончен и пошел в печать. Такая быстрота и легкость писания были совершенно необычны для Толстого. Кажется, что он хотел наверстать то время, которое потратил на роман из Петровской эпохи. Новый роман был совершенной противоположностью тому; в письме к Страхову Толстой говорит о своем новом романе, что он «в самом легком, нестрогом стиле» (62,45), а в письме к А. А. Толстой сообщает: «Я пишу и начал печатать роман, который мне нравится, но едва ли понравится другим, потому что слишком прост» (62, 73).
По первоначальным наброскам и конспектам (20, 3-20) видно, что весь роман строился на трех персонажах: жена, муж и любовник (Гагин). Нет ни Левина, ни Кити, ни других лиц, кроме Степана Аркадьевича, который играет роль посредника. Роман должен был открываться прологом, который намечен в раннем плане: «Она выходит замуж под счастливыми auspices[659]. Она едет утешать невестку и встречает Гагина». Первая часть должна была начаться главой следующего содержания: «Гости собирались в конце зимы, ждали Карениных и говорили про них. Она приехала и неприлично вела себя с Гагиным». Эта глава и была набросана 18 марта 1873 г. Она начинается словами: «Гости после оперы съезжались к молодой княгине Врасской». Княгиня Врасская (будущая Бетси Тверская) говорит об Анне: «Заметили вы, как она похорошела. Она положительно не хороша, но если бы я была бы мужчиной, я бы с ума сходила от нее». На это гость-дипломат замечает: «О да! Последнее время она расцвела. Теперь или никогда для нее настало время быть героиней романа» (20, 14-16).
Как видно по этому наброску, супруги Каренины были задуманы совсем иначе, чем они получились потом: «Действительно, они были пара: он прилизанный, белый, пухлый и весь в морщинах; она — некрасивая, с низким лбом, коротким, почти вздернутым носом и слишком толстая. Толстая так, что еще немного, и она стала бы уродлива. Если бы только не огромные черные ресницы, украшавшие ее серые глаза, черные огромные волоса, красившие лоб, и не стройность стана и грациозность движений, как у брата, и крошечные ручки и ножки, она была бы дурна. Но, несмотря на некрасивость лица, было что-то в добродушии улыбки красных губ, так что она могла нравиться» (20, 18). Описание Алексея Александровича подвергалось переработке; образ его был в этот момент еще не совсем ясен, но симпатии автора были, во всяком случае, на его стороне. Первый слой описания таков: «Алексей Александрович был один из тех людей, преданных страстно умственному труду, но открытых ко всем благам мира людей и специалистов и вместе с тем тонких и умных наблюдателей, но которых, благодаря их внешнему труженическому виду, их случайной рассеянности, так охотно подводят под одну общую категорию дельных и занятых ученых людей, или чудаков, или даже дурачков». Второй слой вносит ряд новых деталей, усиливающих положительную оценку: «Алексей Александрович, кроме того, сверх общего всем занятым мыслью людям, имел еще для света несчастие носить на своем лице слишком ясно вывеску сердечной доброты и невинности. Он часто улыбался улыбкой, морщившей углы его глаз, и потому еще более имел вид ученого чудака или дурачка, смотря по степени ума тех, кто судил о нем». Наконец, третий слой: «Алексей Александрович был человек страстно занятый своим делом и потому рассеянный и не блестящий в обществе. То суждение, которое высказала о нем толстая дама, было очень естественно» (20, 20). Это суждение высказано раньше, до появления Карениных: «Я никогда не могла понять... что в нем замечательного. Если бы мне все это не твердили, я бы просто приняла его за дурачка. И с таким мужем не быть героиней романа — заслуга» (20, 16).
В первоначальном замысле основным трагическим персонажем романа должен был быть, очевидно, Алексей Александрович. В конспекте много внимания уделено именно ему и его страданиям: «Муж в Москве, Степан Аркадьич затаскивает к себе, уезжает в клуб, разговор с его женою... Несчастье Алексея Александровича, говорит, что выхода нет, надо нести крест». Следующая глава намечена так: «Читает все романы, изучает вопрос. Все невозможно. Едет к Троице, встреча с нигилистом, его утешение». После развода, на который Алексей Александрович дает свое согласие, была намечена его смерть: «Алексей Александрович шляется как несчастный и умирает». Вместо этого тут же намечен другой вариант: Анна «уходит из дома и бросается... Алексей Александрович воспитывает (детей) (сына), Гагин в Ташкенте» (20, 3-5). В одной из ранних записей Анна названа «отвратительной женщиной». В главе, описывающей ночной разговор Каренина с Анной после вечера у Бетси Тверской (ранней редакции), нет тона иронии или обличения: Ка- ренин действительно любит Анну и действительно глубоко страдает. Анна здесь еще не смеет думать о муже того, что она думает в последней редакции: «Ему всё равно. Но в обществе заметили, и это тревожит его... любит? Разве он может любить? Если б он не слыхал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова» (18,155-156). Все это — позднейшее наслоение: результат изменения главных персонажей. В первоначальных планах и набросках Толстой как бы следует за книгой Дюма, не соглашаясь только с его последним выводом: «убей ее». Но очень скоро основная ситуация резко меняется: образ Анны повышается, а фигура Каренина приобретает отрицательные черты, отсутствовавшие в ранних набросках.
Трудно указать как причины, побудившие Толстого произвести столь резкие изменения в своем замысле, так и момент этих изменений: ни для того, ни для другого нет фактического материала. Однако можно думать, что перемена в отношении к Каренину и Анне явилась следствием появления в замысле новой фигуры — помещика Левина (первоначальная фамилия — Ордынцев). Исключительно любовный сюжет, задуманный сначала под влиянием книги Дюма, не удовлетворяет Толстого: вводится противопоставление города и деревни — тема, давно волнующая Толстого и приобретающая для него с каждым годом все больший смысл. Появление Левина должно было сразу отозваться на трактовке Каренина — снижением его образа, превращением его в типичного чиновника-бюрократа; естественным результатом снижения было повышение Анны, поскольку Каренин уже не мог и не должен был играть трагическую роль. К своему первоначальному замыслу (но уже с другими целями) Толстой вернется впоследствии — в «Крейцеровой сонате», ограниченной узкими рамками «адюльтера», в «Анне Карениной» он разрушает эту рамку и выходит за ее пределы.
Что касается вопроса о моменте этих изменений, то здесь могут оказать некоторую помощь письма Страхова, который следил за всем ходом работы Толстого над «Анной Карениной». Страхов читал рукопись романа в июле 1874 г.; в отзыве, написанном сейчас же после прочтения (письмо от 23 июля 1874 г.), говорится: «Что касается до меня, то внутренняя история страсти — главное дело и все объясняет. Анна убивает себя с эгоистическою мыслью, служа все той же своей страсти; это неизбежный исход, логический вывод из того направления, которое взято с самого начала»[660]. Эти слова еще не очень ясны, но надо принять во внимание, что в этой редакции Левин уже действует. В письме от 1 января 1875 г. Страхов говорит яснее: «Каренина так чутка и хороша душою, что первое разоблачение, первые признаки ждущей ее судьбы уже не переносятся ею. Отдавшись всею душою одному желанию — она отдалась дьяволу, и выхода ей нет. У Вас бесконечно оригинальна самая постановка страсти. Вы ее не идеализируете и не унижаете. Вы единый справедливый человек, так что Ваша Анна Каренина возбудит бесконечную жалость к себе, и всякому, однако же, будет ясно, что она виновата»[661]. Эта характеристика Анны не оставляет сомнений: перемена образа уже совершилась. После июля 1874 г. до конца года, как видно по всем материалам, Толстой никакой новой работы над текстом романа не производил; значит, образ Анны изменился раньше. Возможно, что эта перемена была сделана еще осенью 1873 г., когда С. А. записала в дневнике (4 октября): «Роман "Анна Каренина", начатый весною, тогда же был весь набросан. Все лето, которое мы провели в Самарской губернии, он не писал, а теперь отделывает, изменяет и продолжает роман»[662].
Как бы то ни было, весной 1874 г. Толстой начал печатание своего романа отдельным изданием. Пять листов было уже сверстано, как вдруг в июне 1874 г. Толстой остановил печатание. Это произошло вслед за окончанием статьи «О народном образовании». 23 июня 1874 г. он сообщил А. А. Толстой: «Я нахожусь в своем летнем расположении духа, — т. е. не занят поэзией и перестал печатать свой роман и хочу бросить его, так он мне не нравится; а занят практическими делами, а именно педагогией: устраиваю школу, пишу проекты и борюсь с петербургской педагогией вашего prot6g6 Дмитрия Андреевича, который делает ужасные глупости в самой важной отрасли своего управления, в народном образовании» (62, 95).
Взволнованный известием о том, что печатание романа остановлено, Страхов приехал в июле 1874 г. в Ясную Поляну и прочитал роман в корректуре и рукописи. Он уговаривал Толстого печатать. «Ваш роман не выходит у меня из головы, — писал он Толстому из Полтавы. — Каждый раз, что бы Вы ни написали, меня поражает удивительная свежесть, совершенная оригинальность, как будто из одного периода литературы я вдруг перескочил в другой. Вы справедливо заметили, что в иных местах Ваш роман напоминает "Войну и мир"; но это только там, где сходны предметы; как только предмет другой, то он является в новом свете, еще невиданном, небывалом в литературе... Все взято у Вас с очень высокой точки зрения — это чувствуется в каждом слове, в каждой подробности, и этого Вы, вероятно, не цените как должно, и, может быть, не замечаете. Ужасно противно читать у Тургенева подобные светские истории, например, в Дыме. Так и чувствуешь, что у него нет точки опоры, что он осуждает что-то второстепенное, а не главное, что, напр., страсть осуждается потому, что она недостаточно сильна и последовательна, а не потому, что это страсть. Он с омерзением смотрит на своих генералов потому, что они фальшивят, когда поют, что недостаточно хорошо говорят по-французски, что кривляются недостаточно грациозно и т. д. Простой и истинной человеческой мерки у него вовсе нет. Вы в полном смысле слова обязаны напечатать Ваш роман, чтобы разом истребить всю эту и подобную фальшь. Как Тургенев должен обозлиться! Он — специалист по части любви и женщин! Ваша Каренина разом убьет всех его Ирин и подобных героинь (как зовут в "Вешних водах"?). А для Боборы- киных, Крестовских и иных подобных романистов все это будет полезнейшим и, может быть, плодотворным уроком. А читать Вас будут с жадностию непомерною, — помилуйте, какой предмет!»[663]
Похвалы Страхова не очень подействовали на Толстого. «На днях у меня был Страхов, — пишет он П. Д. Голохвастову, — пристрастил меня было к моему роману, но я взял и бросил. Ужасно противно и гадко» (62, 103). Последние слова указывают на то, что причины остановки были очень серьезны и не ограничивались чисто литературными затруднениями. Страхов удивляется, что в письме к нему Толстой придавал педагогике большее значение, чем писанию романа: «Вы преувеличиваете, ставя ее выше Вашего художества». Дело было, конечно, не в самой педагогике, а в новых проблемах жизни и поведения, вставших перед Толстым. Об этом ясно свидетельствует статья «О народном образовании», после которой и остановилась работа над романом. Битва с педагогами, предпринятая посреди этой работы, развернулась в целую войну с народнической интеллигенцией. Несмотря на узко-педагогическую тему, статья превратилась в трактат по самым острым социальным и историческим вопросам. В центре стоит проблема прогресса и культуры — вопрос о праве интеллигенции навязывать народу свои знания и убеждения, свою науку. Сквозь всю статью проходит мысль о том, что народ, т. е. крестьянство, не нуждается в этой науке и культуре, потому что она не имеет никаких твердых нравственных и религиозно-философских устоев. Одновременно со статьей Толстой набросал философский диалог на тему о науке; это своего рода комментарий к статье. Некий профессор истории вещает здесь о законе прогресса и о том, что «наука до неисторических народов не имеет дела», а затем некто Николай Николаевич, уже в отсутствие профессора, высказывает свои мысли по поводу этих ученых вещаний: «Я спрашиваю: что же, совершенствуется или нет человечество, бессмертна ли душа, справедлива ли смертная казнь и т. п. Мне говорят: vous etes hors la question, cela n'est pas du domaine de la science[664]... Прежде каждая наука не отстраняла от себя философских вопросов, связанных с нею; теперь История прямо говорит, что вопросы о назначении человечества, о законах его развития — вне науки. Физиология говорит, что она знает ход деятельности нервов, но вопросы о свободе или несвободе человека — вне ее области. Законоведение говорит, что оно знает историю происхождения таких и таких-то постановлений, но что вопрос о том, в какой мере эти постановления отвечают нашему идеалу справедливости, находится вне ее области, и т. д. Еще хуже — медицина говорит: эта ваша болезнь вне науки. Так на черта ли мне ваши науки? Я лучше буду в шахматы играть... Это бессилие знания, — это запрещение человеку вкушения плода от древа познания добра и зла есть неизменное свойство человечества. Только так и говорить надо. Гордиться не надо». На реплику собеседника — что люди надеются понять, Николай Николаевич отвечает: «Надеются. Пора понять, что эта надежда живет 3000 исторических лет, и мы на один волос не подвинулись в знании, что справедливость, что свобода, что за смысл человеческой жизни?» (77, 139-141)9.
Вот куда привела Толстого борьба с педагогами: полемика по вопросу о методах обучения грамоте развернулась в полемику о значении науки и о смысле человеческой жизни. На фоне этих вопросов и сомнений писание романа о «внутреннем развитии страсти» должно было показаться Толстому своего рода игрой в шахматы. Начатый под впечатлением женского вопроса, давно раздражавшего Толстого, роман этот, после пережитых зимой 1874 г. волнений, тревог и размышлений, потерял свой первоначальный смысл. Как это было отчасти и в период работы над «Войной и миром» («Все хорошо, что хорошо кончается»), Толстой обогнал самого себя. Первоначальный замысел стал казаться ему «ужасно противным и гадким», потому что никак не соответствовал новому масштабу его мыслей и наблюдений. От статьи «О народном образовании», поднимавшей самые важные вопросы общественной деятельности, невозможно было вернуться к роману «в легком роде», ограниченному рамками любовного сюжета. Роман, задуманный и начатый в период принципиального отъединения от общественной жизни, кажется теперь, после всех споров и встреч в Москве, слишком мизерным.
Толстой вступает в полосу новых страстных поисков и резких противоречий. В годы 1872-1874 на нем начинает особенно резко сказываться та «быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых "устоев" старой России», о которой говорит Ленин в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение»[665]. Исторический роман из Петровской эпохи сменяется любовным романом из современной жизни; выносится решение покинуть «башню дурацкой литературы» и писать народным языком, но вслед за «Кавказским пленником» неожиданно начинается работа над «Анной Карениной»; Толстой отдается этой работе сначала «всею душою», доводит роман почти до конца, начинает печатание — и вдруг ликвидирует всю эту затею и с головой уходит в педагогику, объявляя это дело более важным, чем художество.
В старости Толстой признавался Д. Маковицкому: «Два раза переставали меня интересовать художественные сочинения. В первый раз в 1875 году, когда я писал "Анну Каренину", и второй раз в 1878, когда я снова взялся за "Декабристов", а потом начал "Исповедь"...»[666].
По письмам 1874 г. можно думать, что «Анна Каренина» оставлена навсегда. «За роман я не берусь», — пишет Толстой П. Д. Голохвастову в октябре (62, 120). Но в первых числах ноября, во время пребывания в Москве, мысль о печатании романа явилась снова. По всем признакам, поводом к этому новому решению была просто нужда в деньгах. 22 октября 1874 г. Толстой писал Фету: «У меня затеялась необходимая покупка земли в Никольском, для которой мне нужно на год занять 10 тысяч под залог земли. Может, случится, что у вас есть деньги, которые вам нужно поместить» (62, 117). Фет отказал, — и Толстой решил добыть эти деньги другим путем. Он завел переговоры с М. Н. Катковым о продаже своего романа в «Русский вестник». Узнав об этом, Страхов писал Толстому 8 ноября 1874 г.: «Ваше намерение продать роман в "Русский вестник" очень смущает меня: я предчувствую, что Вы не сойдетесь. "Русский вестник" имеет слишком мало подписчиков, и по делу с Достоевским я знаю, как он жмется. А не заводил ли с Вами переговоров Некрасов? Он просил меня сделать Вам предложение и даже содействовать с своей стороны, "так как Толстой-де человек своеобычный; пожалуй, заупрямится" Я не торопился писать к Вам об этом, зная, что Некрасов сам с Вами в переписке; что же касается до того, чтобы уговаривать Вас в его пользу, — не хочу»[667]. В тот же день, не успев еще получить письмо Страхова, Толстой по собственному почину написал Некрасову: «Нужда в 10 тысячах заставила меня отступить от моего намерения печатать мой роман отдельной книгой. Я считал себя связанным случайно данным обещанием Русскому вестнику печатать у них, если бы я вздумал печатать в журнале, и потому сделал им предложение отдать 20 листов моего романа в их журнал, с платою по 500 р. за лист и выдачею мне 10 тысяч вперед, с обязательством в случае, если бы я не выдал в продолжение определенного срока рукописи, уплатить эти деньги; и с правом печатать роман отдельно по выходе последних частей в журнале. Они стали торговаться, и я очень рад был, что этим освободили меня от моего обещания. Делаю теперь то же предложение вам, предуведомляя, что я не отступлю от предлагаемых условий, и вместе с тем — зная, что предлагаемые мною условия тяжелы для журнала, я нисколько не удивлюсь, если вы их не примете, и что ваш отказ нисколько, надеюсь, не изменит тех хороших отношений, в которые мы вновь вступили с вами. — Роман, вероятно, будет состоять из 40 листов. Печатание окончания в вашем журнале или отдельно будет зависеть от нашего дальнейшего соглашения» (62, 124).
Интересно, что, судя по этому письму, Толстой не был даже уверен в том, что он действительно будет печатать роман в журнале: ему нужно было срочно получить десять тысяч рублей; поэтому он предлагает заключить договор только на половину романа и заранее оговаривает возможность того, что он не «выдаст» рукописи к сроку и должен будет вернуть полученные деньги. Письмо Некрасову, однако, не было послано: «Русский вестник», очевидно, возобновил переговоры и согласился на условия Толстого, но с тем, чтобы роман был напечатан в журнале целиком. Это видно из письма Страхова от 1 января 1875 г.: «Приятно думать, что Вам хорошо заплатили; 20 тысяч еще небывалая цена за роман»[668].
Работа над романом, возобновившаяся «поневоле» (по словам С. А.) в январе 1875 г., шла до лета 1877 г., но с перерывами и большей частью без настоящего увлечения. Летом 1875 г. Толстой жил в самарском имении и не писал: «Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями, — сообщает он Фету 25 августа. — Теперь же берусь за скучную, пошлую Каренину с одним желанием поскорее опростать себе место — досуг для других занятий, но только не педагогических, которые люблю, но хочу бросить» (62,199). Педагогика оказалась мостом, ведущим к каким-то другим занятиям, а художество на время стало казаться пошлостью. В жизни и творчестве Толстого назревал, очевидно, какой-то очень серьезный момент, который должен был вывести его из накопившихся после «Войны и мира» противоречий и придать ему новую уверенность. Из дальнейших строк того же письма к Фету видно, что Толстого беспокоят те самые вопросы, которые он пытался разрешить в петровском романе и от которых пытался отойти в первоначальном замысле «Анны Карениной»: «Надо пожить, как мы жили в Самарской здоровой глуши, видеть эту совершающуюся на глазах борьбу кочевого быта (миллионов на громадных пространствах) с земледельческим, первобытным, — чувствовать всю значительность этой борьбы, чтобы убедиться в том, что разрушителей общественного порядка, если не 1, то не более 3, скоро бегающих и громко кричащих... К чему занесла меня туда (в Самару) судьба — не знаю; но знаю, что я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным), и мне скучно и ничтожно было, но что там — мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с напряженным уважением, страхом проглядеть вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что все это очень важно» (62, 199). Слова о «разрушителях общественного порядка» относятся все к тем же «нигилистам», мысль о которых давно не дает покоя Толстому. Он всюду ищет доказательств тому, что их «не более 3» и что они не имеют никакого значения и влияния. В 1879 г. Фет пишет Страхову: «Лев Николаевич все говорит, что у нас на Руси завелся один нигилист и, мелькая то там, то сям по железной дороге, кажется множеством. Теперь, кажется, этот один хочет нас всех окружить. Денно и нощно благодарю бога, что сижу в своем прекрасном далеке и знать не хочу чепухи»,4. Толстой был другим человеком: он не мог отвернуться от современности, в каких бы сложных отношениях ни был с нею. Именно поэтому история работы над «Анной Карениной» превратилась в такой сложный и мучительный процесс.
Наступила осень 1875 г., а работа над романом подвигалась плохо, — и Толстой сам понимал главную причину этого. «Страшная вещь наша работа, — жалуется он Фету в октябре 1875 г. — Кроме нас, никто этого не знает. Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмосток, только потратишь матерьял и завалишь без толку такие стены, которых и продолжать нельзя. Особенно это чувствуется, когда работа начата. Все кажется: отчего ж не продолжать? Хвать-похвать, не достают руки и сидишь дожидаешься. Так и сидел я. Теперь, кажется, подросли подмостки и засучиваю рукава» (62, 209). Все эти признания относятся к работе над «Анной Карениной». Роман был начат без «подмостков» — «в... нестрогом стиле»; именно поэтому он через некоторое время стал казаться Толстому «ужасно противным», «скучным и пошлым». Для настоящей работы ему нужно сознание, что он делает открытие, что он развязывает главный узел жизни, что он уясняет людям нечто совершенно новое и совершенно необходимое. Пусть это окажется заблуждением, но без этой «энергии заблуждения» (как выразился Толстой в письме к Страхову) настоящая творческая работа для него невозможна. Ему должно казаться, что «сорок веков смотрят на него с высоты этих пирамид» и что «весь мир погибнет», если он остановится. В этом — основной, органический стимул его работы, ее подлинная героика.
Работа над «Войной и миром» опиралась именно на это «заблуждение», на эти «подмостки»: «Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполеона» — вот взволнованное выражение этой «энергии заблуждения», которая на прежнем языке называлась «вдохновением». Работа над «Анной Карениной» почти на всем ее протяжении шла без этих «подмостков». «Я с страхом чувствую, что перехожу на летнее состояние, — пишет Толстой Страхову 9 апреля 1876 г., — мне противно то, что я написал, и теперь у меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду в силах поправить их. Все в них скверно, и все надо переделать и переделать: все, что напечатано, и все перемарать и все бросить, и отречься, и сказать: виноват, вперед не буду, и постараться написать что-нибудь новое, уж не такое нескладное и ни то ни семное. Вот в какое я прихожу состояние, и это очень приятно». Здесь нет, конечно, и тени авторского кокетства или желания похвал; дальше в том же письме Толстой пишет: «Покажите мне искреннюю дружбу: или ничего не пишите мне про мой роман, или напишите мне только все, что в нем дурно. — И если правда то, что я подозреваю, что я слабею, то, пожалуйста, напишите мне. Мерзкая наша писательская должность — развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь понятия о своем значении и о времени упадка. Мне бы хотелось не заблуждаться и не возвращаться дальше. Пожалуйста, помогите мне в этом... И не стесняйтесь мыслью, что вы строгим суждением можете помешать деятельности человека, имевшего талант. Гораздо лучше остановиться на Войне и мире, чем писать Часы (рассказ И. С. Тургенева. — Б. Э.) или т. п.» (62, 265).
В большом ответном письме Страхов старается подбодрить Толстого и не столько критикует, сколько хвалит роман: «У каждого свое горе; у Вас, поклоняемый и завидуемый Лев Николаевич, — между прочим — муки рождения. Вы теряете Ваше обыкновенное хладнокровие и, кажется, желаете от меня совета — прекратить печатанье Анны Карениной и оставить в самом жестоком недоумении тысячи читателей, которые все ждут и все спрашивают, чем же это кончится... Ну, хорошо — я буду Вам критиковать Ваш роман. Главный недостаток — холодность писания, так сказать, холодный тон рассказа. Того, что, собственно, называется тоном, у Вас не полагается, но в целом во всем течении рассказа мне слышна холодность. Но ведь это только мне, человеку, который, читая, почти слышит Ваш голос. Затем — или вследствие того — описание сильных сцен несколько сухо. После них невольно просятся на язык несколько пояснительных или размышляющих слов, а Вы обрываете, не давая тех понижающихся и затихающих звуков, которыми обыкновенно оканчивается финал в музыке. Далее — места смешные не довольно веселы, но зато если рассмешат, то рассмешат ужасно. Я за Вами слежу и вижу всю неохоту, всю борьбу, с которою Вы, великий мастер, делаете эту работу; и все-таки выходит то, что должно выйти от великого мастера: все верно, все живо, все глубоко». Далее Страхов сравнивает Толстого с Тургеневым, Достоевским, Мюссе, Жорж Санд: «Вы, как настоящий богатырь, схватились прямо с чудовищем, Вы взяли предмет вполне, во всем размере». Письмо заканчивается следующим итогом: «Я все обдумываю Каренину, все боюсь ошибиться в смысле частностей, да и в понимании техники я всегда слаб. Оттого я Вам писал только общие места. А ведь Вы — я уверен — приходите в уныние оттого, что боретесь с техникой и устали»[669].
Страхов толкует Толстого как благополучного писателя, «великого мастера», который страдает «муками рождения» и борется с техникой. Это, конечно, не так. Дело было не в технике, а в отсутствии настоящих «подмостков», настоящего пафоса. Толстого беспокоят основные проблемы жизни и поведения. Он пишет Страхову философские письма, он беседует с Вл. Соловьевым и старается уяснить себе «самые нужные для остатка жизни и смерти мысли», он читает С. С. Урусову свои философские записки о религии. В марте 1871 г. он пишет А. А. Толстой: «Что я думаю беспрестанно о вопросах, значении жизни и смерти, и думаю, как только можно думать серьезно, это несомненно. Что я желаю всеми силами души получить разрешение мучающим меня вопросам и не нахожу их в философии, это тоже несомненно; но чтобы я мог поверить, мне кажется невозможно» (62,261). В ответном письме А. А. Толстая, между прочим, писала: «Сегодня опять некогда говорить об "Анне Карениной", но, умоляю Вас, дайте нам поскорее продолжение и конец. Вы не можете себе представить, как все заинтересованы этим романом... Здесь прошел слух, что Анна убьется на рельсах железной дороги. Этому я не хочу верить. Вы неспособны на такую пошлость»[670]. Не отвечая на это суждение, Толстой писал ей: «Теперь я, к несчастью, ничем не могу себе позволить заниматься, кроме окончания романа; но с весной чувствую, что необходимая серьезность для занятия таким пустым делом оставляет меня. И боюсь, что не кончу его раньше будущей зимы. Летом же буду заниматься теми философскими и религиозными работами, которые у меня начаты не для печатания, но для себя». Дальше он делится своими размышлениями: «Вы говорите, что не знаете, во что я верую. Странно и страшно сказать: ни во что из того, чему учит нас религия; а вместе с тем, я не только ненавижу и презираю неверие, но не вижу никакой возможности жить без веры, и еще меньше возможности умереть. И я строю себе понемножку свои верования, но они все, хотя и тверды, но очень неопределенны и неутешительны. Когда ум спрашивает, они отвечают хорошо; но когда сердце болит и просит ответа, то нет поддержки и утешения. Я с своими требованиями ума и ответами, даваемыми христианской религией, нахожусь в положении двух рук, которые стремились бы сложиться, но упираются пальцами. Я желаю, и чем больше стараюсь, тем хуже; а вместе с тем знаю, что это можно, что одно сделано для другого» (62, 266-267).
Кое-что из этих дум и настроений начинает просачиваться в роман, и фигура Левина, приобретая в романе все большее значение, становится вместе с тем все более и более автобиографической. 29 апреля 1876 г. Толстой пишет Фету: «Вы больны и думаете о смерти, а я здоров и не перестаю думать о том же и готовиться к ней. Посмотрим, кто прежде... Я многое, что я думал, старался выразить в последней главе апрельской книжки Русского вестника» (62, 272). Эта глава — смерть Николая Левина.
Наступила зима 1876 г., а роман все еще не был закончен. В письме к Страхову Толстой опять жалуется, что никак не может взяться за «давящую его работу» — окончание романа: «Отчаяние в своих силах. Что мне суждено судьбой, не знаю, но доживать жизнь без уважения к ней, а уважение к ней дается мне только известного рода трудом — мучительно» (62,290). Страхов недоумевает: «Вы, прославленный, независимый, окруженный прелестною семьею и уже совершивший дела, которые навсегда останутся великими, —- как Вы можете говорить о минутах, когда Ваша жизнь не стоит уважения?»[671] Толстой отвечает на эти недоумения еще более решительным, мрачным и даже резким письмом: «Мучительно и унизительно жить в совершенной праздности и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Все это пошло и ничтожно. Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым — т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда. Пожалуйста, не утешайте меня, и в особенности тем, что я писатель. Этим я уже слишком давно и лучше вас себя утешаю; но это не берет, а только внемлите моим жалобам и это уже меня утешит» (62, 347). Здесь Толстой, кажется, впервые сформулировал ту особенность своего нового поведения и отношения к действительности, которая окончательно определилась в 80-х годах: идеал «юродивого» сменил собою прежнюю позицию аристократа-помещика и писателя. Страхов никак не мог понять, что случилось с этим «прославленным, независимым, окруженным прелестною семьею» мастером; большего благополучия он не мог себе представить, и жалобы Толстого казались ему результатом усталости или даже просто капризом. А на самом деле случилось нечто чрезвычайно важное: Толстого со всех сторон обступили те вопросы и противоречия русской жизни, которые со всей ясностью выступили в 70-х годах. Назвать все это «чепухой» и замкнуться в своем «прекрасном далеке», как Фет, Толстой не мог: для него это было бы равносильно самоубийству. Начинаются мучительные поиски новой позиции, нового поведения, — и перед Толстым возникает как идеал образ, схематически намеченный еще в «Войне и мире» в лице Платона Каратаева: образ юродивого мудреца, разоблачающего неправду человеческой жизни и проповедующего возвращение к ее естественным, простым, первобытным формам.
Толстой выходит наконец из того состояния обиды и желания отомстить кому- то, в котором он пребывал после «Войны и мира». В ноябре 1876 г. он едет в Москву специально для того, чтобы разузнать о готовившейся русско-турецкой войне. «Все это волнует меня очень, — пишет он Фету. — Хорошо тем, которым все это ясно; но мне страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при которых совершается история» (62, 288). О том же он пишет Страхову: «Был я на днях в Москве только за тем, чтобы узнать новости о войне... Теперь вся ерунда сербского движения, ставшая историей, прошедшим, получила значение. Та сила, которая производит войну, выразилась преждевременно и указала направление (62, 291). С. А. Толстая пишет сестре: «У нас теперь везде только и мыслей, только и интересов у всех, что война и война... Левочка странно относился к Сербской войне; он почему-то смотрел не так, как все, а с своей личной, отчасти религиозной точки зрения; и теперь он говорит, что война настоящая и трогает его». Толстой так занят мыслями о войне и так взволнован неудачами под Плевной и в
Малой Азии, что просит Страхова достать ему газеты за двадцать лет (со времени Крымской войны) или журналы с обзорами внутренней политики: «И в дурном и в хорошем расположении духа мысль о войне застилает для меня все. Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой несостоятельности, которые мне все становятся яснее и яснее... Мне кажется, что мы находимся на краю большого переворота» (62, 334-335).
Пройдет несколько месяцев — и Толстой вступит в спор со Страховым, отношения которого к жизни и к самому себе начинают раздражать его. Еще в 1875 г. Страхов признавался Толстому: «Во время моей журнальной деятельности я всегда чувствовал, что мне некуда вести своих читателей»[672]. В письме от 2 апреля 1878 г. Страхов изложил ему свои впечатления от процесса Веры Засулич: «С нею обращались почтительно, все дело вели к ее оправданию и оправдали с восторгом невообразимым. Все это мне показалось кощунством над самыми святыми вещами. Я очень раздумался и пришел все к тому же заключению: если бы я и имел силу говорить, мне следует молчать, потому что я ведь не вижу настоящей дороги — вижу только, что они заблудились»[673]. Толстой отвечал на это сурово и наставительно, как не отвечал прежде: «По правде вам сказать — вы правы, говоря, что вам следует молчать, потому что вы не видите настоящей дороги. Но я удивляюсь, как вы ее не видите. Когда я думаю о вас, взвешиваю вас по вашим писаньям и разговорам, я по известному мне вашему направлению и скорости и силе всегда предполагаю, что вы уже очень далеко ушли туда, куда вы идете; но почти всегда при свиданиях с вами и по письмам (некоторым) к удивлению нахожу вас на том же месте. Тут есть какая-нибудь ошибка. И я жду и надеюсь, что вы исправите ее, и я потеряю вас из вида — так далеко вы уйдете». По поводу дела Засулич Толстой тут же пишет: «Засуличевское дело не шутка. Это бессмыслица, дурь, нашедшая на людей недаром. Это первые члены из ряда, еще нам непонятного; но это дело важное. Славянская дурь была предвозвестница войны, это похоже на предвозвестие революции» (62,411). Почти каждое следующее письмо Страхова встречает со стороны Толстого категорические возражения или суровые нравоучения. Заходит спор о науке. Толстой утверждает, что наука не дает знания: «Положение о том, что наука не дает знания, ведет непременно к вопросу: что же мне дает знание? А вы как будто не хотите сделать себе этого вопроса. Вы, говоря о бездне, как будто признаете, что вы ничего не знаете. Ничего не знать нельзя. Утверждать живому человеку и умственно здоровому, что я ничего не знаю, то же, что утверждать, что я никогда ничего не ем или что кровь во мне не обращается... Я пристаю к вам с нелегким — дайте мне ясный ответ, — откуда вы знаете то, чем вы живете — чем руководились и руководитесь в жизни?» (62, 423). Перед этим грозным вопросом (почти окриком) Страхов совершенно растерялся и, пав ниц, объявил, что он не живет, а только пребывает в грустном раздумье: «Для Вас, для Вашей энергической натуры такое спокойствие и раздумье — досадно, непонятно; Вы даже доказываете, что оно невозможно, так как при нем жить нелыя — я и не живу»[674]. На предложение Толстого написать свою автобиографию Страхов ответил в том же тоне: «Я не люблю жизни так, как ее любит Майков, и не люблю самого себя так, как Достоевский; как же я стану писать? Я стараюсь уйти от себя и от жизни; как же я стану с этим возиться?»[675]
Толстому было уже совсем не по пути с этим заблудившимся среди философских теорий, кающимся интеллигентом. «Я не жил, а только принимал жизнь, как она приходила, — пишет Страхов Толстому, — старался с наименьшими издержками сил удовлетворить ее требованиям и сколько можно уйти от ее невзгод и неудобств. За это, как Вы знаете, я и наказан вполне. У меня нет ни семьи, ни имущества, ни положения, ни кружка — ничего нет, никаких связей, которые бы соединяли меня с жизнью. И сверх того или, пожалуй, вследствие того я не знаю, что мне думать»[676]. В ответ на своего рода исповедь, написанную Страховым 17 ноября 1879 г., Толстой решительно заявил: «Письмо ваше нехорошо, и душевное состояние ваше нехорошо. И писать вам свою жизнь нельзя. Вы не знаете, что хорошо, что дурно» (62, 504). В это же время Толстой говорил о Страхове своему новому другу, В. И. Алексееву: «Страхов — как трухлявое дерево: ткнешь палкой, думаешь — будет упорка, ан нет, она насквозь проходит, куда ни ткни, — точно в ней нет середины: вся она изъедена у него наукой и философией»[677].
Вместе с уяснением новой позиции и отношения к современности работа над романом пошла гораздо живее: под ногами появились «подмостки». В декабре 1876 года Толстой сообщает Фету, что «понемножку начал писать и доволен своей судьбой» (62, 295), а Софья Андреевна сообщает сестре, что Лев Николаевич, «оживленный и сосредоточенный, всякий день прибавляет по целой главе» романа[678]. В марте 1877 года Толстой заканчивает седьмую часть. Гибелью Анны, казалось бы, можно было закончить и весь роман, но Толстой пишет еще целую часть, уже без Анны. Это оказалось необходимым, потому что центр романа явно переместился.
Если сопоставить шестую и седьмую части с предыдущими, то это перемещение становится заметным даже в количественном отношении: подавляющее большинство страниц отведено Левину и окружающим его персонажам. Мало того: именно в этих частях границы романа так расширяются, что он превращается из семейно- любовного в философско-общественный. Последняя часть приняла злободневный, публицистический характер, отодвинув в сторону тему «внутреннего развития страсти»; здесь развернуты те самые вопросы, о которых Толстой переписывался со Страховым. Чем ближе к концу, тем фигура Левина становится все более автобиографической, а роман — все более похожим на страницы авторского дневника.
Читатели «Русского вестника», не зная последней части (Катков отказался напечатать ее в журнале), удивлялись сухости тона в финале. Прочитав главы о самоубийстве Анны, Страхов писал Толстому: «Но Вы у меня отняли то умиление, которое я испытал три года тому назад в Вашем кабинете и которого я ждал теперь. Вы безжалостны; Вы не простили Анны в самую минуту ее смерти; ее ожесточение и злоба растут до последнего мгновения, и Вы вычеркнули, как мне кажется, некоторые места, выражающие смягчение души и жалость к самой себе. Таким образом я не расплакался, а очень тяжко задумался. Да, это вернее, чем то, что мне представлялось. Это очень верно, — и тем ужаснее!» Несколько позднее он опять пишет Толстому об этих главах: «В упреках, которые Вам делают, только один имеет смысл. Все заметили, что Вы не хотите останавливаться на смерти Карениной. И Вы мне говорили, что Вам противно возиться с тою жалостью, которая тут возбуждается. Я до сих пор не понимаю того чувства, которое Вами руководит. Может быть додумаюсь, но помогите мне. Последняя редакция самой сцены смерти так суха, что страх»[679].
Толстому было уже не до Анны и не до жалости к ней. Он задумывал новое произведение, рисующее русский народ как «силу завладевающую». В этом произведении он хотел изобразить переселенца, «русского Робинзона», «который сядет на новые земли (Самарские степи) и начнет там новую жизнь, с самого начала мелких, необходимых, человеческих потребностей»[680]. В этом произведении должна была найти отражение та громадная амплитуда новых чувств, идей и впечатлений, которая соединяла Наполеона с Каратаевым. За годы 1874-1877 Толстой шагнул так далеко, что и первоначальный замысел «Анны Карениной», и Шопенгауэр, и Страхов оказались позади или в стороне. В октябре 1877 г. он рассказывает жене сюжет нового произведения, главная мысль которого — «народ и сила народа, проявляющаяся в земледелии»[681], а в конце года решает вернуться к историческим замыслам и писать роман из эпохи декабристов. Под ногами выросли «подмостки», и явилась та «энергия заблуждения, земная стихийная энергия, которую выдумать нельзя», а без которой «нельзя начинать» (62, 411).
2
Увлечение прозой Пушкина. Толстой и Пушкин. Зинаида Вольская и Анна Каренина. Письмо Толстого к П. Д. Голохвастову. «Объективность» новой манеры
Толстого.
Начало работы над «Анной Карениной» совпадает с увлечением Толстого прозой Пушкина. Я уже говорил о том, что это увлечение было подготовлено стремлением к чистоте и простоте повествовательного рисунка. Вернувшись от «Азбуки» к литературе, Толстой увидел, что именно проза Пушкина, когда-то им отвергнутая, построена на этих принципах. «Кавказский пленник» оказался ближе к пушкинской прозе, чем все прежние вещи Толстого. В 50-х годах Толстой, увлеченный изображением «диалектики души» и отрицавший значение сюжета, находил, что «повести Пушкина голы как-то», что «в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий»; теперь он явно отходит от психологических подробностей и обращается к событиям. Называя произведения современной литературы «элукубрациями» (т. е. плодами вымученного труда), Толстой тем самым осуждает и свое прежнее художественное направление.
Первый набросок к «Анне Карениной» был начат словами: «Гости после оперы съезжались к молодой княгине Врасской». Известно, что слова эти были написаны под впечатлением пушкинского отрывка, начинающегося словами: «Гости съезжались на дачу графини... Зала наполнялась дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую италианскую оперу». Софья Андреевна подробно рассказывает в своем дневнике (от 19 марта 1873 г.), как в руках у Толстого оказался том сочинений Пушкина (в издании Анненкова) со статьями и с художественной прозой: «Сначала в этой части он нашел критические заметки и говорил: "Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться"... Вечером он читал разные отрывки и под влиянием Пушкина стал писать. Сегодня он продолжал дальше и говорит, что доволен своей работой»[682].
Среди критических статей и заметок Пушкина многое должно было в то время задеть Толстого за живое и поразить его сходством с его мыслями. С полным сочувствием прочитал он, конечно, следующее место в статье о Баратынском: «У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами. Публика мало ими занимается. Класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе как о политической экономии, о политической экономии как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, без всяких основательных правил и сведений, а большею частию по личным расчетам»[683].
Интересно указание Софьи Андреевны, что Толстой обратил внимание на художественные отрывки Пушкина: как будто именно в неосуществленных замыслах Пушкина он надеялся найти что-нибудь важное для своей новой работы. И кое-что он действительно нашел. Сохранились указания на то, что, прочитав первые строки отрывка «Гости съезжались на дачу», Толстой воскликнул: «Вот прелесть-то! Вот как надо писать. Пушкин приступает прямо к делу. Другой бы начал описывать гостей, комнаты, а он вводит в действие сразу»[684]. В тот же вечер он начал писать «Анну Каренину».
Сходство первого наброска к «Анне Карениной» с этим отрывком Пушкина не ограничивается начальными словами: весь набросок представляет собою своего рода вариант на тему Пушкина. В отрывке (как и у Толстого) гости, собравшись за круглым столом у самовара, толкуют о странном поведении молодой женщины, Зинаиды Вольской: « — Она ужасно ветрена... — Ветрена? этого мало. Она ведет себя непростительно... — В ней много хорошего и гораздо менее дурного, нежели думают. Но страсти ее погубят». Последнее замечание звучит как эпиграф к будущему роману Толстого, как намек на него. Рядом с этим отрывком в издании Анненкова (том V) напечатан другой, относящийся к тому же замыслу и начинающийся словами: «На углу маленькой площади, перед деревянным домиком, стояла карета». Толстой, несомненно, прочитал и этот отрывок, следы чего есть в «Анне Карениной». В этом отрывке описана сцена ревности: Зинаида упрекает своего любовника, Валериана Володского, в холодности и высказывает свои подозрения; Валериан раздраженно говорит: «Так: опять подозрения! опять ревность! Это, ей- богу, несносно». Отрывок кончается отъездом Валериана: «Валериан уже ее не слушал. Он натягивал давно надетую перчатку и нетерпеливо погладывал на улицу. Она замолчала с видом стесненной досады. Он пожал ее руку, сказал несколько незначащих слов и выбежал из комнаты, как резвый школьник выбегает из класса. Зинаида подошла к окну, смотрела, как подали ему карету, как он сел и уехал.
Долго стояла она на том же месте, опершись горячим лбом о оледенелое стекло. — Наконец она сказала вслух: "Нет, он меня не любит!", позвонила, велела зажечь лампу и села за письменный столик...» Эта сцена послужила для Толстого своего рода конспектом при описании последней ссоры Анны с Вронским: «Она подошла к окну и видела, как он не глядя взял перчатки... Потом, не глядя в окна, он сел в свою обычную позу в коляске, заложив ногу на ногу и, надевая перчатку, скрылся за углом.
"Уехал! Кончено!" — сказала себе Анна, стоя у окна... "Нет, это не может быть!" — вскрикнула она и, перейдя комнату, крепко позвонила... Она села и написала» и т. д. Страхов не без основания писал Толстому: «Вронский для Вас всего труднее, Облонский всего легче»[685]. Действительно, рисуя Вронского и его отношения с Анной, Толстой менее всего мог руководствоваться личным опытом или даже опытом своих наблюдений и потому должен был пользоваться литературным материалом. В этих частях роман Толстого явно восходит к традициям европейского любовного романа и русской «светской повести». Самая фамилия Вронского, выбранная Толстым после долгих поисков (Гагин, Балашов), звучит как сознательная стилизация: точно Толстой намеренно подчеркивает связь этого персонажа с литературными героями 30-х годов (Пронский, Минский и пр.). Любопытно, что фамилия эта есть и у Пушкина — в черновике отрывка «На углу маленькой площади» («женат, кажется, на Вронской»).
Критика давно обратила внимание на родство толстовского романа с русским семейным и любовным романом 30-40-х годов. В ответ на упреки в том, что Анна — слишком обыкновенная женщина, не характерная для современности, В. Авсеенко писал: «Что значит обыкновенная, иначе говоря пошлая женщина? Каждое новое поколение отвечает у нас на этот вопрос иначе. Обыкновенная ли женщина Татьяна Пушкина? Обыкновенная ли женщина Вера в "Герое нашего времени", с которою Анна Каренина имеет ближайшее сродство? Обыкновенная ли женщина Зинаида Вольская, едва намеченная Пушкиным в отрывке, начинающемся словами: "Гости съезжались на дачу"?»[686] Критик «Молвы» с негодованием говорит о «старомодности» «светских глав» толстовского романа: «Точно вы читаете повесть 40-х годов с искусственными приемами великосветскости»[687]. Роман Толстого и в самом деле выглядел на фоне современной беллетристики и публицистики как возвращение к старым темам дворянской литературы. В этом смысле поворот Толстого к Пушкину очень знаменателен.
Достоевский был совершенно прав, когда писал, что «Анна Каренина» — «вещь, конечно, не новая по идее своей, не неслыханная у нас доселе. Вместо нее мы, конечно, могли бы указать Европе прямо на источник, т. е. на самого Пушкина»[688]. Корни творчества у Пушкина и Толстого иногда так близки, что получается впечатление родства — при всей разнице методов. Именно у Толстого находим мы органическое дозревание или столь же органическое перерождение тем, образов и замыслов Пушкина. Принцип изображения человека, резко отличающий Толстого от Достоевского, восходит к Пушкину. Во всей литературе, связанной с Гоголем и с натуральной школой, человек изображается как социальный или психологический тип: он наделяется определенными чертами, сказывающимися в каждом поступке, в каждом слове, даже в фамилии. Не только Чичиков, Хлестаков, Плюшкин, Ноздрев, но и Раскольников, и Свидригайлов, и Смердяков, и Карамазовы носят свои фамилии не как случайные условные обозначения, а как характерные и характеризующие их прозвища. Совсем иное у Толстого: его люди — не типы и даже не вполне характеры; они «текучи» и изменчивы, они поданы интимно — как индивидуальности, наделенные общечеловеческими свойствами и легко соприкасающиеся. Поэтому для героев Толстого характерны не фамилии (которые большей частью незначительны или прямо неудачны), а имена: не Безухов, а Пьер, не Болконский, а князь Андрей, не Ростова, а Наташа, не столько Каренина, сколько Анна. Для Толстого характерны эти семейные, домашние обозначения своих героев: читатель знакомится с ними интимно, ощущает их в той или иной степени похожими на себя. Толстовский принцип интимности и «текучести», резко отличающий его психологический реализм от реализма других писателей, восходит к Пушкину — как развитие и дозревание его метода. Ближайшая родственница Наташи Ростовой — конечно, Татьяна Ларина, недаром имя Татьяны, как и Наташи, говорит нам гораздо больше, чем фамилия. Турбин-отец в «Двух гусарах», Пьер, Андрей, Долохов в «Войне и мире» — это все люди, литературные предки которых имеются у Пушкина.
Искусство Толстого было в основе своей вдохновлено дисгармонией — противоречиями общественного и индивидуального сознания, тогда как в основе пушкинского творчества, несмотря на трагические противоречия жизни, лежала полнота и цельность исторического сознания. Здесь сказывается разница между крайними точками исторического процесса, начинающего и завершающего построение русской дворянской культуры XIX века.
Толстой сам указал на характерное отличие своего художественного метода от метода Пушкина, тем самым допуская возможность общих исходных принципов. По словам С. А. Берса, Толстой видел главную разницу в том, что «Пушкин, описывая художественную подробность, делает это легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателем; он же как бы пристанет к читателю с этою художественною подробностью, пока ясно не растолкует ее»[689]. Это отличие относится и ко всему художественному методу в целом: Толстому нужны особые нажимы, акценты, нужна особая, несколько утонченная и потому часто парадоксальная раскраска душевных состояний и поступков. К. Леонтьев очень остроумно писал об этом в своей книге («О романах Л. Толстого»): «Позволю себе вообразить, что Дантес промахнулся и что Пушкин написал в 40-х годах большой роман о 12-м годе. Так ли бы он его написал, как Толстой? Нет, не так. Пусть и хуже, но не так. Роман Пушкина был бы, вероятно, не так оригинален, не так субъективен, не так обременен и даже не так содержателен, пожалуй, как "Война и мир"... анализ психический был бы не так "червоточив", придирчив в одних случаях, не так великолепен в других; фантазия всех этих снов и полуснов, мечтаний наяву, умираний и полуумираний не была бы так индивидуальна, как у Толстого; пожалуй, и не так тонка или воздушна, и не так могуча, как у него, но зато возбуждала бы меньше сомнений... Философия войны и жизни была бы у Пушкина иная и не была бы целыми крупными кусками вставлена в рассказ, как у Толстого... и герои Пушкина и в особенности он сам от себя, где нужно, говорили бы почти тем языком, каким говорили тогда, т. е. более простым, прозрачным и легким, негустым, необремененным, не слишком так или сяк раскрашенным, то слишком грубо и черно, то слишком тонкой "червлено", как у Толстого... Пушкино 12-м годе писал бы вроде того, как написаны у него "Дубровский", "Капитанская дочка" и "Арап Петра Великого" Восхищаясь этим несуществующим романом, мы подчинялись бы, вероятно, в равной мере и гению автора и духу эпохи. Читая "Войну и мир" тоже с величайшим наслаждением, мы можем, однако, сознавать очень ясно, что нас подчиняет не столько дух эпохи, сколько личный гений автора; что мы удовлетворены не "веянием" места и времени, а своеобразным, ни на что (во всецелости) не похожим смелым творчеством нашего современника»[690].
Однако «Кавказский пленник» был принципиальным отступлением именно от этой психологической «червоточивости». В период замысла «Анны Карениной» Толстой подошел ближе всего к системе Пушкина. В тематическом и сюжетном отношении новый роман Толстого развертывает замысел Пушкина, намеченный в указанных выше отрывках. Интересно, что отрывок, начинающийся словами «На углу маленькой площади», имеет продолжение, которое осталось неизвестным Толстому (не было тогда опубликовано); в этом продолжении (глава 2) намечено то самое развитие сюжета, которое осуществлено в «Анне Карениной»: «** скоро удостоверился в неверности своей жены. Это чрезвычайно его расстроило. Он не знал, на что решиться: притворяться ничего не примечающим казалось ему глупым; смеяться над несчастием столь обыкновенным — презрительным; сердиться не на шутку — слишком шумным; жаловаться с видом глубоко оскорбленного чувства — слишком смешным. К счастию, жена его явилась ему на помощь.
Полюбив Володского, она почувствовала отвращение от своего мужа, сродное одним женщинам и понятное только им. Однажды вошла она к нему в кабинет, заперла за собою дверь и объявила, что она любит Володского, что не хочет обманывать мужа и втайне его бесчестить и что она решилась развестись». Эта страничка Пушкина кажется конспектом к толстовскому роману.
Задуманный Пушкиным роман о Зинаиде Вольской заново ставил проблему, решенную в финале «Евгения Онегина»: героиня этого романа уже не связана с помещичьей средой и уже лишена того морального героизма, который заставил Татьяну отказаться от любви Онегина. Сюжет строится здесь уже не на трагедии верности, а на трагедии измены. Аналогичный путь прошел и Толстой от «Семейного счастия» через «Войну и мир» (Наташа и Анатоль) к «Анне Карениной». В исторической перспективе роман Толстого, особенно в своей первоначальной основе (редакция 1873—1874 гг.), выглядит как бы продолжением «Евгения Онегина»: заново решается та же задача. Биография пушкинской Татьяны кончается словами: «Но я другому отдана и буду век ему верна». Толстовская Анна — своего рода перерождение Татьяны, намеченное самим Пушкиным в отрывках задуманного романа. Один из критиков писал по поводу увлечения публики «Анной Карениной»: «До сих пор еще вы встретите таких читателей, которые сетуют на А. С. Пушкина за то, что он оставил публику в недоумении насчет окончательной судьбы Онегина и Татьяны»[691]. В. Боткин еще в 1842 г. писал Белинскому: «Не могу умолчать, что, как я высоко ни ставлю "Онегина", как мне истинною и глубокомысленно-действительною ни кажется развязка его, — все, однако ж, не могу я примириться с положением Татьяны, добровольно осуждающей себя на проституцию со своим старым генералом. Конечно, всякое художественное создание есть отдельный мир, входя в который мы обязуемся жить его законами, дышать его воздухом, но как тут быть, когда мы застигнуты другими понятиями и принципами, когда то, что прежде считалось нравственным, высокою жертвою, доблестью — кажется теперь безнравственным, прекраснодушием, слабостью? Поэтические создания, являющиеся на таких всемирно-исторических рубежах враждующих миросозерцании, становятся сами в трагическое положение»[692]. И Белинский согласился с Боткиным, найдя особенно глубоким и справедливым последнее его замечание.
Этот рубеж ощущался в 70-х годах, конечно, гораздо сильнее, — и Толстой поставил свою Анну в то новое, трагическое положение, в которое Пушкин не хотел ставить Татьяну.
Но поворот Толстого к Пушкину выражался не только в тематических и сюжетных сближениях: это поверхность того процесса, о котором Толстой писал Страхову в 1872 г. и первым выражением которого был «Кавказский пленник». В прозе Пушкина он увидел образец той самой повествовательной чистоты и четкости, которой так восторгался при чтении греческих авторов. Об этом ясно свидетельствуют письма Толстого к П. Д. Голохвастову 1873 г.: «Вы не поверите, — пишет он 30 марта, — что я с восторгом, давно уже мною не испытываемым, читал это последнее время после вас — Повести Белкина, в 7-й раз в моей жизни. Писателю надо не переставать изучать это сокровище. На меня это новое изучение произвело сильное действие» (62,18). Интересно, что Толстой говорит именно об изучении; он рассматривает прозу Пушкина как образцовую систему, как норму. В письме от 9 апреля он подводит замечательный итог этому изучению: «Изучение это чем важно? Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства. Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается. Чтение даровитых, но негармонических писателей (то же музыка, живопись) раздражает и как будто поощряет к работе и расширяет область; но это ошибочно; а чтение Гомера, Пушкина сжимает область и если возбуждает к работе, то безошибочно» (62, 22).
В письме к Страхову Толстой недаром подчеркивал «случайность» совпадения своей будущей манеры с народным творчеством: дело было действительно не в фольклоре, а в новых художественных принципах — в отказе от натуралистического уклона, от «описательства». В приведенной цитате Толстой, в сущности говоря, утверждает необходимость особой поэтики реализма, удерживающей искусство на высоте художественной системы. Общий принцип реализма («область поэзии бесконечна, как жизнь») еще не решает основных для искусства вопросов: об отборе материала, об его оценке и освещении, о принципах стиля и повествования. Читая «Повести Белкина», Толстой почувствовал именно системность Пушкина — художественную принципиальность в обращении с материалом, в его распределении и обработке. Толстой мечтает о высоком искусстве, которое бы не только «отражало» жизнь, но и умело бы посмотреть на нее с высоты «подмосток», умело бы говорить большую, важную правду. Отсюда — мысли о художественной «иерархии» и о «гармонической правильности распределения» высоких и низких предметов. Гармоническими Толстой называет тех писателей, у которых есть система отбора и распределения; всякая система, конечно, «сжимает» взятую область, но зато придает ей внутреннюю устойчивость, закономерность и убедительность. Эта мысль была высказана и Пушкиным, только в более конкретной формулировке: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности». Против этой «безотчетности» в отборе материала борется и Толстой. Основная точка соприкосновения между Толстым и Пушкиным, определившаяся в этот начальный момент работы над «Анной Карениной», — требование четкой художественной системы, строящейся на принципе высокого реализма.
В «Анне Карениной» есть характерный разговор о французском искусстве. Левин говорит, что «французы довели условность в искусстве как никто и что поэтому они особенную заслугу видят в возвращении к реализму. В том, что они уже не лгут, они видят поэзию». Анна замечает: «То, что вы сказали, совершенно характеризует французское искусство теперь, и живопись, и даже литературу: Zola, Daudet». Такой отрицательный реализм, естественно переходящий в натурализм, для Толстого неприемлем. В «Войне и мире» задача была облегчена тем, что все семейные, домашние события и продолжения выступали на фоне исторических событий и философских рассуждений. Философские отступления и картины сражений создавали определенный уровень, по отношению к которому распределялись все предметы. Получалась естественная «иерархия» тем и предметов. Замысел «Анны Карениной» был в этом отношении труднее: Толстому угрожала опасность психологического натурализма. Об этом писал еще К. Леонтьев: «В "Войне и мире" задача возвышеннее и выбор благодарнее; но по этой-то самой причине, что в "Анне Карениной" автор был больше предоставлен самому себе и что ему здесь уже не помогало извне данное историческое величие событий, — а надо было, в пестроте мелькающих явлений современного потока, избрать самому нечто и "прикрепить" это избранное "долговечной мыслью", — хочется этому автору "Карениной" отдать преимущество пред творцом народной эпопеи»[693]. Сопоставляя «Войну и мир» с «Анной Карениной», Леонтьев делает очень тонкие и верные наблюдения, которые, может быть, явились результатом его бесед с Толстым на эту тему: «Он (Толстой. — Б. Э.) сбыл с души своей в первую книгу огромный и разнообразный запас личного матерьяла, — сбыл и вышел на новый путь с ношей облегченною, но вовсе не исчерпанною. Этого лично-художественного запаса осталось еще достаточно, чтобы дать нам в "Карениной" прекрасное содержание; и вместе с тем тяжесть запаса была уже настолько уменьшена, что с порядком, чистотой и правдивостью работы можно было легче справиться. Самый язык, даже и при громком чтении, стал ровнее и приятнее. Зеркало художественного отражения стало чище и вернее. Ни поэзия, ни ясность не утратились ничуть; стерлось только то, что "засидели" несносные мухи натуральной школы. Казалось бы, что нужно дальней эпопее быть объективнее, а близкому роману — субъективнее; вышло наоборот... "Война и мир" — произведение более объективное по намерению, но объективность его очень субъективна; а "Каренина" — произведение более субъективное по близости к автору и эпохи и среды, и по характеру главного лица — Левина, но субъективность его объективировалась до возможной степени совершенства»[694].
Действительно, «Анна Каренина» отличается от «Войны и мира» несравненно большей объективностью и тона и освещения. Весь роман, за исключением немногих мест, написан в тоне пристального, но холодного (до «жестокости», как писал Страхов) наблюдения со стороны. Толстой не вмешивается со своими суждениями и оценками; он озирает жизнь с высоты и только изредка делает нечто вроде научных обобщений: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
А. Д. Оболенский, посетивший Ясную Поляну в середине 70-х годов, рассказывает, как Толстой обратился к нему с вопросом: «Вы читали исповедь Левина в "Анне Карениной"?» и после утвердительного ответа спросил: «Ну вот скажите мне: на чьей стороне я сам был, по вашему мнению, на стороне Левина или священника?» Оболенский пишет: «Я отвечал, что так это написано правдиво и хорошо, что из самого рассказа совершенно не видать, на чьей стороне сам автор. "Во всяком случае, — прибавил я, — вряд ли вы можете быть всецело на стороне священника". — "Ну вот, видите, вам кажется, что я на стороне Левина, а вот сегодня мне отец Амвросий рассказал, что у него был какой-то человек и просил его принять в монастырь. На него, говорил этот человек, очень сильное впечатление произвел мой рассказ об этой исповеди. Отец Амвросий, конечно, сам не читал "Анны Карениной" и спрашивал меня, где это я так хорошо написал про исповедь. Я в самом деле думаю, что написал хорошо. Сам я, конечно, на стороне священника, а вовсе не на стороне Левина. Но я этот рассказ четыре раза переделывал, и все мне казалось, что заметно, на чьей я сам стороне. А заметил я, что впечатление всякая вещь, всякий рассказ производит только тогда, когда нельзя разобрать, кому сочувствует автор. И вот надо было все так написать, чтобы этого не было заметно"»[695].
Дело здесь, в сущности, не в «объективности» самой по себе, а в стремлении дать высокую правду жизни, поднимающуюся над отдельными явлениями. Это не объективность, а особый художественный пафос: изображение жизни с высоты тех «подмостков», о которых Толстой писал Фету. В письме к Страхову Толстой называет искусство «лабиринтом сцеплений» и считает бессмыслицей отыскивание отдельных мыслей в художественном произведении.
Вот основа толстовской «объективности», особенно ясно и систематически выдержанной именно в «Анне Карениной». Здесь, несомненно, сказалось изучение прозы Пушкина, в этом смысле тоже совершенно «объективной» и отчасти именно поэтому отвергнутой эпохой 60—70-х годов. Поворот Толстого к Пушкину был до некоторой степени выражением его несогласия с основной литературой и критикой этой эпохи. «Анна Каренина» была, конечно, полемическим произведением, направленным против духа современной словесности и публицистики: и против понимания задач искусства, и против господствовавших форм реализма, и против женского вопроса, и против рабочего вопроса, и против земства, и против системы народного образования, и против материалистической философии. Критики, усмотревшие в «Анне Карениной» демонстрацию против современной передовой мысли и включившие Толстого в число «великолепных» беллетристов («салонное художество»), имели на то некоторые основания, как, с другой стороны, Достоевский имел основание утверждать, что в романе Толстого ясно усматривается несогласие с воззрениями левой интеллигенции на природу общественного зла, на причины виновности и преступности. Пусть объективный, исторический смысл романа (и отчасти именно вследствие художественной «объективности» самого Толстого) оказался совсем другим; в момент своего появления он, несомненно, выглядел возражением, демонстрацией против современности.
Итак, изучение пушкинской прозы было подготовлено отходом от современной литературы, несогласием с ней. У Пушкина Толстой нашел опору для своих художественных «подмостков» — для укрепления своей системы реализма, основанной на принципах отбора материала, тематической «иерархии», «гармонического распределения предметов», сцепления мыслей. К. Леонтьев отмечает еще одну особенность «Анны Карениной», впервые испробованную в «Кавказском пленнике» и восходящую тоже к пушкинской прозе: органическую связь отдельных описаний и эпизодов с будущим действующих лиц, отсутствие «описательства» или психологического анализа («подробностей чувства») самого по себе, установку на события и их последовательное развитие. Леонтьев пишет: «В "Карениной" личной фантазии автора меньше, наблюдение сдержаннее, зато психологический разбор точнее, вернее, реальнее, почти научнее; разлив поэзии сдержаннее, но зато и всякого рода несносных претыканий и шероховатостей гораздо меньше... А главное, при этом сравнении («Войны и мира» с «Анной Карениной». — Б. Э.) мы убедимся в том, что все эти места в "Карениной" более органически связаны с ходом дела, чем подобные же места в "Войне и мире"»*2.
Из всего сказанного становится ясным, что изучение Толстым Пушкина шло именно и только по линии художественных проблем — по линии тех новых «приемов», о которых он писал Страхову в 1872 г. Этим, конечно, никак не разрешается и не исчерпывается вопрос о литературных источниках и традициях «Анны Карениной», — особенно по отношению к ее окончательной редакции, далеко отошедшей от первоначального замысла.
з
Толстой и Шопенгауэр. Отношение Толстого к философским системам. Предисловие к «Избранным мыслям французских философов». Влияние эстетики Шопенгауэра. Происхождение и смысл эпиграфа к «Анне Карениной». Толстой об эпиграфе. Центральная проблема романа и его моральные тенденции.
Ближайшим, непосредственным толчком к тому, чтобы начать любовный роман, была, по-видимому (как я уже говорил), книга Дюма «L'homme — femme», но замысел романа был подготовлен раньше. Книга Дюма «поразила» Толстого именно потому, что он часто думал об этих темах и нашел у Дюма много сходных мыслей и выводов. Однако заключительный тезис Дюма, относящийся к женщине, которая изменяет мужу и бросает его и детей («убей ее»), противоречил взглядам Толстого и должен был вызвать возражение. Появившийся уже в ранних редакциях романа евангельский эпиграф «Мне отмщение, и аз воздам» является своего рода ответом на тезис Дюма: убивать не надо, потому что преступная женщина погибнет сама — не от человеческой руки, а от божьей. Сюжет романа и образы менялись, становясь более сложными и освобождаясь от связи с трактатом Дюма, но эпиграф оставался, становясь несколько загадочным. Из «отвратительной женщины», «каиновой самки», губившей жизнь и деятельность своего мужа, Анна превратилась в другую — несчастную, страдающую, «потерявшую себя» женщину. Как же мог остаться эпиграф и что же он значит?
Этот вопрос задавали себе и Толстому неоднократно читатели и критики романа. Некрасов посмеялся над Толстым и его странной «моралью», написав эпиграмму:
Толстой, ты доказал, с терпеньем и талантом, Что женщине не следует «гулять» Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, Когда она жена и мать[696].
Но так истолковать роман Толстого можно было только в шутку, придравшись к эпиграфу и желая демонстрировать именно странное отношение между ним и самим романом.
Несравненно глубже и как будто ближе к замыслу и духу романа понял этот эпиграф Достоевский, увидевший в «Анне Карениной» новое решение старого вопроса о «виновности и преступности человеческой». Отметив, что мысль Толстого выражена «в огромной психологической разработке души человеческой, с страшной глубиною и силою, с небывалым доселе у нас реализмом художественного изображения», Достоевский пишет: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит: "Мне отмщение, и аз воздам". Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешности, не пришли еще времена и сроки»[697].
Однако в таком истолковании роман стал похож больше на произведение Достоевского, чем Толстого. Уж так ли прямо обращает Толстой свой эпиграф и весь роман против «лекарей-социалистов»? Этому истолкованию противоречат как первоначальный замысел и первые редакции романа, изображающие явно преступную женщину, так и появление фигуры Левина, противопоставленной лживому, пустому и развращенному светскому обществу. Уж так ли решительно отказывается Толстой от суждений о добре и зле? Это противоречит всему духу романа.
Истолкование Достоевского не удовлетворило позднейших читателей и критиков, — вопрос остался вопросом. Дело ведь не в том, что Толстой передает решение вопроса о виновности и преступности на волю бога, а в том, что этот самый бог (уже, несомненно, по воле Толстого как автора романа) считает, по- видимому, нужным «воздать» Анне за ее преступления. Между тем читатель недоумевает: в чем же заключаются преступления Анны — да еще такие, которые караются смертью?
Кроме Достоевского смысл эпиграфа и тем самым всего романа был истолкован в статье М. С. Громеки «Последние произведения гр. JI. Н. Толстого»[698], причем это истолкование удостоилось авторизации. В беседе с Г. А. Русановым (1883 г.) Толстой назвал эту статью «превосходной»: «Он объяснил то, что я бессознательно вложил в произведение». Русанов возразил на это: «В этом я затрудняюсь согласиться с вами. Сам эпиграф к "Анне Карениной", мне кажется, указывает на сознательное отношение автора к произведению». Толстой ответил неопределенно, продолжая хвалить Громеку: «В известном смысле, пожалуй... Прекраснейшая, прекраснейшая статья! Я в восхищении от нее. Наконец-то объяснена "Анна Каренина"!»46
Вот что пишет Громека о смысле романа и эпиграфа: «Та смутная и суетная вера в достоинство и прочность произвольной смены человеческих страстей, которые называются приложением принципа свободы к области чувства, любви, — эта quasi-либеральная вера в романе Анны получает смертельную рану. Художник доказал нам, что в этой области нет безусловной свободы, а есть законы, и от воли человека зависит согласоваться с ними и быть счастливым или преступать их и быть несчастным. Нет здесь свободы близоруко и преждевременно торжествующему в наше время свою ложную победу человеческому рассудку, думающему, что он может изменить законы человеческого духа, игнорируя их силу, и преобразовать их согласно своим отвлеченным концепциям. Нельзя разрушить семью, не создав ей несчастья, и на этом старом несчастье нельзя построить нового счастья. Нельзя игнорировать общественное мнение вовсе, потому что, будь оно даже неверно, оно все же есть неустранимое условие спокойствия и свободы, и открытая с ним война отравит, изъязвит и охладит самое пылкое чувство. Брак все же есть единственная форма любви, в которой чувство спокойно, естественно и беспрепятственно образует прочные связи между людьми и обществом, сохраняя свободу для деятельности, давая силы для нее и побуждение, создавая чистый детский мир, создавая почву, источник и орудия жизни. Но это чистое семейное начало может созидаться лишь на прочном основании истинного чувства. На внешнем расчете построено оно быть не может. И позднее увлечение страстью, как естественное последствие старой лжи, разрушив ее, не исправит тем ничего и приведет лишь к окончательной гибели, потому что... "Мне отмщение, и аз воздам"...»47
Итак, роман Толстого есть прославление брака и общественного мнения? Кое в чем суждение Громеки перекликается с истолкованием Достоевского («нет здесь свободы близоруко и преждевременно торжествующему в наше время свою ложную победу человеческому рассудку»), но Достоевский не говорит о «законах», будто бы существующих в этой области, и уж никак не думает, что «от воли человека зависит согласоваться с ними и быть счастливым или преступать их и быть несчастным». Наоборот: Достоевский видит в романе и в эпиграфе полный детерминизм, игнорируя линию Левина, между тем как Громека считает, что человеку даны все возможности для счастья, так что он сам виноват, если не захотел или не сумел ими воспользоваться. Тем самым Громека совершенно игнорирует то трагическое, роковое в судьбе Анны, что заставляет читателя оправдывать ее и недоумевать перед эпиграфом. Мало того: Громека не замечает, что вся жизнь светского общества, вместе с «общественным мнением», которое будто бы «есть неустранимое условие спокойствия и свободы», дана Толстым в резко обличительном тоне — как жизнь, наполненная лицемерием, фальшью, бездельем; на этом фоне, противопоставленном деревенской жизни, Анна кажется не преступницей, а жертвой. Фактически отношение читателей к Анне пошло в дальнейшем именно по этой линии, минуя эпиграф: Анна оказалась в одном ряду с Катериной из «Грозы» Островского — как жертва не греха или преступления, а протеста.
Приходится признать авторизацию Толстого по отношению к статье Громеки сомнительной или смотреть на нее как на какое-то временное, минутное увлечение чужой мыслью, когда своя уже отошла в прошлое и несколько забылась. М. Алда- нов был совершенно прав, когда заявил, что в истолковании Громеки никакой моральной идеи нет: «В кратких словах оно сводится к старой поговорке: не давши слова — крепись, а давши — держись»[699]. Непонятно, почему Толстой в отношении к статье Громеки отступает от своего взгляда, столь решительно высказанного в письме к Страхову, — о «сцеплении» мыслей и о невозможности «выразить основу этого сцепления непосредственно словами».
М. Алданов вернулся к вопросу об эпиграфе и его смысле заново, назвав моральную тенденцию романа «сомнительной»: «Она выразилась в знаменитом эпиграфе: "Мне отмщение, и аз воздам". Загадочный эпиграф! Отмщение очень сурово: для Анны — тяжкие нравственные истязания, позор и смертная казнь; для Вронского почти то же самое; он ведь едет на войну, чтобы врубиться в турецкое каре и погибнуть. Но мщение, облекающееся в форму суда, предполагает существование преступников. Где же они, преступники? Защитительная речь художника не оставила камня на камне от обвинительного акта, построенного моралистом. Толстому не удалось скрыть любовь и восхищение, которые внушает ему "преступная" Анна; в некоторых сценах романа (напр., в сцене посещения Карениной Левиным) он даже не пытается скрыть эти чувства... Я не говорю ни о несоответствии преступления и наказания, ни о множестве смягчающих обстоятельств, пусть мы находимся в царстве категорического императива в его строжайшей, нечеловеческой форме! Но в суде над героями "Анны Карениной" отсутствует самое элементарное условие справедливости, без которого суд окончательно превращается в лотерею... равенство всех людей перед могуществом общего закона есть самое элементарное условие самого шаблонного понимания справедливости... И это условие грубейшим образом нарушено в "Анне Карениной". "Бесстыдно растянутое, окровавленное" тело Анны лежит на столе казармы. Но княгиня Бетси Тверская... продолжает устраивать "cosy chat"49 и принимать Тушкевича в своей роскошной гостиной Louis XV... Вронский — "как человек, развалина" и отправляется автором на смерть. Но Стива Облонский, профессиональный грешник, получает место "члена от комиссии соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южножелезных порог и банковых учреждений" и безмятежно наслаждается жизнью... Где живут припеваючи Облонские и Тверские, там гибель Анны Карениной трудно представить актом высшей справедливости. О, мы очень далеки от тех старинных романов, в последней главе которых злодей с криком проклятья на устах уводится полицией в тюрьму, а представитель добродетели получает миллионное наследство. Но ведь те скромные требования, которые мы предъявляем художнику, мы вправе предъявить и моралисту. Что же мы видим? Берется случай из жизни, лишний раз подтверждающий старые слова: нет правды на земле! — подвергается гениальной художественной разработке, а затем к нему белыми нитками пришивается эпиграф, точно специально созданный для нравственного удовлетворения английских клерджименов! За что же отмщение? За нелогичность человеческой природы, не желающей в порыве страсти считаться с богословами, с моралистами, с communis doctorum opinio?..[700] Не вправе ли мы сказать, что приговор вынесен Анне точно в мертвом кассационном суде, где дела не рассматриваются по существу? Не вправе ли мы подумать, что мысль, выраженная в эпиграфе романа, больше похожа на насмешку, чем на справедливый божеский приговор?.. Быть может, оттого так волнуют нас, так хватают задушу некоторые сцены "Анны Карениной", что мы чувствуем бессилие великого писателя... подчинить моральной идее созданный им волшебный мирок... Перед нами страдание истинное, жгучее, неподдельное, а виновных нет... И если сокращенно выразить то, что действительно сказал в своем романе JI. Н. Толстой, мы получим чудовищную формулу: никто из этих людей не виновен и не заслуживает отмщения, но все же некоторым "аз воздам"...»[701]
Итак, вопреки Достоевскому и Громеке, предлагается новый выход из запуганного положения: считать, что моральная тенденция романа, выраженная в эпиграфе, — плод бессилия самого автора осмыслить собственное произведение и его моральную идею. Вопросы и недоумения Алданова совершенно законны и естественны, и вывод как будто поддерживается тем фактическим положением вещей, о котором я говорил: никто не считает Анну преступницей — и тем самым никто не считается с эпиграфом. Однако правильный ли и единственный ли это выход из положения? Надо все-таки считаться с тем, что при таком решении на автора набрасывается некоторая тень «бессилия» или недомыслия.
Была сделана еще одна попытка выйти с честью из этого затруднения: я имею в виду сообщение В. Вересаева в его «Воспоминаниях». Вересаев рассказывает: «Весною 1907 года я возвращался из-за границы и от Варшавы ехал в одном купе с господином, который оказался М. С. Сухотиным, зятем Толстого (мужем его дочери Татьяны Львовны). Мы много, конечно, говорили о Толстом. Я в то время писал свою книгу о Достоевском и Льве Толстом "Живая жизнь". Между прочим, я сообщил Сухотину, как понимаю значение эпиграфа к "Анне Карениной": "Мне отмщение, и аз воздам" В романе мы видим отражение глубочайшей душевной сущности Толстого — его непоколебимую веру в то, что жизнь по существу своему светла и радостна, что она твердою рукою ведет человека к счастью и гармонии и что человек сам виноват, если не следует ее призывам. В браке с Карениным Анна была только матерью, а не женою. Без любви она отдавала Каренину то, что светлым и радостным может быть только при любви, без любви же превращается в грязь, ложь и позор. Живая жизнь этого не терпит. Как будто независимая от Анны сила — она сама это чувствует — вырывает ее из уродливой ее жизни и бросает навстречу новой любви. Если бы Анна чисто и честно отдалась этой силе, перед нею раскрылась бы новая, цельная жизнь. Но Анна испугалась, — испугалась мелким страхом перед человеческим осуждением, перед потерею своего положения в свете. И глубокое, ясное чувство загрязнилось ложью, превратилось в запретное наслаждение, стало мелким и мутным. Анна ушла только в любовь, стала любовницею, как раньше была только матерью. И тщетно пытается она жить своею противоестественною, пустоцветною любовью. Этого живая жизнь также не может потерпеть. Поруганная, разорванная надвое, она беспощадно убивает душу Анны. И здесь можно только молча преклонить голову перед праведностью высшего суда: если человек не следует таинственно-радостному зову, звучащему в его душе, если он робко проходит мимо величайших радостей, уготованных ему жизнью, — то кто же виноват, что он гибнет в мраке и муках? Человек легкомысленно пошел против собственного своего существа, — и великий закон, светлый в самой своей жестокости, говорит: "Мне отмщение, и аз воздам". У Сухотина загорелись глаза. — Это оригинально. Интересно бы рассказать Льву Николаевичу, — как бы он отнесся к такому объяснению. — Михаил Сергеевич! Ловлю вас на слове. Очень вас прошу— расскажите и потом напишите мне. Я, конечно, не сомневаюсь, что сам Толстой смотрит на эпиграф не так, но все-таки страшно интересно узнать его мнение.
Сухотин замялся, стал говорить, что Лев Николаевич неохотно беседует о художественных своих произведениях, но в конце концов обещал поговорить и написать мне. Через месяц я, действительно, получил от него письмо:
Ясная Поляна. 23 мая 1907г.
Многоуважаемый Викентий Викентьевич!
Не подумайте, что я забыл спросить Л. Н. по поводу эпиграфа к Анне Карениной. Я просто не находил случая его спросить, т. к., как я вам передавал, Л. Н. не любит говорить о своих произведениях беллетристических. Лишь на днях я выбрал удобный момент и спросил его по поводу "мне отмщение, и аз воздам" К сожалению, из его ответа оказалось, что прав я, а не вы. Говорю, к сожалению, так как ваше понимание этого эпиграфа мне гораздо более нравится понимания Л. Н. По-моему, и Л-у Н-у ваше объяснение более понравилось его собственного. По крайней мере, когда на его вопрос я объяснил ему причину моего желания знать, как он понимает этот эпиграф, он сказал: "Да, это остроумно, очень остроумно, но я должен повторить, что я выбрал этот эпиграф просто, как уже объяснил, чтобы выразить ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от бога, и что испытала на себе и Анна Каренина. Да, я помню, что именно это я хотел выразить"»[702].
Этими простыми словами Толстой вносит некоторую ясность в запутанный вопрос. В сущности говоря, он отвергает не только точку зрения Вересаева, но и все толкования критиков, смотревших на эпиграф как на выражение идей романа. По Толстому (и именно в тот период, когда он писал «Анну Каренину») — ни одна отдельная мысль не может выразить всего смысла художественного произведения, этого «бесконечного лабиринта сцеплений». В письме к Страхову (написанном в ответ на его истолкование «Анны Карениной») Толстой говорит: «Ваше суждение о моем романе верно, но не все, т. е. все верно, но то, что вы высказали, выражает не все, что я хотел сказать. Например, вы говорите о двух сортах людей. Это я всегда чувствую — знаю, но этого я не имел в виду. Но когда вы говорите, я знаю, что это одна из правд, которую можно сказать. Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала... И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить qu'ils en savent plus long que moi...[703] Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя, а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения». В конце письма Толстой прибавляет: «Нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений» (82,268269). Отвечая на вопрос Сухотина, Толстой объяснил не смысл романа, а только смысл эпиграфа: «Я выбрал этот эпиграф просто, как уже объяснил, чтобы выразить ту мысль» и т. д. Надо, значит, прежде всего выяснить самое соотношение эпиграфа и романа. Это соотношение вовсе не такое, каким его представляли критики: эпиграф в данном случае есть выражение некоторой общей мысли, присутствующей в романе, но совсем не покрывающей и не объясняющей его. Это мысль автора, которую он предлагает читателю как некий моральный вывод, частично освещающий события романа, как афоризм, сжато формулирующий одну из тем или проблем романа: проблему зла, проблему «дурного». Кстати, отвечая Сухотину, Толстой не говорит ни о «преступлении» Анны, ни об ее самоубийстве как о «наказании»: «То дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от бога и что испытала на себе и Анна Каренина». Здесь сказано только то, что всякое зло («дурное») влечет за собой неизбежные, роковые последствия в виде страданий («горькое»). Этими словами Толстой, между прочим, восстанавливает правильное понимание евангельского изречения: смысловой акцент в этом изречении падает на слова «мне» и «аз», а не на «отмщение» и «воздам». Это изречение появилось в Библии (Второзаконие, гл. XXXII, ст. 35), где его произносит разгневанный на людей Иегова; отсюда оно перешло в Послание к римлянам апостола Павла (гл. XII, ст. 18—19), где оно звучит уже иначе: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу божию. Ибо написано: "Мне отмщение, я воздам, говорит господь"». Иначе говоря: право мести принадлежит богу, а не людям.
Мысль Толстого, выраженная в этом эпиграфе, заключается именно и только втом, что неизбежные последствия «дурного» — это не месть людей, а собственные страдания, которые «идут не от людей». Самоубийство Анны — только естественная развязка, подготовленная тем «горьким», что испытала Анна. Дело не в самом самоубийстве (как и не в попытке Вронского к самоубийству), а именно втом, что страсть привела к страданиям. Руководствуясь теоретическими суждениями самого Толстого, высказанными им в период создания «Анны Карениной» (когда эпиграф уже был), и его же словами Сухотину, надо признать, во-первых, что он вовсе не имел в виду выразить в эпиграфе смысл всего романа и превратить, таким образом, роман в иллюстрацию к евангельскому изречению, и, во-вторых, что самый эпиграф он понимал не совсем так, как его понимали критики. Но этого мало: надо учесть еще некоторые важные факты, не учтенные критиками.
Центральная проблема романа — проблема отношения к жизни, к действительности, проблема поведения и связанная с нею проблема «дурного», проблема виновности, волновавшая Толстого до конца жизни («Нет в мире виноватых»). Надо вспомнить, что в самом первоначальном варианте (записанном в 1870 г. С. А.) Толстой хотел изобразить «потерявшую себя» замужнюю женщину из высшего общества и сделать ее «только жалкой и не виноватой». В новом варианте (1873), подсказанном книгой Дюма, она уже оказалась виноватой. Евангельский эпиграф появился именно в этот момент: это был, очевидно, ответ на тезис Дюма «убей ее». В качестве иллюстрации к своему тезису Дюма написал пьесу «Жена Клавдия», где муж убивает изменившую ему жену[704]. Полемизируя с этим тезисом, Толстой берет свою тему сначала элементарно (роман «в легком роде») — так, как она взята у Дюма. Эпиграф звучит здесь очень просто и ясно: убивать такую женщину не надо — она погибнет сама. Именно в таком простом и ясном смысле это изречение использовано позже в рассказе «Свечка» (1885), первоначальное заглавие которого было «Мне отмщение, и аз воздам». Здесь крестьяне хотят убить злого приказчика, но один из них уговаривает не делать этого: «Чужую душу погубить легко, да своей-то каково?.. Кабы нам показано было зло злом изводить, так бы нам и от бога закон лежал; а то нам другое показано. Ты станешь зло изводить, а оно в тебя перейдет» (25, 108). Приказчик гибнет сам: он наказан богом. Это простая иллюстрация к теории «непротивления злу насилием» — нечто вроде притчи. В «Анне Карениной» содержится первоначальный зародыш этой теории.
В раннем варианте (1873) эпиграф написан так: «Отмщение мое». Это, очевидно, сокращенная запись, сделанная для себя, начерно; но откуда могла явиться именно такая редакция, не существующая ни в Библии, ни в Евангелии — ни на церковнославянском, ни на русском языке? В четвертой книге сочинения Шопенгауэра «Мир как воля и представление» есть глава (§ 62), трактующая о юридических понятиях: о несправедливости, о принуждении, о законах, государстве и пр. Тут же идет речь о понятиях наказания и мести. Шопенгауэр утверждает, что «вне государства не существует права наказания». Наказание отличается от мести тем, что оно обращено на будущее и является предупреждением, тогда как месть обращена только на прошедшее и мотивируется совершившимся. «Всякое воздаяние за неправо посредством причинения боли, без цели в будущем, есть месть и не может иметь другой цели, как, взирая на чужое страдание, которое мы сами причинили, утешиться в том, которое мы сами претерпели. Это злоба и жестокость, не оправдываемые этикой. Несправедливость, кем-либо мне причиненная, нисколько не уполномочивает меня причинять ему несправедливость. Воздаяние злом за зло, без дальнейших видов, ни морально, ни каким-либо иным разумным основанием оправдано быть не может... Поэтому теория Канта о наказании как возмездии ради возмездия есть вполне безосновательное и превратное мнение... Никакой человек не уполномочен выступать в виде чисто морального судьи и воздаятеля и наказывать проступки другого болью, которую он ему причиняет, — следовательно, налагать ему за это покаяние. Это была бы, скорей, в высшей степени заносчивая самонадеянность; отсюда библейское: мне отмщение, и аз воздам».
Несколькими страницами ниже Шопенгауэр повторяет это изречение, развивая мысль о «вечном правосудии», стоящем вне мира явлений.
Толстой, несомненно, внимательно читал эти страницы. Надо думать, что именно отсюда, а не непосредственно из Евангелия, взял он и эпиграф к своему роману. Он читал Шопенгауэра в подлиннике (русского перевода тогда еще не было, — перевод Фета появился в 1881 г.), а в немецком тексте это изречение звучит так: «Mein ist die Rache, spricht der Herr, und ich will vergelten». He заглядывая в Евангелие и не помня русского текста наизусть, Толстой просто перевел начало изречения с немецкого: «Отмщение мое».
В ранней редакции «Анны Карениной» Толстой полемизирует с тезисом Дюма при помощи этики Шопенгауэра. Исходя не только из Дюма, но и из Шопенгауэра («Метафизика половой любви» и особенно трактат «О женщинах»), он сначала делает женщину воплощением зла и порока; но роман выходит за пределы первоначальных узких рамок и усложняется. Толстой явно колеблется в решении проблемы зла и вины. Теории отступают на второй план перед напором художественного материала и теряются в «бесконечном лабиринте сцеплений». Анна перестает быть виноватой в том смысле, как это было в редакции 1873 г.: «Ваша Анна Каренина возбудит бесконечную жалость к себе, и всякому, однако же, будет ясно, что она виновата», — писал Страхов в 1875 г.55 Чем больше роман подходит к концу, тем вина Анны становится все менее ясной, а вместе с тем и эпиграф, оставшийся от ранней редакции, становится все более загадочным. Из преступницы Анна превращалась в жертву, и возникал естественный вопрос: при чем же тут «Мне отмщение, и аз воздам»?
Однако с точки зрения Толстого, опирающегося на этику Шопенгауэра, Анна и Вронский все-таки виноваты — не перед обществом или общественным мнением (как утверждал Громека), а перед жизнью, перед «вечным правосудием». Они оба ведут не настоящую жизнь, потому что руководятся только узко понятой «волей» — желанием, не задумываясь, как Левин, над смыслом жизни. Они, в этом смысле, не настоящие люди, арабы своей страсти, своего эгоизма. Поэтому их любовь перерождается в страдание — в тоску, в ненависть, в ревность. Анна начинает страдать, потому что делает «ту вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастие осуществлением желания». Толстой говорит о Вронском: «Он скоро почувствовал, что в душе его поднялось желание желаний, тоска. Независимо от своей воли он стал хвататься за каждый мимолетный каприз, принимая его за желание и цель». Анна начинает страдать от ревности, которая потом перерастает в желание мести, наказания: «И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей. Теперь было все равно: ехать или не ехать в Воздвиженское, получить или не получить от мужа развод, — все было не нужно. Нужно было одно — наказать его». На это место критики не обращали внимания, а между тем оно очень важно. Здесь подчеркнуто, что Анна страдает и погибает не от внешних причин — не от того, что общество ее осуждает, а муж не дает развода, но от самой страсти, от вселившегося в нее «злого духа». Страсть превратилась в борьбу — в «поединок роковой», выражаясь словами Тютчева. Эта страсть и есть то «дурное», о чем говорил Толстой Сухотину, а страдания Анны и Вронского — то «горькое, что идет не от людей, а от бога». Евангельское изречение, воспринятое Толстым в контексте шопенгауэровской этики, сохранило свое общее значение и при таком повороте первоначального сюжета, не покрывая, конечно, всего смысла романа.
Итак, эпиграф относится к судьбе Анны и Вронского. «А как же Бетси Тверская и Степан Аркадьевич? — спросит читатель, прочитавший книгу М. Алданова. — Почему же они продолжают жить припеваючи?» Это вопрос человека, обсуждающего роман Толстого с юридической точки зрения, а не по существу. Толстой не был юристом и писал свой роман не для юридической науки. Тут нет «состава преступления», — и ни прокурорам, ни защитникам делать с этим романом нечего. Тут — проблема высшей этики. Бетси Тверская и Степан Аркадьевич, как и все светское общество, живут вне всякой этики или морали и потому стоят вне этой проблемы. Анна и Вронский стали подлежать собственному моральному суду («вечному правосудию») только потому, что они, захваченные подлинной страстью, поднялись над этим миром сплошного лицемерия, лжи и пустоты и вступили в область человеческих чувств. Там, где есть Левин, Анна и Вронский, Толстому и его богу незачем возиться с Бетси Тверской и прочими «профессиональными грешниками»: они существуют в романе как реальное социальное зло, которое подлежит суду истории. Толстой, как настоящий реалист, написал не нравоучительный роман на тему «о высшей справедливости», а нечто совсем иное, и его эпиграф нельзя понимать ни как проповедь мещанской морали, ни как речь спутавшегося юриста, начавшего с обвинения, а кончившего защитой.
Персонажи «Анны Карениной» (как отчасти и персонажи «Войны и мира») располагаются по своего рода нравственной лестнице: внизу стоят Стива Облонский, Бетси Тверская и пр. — светское дно, обитатели которого не знают никаких нравственных законов; над этим дном поднимаются Анна и Вронский, но они — рабы слепой эгоистической страсти и именно поэтому подлежат нравственному суду; Левин, тоже стоявший на краю пропасти, спасается, потому что живет всей полнотой жизни и стремится к осуществлению нравственного закона. Таков суд Толстого над современностью.
4
Толстой в 70-е годы. Толстой и Тютчев. Чтение Толстого в эпоху создания
«Анны Карениной». Влияние поэзии Фета. Художественная символика как новый элемент в системе Толстого. Переход к 80-м годам.
«Анна Каренина» была задумана и начата Толстым в годы мрачного яснополянского уединения, последовавшие за окончанием «Войны и мира». Эти годы образуют своего рода границу в жизни и творчестве Толстого. «Война и мир», подведшая итог всем противоречиям, исканиям и художественным опытам 50—60-х годов, осталась вместе с породившей ее эпохой, по ту сторону этой границы; по эту сторону началось прокладывание новых путей, ведущих к «кризису» 80-х годов — к «Исповеди», к трактату «Так что же нам делать?», к народным рассказам. «Анна Каренина» стоит на самом рубеже этой пограничной полосы — как памятник грозившей Толстому исторической опасности: до такой степени отрешиться от современности и уйти в «ничем не нарушимую свою собственную атмосферу» (выражение в письме к Страхову 1871 г.), что потерять всякие стимулы не только к творчеству, но и к жизни.
Эта опасность грозила Толстому совершенно реально, как видно не только из его признаний в письмах 70-х годов, наполненных жалобами на тоску, сомнение в силах, апатию, приближение смерти, но и из самого романа. Финальные слова «Анны Карениной», посвященные Левину, описывают душевное состояние, пережитое самим Толстым, и имеют характер дневниковой записи, подготовляющей «Исповедь».
С. А. Толстая очень ярко описала эту страшную эпоху яснополянской жизни в своем дневнике от 12 октября 1875 г.: «Слишком уединенная деревенская жизнь мне делается наконец несносна. Унылая апатия, равнодушие ко всему, и нынче, завтра, месяцы, годы — все то же и то же... Я тесно и все теснее с годами связана с Левочкой, и я чувствую, что он меня втягивает, главное он, в это тоскливое, апатичное состояние. Мне больно, я не могу видеть его таким, какой он теперь. Унылый, опущенный, сидит без дела, без труда, без энергии, без радости целыми днями и неделями и как будто помирился с этим состоянием. Это какая-то нравственная смерть, а я не хочу ее в нем, и он сам так долго жить не может»[705]. Запись С. А. относится к самому острому периоду тоски и апатии, когда даже художественная работа перестала интересовать Толстого. Пришлось сделать перерыв в печатании романа, объявив читателям об усталости автора: после апрельской книжки «Русского вестника», где текст романа кончался главой X 3-й части (Левин в деревне у Долли), печатание возобновилось только в февральской книжке 1876 г. За это время в душевном состоянии Толстого произошел некоторый перелом, хотя мысль о смерти и тоска не покидали его: «Ничего более не остается в жизни, как умирать», — пишет он брату в феврале 1876 г. (62, 248). Перелом определился: осенью 1876 г. — после того как Толстой совершил поездку в Самару, Казань, Оренбург и затем в Москву с целью узнать подробности о готовившейся войне. Этот перелом совпал с переработкой последних частей «Анны Карениной» и написанием финальных глав, где Левин находит разрешение своим сомнениям. Глава X эпилога заканчивается характерными словами, фиксирующими происшедшую в душевном состоянии самого Толстого перемену: «Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете, и мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную дорогу в жизни» (курсив мой. — Б. Э.). Последние слова указывают на то, что Толстой сам осмыслил свое тяжелое душевное состояние не как простую «болезнь», а как результат обступивших его новых противоречий, корень которых — не в его душе, а в его историческом положении, в проблеме дальнейшего поведения и отношения к окружающей его действительности.
70-е годы уходят у Толстого целиком на прокладывание этой «особенной» дороги в жизни и творчестве. Работа над «Азбукой», письма к Страхову о «башне» нашей литературы и о народном творчестве, занятия греческой литературой и чтение древнерусской письменности, борьба с педагогами, статья «О народном образовании» — все это были поиски новой позиции, нового дела. Сначала эта трудная работа шла в полном уединении. В 1870-1871 гг. Ясная Поляна почти отрезана от мира: не получается ни газет, ни журналов. Шум времени не проникает за ворота яснополянской усадьбы: франко-прусская война, Парижская коммуна, революционное движение в России (нечаевское дело, чайковцы и пр.) — обо всем этом Толстой молчит, охраняя «свою собственную атмосферу». Даже в 1880 г., когда прокладывание новой дороги закончилось, он пишет Страхову: «Вам, должно быть, очень трудно воздерживаться от вихря политической жизни, который дует около вас. Я, сидя в деревне, и то не удерживаюсь и делаю величайшие усилия, чтоб он меня не сдул и чтоб я не сбивался с дороги» (63, 13).
В августе 1871 г. Толстой случайно встретился в поезде с Тютчевым. Они проговорили четыре часа; «я больше слушал», — пишет Толстой Страхову. Тютчев был в это время совершенно поглощен политическими событиями. В письмах к дочери он говорит о франко-прусской войне, считая ее началом крушения старой европейской цивилизации. «Настоящая ужасная война смешается с внутренней войной партий, настоящей социальной войной. Как бы это ни хотелось императору Вильгельму, но его империя не будет империей мира и прогресса в свободе... Это будет совсем другое. Эта война, какой бы ни был ее исход, расколет Европу на два лагеря, более чем когда-либо на социальную революцию и военный абсолютизм»[706]. Не менее взволнован Тютчев и событиями в России: весь июль 1871 г. он проводит в Петербурге и присутствует на процессе Нечаева. «Было бы невозможно пересказать вам, — пишет он жене, — всю эту животрепещущую действительность и все это грустное и роковое, что при этом обнаруживается»[707]. Можно быть уверенным, что Тютчев поделился с Толстым этими своими впечатлениями и размышлениями; однако, описывая эту встречу Страхову, Толстой не говорит ни слова о политических вопросах, а рассуждает совсем о другом: «Это гениальный, величавый и дитя старик, — говорит он о Тютчеве. — Из живых я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил. Но на известной высоте душевной единство воззрений на жизнь не соединяет, как это бывает в низших сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным. Я это испытал с вами и с ним. Мы одинаково видим то, что внизу и рядом с нами; но кто мы такие, и зачем и чем мы живем, и куда мы пойдем, мы не знаем, и сказать друг другу не можем, и мы чуждее друг другу, чем мне или даже вам мои дети. Но радостно по этой пустынной дороге встречать этих чуждых путешественников» (61, 261). Политика явно отведена здесь в категорию «земных целей» — как «низшая форма деятельности». Вслед за описанием этой встречи в письме идут советы заняться «чисто философской деятельностью» («чисто в смысле отрешимости от современности») и бросить «развратную журнальную деятельность». Беседа с Тютчевым шла, очевидно, на такой «душевной высоте», что политика оказалась внизу. Незадолго до встречи с Толстым Тютчев написал стихотворение, тема которого, очень близкая Толстому, была, может быть, главной темой их беседы. В этом стихотворении («От жизни той, что бушевала здесь...») есть совершенно шопенгауэровские строки:
Природа знать не знает о былом, Ей чужды наши призрачные годы, И перед ней мы смутно сознаем Себя самих — лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, Свершающих свой подвиг бесполезный, Она равно приветствует своей Всепоглощающей и миротворной бездной.
Вот в этом умении взглянуть на жизнь с философской высоты Толстой и увидел гениальность и величавость Тютчева. Жизнь представляется в это время Толстому «пустынной дорогой», ведущей в неизвестность. В 1876 г. он делится с Фетом своими размышлениями о смерти и говорит: «Дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее, а вы и те редкие настоящие люди, с которыми я сходился в жизни, несмотря на здравое отношение к жизни, всегда стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только от того, что глядят то в нирвану, в беспредельность, неизвестность, то в сансару[708], и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение» (62, 272). Стоять «на самом краюшке» и смотреть на жизнь двойным зрением — вот новый принцип Толстого, поддержанный чтением Шопенгауэра. В «Исповеди» Толстой утверждает, что умозрительная наука на вопрос о смысле жизни всегда отвечала и отвечает одно: «Мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этого непостижимого "всего". Опять я исключаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических». И вслед за этим он цитирует Сократа, Шопенгауэра, Соломона и Будду. «Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни», — говорит Сократ... А вот что говорит Шопенгауэр: «Что мы так страшимся ничтожества, или, что то же, так хотим жить — означает только, что мы сами не что иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что останется по совершенном уничтожении воли для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто; но и, наоборот, для тех, в которых воля обратилась и отреклась от себя, для них этот наш столь реальный мир, со всеми его солнцами и млечными путями, есть ничто».
В «Анне Карениной» Толстой отбрасывает все «сделки между умозрительными и опытными знаниями», которые имели еще для него смысл и значение в период работы над «Войной и миром». Здесь, выражаясь языком Тютчева, жизнь обнажена «с своими страхами и мглами»: она развернута как органическое «хотение жизни», как элементарная, ничем не прикрытая «воля». Толстой строит роман на самых основных, стихийных силах и процессах человеческой жизни, изображая все остальные проявления и формы деятельности (наука, общественная жизнь) с иронией и недоверием. Женщина для него — воплощение этих элементарных сил; поэтому она оказалась в центре романа. Она гибнет уже по одному тому, что ее «воля» в конце концов зашла в тупик — «отреклась от себя». Левин отличается от всех остальных персонажей романа тем, что он, «несмотря на здравое отношение к жизни, всегда стоит на самом краюшке»: глядит то в сансару, то в нирвану. Все поведение Левина построено на том, что он, с одной стороны, живет подлинно реальной жизнью и занят настоящим делом (в противоположность всем остальным, занятым совершенно призрачной деятельностью), а с другой — смотрит за пределы жизни и тем самым выходит победителем из всех соблазнов «воли» и даже из философии Шопенгауэра. Это уже не столько характер, сколько воплощенная в личность идея. Тургенев, подходя к Левину как к характеру, недоумевал и возмущался: «Неужели же, — говорил он Полонскому, — ты хоть одну минуту мог подумать, что Левин влюблен или любит Кити или что Левин вообще может любить кого-нибудь... Нет, любовь есть одна из тех страстей, которая надламывает наше я, заставляет как бы забывать о себе и своих интересах. Левин же, узнавши, что он любим и счастлив, не перестает носиться с своим собственным я, ухаживает за собой... Он ни на минуту не перестает быть эгоистом и носится с собой до того, что воображает себя чем-то особенным. Психологически это очень верно (хотя я и не люблю психологических подробностей и тонкостей в романе), но все эти подробности доказывают, что Левин эгоист до мозга костей, и понятно, почему на женщин он смотрит — как на существа, созданные только для хозяйственных и семейных забот и дрязг»[709].
Дело тут не в психологии, а в проповеди двойного зрения на жизнь. Таков принцип жизни и творчества Толстого в трудный для него период 70-х годов, когда все «переворотилось» и только начинало «укладываться». Это был очередной выход из противоречий, созданных положением Толстого в новой эпохе. Как всегда у Толстого, это были не простые противоречия его ума или натуры («шуйца» и «десница» по терминологии Михайловского), а противоречия действительности, — результат той «быстрой, тяжелой, острой ломки всех старых «устоев» старой России»[710], которую ему пришлось пережить в 70-х годах. Ленин писал в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха»: «То, что "переворотилось", хорошо известно, или, по крайней мере, вполне знакомо всякому русскому. Это — крепостное право и весь "старый порядок", ему соответствующий. То, что "только укладывается", совершенно незнакомо, чуждо, непонятно самой широкой массе населения. Для Толстого этот "только укладывающийся" буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала — Англии. Именно пугала, ибо всякую попытку выяснить себе основные черты общественного строя в этой "Англии", связь этого строя с господством капитала, с ролью денег, с появлением и развитием обмена, Толстой отвергает, так сказать, принципиально. Подобно народникам, он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что "укладывается" в России никакой иной, как буржуазный строй.
Справедливо, что если не "единственно важным", то важнейшим с точки зрения ближайших задач всей общественно-политической деятельности в России для периода 1861-1905 годов (да и для нашего времени) был вопрос, "как уложится" этот строй, буржуазный строй, принимающий весьма разнообразные формы в "Англии", Германии, Америке, Франции и т. д. Но для Толстого такая определенная, конкретно-историческая постановка вопроса есть нечто совершенно чуждое. Он рассуждает отвлеченно, он допускает только точку зрения "вечных" начал нравственности, вечных истин религии, не сознавая того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого ("переворотившегося") строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов»[711].
Замысел «Анны Карениной» явился после отказа от конкретно-исторических проблем — как демонстрация против общественно-политического направления литературы. Еще недавно Толстой вместе с Урусовым и Погодиным трудился над установлением «дифференциала истории», надеясь этим путем открыть ее законы: теперь история уступила свое место метафизике, а Урусова и Погодина заменили Страхов и Фет.
Толстой отворачивается не только от конкретно-исторической постановки вопросов, но и от современной русской литературы с ее «элукубрациями». Он пишет семейный роман с любовным сюжетом, явно следуя западным образцам. А. Д. Оболенский вспоминает слова, сказанные Толстым в 1877 г.: «Самые лучшие книги — английские; когда я привожу с собой домой английские книги, я всегда в них нахожу новое и свежее содержание»[712]. Несмотря на свою замкнутую жизнь в Ясной Поляне, Толстой очень быстро получал новинки иностранной литературы. С. Урусов удивлялся: «Не понимаю, кто ваш книгопродавец, от коего вы все имеете и лучше и раньше нашего?»64
Что касается русской литературы, то, кроме опоры на прозу Пушкина, Толстой нашел себе опору в поэзии: в лирике Тютчева и Фета. Обычное представление, что Толстой был равнодушен к стихам, неверно. Поэзия Тютчева и Фета сыграла большую роль в художественном опыте Толстого, и, в частности, в создании «Анны Карениной». Глубокий лиризм в обрисовке Анны и Левина, символика деталей, отсутствие повествовательного тона (замеченное Страховым) — все эти особенности толстовского романа оказываются результатом своеобразного усвоения и развития лирических тем и методов Тютчева и Фета. Философия Шопенгауэра воспринималась Толстым в одном ряду с этой поэзией — как ее умозрительная база.
О стихах Тютчева Толстой говорил В. Лазурскому (в 90-х годах): «По моему мнению, Тютчев — первый поэт, потом Лермонтов, потом Пушкин. Вот видите, какие у меня дикие понятия... Так не забудьте же достать Тютчева. Без него нельзя жить!.. Сила Пушкина, по моему мнению, главным образом в его прозе... Тютчев как лирик несравненно глубже Пушкина»[713]. Трактовка страсти как стихийной силы, как «поединка рокового», и образ женщины, гибнущей в этом поединке, — эти основные мотивы «Анны Карениной» подготовлены лирикой Тютчева: я имею в виду такие стихотворения, как «Она сидела на полу и груду писем разбирала...» или «Не говори: меня он, как и прежде, любит...» Стихотворение «О, как убийственно мы любим...» звучит как лирический комментарий к «Анне Карениной», или, вернее, как эпиграф к ней:
Ты помнишь ли, при вашей встрече, При первой встрече роковой, Ее волшебный взор и речи, И смех младенчески живой?
Судьбы ужасным приговором Твоя любовь для ней была, И незаслуженным позором На жизнь ее она легла! Жизнь отреченья, жизнь страданья! В ее душевной глубине Ей оставались вспоминанья... Но изменили и оне. И на земле ей дико стало, Очарование ушло... Толпа, нахлынув, в грязь втоптала То, что в душе ее цвело. И что ж от долгого мученья, Как пепл, сберечь ей удалось? Боль злую, боль ожесточенья, Боль без отрады и без слез!
Дело, тут, конечно, не в тематической близости самой по себе, а в философско- лирическом углублении и расширении любовной темы как «буйной слепоты страстей». Здесь художественный источник той лирической (а не только психологической) глубины, которая придана образу Анны и которой до Толстого не знала русская проза.
Стихами Фета Толстой заинтересовался еще в 50-х годах и тогда же заметил особенности его метода. В 1857 г. он писал В. Боткину по поводу стихотворения «Еще майская ночь...»: «Стихотворение Фета прелестно... И в воздухе за песнью соловьиной разносится тревога и любовь! — Прелестно! И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов» (60, 217). Эта «лирическая дерзость», схватывающая тонкие оттенки душевной жизни и переплетающая их с описанием природы, привлекает внимание Толстого, разрабатывающего «диалектику души» во всей ее противоречивости и парадоксальности. Знакомство с поэзией Фета сообщает этой «диалектике души» особый лирический топ, прежде отсутствовавший. В прозе Толстого появляется тоже своего рода «лирическая дерзость», выводящая его за пределы чистого психологического анализа. Это есть уже в «Войне и мире». Мысли раненого князя Андрея, лежащего на Аустерлицком поле, — это уже не столько «диалектика души» в духе севастопольских рассказов, сколько философская лирика: «Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения». Это скачок в лирику — нечто вроде стихотворной цитаты. Другое место «Войны и мира» кажется уже прямо лирической вставкой, «стихотворением в прозе», написанным по методу Фета: я имею в виду мысли князя Андрея при виде одинокого старого дуба. Это не простая метафора и не простое «одушевление» природы — это тот импрессионизм («лирическая дерзость»), на котором основана лирика Фета. Возможно, что здесь даже прямо откликнулось стихотворение Фета «Одинокий дуб» (1856).
В «Анне Карениной» Толстой идет уже дальше. Если он и остается реалистом, то это не совсем тот психологический реализм, художественным пределом которого была «диалектика души». 70-е годы — период сильнейшего увлечения Толстого лирикой Фета. Его отзывы в письмах к Фету, который часто посылает ему свои новые стихи, показывают, как глубоко он их понимал и как сильно на них реагировал. О стихотворении «Майская ночь» (1870) Толстой пишет: «Развернув письмо, я — первое — прочел стихотворение, и у меня защипало в носу: я пришел к жене и хотел прочесть; но не мог от слез умиления. Стихотворение одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно. Оно так хорошо, что, мне кажется, это не случайное стихотворение, а что это первая струя давно задержанного потока» (б/, 235). В том же году Толстой называет «прекрасным» стихотворение «После бури» — одно из тех, в которых ясно сказывается «лирическая дерзость» Фета:
Освеженный лес прибрежный Весь в росе, не шелохнется — Час спасенья, яркий, нежный, Словно плачет и смеется.
Стихотворение «В дымке-невидимке...» (1873) находит у Толстого не только одобрение, но и тонкое истолкование: «Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты выражено прелестно» (62, 26). В письме 1876 г. Толстой восторгается стихотворением «Среди звезд», которое заканчивается следующей строфой:
Вот почему, когда дышать так трудно, Тебе отрадно так поднять чело С лица земли, где все темно и скудно, К нам, в нашу глубь, где пышно и светло.
«Стихотворение это, — пишет Толстой, — не только достойно вас, но оно особенно и особенно хорошо, с тем самым философски поэтическим характером, которого я ждал от вас. Прекрасно, что это говорят звезды. И особенно хороша последняя строфа. Хорошо тоже, что заметила жена, что на том же листке, на котором написано это стихотворение, излиты чувства скорби о том, что керосин стоит 12 к. Это побочный, но верный признак поэта» (62, 294). Вот образ того шопенгауэровского сочетания «нирваны» с «сансарой», о котором хлопочет обуреваемый новыми сомнениями и противоречиями Толстой. Его Левин, уже нашедший выход из своих сомнений, смотрит на «знакомый ему треугольник звезд» (совсем как у Фета) и на вспыхивающую молнию, а Кити просит его позаботиться, чтобы Сергею Ивановичу поставили новый умывальник: «Хорошо, я пойду непременно, — сказал Левин, вставая и целуя ее». Это то самое сочетание «здравого отношения к жизни» со взглядами за пределы ее, о котором я говорил выше. Толстой видит это в стихах Фета, постоянно стремившегося зачерпнуть хоть каплю «стихии чуждой, запредельной» («Ласточки»). Фет, со своей стороны, с радостью констатирует те же порывы у Толстого. «Прочел мартовскую Каренину, — пишет он Толстому в 1877 г. — Не говорю о мастерстве подробностей... Но какая художниц- кая дерзость — описание родов. Ведь этого никто с сотворения мира не делал и не сделает? Дураки закричат о реализме Флобера, а тут все идеально. Я так и подпрыгнул, когда дочитал до двух дыр в мир духовный, в нирвану. Эти два видимых и вечно таинственных окна — рождение и смерть»[714]. Тут явная перекличка двух художников, родственных по методу.
Символика фетовских пейзажей (а особенно ноктюрнов), переплетающая душевную жизнь с жизнью природы, отразилась в «Анне Карениной». Ночь, проведенная Левиным на копне и решившая его дальнейшую судьбу, описана по следам фетовской лирики. Психологические подробности опущены и заменены пейзажной символикой: повествовательный метод явно заменен лирическим: «Как красиво! — подумал он, глядя на странную, точно перламутровую раковину из белых барашков-облачков, остановившуюся над самою головой его на середине неба. — Как все прелестно в эту прелестную ночь! И когда успела образоваться эта раковина? Недавно я смотрел на небо, и на нем ничего не было — только две белые полосы. Да, вот так-то незаметно изменились и мои взгляды на жизнь!» Эта лирическая символика подчеркнута в конце главы: «Он взглянул на небо, надеясь найти там ту раковину, которою он любовался и которая олицетворяла для него весь ход мыслей и чувств нынешней ночи. На небе не было более ничего похожего на раковину. Там, в недосягаемой вышине, совершилась уже таинственная перемена. Не было и следа раковины, и был ровный, расстилавшийся по целой половине неба ковер все умельчающихся и умельчающихся барашков. Небо поголубело и просияло и с тою же нежностью, но и с тою же недосягаемостью отвечало на его вопрошающий взгляд» (18, 291-292, 293). Здесь, как и в лирике Фета, начальная, совершенно бытовая, реалистическая ситуация (Левин с мужиками косит сено) развертывается в ситуацию умозрительную, философскую («дыра в нирвану»), захватывая в общий лирический поток жизнь природы и придавая ей символический смысл. Аналогичный ход имеется, например, в стихотворении Фета «На стоге сена ночью южной...» (1857), которое, может быть, и откликнулось в цитированном ноктюрне Толстого или в стихотворении «Ты видишь, за спиной косцов...», которое заканчивается словами:
В душе смиренной уясни
Дыханье ночи непорочной
И до огней зари восточной
Под звездным пологом усни!
Дело здесь не просто во «влиянии» Фета на Толстого, а в том, что Толстой, ища выхода из своего прежнего метода (ср. его отзыв в письме к Фету о «Войне и мире» как о «дребедени многословной»), ориентируется в «Анне Карениной» на метод философской лирики, усваивая ее импрессионизм и символику. Интересно, что в это же время Тургенев пишет свои «Senilia». Это воздействие поэзии на прозу приготовляет будущий ход от реализма к символизму.
Принцип художественной символики, отличающий «Анну Каренину» от «Войны и мира», сказывается и в общем построении романа и в деталях. На одной детали особенно резко видна эта разница. Описание самоубийства Анны заканчивается словами: «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». Эта свеча вызвала критику со стороны столь разных судей, как К. Леонтьев и Н. Успенский. Леонтьев писал: «Что такое эти слова? — Эта свеча и т. д.? Красивое иносказание, и больше ничего! Ловкий оборот для прикрытия полного незнания и непонимания действительности в такую минуту. Какая свеча? Как это она и ярче вспыхнула и затрещала? И в каком смысле навсегда потухла? — вникнув хоть немного в самое дело, снявши поэтичную оболочку красивых слов, — ничего и вообразить здесь нельзя»[715]. Леонтьев почувствовал поэтическую природу этого «иносказания», но ничего, кроме риторики, в нем не усмотрел. Между тем дело здесь не в пустой риторике. Эта свеча ведет свое происхождение из «Войны и мира», где ее иносказательность еще никак не подчеркнута. Описывается ночь перед родами маленькой княгини: «Была одна из тех мартовских ночей, когда зима как будто хочет взять свое и высыпает с отчаянной злобой свои последние снега и бураны». Княжна Марья сидит в своей комнате и слушает рассказы няни: « — Бог помилует, никогда дохтура не нужны, — говорила она. Вдруг порыв ветра налег на одну из выставленных рам комнаты (по воле князя, всегда с жаворонками выставлялось по одной раме в каждой комнате) и, отбив плохо задвинутую задвижку, затрепал штофной гардиной, и, пахнув холодом, снегом, задул свечу. Княжна Марья вздрогнула» (10, 38). Здесь нет никакой риторики и как будто никакого иносказания: это настоящая, действительная, совершенно реалистическая свеча. Но зачем она описана и зачем погасла? На следующей странице описывается смерть маленькой княгини. Внимательный читатель поймет, что погасшая свеча введена как символ смерти: за этой вполне реалистической свечой скрывается мифологическая символика.
В финале «Анны Карениной» эта символика развернута, но имеет свою реалистическую подготовку. После ссоры с Вронским Анна решает наказать его — покончить с собой. Думая о смерти, она лежит в постели и, при свете одной догорающей свечи, смотрит на лепной карниз потолка. «Вдруг тень ширмы заколебалась, захватила весь карниз, весь потолок, другие тени с другой стороны рванулись ей навстречу; на мгновение тени сбежали, но потом с новой быстротой надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно. "Смерть!" — подумала она. И такой ужас нашел на нее, что она долго не могла понять, где она, и долго не могла дрожащими руками найти спички и зажечь другую свечу вместо той, которая догорела и потухла».
Эта свеча не столько символ, сколько аллегория, и именно поэтому она может производить впечатление риторического приема. Появление такого рода символики в «Анне Карениной» могло быть, помимо всего, подсказано эстетикой Шопенгауэра, который утверждает необходимость и целесообразность употребления иносказаний и аллегорий в словесных искусствах: «Здесь непосредственно данное в словах — понятие, и ближайшей целью постоянно бывает навести от него на созерцательное... В словесных искусствах поэтому сравнения и аллегории превосходно действуют». Среди многочисленных примеров, приводимых Шопенгауэром, есть и такой: надгробный камень с погашенной, дымящейся свечой и соответствующей подписью.
Своего рода аллегорией можно считать и проходящий через весь роман кошмар Анны. Но эта аллегория замечательна тем, что она не опирается на готовую психологическую традицию, а создается самим Толстым на основе психологического материала и используется как сюжетный прием. В начале романа (главы XXIX и XXX первой части) появляются первые элементы этой аллегории: «худой мужик в длинном нанковом пальто», который принялся грызть что-то в стене, согнутая тень человека и звуки молотка по железу. Это еще чистая психология, хотя и связанная стой символикой, которой окутано у Толстого описание поезда и железной дороги. В четвертой части романа (главы II—III) этот психологический материал уже получает аллегорический смысл: Вронский и Анна видят один и тот же сон, главную роль в котором играет маленький, грязный мужичок с взъерошенной бородой, нагнувшийся и говорящий по-французски какие-то странные слова. Вронский совсем не понимает этих слов, а Анна приводит их: П faut le battre le fer... (надо бить по железу). Это, очевидно, след от тех ударов молотка по железу, о которых говорилось в начале. В финале, перед словами о потухшей свече, эта аллегория появляется последний раз: «Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом».
Разница между «Войной и миром» и «Анной Карениной» видна и на этом примере. Сны Анны и Вронского — это уже не те психологические сны, которые описаны в «Войне и мире» и художественное значение которых не выходило за пределы «диалектики души». Здесь они являются, пользуясь выражением Фета, «дырами в нирвану». Возможно, что такого рода использование снов опиралось на сочинение Шопенгауэра «О духовидении», которое Толстой читал, конечно, с особым интересом художника-психолога. Анализируя здесь разные типы сновидений и ясновидении (сомнамбулизм), Шопенгауэр с особенным вниманием останавливается на «пророческих снах». Эти пророческие сновидения он приписывает тому обстоятельству, что во время глубокого сна обыкновенное сновидение переходит в ясновидение. Но сны, «представляющие будущее непосредственно... суть самые редкие. Чаще же всего бывает так, что при переходе глубокого сна в более легкий, после которого уже возможно немедленное пробуждение, первоначальное сновидение, особенно если оно по своему содержанию близко касается спящего, переходит в аллегорию и в этом виде оставляет по себе воспоминание. Такие сны бывают довольно часто и называются аллегорическими». Сны Анны и Вронского относятся именно к этой категории.
Есть, наконец, в «Анне Карениной» и чистая символика, лишенная всякого аллегоризма и близкая по своей природе к романтической символике Тютчева и Фета. Характерно в этом смысле описание снежной бури во время встречи Анны с Вронским в поезде. Это не просто вьюга, а вьюга страсти — с явной опорой на эту метафору. Превращение реальной бури в бурю символическую подчеркнуто самим Толстым. После решительных слов Вронского, определивших все будущее («я еду для того, чтобы быть там, где вы»), Толстой пишет: «И в это же время, как бы одолев препятствия, ветер посыпал снег с крыш вагонов, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь (курсив мой. — Б. Э.).
Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком» (18, 109). Прекрасный ужас — это уже стиль романтической лирики. Свисток паровоза — тоже не простая реалистическая деталь, а своего рода предсказание, голос судьбы, как бы произносящий суровые слова эпиграфа: «Мне отмщение, и аз воздам». Железная дорога вообще играет в романе какую-то зловещую, мистическую роль — от начала (раздавленный сторож — «дурное предзнаменование», по словам Анны) и до конца. Это тоже какой-то символ, воплощающий в себе и зло цивилизации, и ложь жизни, и ужас страсти.
Надо указать еще на один случай своеобразной символики в «Анне Карениной», имеющий сюжетное значение. Давно обращено внимание на то, что лошадь Фру- Фру и ее гибель описаны Толстым как своего рода предсказание гибели Анны. П. Ткачев издевался над этим в своей статье: «Автор Карениной идет еще далее в своем прославленном аналитическом творчестве: он открывает трагизм в отношениях Вронского не только к Анне Карениной, но даже к скаковой кобыле Фру-Фру и делает эти отношения предметом столь же подробного художественного анализа и изображения, как и отношения к Анне Карениной... Кто знает, не увидим ли мы уже и в этом романе художественно-аналитическое изображение сельскохозяйственных вожделений Левина к Паве, борящихся в его душе с супружеской любовью; кто знает, не увидим ли мы погибель Анны Карениной от ревности к лошади Вронского... Да извинят мне читатели, что я увлекся шуткою; но, оставляя шутку в стороне и возвращаясь к роману, мы в самом деле находим в нем уже и теперь трагическое изображение страсти Вронского к лошади, идущее в совершенную параллель с изображением страсти к Анне Карениной»[716]. Параллелизм в некоторых сценах действительно так подчеркнут Толстым, что он не может быть случайным. В сцене падения Анны о Вронском говорится: «Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею» и т. д. В сцене гибели Фру-Фру о Вронском сказано теми же словами: «С изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущеюся нижнею челюстью» (18, 157, 210). В ранней редакции этот параллелизм был еще резче: имя героини было Татьяна (Ставрович), а имя лошади — Tiny (по-английски), или Таня. Перемена имени произошла, очевидно, после того, как Толстой купил у своего приятеля Д. Д. Оболенского лошадь по имени Фру-Фру. Оболенский вспоминает: «Гр. Лев Николаевич постоянно имел на охоте под собою верховую степную или какую-нибудь азиатскую лошадь, а потом И-кровную моего завода; он вообще недоверчиво относился к английским лошадям. Как-то раз на охоте с графом Л. Н. в лесах Хомякова, близ Тулы (это было в сентябре 1873 г., когда Толстой работал над «Анной Карениной». — Б. Э.), охотничьи лошади не пошли в воду, а надо было переправляться через Упу — и что же? моя английская кровная... первая смело пошла в воду и переправилась через Упу, а за нею вся охота. Одну английскую верховую моего завода, по имени Фру-Фру, гр. Лев Николаевич купил себе под верх, но вскоре уступил ее брату — и на этой Фру-Фру гр. С. Н. Толстой несколько осеней ездил в отъезжее поле, на охоту... Имя Фру-Фру сделалось известным вследствие того, что автор "Анны Карениной" этим именем назвал лошадь Вронского в чудном описании первой Красносельской скачки»[717]. Это тот самый Оболенский, который сообщил Толстому подробности и обстановку этих скачек: «Падение Вронского с Фру-Фру, — рассказывает Оболенский, — взято с инцидента, бывшего с князем Д. Б. Голицыным»70.
К этому реальному комментарию надо прибавить другой, связанный с вопросом о сюжетном параллелизме. Фру-Фру — имя литературного происхождения. Лошадь Оболенского была названа по имени героини популярной французской пьесы Мейлака и Галеви «Frou-Frou», появившейся в 1870 г. и очень скоро перешедшей на русскую сцену. В «Талантах и поклонниках» Островского (1881) эта пьеса упоминается как уже всем известная, постоянно идущая в провинциальных театрах. Негина говорит: «Я жду, я целую неделю не играла, сегодня последний Спектакль перед бенефисом; а он, противный, что же делает! Назначает "Фру-Фру" со Смель- ской». Фру-Фру — домашнее прозвище героини этой пьесы, Жильберт, девушки очень ветреной, легкомысленной. Фабульная основа этой пьесы состоит в том, что Фру-Фру выходит замуж, а потом, поддавшись минутным настроениям, бросает мужа с сыном и уходит с любовником. Финал трагический: муж убивает любовника на дуэли, а Фру-Фру возвращается домой и умирает. Как видно, фабула этой пьесы соприкасается с фабулой «Анны Карениной». Это и было важно Толстому, решившему придать сцене скачек не только психологический, но и сюжетный, символический смысл, продолжив, таким образом, линию «предзнаменований» гибели Анны. Совпадение имен (как было в раннем варианте) делало эту символику слишком прямой и грубой. Назвав лошадь Вронского Фру-Фру, Толстой не только избежал этой грубости, но усилил и углубил сюжетную символику сцены: Фру-Фру превратилась в своего рода сюжетное иносказание, намекающее на будущую судьбу Анны.
Весной 1877 г. работа над «Анной Карениной» была закончена, — и началось решительное прокладывание новой жизненной дороги. 25 августа С. А. Толстая записывает в дневнике: «Его очень волнует неудача в Турецкой войне и положение дел в России, и вчера он писал все утро об этом. Вечером он мне говорил, что знает, какую форму придать своим мыслям, именно написать письмо к государю»71. 2 сентября Толстой писал Страхову: «Чувство мое по отношению к войне перешло уже много фазисов, и теперь для меня очевидно и несомненно, что эта война, кроме обличения и самого жестокого и гораздо более яркого, чем в 54 году, не может иметь последствий» (62, 339). Современность и история, которым надолго был воспрещен вход в Ясную Поляну, вступают в нее заново, — даже не вступают, а врываются. В октябре 1877 г. в дом Толстых поступает учителем В. И. Алексеев, близкий друг Н. В. Чайковского и А. К. Маликова, только что вернувшийся из Америки, где он был участником земледельческой общины. В декабре того же года Толстой знакомится с А. К. Маликовым, сосланным в 1866 г. по делу Каракозова, привлеченным к суду по «процессу 193-х» и эмигрировавшим потом в Америку. Наконец, в январе 1878 г. к Толстым поступает в качестве гувернера коммунар М. Montels, скрывавшийся в России под фамилией Nief. Современность как будто мстит Толстому за его «отрешимость»: его дом становится убежищем для политических деятелей. 3 января 1878 г. он пишет Страхову: «У меня живет учителем математики кандидат Петербургского университета, проживший два года в Канзасе в Америке в русской колонии коммунистов. Благодаря ему я познакомился с
[718] Оболенский Д. Д. Отрывки (Из личных впечатлений) //Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 98.
[718] Толстая С. А. Дневники. С. 39.
тремя лучшими представителями крайних социалистов — тех самых, которые судятся теперь» (62, 369).
Толстой возвращается к своим историческим замыслам: он занимается изучением царствования Николая I, принимается за роман о декабристах и пишет Страхову: «Весь ушел в свою работу и чувствую приливы радости и восторга» (62, 398). «Анна Каренина» осталась далеко позади, — и Толстому неприятно вспоминать об этой полосе своей жизни и творчества. В 1881 г. он пишет В. В. Стасову: «Насчет "Карениной" Уверяю вас, что этой мерзости для меня не существует и что мне только досадно, что есть люди, которым это на что-нибудь нужно» (63, 61).
СТАТЬИ
ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРЬЕРА Л. ТОЛСТОГО
1
В 1860 г. Толстой писал. Е. Ковалевскому: «Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы знать, что нужно делать прежде, а что после». Этой мудростью, или, вернее, искусством, Толстой сам обладал в высшей степени. В нем необыкновенно сильно был развит инстинкт исторического самосохранения, в жертву которому он принес многое из своей «домашней», внеисторической жизни. Истории никак не удавалось отодвинуть его в сторону и заставить забыть — он неизменно отражал ее атаки и нападал сам с неожиданной стороны В течение почти 60 лет (1852-1910), несмотря на смену эпох и поколений и постоянную парадоксальность своей позиции, он оставался в центре внимания.
Толстой недаром любил войну и с трудом подавлял в себе эту страсть. Он и вне фронта был замечательным тактиком и стратегом — знал искусство натисков и отступлений и умел бороться с современностью. Если бы он не был писателем и жил в другую эпоху, он был бы полководцем, воителем. Он презирал Наполеона не за деспотизм, а за Ватерлоо и за остров Святой Елены — как удачник презирает неудачника. «Непротивление злу» — это теория, которую в старости мог бы придумать Наполеон, если бы жизнь его сложилась иначе: теория состарившегося в боях и победах вождя, которому кажется, что вместе с ним состарился и подобрел весь мир.
Толстой пережил несколько эпох, несколько «современностей» — и с каждой отношения его были сложны и своеобразны. Он знал не только искусство писать, но и искусство быть писателем. Упорно отстаивая свою архаистическую позицию, он, со стороны и издалека, но тем более зорко, как бы в бинокль, вглядывался в детали малейших движений эпохи, как полководец вглядывается в движения неприятельских войск. Ясная Поляна была для него удобным углом зрения — точкой, с высоты которой он оглядывал и измерял ход истории.
Сила его позиции заключалась в том, что, противопоставляя себя эпохе, он не отворачивался от нее. Из его друзей одни, как Анненков, постоянно гнались за современностью — Толстой так и пишет о нем Боткину, «ловит современность, боясь отстать от нее»; другие, как Фет и Боткин, не выдержали напора 60-х годов и отошли в сторону. Толстой вел себя иначе.
Эпоха 50-60-х годов была эпохой образования новой («разночинной») интеллигенции, которая жила борьбой за «убеждения». Слово «убеждение» стало термином эпохи. У Толстого вместо убеждений были «правила», имевшие характер военных приказов и относившиеся ко всем случаям и вопросам жизни — от игры в карты или поведения на балу до высших проблем нравственности. Несовпадение между этими правилами и поступками заинтересовало его, побудило наблюдать за собой и за другими, «испытывать», экспериментировать, вести дневник — отсюда началась литература («История вчерашнего дня»). Первоначальный материал Толстого — мир миниатюрных движений душевной жизни, рассматриваемый в микроскоп. Описание одного дня оказалось вещью, которую невозможно кончить. Отсюда пошло и его «Детство», и полное собрание его сочинений.
Толстой вошел в литературу провинциалом, человеком неопределенной эпохи, отсталым «дикарем», «автодидактом» (как его назвал Тургенев), хотя и с титулом графа. Никакой связи с людьми и культурой 40-х годов у него не было. Но именно это и помогло ему занять особую позицию.
Если русские интеллигенты 50-60-х годов были нигилистами слева, то Толстой был нигилистом справа. Убеждениям он противопоставил «правила», теориям — «инстинкт». Интеллигентов он насмешливо называет «умными» и отзывается о них с презрением. Его раздражает самый тип русского интеллигента, постоянно возмущенного. Теория «любви» была им первоначально построена в противовес интеллигентским настроениям. В 1856 г. он писал Некрасову: «У нас не только в критике, но и в литературе, даже просто в обществе, утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым очень мило. А я нахожу, что очень скверно. Гоголя любят больше Пушкина. Критика Белинского верх совершенства, ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов. А я нахожу, что скверно, потому что человек желчный, злой не в нормальном положении. Человек любящий — напротив, и только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи».
Эта теория должна была показаться Некрасову и Чернышевскому выражением детской наивности, «чушью» (как и отозвался Некрасов о взглядах Толстого), но самому Толстому она так понравилась, что он повторяет ее в письме к Е. Ковалевскому, сообщая о ней как об удивительном открытии: «Я открыл, что возмущение, склонность обращать внимание преимущественно на то, что возмущает, — есть большой порок и именно нашего века. Есть 2—3 человека, которые только возмущены, и сотни, которые притворяются возмущенными и потому считают себя вправе не принимать деятельного участия в жизни».
Так началась выработка собственной позиции. Основным правилом было: во что бы то ни стало — деятельное участие в жизни.
з
В 1855 г. Толстой записал в дневнике: «Быть чем есть: а) по способностям — литератором, б) по рождению — аристократом». Это звучит так же наивно, как его теория любви, но для него это было так же важно. Он жил представлениями и понятиями какой-то отдаленной, отмененной эпохи — эпохи даже не отцов, а дедов. Самое его искусство родилось и развилось на основе этой архаистической позиции и было сильно и оригинально именно этим. В его лице в редакцию «Современника» вошел человек допушкинского времени, «неспособный иметь убеждение» (Некрасов) и живущий какими-то фантастическими для этой эпохи понятиями. «Черт знает, что у него в голове!» — восклицает Некрасов в 1856 г.
Это было до такой степени странно, что в «Современнике» даже не обижались, а только ждали, когда Толстой «исправится», и старались «влиять» на него. Толстой не исправился, но, испытав после первых успехов ряд литературных неудач, отошел от «Современника» и даже от литературы, задумав стратегический обход. Он занялся народным образованием — делом таким же животрепещущим для начала 60-х годов, каким для середины 50-х была Крымская кампания.
Историческое поведение Толстого тем-то и своеобразно, что он, в противоположность Фету или Тургеневу, непрерывно преследует современность и отступает только для того, чтобы напасть с новой стороны. В 50-х годах надо было писать военные очерки, в начале 60-х — заняться вопросом о народном образовании. Так Толстой и написал Фету в 1860 г.: «Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немного тому, что мы знаем». Однако — вопрос о пользе грамотности он считает спорным, а систему обязательного обучения — прямо вредной. Неожиданный «радикализм», развернувшийся в педагогических статьях Толстого, оказался на самом деле своего рода «нигилизмом», направленным против «умных».
Он исходит из характерного для него нигилистического тезиса: «никто не знает, что ложь, что правда». Самое дело народного образования заинтересовало Толстого не само по себе, а как особый метод борьбы с современностью: нужно знать, что делать прежде, а что после. Народное образование он выбрал в этот момент как искусный стратег. Одолевая и сбивая противника в этом пункте, он надеется выбить его и из других позиций, более важных и занятых прежде, — из позиций литературных. Это становится совсем ясным, когда после ряда педагогических статей появляется вдруг настоящий литературный памфлет, обращенный в сторону современной беллетристики: «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят». Откуда возник этот вопрос? Кто ставил его и какое он имеет отношение к вопросу о народном образовании? Он возник из столкновения Толстого с «Современником» и с современностью.
Педагогика была сложным тактическим ходом, при помощи которого Толстой «обманул» современность и, вернув к себе внимание, утерянное в конце 50-х годов, вернулся к литературе. Отныне Ясная Поляна противостоит редакциям как особая, враждебная и архаистическая форма литературного быта и производства, «Война и мир» писалась как полемический роман — как демонстрация против современной литературы, ведущей себя от Гоголя и «натуральной школы». В не напечатанном тогда предисловии Толстой сам признавался: «Жизнь чиновников, семинаристов и мужиков мне неинтересна и наполовину непонятна, жизнь аристократии того времени, благодаря памятникам того времени и другим причинам, мне понятна, интересна и мила».
Толстой остался тем же патриархальным аристократом и архаистом, каким был, только стал более смелым. Тургенев не понимал этих сложных стратегических ходов Толстого — зато Толстой и говорил про него, что он «играет» с жизнью. Толстой — воинствующий архаист — не играл, а сражался.
«Война и мир» вышла в свет, когда Толстому было 40 лет, а «Анна Каренина» — когда ему исполнилось 50. Он вступил в новую современность, встретился с новым поколением. Приходилось опять решать — «что делать прежде, а что после». Приходилось опять отступить, чтобы напасть заново.
Толстому грозила новая опасность со стороны «народников», высмеявших «Анну Каренину» как амурный роман все с теми же графами и князьями. На этот раз опасность выглядела более грозно. За 20 лет, прошедших со времени педагогических статей Толстого, Россия так изменилась, что оставаться прежним и сохранить свое значение было трудно. История стала штурмовать Толстого. Поражение казалось неизбежным.
Сначала Толстой растерялся и уже готов был отречься от своей власти. Но, сообразив положение и изучив силы врагов, он решил вступить в новую борьбу. Он стал поражать своих противников на их же позициях — так, как он делал и прежде, но с еще большим стратегическим искусством. Явились «народные рассказы». Оставаясь тем же архаистом, Толстой вступил в единоборство с Глебом Успенским и всей школой беллетристов-народников. В ответ на материалистическую «Власть земли» явилась религиозно-нравственная «Власть тьмы». Это была борьба за литературную власть.
Толстой и здесь оказался удачником. Перехватив у народников материал и сделав мужика героем своих новых вещей, он переселил противников — не только в переносном, но даже в прямом смысле, физически. Тут история помогла Толстому. Это хорошо понимал Чехов: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценой молодости». Все поколение беллетристов-народников погибло в борьбе с нищетой и болезнями: спивались, сходили с ума, кончали самоубийством. Прошло несколько лет — и самым влиятельным «народным» писателем оказался тот же Толстой, хотя и с «шуйцей», как выразился о нем Михайловский. Когда-то опасным для Толстого человеком был Чернышевский — теперь на его место стал Михайловский. Как ни бился он с Толстым, но ему пришлось признать в нем не только «шуйцу», а и «десницу». Большего Толстому от него и не было нужно.
Власть осталась в руках Толстого. Он повел себя как узурпатор, но более искусный, чем Наполеон. Теперь уже никакая современность не была для него страшна. Сама история отступилась от него. Ясная Поляна стала храмом «мудрости», а Толстой — учителем жизни. Однако тайну своего стратегического искусства (той «мудрости», о которой он писал Е. Ковалевскому) Толстой, гениальный хитрец, не передал никому.
ТВОРЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ л. толстого
Страшная вещь — наша работа.
Кроме нас никто этого не знает.
Толстой — Фету (1875 г.)
1
Когда несколько лет тому назад решено было приступить к изданию полного собрания сочинений, дневников и писем Льва Толстого, то оказалось, что для этого нужно не менее 90 больших томов. Такие размеры необычны для русской литературы. Мы привыкли, что сочинения наших классиков помещаются самое большее в 15-20 томах. Девяносто томов — это больше, чем энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Если это перевести на печатные листы, то получится около трех тысяч листов! А если считать по страницам, то их окажется около пятидесяти тысяч!
Но впечатление будет еще более грандиозным и необычным, если увидеть все это в рукописях. Первое ощущение редактора, приступающего к работе над рукописями Толстого, — паника. Как бы ни был велик его опыт по редактированию других классиков — все равно: взявшись за Толстого, он испугается. Он берет небольшую вещь — «Крейцерову сонату», которая в печати занимает около пяти печатных листов; ему приносят целый тюк рукописей: 800 листов. Он берет совсем маленькую вещь — «Разрушение ада и восстановление его»; ему дают 400 листов, исписанных рукой Толстого или испещренных его поправками. Редактор начинает раскладывать эти листы, чтобы выяснить последовательность редакций: этих редакций получается 10, 15, 20. А это делать с такой вещью, как «Воскресение»? Рукописи этого романа занимают целый сундук.
Дело не ограничивается рукописями. Дальше идут корректуры, в которых набранный текст опять переделывается заново. П. И. Бартенев, наблюдавший за печатанием «Войны и мира», как-то раз не выдержал и написал Толстому: «Вы бог знает что делаете. Этак мы никогда не кончим поправок и печатания... Ради бога, перестаньте колупать». Но Толстой продолжал «колупать»: «Не марать так, как я мараю, я не могу», — отвечал он рассердившемуся Бартеневу[718].
То же самое было и с «Анной Карениной», и с «Воскресением», и с другими вещами. И.Л.Толстой вспоминает, как шло печатание «Анны Карениной» в «Русском вестнике»: «Сначала на полях (гранок) появляются корректорские значки, пропущенные буквы, знаки препинания, потом меняются отдельные слова, потом целые фразы, — начинаются перечеркивания, добавления — и в конце концов корректура доводится до того, что она делается вся пестрая, местами черная, и ее уже в таком виде посылать нельзя, потому что никто кроме мамй во всей этой путанице условных знаков, переносов и подчеркиваний разобраться не может. Всю ночь мама сидит и переписывает все начисто... Несколько раз из-за этих переделок печатание романа в "Русском вестнике" прерывалось»[719].
Толстой не любил техники, но перед пишущей машиной он устоять не мог: она давала возможность увеличить количество копий, ускорить их производство, привлечь посторонних людей. И вот в Ясной Поляне, принципиально отгородившейся от цивилизации, появляется машина «ремингтон» — и Толстой, пользуясь ее услугами, переделывает каждую страницу рукописи по пять, по десять раз. Целый штат родных и знакомых занят перепиской этих страниц.
Если даже не считать всех этих редакций, исправлений и копий, а взять общее количество печатных листов и разделить на годы (Толстой писал 60 лет), то окажется, что он писал не менее 50 листов в год, то есть больше четырех печатных листов в месяц. Из них по крайней мере половину надо отнести на долю произведений (остальное — на письма и дневники). Итак, за год Толстому удавалось написать от 20 до 30 печатных листов. Так оно и есть. «Войну и мир» он писал пять лет, а в ней вместе с вариантами не меньше 100 печатных листов.
Считается, что один лист в месяц (в среднем) — хорошая норма для писателя. У Толстого работоспособность была, значит, двойная или даже тройная. П. Сер- геенко сообщает, что иногда Толстой «исписывал... в день по 20 страниц, что составляет более половины печатного листа»[720]. Это тем более замечательно, что Толстой не был профессиональным писателем в обычном смысле этого слова — не был литератором: не должен был зарабатывать литературой и не связывал себя точными сроками и договорами. В основе этого страшного труда лежали, очевидно, какие-то внутренние побуждения и стимулы — какой-то особый пафос, заставлявший его непрерывно и напряженно работать.
И действительно, Толстой был одержим каким-то пафосом труда. Отдыхать он совсем не умел. Закончив одно, он сейчас же принимался за другое. Если наступал промежуток, он мучился и доходил почти до нервного заболевания. Таким страшным для пего промежутком были, например, годы между «Войной и миром» и «Анной Карениной» (1869—1872). У него было много разнообразных замыслов и планов, но работа не клеилась. 9 декабря 1870 года С. А. Толстая записала в дневнике: «Все это время бездействия, по-моему умственного отдыха, его очень мучило... Иногда ему казалось, что приходит вдохновение, и он радовался. Иногда ему кажется — это находит на него всегда вне дома и вне семьи, — что он сойдет с ума, и страх сумасшествия до того делается силен, что после, когда он мне это рассказывал, на меня находил ужас»[721]. А сам Толстой писал в это время Фету: «Упадок сил, и ничего не нужно и не хочется кроме спокойствия, которого нет» (61, 255). В конце концов он спас себя тем, что перешел на педагогику и стал составлять «Азбуку», То же самое было и в 1860—1861 гг., когда Толстому стало казаться, что литература никому не нужна.
Отойти в сторону, подождать, заняться чем-нибудь, не имеющим отношения к общественной деятельности, к истории, Толстой не мог. Не будучи литератором или журналистом, он вместе с тем зорко следит за каждым движением общественной и литературной жизни и на все реагирует. Он как будто не допускает мысли, чтобы что-нибудь важное прошло без его участия или вмешательства. Когда идет Крымская война, он едет в Севастополь и пишет военные рассказы. Когда начинается спор об «отцах и детях», он пишет повесть «Два гусара». Когда возникает полемика о «чистом искусстве», он пишет повесть «Альберт». Когда поднимается вопрос о женской эмансипации, он пишет роман «Семейное счастие». Когда все начинают говорить о «народе», он бросает литературу, становится сельским учителем и пишет памфлет под заглавием «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?». Откуда возник этот вопрос? Кто ставил его, и какое он имел отношение к вопросу о народном образовании? Он возник из столкновения Толстого с «Современником» и с современностью. И так до конца: и «Война и мир», и начатый роман о Петре I, и «Анна Каренина», и «Исповедь», и народные рассказы, и «Воскресение» — все это было вмешательством Толстого вдела и события его эпохи, все это было результатом сложной исторической тактики и стратегии.
В его письме к Е. П. Ковалевскому, написанном в момент перехода от литературы к школе, есть афоризм, достойный стать эпиграфом к руководству по военному искусству: «Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не втом, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, — чтобы знать, что делать прежде, а что после» (60, 328). Всегда делать — и не что-нибудь вообще, а именно то, что нужно сейчас. Этой мудростью, или, вернее, искусством, Толстой сам обладал в высшей степени.
2
Толстой «колупал» свои рукописи и корректуры не потому, что добивался особого эстетического совершенства, как это делал, например, Флобер. Основная причина была в том, что он непрерывно менялся, непрерывно реагировал на все, что узнавал и видел, и постоянно приходил к новым решениям и выводам. Поэтому его замыслы и писания старели для него скорее, чем могли быть осуществлены.
Особенно резко это отражалось на больших вещах, которые требовали многолетней работы. В процессе этой работы Толстой так менялся, что между первоначальным замыслом и тем, что получалось, оказывалась большая разница. От этого все его большие вещи, при внимательном анализе, кажутся недоделанными или противоречивыми — движущимися внутри себя. Ему всегда стоило большого труда выйти из своих вещей, проститься со своими персонажами. Он затягивал концы: пишет длиннейший эпилог (как в «Войне и мире»), продолжает роман, несмотря на смерть героини (как в «Анне Карениной»). У него, в сущности, никогда не было ощущения, что вещь закончена и не может быть продолжена или изменена. Он сам признавался А. Б. Гольденвейзеру: «Я не понимаю, как можно писать и не переделывать все множество раз. Я почти никогда не перечитываю своих уже напечатанных вещей, но если мне попадется случайно какая-нибудь страница, мне всегда кажется: это все надо переделать»[722]. Это ощущение сопровождало Толстого и в процессе работы, заставляя его менять планы, вводить новые лицами пр.
«Война и мир» была задумана как небольшой семейный роман под заглавием «Все хорошо, что хорошо кончается». Война должна была служить только общим фоном и мотивировкой разных семейных событий — вроде того, как это сделано в «Ярмарке тщеславия» Теккерея. Ни Наполеона, ни масонов, ни Платона Каратаева, ни батальных сцен, ни рассуждений о войне и истории не предполагалось. Толстой хотел обойтись совсем без исторических лиц — в том числе и без Кутузова, который в одном из предварительных набросков назван мимоходом «сластолюбивым, хитрым и неверным». В том же наброске Толстой заявлял решительно: «Не Наполеон и не Александр, не Кутузов и не Талейран будут моими героями, я буду писать историю людей, более свободных, чем государственные люди, историю людей, живших в самых выгодных условиях жизни для борьбы и выбора между добром и злом... людей, свободных от бедности, от невежества и независимых, людей, не имевших тех недостатков, которые нужны для того, чтобы оставить следы на страницах летописей» (13, 72). Но проходит немного времени — и меняется не только план, но и самый жанр романа. Является мысль ввести в роман Наполеона и Александра, привлекается новый материал, на сцену выступает Кутузов в совершенно новом освещении и т. д. Толстой реагирует нафилософско-историче- скую полемику, на обсуждение вопроса о войне, на борьбу разных общественных партий. Около него появляются новые люди, новые советчики — Погодин, С. Урусов, Ю. Самарин. Бартенев с сердцем пишет: они «натвердили ему, что без философской подкладки его "Война и мир" не будет иметь настоящей цены»[723]. Так семейный роман превратился в военно-историческую эпопею — с философией, с теорией войны и пр.
Замечательно, что и на этом история текста «Войны и мира» не остановилась. Переиздавая этот роман в 1873 году, Толстой внес в него новые и очень существенные изменения, которые до некоторой степени вернули его к первоначальному жанру: философские рассуждения выброшены, а военно-теоретические главы вынуты и отнесены в приложение — «Статьи о кампании 1812 года». Единого, окончательного текста «Войны и мира» так и не получилось.
После «Войны и мира» был задуман роман о Петре I. Сначала Толстой следовал Погодину: думал в центре романа поставить Петра и Меншикова. «О Меншкове он говорил, — записывает С. А. Толстая, — что чисто русский и сильный характер только и мог быть такой из мужиков. Про Петра Великого говорил, что он был орудием своего времени, что ему самому было мучительно, но он судьбою назначен был ввести Россию в сношение с европейским миром»[724]. Но прошло два года — и Толстой пишет в письме к А. А. Толстой: «Теперь я начинаю новый большой труд, в котором будет кое-что из того, что я говорил вам, но все другое, него я никогда и не думал» (61, 281. Курсив мой. — Б. Э.). Оказывается, теперь дело уже совсем не в Петре и не в Меншикове. Свидетели сообщают, что Петра Толстой решил низвести в разряд скорее смешных, чем великих людей. «Народу Петр представляется шутом, — говорил Толстой. — Народ смеялся над ним, над его затеями и все их отвергнул»[725]. С. А. Берс вспоминает: «Он (Толстой) утверждал, что личность и деятельность Петра I не только не заключали в себе ничего великого, а напротив того, все качества его были дурные», жизнь безнравственна, а деятельность в смысле государственной пользы никогда самим Петром I не имелась в виду, а все делалось из одних личных видов. «Близость с пирожником Меншиковым и беглым швейцарцем Лефортом он объяснял презрительным отвращением к Петру I всех бояр, среди которых он не мог найти себе друзей и товарищей для разгульной жизни»[726].
Роман о Петре превращался в суд дворянина-архаиста, потомка обиженных бояр, над Петром — над правительством и придворным, чиновным дворянством. Петровская эпоха явно перелицовывалась и сливалась с современностью. В конце концов роман остался ненаписанным. Толстой охладел к истории; петровские одежды упали с плеч приготовленных героев — и под ними оказались люди 70-х годов: Облонский, Вронский, Каренин и Левин.
«Анна Каренина», как и «Война и мир», была задумана сначала как небольшой роман в 4-х частях, стремя основными персонажами: Анна, Каренин и Гагин (Вронский). Ни Китти, ни Левина не предполагалось. Нахлынувшие в процессе работы события, впечатления и мысли изменили весь план. Уже в 1875 году Толстой жалуется, что роман ему надоел: «Берусь за скучную, пошлую Каренину, — пишет он Фету, — с одним желанием скорее опростать себе место — досуг для других занятий» (i62,199). Получив корректуры из «Русского вестника», он признается Страхову: «Всё в них скверно, и всё надо переделать и переделать, всё, что напечатано, и всё перемарать, и всё бросить, и отречься, и сказать: виноват, вперед не буду, и постараться написать что-нибудь новое, уж не такое нескладное и нитонисёмное» (62, 265).
Все это отразилось в романе: Левин, постепенно вытесняя Анну, стал главным героем — и роман из любовного, посвященного вопросу семьи, брака и страсти, превратился в сельскохозяйственный, аграрно-производственный.
Так менялся Толстой — и так менялись его произведения, едва поспевая за ним. Его литературная работа была сложным, мучительным и страшным расходом сил. «Страшная вещь — наша работа, — писал он Фету, — Кроме нас никто этого не знает» (62, 209). Но и Фет не знал этого в такой степени, как Толстой. У Толстого был какой-то особый пафос, были какие-то особые и очень важные стимулы, выходящие за пределы обычной писательской работы. Эти стимулы влекли его к неустанному, непрерывному труду; они же заставляли его менять и переделывать заново и вызывали в нем страх и ужас, когда в работе наступал промежуток. Что же это за стимулы?
з
В 1874 году, во время работы над «Анной Карениной», Толстой писал А. А. Толстой: «Вы говорите, что мы как белка в колесе... Но этого не надо говорить и думать. Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что du haut de ces pyrami- des 40 sifccles me contemplent (с высоты этих пирамид сорок веков смотрят на меня) и что весь мир погибнет, если я остановлюсь» (62, 130).
Речь здесь идет именно о стимулах: Толстой не хочет соглашаться, что мы «как белка в колесе». Даже если это так на самом деле (характерно, что от решения вопроса по существу Толстой уклоняется) — этого не надо думать и говорить, потому что это разрушает пафос труда и деятельности. В противовес формуле «как белка в колесе», он приводит слова Наполеона, сказанные в Египте. Замечательно, что в последней части «Войны и мира», противопоставляя Кутузова Наполеону, Толстой цитировал эти самые слова, влагая в них отрицательный смысл: «Кутузов никогда не говорил о сорока веках, которые смотрят с пирамид». Теперь оказывается, что это основной принцип его собственного поведения — формула, выражающая главный его стимул к жизни и к работе. Характерный пример изменчивости Толстого!
Но следом за этой формулой приводится другая, ведущая свое происхождение из философии Шопенгауэра и еще более многозначительная: «Весь мир погибнет, если я остановлюсь». Толстой, оказывается, чувствует себя центром мира, его главной движущей силой — солнцем, от деятельности которого зависит вся жизнь. Как ни фантастичен этот стимул — он составляет действительную основу его поведения и его работы. Толстой может работать только тогда, когда ему кажется, что весь мир смотрит на него и ждет от него спасения, что без него и его работы мир не может существовать, что он держит в своих руках судьбы всего мира. Это больше, чем «вдохновение», — это то ощущение, которое свойственно героическим натурам.
Толстой, оказывается, недаром цитировал слова Наполеона. Он глубоко понимал его, одновременно и завидуя ему и презирая — не за деспотизм, а за Ватерлоо, за остров Святой Елены. Он осуждал его вовсе не с этической точки зрения, а как победитель побежденного. Совсем не этика руководила Толстым в его жизни и поведении: за его этикой как подлинное правило поведения и настоящий стимул к работе стояла героика. Этика была, так сказать, вульгарной формой героического — своего рода извращением героики, которая не нашла себе полного исхода, полного осуществления. «Непротивление злу насилием» — это теория, которую в старости мог бы придумать и Наполеон: теория состарившегося в боях и победах вождя, которому кажется, что вместе с ним состарился и подобрел весь мир.
Толстой недаром любил войну и с трудом подавлял в себе эту страсть. Он и вне фронта вел себя как вождь, как полководец и был замечательным тактиком и стратегом в борьбе с историей, с современностью. Упорно отстаивая свою архаистическую позицию, он, со стороны и издалека, но тем более зорко, как бы в бинокль, вглядывался в малейшие движения эпохи, как полководец вглядывается в движения неприятельских войск, и соответственно этим движениям предпринимал те или другие действия. Ясная Поляна была для него удобным стратегическим пунктом: точкой, с высоты которой он огладывал и измерял ход истории, жизнь и движения окружающего мира.
Кроме приведенной мной цитаты у Толстого есть и другие признания, которые подтверждают именно этот, несколько страшный, но могучий образ, а не тот «образ» сладенького и благостного старичка, «иже во святых», учителя жизни и искателя правды, каким любили его изображать некоторые биографы.
Основные жизненные и творческие стимулы Толстого раскрыты им самим с достаточной ясностью в монологе князя Андрея накануне Аустерлицкого сражения. Свой собственный душевный опыт Толстой вложил в своего героя, как он делал это постоянно: «Я никогда никому не скажу этого, но, боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди — отец, сестра, жена, — самые дорогие мне люди, — но, как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать».
Вот то «тщеславие», от которого Толстой сам иногда приходил в ужас, не видя ему выхода, и от которого так страдали его семейные. Размышления об этой «непонятной страсти», которая не дает покоя и отравляет существование, заполняют уже юношеские дневники Толстого: «Я много пострадал от этой страсти — она испортила мне лучшие года моей жизни и навек унесла от меня всю свежесть, смелость, веселость и предприимчивость молодости» (46, 94-95). Эта страсть не давала Толстому покоя до конца — до конца ему казалось и нужно было, чтобы сорок веков смотрели на него с высоты пирамид. Дневники С. А. Толстой наполнены жалобами на безграничное тщеславие и славолюбие Толстого, ради удовлетворения которого он готов забыть все и всех.
На деле это было, конечно, не простое тщеславие, которым страдают мелкие натуры, а нечто гораздо более сложное и серьезное. Это было ощущение особой силы, особой исторической миссии. Это была жажда не только власти и славы, но и героического поведения, героических поступков. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь» — вот настоящая формула этой героики. В том самом письме к Фету, где Толстой говорит о писательской работе («Страшная вещь — наша работа»), есть дальше тоже характерные признания: «Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмосток, только потратишь матерьял и завалишь без толку такие стены, которых и продолжать нельзя» (62,209). Это уже не о стимулах, а о тех внутренних условиях, которые необходимы для работы. Но эти условия, эта необходимость «подмостков» вытекают из тех же героических стимулов.
Наконец, еще одна цитата, в которой с необычной для Толстого тонкостью и точностью формулируются особенности его творческого процесса. В письме к Н. Страхову (1878 года) он жалуется на очередную остановку в работе и говорит: «Все как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать» (62,410-411).
Энергия заблуждения — замечательный термин, с предельной ясностью раскрывающий формулу «весь мир погибнет, если я остановлюсь» и проливающий яркий свет на все творчество Толстого и на вопрос о его стимулах. Недаром он не ответил в письме к А. А. Толстой по существу, а только заявил, что «этого не надо говорить и думать». Он вовсе не хочет знать истины: живем ли мы и работаем «как белка в колесе» или нет.
В записной книжке Толстого есть рассуждение о философских системах и истинах: «Толпа хочет поймать всю истину, и так как не может понять ее, то охотно верит. Гёте говорит: истина противна, заблуждение привлекательно, потому что истина представляет нас самим себе ограниченными, а заблуждение — всемогущими. — Кроме того, истина противна потому, что она отрывочна, непонятна, а заблуждение связано и последовательно» (48, 345). На фоне этой записи термин «энергия заблуждения» звучит полнее и определеннее. Для творчества ему нужна не энергия разума, не энергия истины («истина представляет нас самим себе ограниченными»), а энергия заблуждения. Процесс его творчества строится не на пафосе истины, а на пафосе обладания миром — на «земной стихийной энергии», которая представляет собой почти инстинкт.
В одном старческом письме к Д. Хилкову (1899), написанном во время работы над «Воскресением», Толстой рассуждает: «Думаю, что как природа наделила людей половыми инстинктами для того, чтобы род не [727] так она наделила таким же кажущимся бессмысленным и неудержимым инстинктом художественности некоторых людей, чтобы они делали произведения, приятные и полезные другим людям. Видите, как это нескромно с моей стороны, но это единственное объяснение того странного явления, что неглупый старик в 70 лет может заниматься такими пустяками, как писание романа» (72, 139). Слова о «приятных и полезных произведениях» и о «пустяках» — это старческое кокетство и подмена героики этикой. Важны не эти комментарии, а самый факт: художественное творчество определяется Толстым как «бессмысленный и неудержимый инстинкт», как стихийный процесс, не поддающийся никакому рациональному объяснению. Это «земная стихийная энергия», которая тем самым существует вне этики и именно поэтому остается Толстому непонятной, неукладывающейся ни в какую систему. Это для него такая же «непонятная страсть», как тщеславие и сладострастие, над истолкованием и преодолением которых он так бился в юности. Это «энергия заблуждения», в основе которой лежит инстинкт власти, инстинкт обладания.
4
На самом деле творчество Толстого, как и всякое творчество, нельзя свести к инстинкту, к стихийному процессу. Если какая-то доля стихийности здесь и есть, то ею далеко не определяется и не исчерпывается самая работа. Для работы, кроме инстинкта, должны быть стимулы. Любой инстинкт при отсутствии соответствующих стимулов может прекратить свое действие. Что касается художественного творчества, то расстояние между порождающим влечение к нему инстинктом и самым актом чрезвычайно велико и осложнено огромным количеством моментов, уже никак с инстинктом но связанных.
Всякое творчество есть факт не только природы, но и истории — факт не только и даже не столько индивидуальный, сколько социальный. Художественное творчество в этом отношении особенно показательно, потому что настоящие его стимулы возникают из самой глубины сознания — из того душевного и духовного опыта, который является результатом жизни, результатом исторического поведения, результатом переживании, связанных с самыми глубокими проблемами человеческой жизни. Недаром Толстому нужны были для его работы «подмостки», недаром ему казалось, что «сорок веков смотрят на него с высоты пирамид» и, наконец, что «весь мир погибнет, если он остановится». Это уже не инстинкт, а стимулы к работе, которые целиком зависят от эпохи, от истории.
Итак, толстовская героика, определившая весь ход его жизни и творчества, — явление историческое и социальное, а не только природное и индивидуальное. А если так, то она требует исторического, а не психологического или биологического комментария.
Корни толстовской героики, толстовских творческих стимулов уходят действительно в историю. Толстой оказался последним идеологом старой, патриархальной, дво- рянско-мужицкой Руси. В нем как будто скопились в последний раз все силы русского кондового земельного дворянства, прошедшего через всевозможные фазы исторического бытия. Противоречия привели к исходному пункту: помещик обернулся мужиком. История поступила с ним почти так, как Шекспир с королем JIиром (образ которого, кстати, Толстой ненавидел в старости так, как ненавидят только двойника): вывела его на мировую сцену стариком, отказывающимся от своих владений, построила на этом семейную драму и накануне смерти заставила его бежать из дому.
Толстой жил и действовал в эпоху глубочайшего социального кризиса и разложения, накануне грандиозного исторического переворота. Ему казалось, что он, отрицающий цивилизацию, прогресс, историю, он — архаист, не приемлющий современности с ее техникой, философией, искусством и наукой, призван спасти мир. Именно в этих условиях мог и должен был развиться в нем, с одной стороны, тот «глубочайший и злейший нигилизм», о котором писал Горький[728], а с другой — тот индивидуалистический героизм, который сформулирован в словах: «весь мир погибнет, если я остановлюсь». Только в этих условиях и в этой обстановке надвигающегося краха архаистическая проповедь Толстого, полная противоречий и чудачеств, могла произвести впечатление мудрости и правды. Только в эту эпоху личность Толстого могла разрастись до таких пределов. «Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое»[729], — писал Горький в своих воспоминаниях о Толстом.
После смерти Толстого Ленин сформулировал основное значение его творчества. В его социальных учениях и взглядах он нашел «такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски-образованному писателю» (20, 21). Тогда же либеральные витии, потеряв свое прежнее достоинство и свои прежние убеждения, провозгласили Толстого «величавой... мощной, вылитой из единого чистого металла фигурой, живым воплощением единого принципа». Ленин спокойно ответил на этот красноречивый шум: «Не из единого, не из чистого и не из металла отлита фигура Толстого» (20, 94).
Но в своей реплике Ленин не тронул двух слов, не возразил против двух определений: величавая и мощная. И это характерно. Историческую мощь и подлинную героику толстовского творчества и поведения Ленин почувствовал и признал. «Какой матерый человечище!» — воскликнул он, читая «Войну и мир»[730]. Матерый человечище — эта и есть определение действительной силы Толстого как исторической фигуры. «Есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик!» — воскликнул Горький[731].
Героика Ленина и героика Толстого — такие же исторические контрасты, как эпос и трагедия. Энергия Толстого — энергия трагического упорства, энергия исторического одиночества, «энергия заблуждения». Другой энергии история не могла и не хотела ему дать. Исторические силы, породившие эту героику Толстого, отошли в прошлое, но самый принцип героики как основного творческого стимула должен остаться. Для подлинного большого творчества нужно ощущение тех «подмостков под ногами», о которых писал Толстой, нужно, чтобы казалось, что «сорок веков смотрят с высоты пирамид».
ПУШКИН и толстой
Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться.
Слова Л. Толстого С. А. Толстой (1873)[732]
1
Пушкин и Лев Толстой стоят на крайних точках исторического процесса, начинающего и завершающего построение русской дворянской культуры XIX в. Пушкин — первый дворянин-интеллигент, профессиональный писатель, журналист; Толстой — последний итог этой культуры: он отрекается от кровно связанной с ним интеллигенции и возвращается к земле, к крестьянству. На первый взгляд — полная противоположность позиций и поведения. На самом деле — одна из тех противоположностей, которые сходятся, потому что смыкают собой целый исторический круг.
Корни творчества у Пушкина и Льва Толстого иногда так близки, что получается впечатление родства при всей разнице позиций. Не у Гоголя, не у Тургенева, не у Достоевского (при всей его заинтересованности некоторыми темами Пушкина), а именно у Толстого находим мы своего рода дозревание или, вернее, перерождение замыслов, тем и сюжетов Пушкина: «Евгений Онегин» и связанный с ним замысел будущего семейного романа («преданья русского семейства») и «Война и мир» или «Анна Каренина»; «Рославлев» (отрывок) и «Русский Пелам» Пушкина — и та же «Война и мир»; кавказские поэмы Пушкина, его «Цыганы» — и «Набег» или «Казаки» Толстого; «Арап Петра Великого» — и работа Толстого над романом из петровской эпохи; «Капитанская дочка» — и «Хаджи Мурат», в черновых редакциях которого Толстой недаром, вспоминает повесть Пушкина; сказки Пушкина — и народные или азбучные рассказы Толстого; наконец, «Кавказский пленник» Толстого — демонстративное и потому особенно характерное его выступление, показывающее близость или родство корней. Что касается «Анны Карениной», то, как это видно будет ниже, Толстой писал этот роман с ясным ощущением своего литературного родства с Пушкиным.
Родство это заложено только в корнях, но установить и осмыслить его очень важно для понимания и Пушкина и Толстого. Они — точно растения, растущие из одного корня, но в противоположных направлениях; Толстой — корнеплод, а Пушкин — цветущее дерево.
Вопрос о Пушкине и Толстом был когда-то частично поставлен К. Леонтьевым — страстным реакционером, но не лишенным проницательности критиком. Он тенденциозно противопоставил Пушкина Гоголю и делил всех русских писателей на «испорченных» и «не испорченных» Гоголем, причем Толстой оказывался среди вторых, хотя и с некоторыми оговорками. Но если оставить в стороне эти его общие публицистические тенденции и выпады, а взять только частные наблюдения, касающиеся художественного метода Толстого, то в них есть много верного и точного.
В книге «О романах Л. Н. Толстого» (написана в 1890 году, но задумана еще в 70-х годах) Леонтьев писал: «Позволю себе вообразить, что Дантес промахнулся и что Пушкин написал в 40-х годах большой роман о 12-м годе. Так ли бы он его написал, как Толстой? Нет, не так. Пусть и хуже, но не так. Роман Пушкина был бы, вероятно, не так оригинален, не так субъективен, не так обременен и даже не так содержателен, пожалуй, как "Война и мир"... анализ психический был бы не так "червоточив", придирчив в одних случаях, не так великолепен в других; фантазия всех этих снов и полуснов, мечтаний наяву, умираний и полуумираний не была бы так индивидуальна, как у Толстого; пожалуй, и не так тонка или воздушна, и не так могуча, как у него, но зато возбуждала бы меньше сомнений... Философия войны и жизни была бы у Пушкина иная и не была бы целыми кусками вставлена в рассказ, как у Толстого... И герои Пушкина и в особенности он сам от себя, где нужно, говорили бы почти тем языком, каким говорили тогда, т. е. более простым, прозрачным и легким, не густым, не обремененным, не слишком так или сяк раскрашенным, то слишком грубо и черно, то слишком тонко и "червлено", как у Толстого... Пушкин о 12-м годе писал бы вроде того, как написаны у него "Дубровский", "Капитанская дочка" и "Арап Петра Великого" Восхищаясь этим несуществующим романом, мы подчинялись бы, вероятно, в равной мере и гению автора и духу эпохи. Читая "Войну и мир" тоже с величайшим наслаждением, мы можем, однако, сознавать очень ясно, что нас подчиняет не столько дух эпохи, сколько личный гений автора; что мы удовлетворены не "веянием" места и времени, а своеобразным, ни на что (во всецелости) не похожим смелым творчеством нашего современника»3.
Эти сравнительные наблюдения методов и стилей очень верны. Пушкин и Толстой сходны и различны, как две зари — как восход и закат. Краски заката пышнее, ярче, гуще, но болезненнее, парадоксальнее, а иногда и грубее. Искусство Толстого было в основе своей, конечно, искусством закатным: оно было вдохновлено дисгармонией — противоречиями и расколом общественного и индивидуального сознания, тогда как в основе пушкинского творчества, несмотря на трагические противоречия его личной жизни, лежала полнота и цельность исторического сознания. Это сказывается уже хотя бы в том, что у Пушкина было органическое и совершенно реальное ощущение исторического процесса и его законов — была вера в историю, тогда как у Толстого именно этого, самого важного, самого плодотворного для творчества ощущения не было.
Сказывается эта разница, конечно, и на методе и на отношении к слову. Стиховое слово Пушкина, рожденное чувством полного обладания, полного равновесия между смыслом и выражением, было чуждо Толстому. К лирике Пушкина и даже вообще к его стиху Толстой был глух. И это вовсе не потому, чтобы он был глух к стихам вообще — нет, он очень любил, например, стихи Фета, а о стихах
1 Леонтьев К. О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние. М., 1911. С. 125-128.
Тютчева говорил просто с пафосом. В. Лазурский описывает свой разговор с Толстым о русской поэзии: «По моему мнению (говорил Толстой), Тютчев — первый поэт, потом Лермонтов, потом Пушкин. Вот видите, какие у меня дикие понятия... Так не забудьте же достать Тютчева. Без него нельзя жить... Сила Пушкина, по моему мнению, главным образом в его прозе. Его поэмы — дребедень и ничего не стоят. Тютчев как лирик несравненно глубже Пушкина»[733].
Понятия действительно «дикие», но не случайные, не просто вздорные, а имеющие свои исторические основания. В Толстом, при всей кажущейся прямолинейности и даже примитивности многих его суждений, была утонченность, характерная для эпохи приближающегося декаданса, утонченность, требующая особых смысловых акцентов, особой эмоциональной раскраски. Толстому уже нужны были нажимы, выкрики, а стихи Пушкина строились на обратном принципе — на равновесии, на гармонии элементов, на полном и ровном звучании их.
От всей лирики Пушкина в сознании Толстого осталось на всю жизнь только одно стихотворение — «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день»). Это, конечно, самое «толстовское» стихотворение Пушкина, но и в нем Толстого не вполне удовлетворяла последняя строка: «В последней строке я только изменил бы так, вместо строк печальных... поставил бы: строк постыдных не смываю»[734]. Вот он, этот нужный Толстому эмоциональный нажим, превращающий трагическое, но вместо с тем совершенно гармоническое по стилю стихотворение в запись дневника, в «исповедь», в публичное покаяние раздираемого противоречиями человека.
2
«Его поэмы — дребедень и ничего не стоят», — говорит Толстой в 90-х годах о поэмах Пушкина. Но среди этих «ничего не стоящих» для Толстого поэм была одна, которая раньше, в 50-х и в начале 60-х годов, сильно привлекала его внимание — и именно та, в которой есть нечто похожее на раскол сознания, что-то «толстовское».
Летом 1854 года, находясь в Бессарабии, Толстой прочитал «Цыган» и записал в дневнике: «В Пушкине... меня поразили Цыгане, которых, странно, я не понимал до сих пор» (47, 10). Понятно, что уход Алеко от культуры, его разочарование в городской жизни, где
...люди, в кучах за оградой, Не дышат утренней прохладой, Ни вешним запахом лугов; Любви стыдятся, мысли гонят, Торгуют волею своей, Главы пред идолами клонят И просят денег да цепей, —
понятно, что все это, вместе с заключительным «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», должно было «поразить» Толстого сходством с его собственными мыслями и настроениями.
В 1856 году (отмеченном вообще особенным повышением интереса Толстого к жизни и творчеству Пушкина) он перечитывает Пушкина и записывает: «Цыгане прелестны, как и в первый раз, остальные поэмы, исключая Онегина, ужасная дрянь» (47, 79). В это время он уже работал над «Казаками» — и связь этой повести с «Цыганами» несомненна. Оленин — новый вариант Алеко. Его письмо развивает те самые мысли, которыми в поэме Алеко делится с Земфирой: «Коли бы вы знали (у Пушкина та же форма: «Когда б ты знала»), как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне, вместо моей хаты, моего леса и моей любви, гостиные, эти женщины с припомаженными волосами».
Но вместе с тем это уже вовсе не тот традиционный романтический сюжет, одним из образцов которого является поэма Пушкина. Работая над «Казаками», Толстой записал, между прочим, в дневнике: «Не могу писать без мысли. А мысль, что добро — добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо, — недостаточны» (47, 152). Это уже явный спор с Пушкиным и борьба с ним: слова: «что те же страсти везде» — явная цитата из «Цыган». Толстому нужен более осязательный, более тенденциозный, более насущный вывод — и он бьется над его прояснением.
Сюжет «Цыган», имеющий свою длинную традицию (европеец среди дикарей), подвергается у Толстого своего рода пародированию и выворачивается наизнанку. Марьяна оказывается неприступной; Оленин смешон в своей роли влюбленного «интеллигента», не уверенного в собственных чувствах; наконец, роль традиционного отца или старца, произносящего заключительное нравоучение (ср. старика в «Цыганах»), передана бродяге Ерошке, который говорит как раз обратные слова и дает Оленину уроки смелости и решительности. Вместо слов пушкинского старика: «Оставь нас, гордый человек!» — слова Ерошки: «Так разве прощаются? Дурак, дурак!.. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею».
Правда, это финал не всей повести, а только первой ее части; Толстой работал над ее продолжением — и там Оленин должен был победить упорство Марьяны. Но характерно, что это продолжение не состоялось: Толстой охладел к сюжету, потому что он уже не вмещал тех мыслей, которые были ему важны. Интересно, что в тех же «Казаках» попутно разоблачена романтика кавказских поэм — жест в сторону Пушкина, Марлинского и Лермонтова вместе: «Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. Он не нашел здесь ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные и читанные им описания Кавказа. — "Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалатбеков, героев и злодеев, — думал он, — люди живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают"» и т. д.
В годы 1856-1857 Толстой с особенным вниманием занимался Пушкиным — и не случайно. Это было время ожесточенных споров о пушкинском и гоголевском направлении — время полемики между «Современником» и «Библиотекой для чтения», между Чернышевским и Дружининым. В эти же годы вышло первое полное собрание сочинений Пушкина под редакцией П. В. Анненкова, подлившее масла в огонь. Толстой написал тогда повесть «Два гусара», в которой явно отдавал предпочтение «временам Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных» и рисовал фигуру Турбина-отца, человека пушкинской эпохи. Приняв участие в полемике, Толстой временно стал на сторону Дружинина, руководившего тогда его литературными работами. Он оказался среди защитников «чистого искусства», провозглашавших Пушкина своим родоначальником, учителем и вождем.
В 1856 году Толстой записывает в дневнике: «Прочел Дон-Жуана Пушкина. Восхитительно. Правда и сила, мною никогда не предвиденная в Пушкине» (47, 78). Это, конечно, отклики полемики и бесед с Дружининым и Анненковым; втом же году он «с наслаждением» читает биографию Пушкина, составленную Анненковым. В январе 1857 года он читает статью Белинского о Пушкине и записывает: «Статья о Пушкине — чудо. Я только теперь понял Пушкина» (47, 108).
Большую роль в этом повороте к Пушкину сыграл Тургенев, тоже взявший на себя роль мэтра в отношении к «дикарю» и «автодидакту» Толстому. В это время уже назревал конфликт между Тургеневым и «Современником» — и вопрос о Пушкине приобретал для него сугубо принципиальное значение. Именно под влиянием бесед с Тургеневым за границей Толстой задумывает повесть о гениальном музыканте, гибнущем из-за не понимающей искусства толпы («Альберт»), повесть, которую он с трудом дописал и которую Некрасов с большой неохотой напечатал в «Современнике». Эпиграфом к этой повести Толстой поставил слова Пушкина, явно направляя их против Чернышевского:
Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв, — Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв.
Это пушкинское «мы» звучало здесь полемично и партийно: «мы» — то есть настоящие художники, понимающие высокое искусство, как Тургенев, как Дружинин, как Толстой. Но замечательно, что при дальнейшей переработке повести (после резкого отзыва о ней Некрасова в письме к Толстому) эпиграф был снят и повесть появилась в «Современнике» без него.
Но дело все-таки кончается тем, что Толстой порывает с «Современником» и переходит в «Русский вестник» Каткова. В это самое время он вступает в члены Общества любителей российской словесности и, по заведенному обычаю, произносит речь, в которой объявляет себя сторонником «изящной словесности», а не той «политической» или «изобличительной» литературы, которая уже сделала свое дело.
«В последние два года, — говорил Толстой в этой своей программной речи, — мне случалось читать и слышать суждения о том, что времена побасенок и стишков прошли безвозвратно, что приходит время, когда Пушкин забудется и не будет более перечитываться, что чистое искусство невозможно, что литература есть только орудие гражданского развития общества и т. п.» (5, 271).
Около этого же времени в дневнике появилась характерная запись: «Политическое исключает художественное, ибо первое, чтобы доказать, должно быть односторонне» (48, 10).
«Альберт» — чуть ли не единственная у Толстого фальшивая вещь, записанная с чужих слов, произнесенная не своим голосом. Именно на ней Толстой сорвался, как срываются певцы на фальцетах. «Семейное счастие» он уже сам объявил фальшью — и, взволнованный, раздраженный, смущенный, ушел из литературы: скрылся в яснополянскую сельскую школу. Не прошло и трех лет со времени речи в Обществе любителей российской словесности, как он начинает метать громы и молнии против той самой художественной литературы, защитником и представителем которой он себя объявил. И некоторые из этих громов и молний задевают Пушкина.
В руках Толстого теперь новое орудие — народное творчество. Лубочную картину, изображающую Иоанна Новгородского и черта в кувшине, он ставит выше картины Иванова. Говоря о художественных потребностях народа, он заявляет: «Лучшее произведение нашей поэзии, лирическое стихотворение Пушкина, представится набором слов, а смысл его — презренными пустяками... Я убедился, что лирическое стихотворение, как, например, "Я помню чудное мгновенье", произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о "Ваньке-клюшнике" и напев "Вниз по матушке по Волге", что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости» (<?,113— 114).
Вырвавшись из плена Дружининых и Тургеневых, Толстой оказался не «человеком сороковых годов», каким они хотели его сделать, а «шестидесятником», хотя и своеобразного толку. Поэзия Пушкина была отодвинута в сторону — и так осталась до конца. Ничего, кроме «Воспоминания» (и то в собственной интерпретации), от лирики Пушкина в сознании Толстого не сохранилось. А что до поэм, то они — «дребедень и ничего не стоят».
Но отношение Толстого к прозе Пушкина было несколько иное и несколько более сложное.
з
В начале 70-х годов Толстой в беседе с С. А. Берсом говорил, что «лучшие произведения Пушкина те, которые написаны прозой»[735]. В. Лазурскому он говорил в 90-х годах: «Сила Пушкина, по моему мнению, главным образом в его прозе». Но эта оценка прозы Пушкина составилась не сразу.
В 1853 году, во время работы над «Записками маркера» и «Отрочеством», Толстой записал в дневнике (первая вообще запись о Пушкине): «Я читал Капитанскую дочку и увы! должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара — не слогом — но манерой изложения. Теперь справедливо — в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы как-то» (46, 187-188).
Эта замечательная запись обнаруживает в Толстом большую ясность и точность теоретического сознания. «Подробности чувства» — это тот самый психологический анализ, который воцарился в это время в русской прозе и вытеснял собою как старую сюжетную «светскую повесть», так и «физиологические» жанры натуральной школы. Это та самая «мелочность» в разработке душевной жизни персонажей, о которой Толстой неоднократно упоминает в своем раннем дневнике, противопоставляя ее «генерализации», то есть обобщениям.
Понятно, что на фоне этой новой художественной системы повести Пушкина показались Толстому «голыми как-то». Никаких психологических противоречий, никакой «диалектики души», заставляющей персонажей Толстого говорить одно, а думать в это же время другое, противоположное, у героев Пушкина нет. Психологическая раскраска, тот самый «червоточивый» анализ, который отметил Леонтьев в «Войне и мире», кажется Толстому по праву (справедливо) основным методом новой прозы. Его произведения 50-х и 60-х годов идут в этом смысле мимо пушкинской прозы, хотя в исходных пунктах, в корнях, сближаются именно с Пушкиным.
Надо сказать, что самый принцип изображения человека даже в этих произведениях Толстого восходит к Пушкину. Во всей литературе, связанной с принципами натуральной школы и ее главы Гоголя (в том числе и у Достоевского), человек изображается как тип: он наделяется резкими, определенными чертами, сказывающимися в каждом его поступке, в каждом слове — даже в фамилии. Не только Чичиковы и Ноздревы, но и Раскольников, и Свидригайлов, и Карамазовы носят свои фамилии не как простые условные обозначения, а как характерные и характеризующие их прозвища. Совсем иное — Пьер, Андрей и Наташи Толстого: это семейные обозначения индивидуальностей, с которыми читатель знаком интимно, которых он ощущает в той или иной степени похожими на себя. Это не типы, ограниченные узкими пределами своей общественной среды или профессии, и даже не характеры, так или иначе замкнутые кругом отведенных им по психологической норме чувств и переживаний, а очень свободно переходящие от одних чувств и мыслей к другим индивидуальности, не отгороженные друг от друга никакими сложными перегородками, — «текучие», как любил говорить Толстой о людях.
Этот принцип «текучести» приводит нас, скорее всего, именно к Пушкину. Ближайшая родственница Наташи Ростовой, конечно, Татьяна Ларина — недаром имя Татьяны, как и Наташи, говорит нам гораздо больше, чем ее фамилия. Турбин- отец в «Двух гусарах», Пьер, Андрей, Долохов в «Войне и мире» — это всё люди, литературные предки которых имеются у Пушкина. Кстати: Толстой сам указал на отличие своих произведений от произведений Пушкина, тем самым допуская возможность исходных общих принципов. По словам С. А. Берса, Толстой видел разницу в том, что «Пушкин, описывая художественную подробность, делает это легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателем; он же (Толстой) как бы пристает к читателю с этою художественною подробностью, пока ясно не растолкует ее»[736]. Это, в сущности, те самые нажимы и акценты, о которых я говорил вначале, — та самая «закатность» и утонченность, которая из прозы Толстого перешла уже как надоедливый и рассудочный прием в прозу символистов.
Однако Толстой сам не сразу заметил и осознал свое историческое родство с Пушкиным. В 60-х годах проза Пушкина подвергалась у Толстого той же критике, как и поэзия. Он попробовал прочитать своим яснополянским ученикам «Гробовщика», и рассказ показался скучным: «Я окончательно отказался от Пушкина, повести которого мне прежде, по предположениям, казались самыми правильно построенными» (8, 59). Формулировка, конечно, несколько наивная: что значит «правильно построенная» повесть? Но Толстой и не осуждает здесь Пушкина, как он осуждал его за поэмы («дребедень»), а только приходит к выводу, что для новых задач, связанных с требованиями народа, Пушкин устарел.
Толстой согласен, что Пушкин был высшей точкой определенного периода; после Пушкина эта волна или парабола (как он пишет Страхову в 1872 году) пошла книзу и ушла под землю: «Другая линия пошла в изучение народа и выплывет, бог даст, а Пушкинский период умер совсем, сошел на нет... Счастливы те, кто будет участвовать в выплывании. Я надеюсь» (61, 275).
Тогда же, в пылу увлечения народным языком и творчеством, Толстой писал Страхову: «Бедная Лиза (повесть Карамзина) выжимала слезы и, ее хвалили, а ведь никто никогда уже не прочтет, а песни, сказки, былины — все простое будут читать, пока будет русский язык... Даже Пушкин мне смешон, не говоря уж о наших элу- кубрациях; а язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, — мне мил» (67, 278).
К этому периоду и относится рассказ «Кавказский пленник» — решительная попытка вырваться из старых традиций и своего рода демонстрация против Пушкина, От широких живописных полотен и этюдов Толстой переходит к «рисункам карандашом без теней» (67,274), — так он определил сам жанр таких вещей. Никаких «подробностей чувства», которыми щеголяет литература, никаких прикрас и преувеличений — и никаких «черкешенок» и неправдоподобных страстей. Это почти пародия на поэму Пушкина. Толстой демонстрирует, что тот же самый сюжет (русский офицер в плену на Кавказе) можно рассказать просто, коротко и вместе с тем увлекательно.
Однако эта демонстрация менее всего могла относиться к прозе Пушкина. Скорее наоборот: этот «рисунок карандашом без теней» стоит ближе к пушкинской прозе, чем прежние вещи Толстого, «так или сяк раскрашенные», по выражению Леонтьева. Уже одно то, что рассказ этот построен именно на «интересе самых событий», приближает его к повестям Пушкина. Можно предвидеть, что при таком повороте проза Пушкина должна будет еще очень и очень пригодиться Толстому.
И действительно: не прошло и года, как Толстой взялся за писание «Анны Карениной», отложив на время сказки и былины и как бы забыв о своих намерениях совершенно порвать с литературными традициями и литературным языком. Нужно было подвести итог своему литературному прошлому и произвести с ним расчет. И вот тут-то Пушкин оказался необходимым.
19 марта 1873 года С. А. Толстая записала в своем дневнике, что Толстой начал писать новый роман: «И странно он на это напал. Сережа (сын) все приставал ко мне дать ему почитать что-нибудь старой тете вслух. Я ему дала "Повести Белкина" Пушкина. Но оказалось, что тетя заснула, и я, поленившись идти вниз, отнести книгу в библиотеку, положила ее на окно в гостиной. На другое утро, во время кофе, Л. взял эту книгу и стал перечитывать и восхищаться. Сначала в этой части (изд. Анненкова) он нашел критические заметки и говорил: "Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться". Потом он перечитывал вслух мне о старине, как помещики жили и ездили по дорогам, и тут ему объяснился во многом быт дворян во времена и Петра Великого, что особенно его мучило; но вечером он читал разные отрывки и под влиянием Пушкина стал писать»[737].
Интересно указание С. А. Толстой на то, что Толстой сначала просмотрел «критические заметки» Пушкина и по поводу их сказал, что он учится у Пушкина. Среди этих критических статей и заметок многое действительно должно было казаться Толстому близким, важным и сохраняющим свое значение. Приведу один пример. В статье о Баратынском Пушкин пишет: «У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами. Публика мало ими занимается. Класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе как о политической экономии, о политической экономии как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, без всяких основательных правил и сведений, а большею частию по личным расчетам»[738].
Это ведь очень близко к тому, о чем Толстой писал в своих педагогических статьях 60-х годов или в письмах к Страхову 1872 года. «Мысли на дороге» тоже должны были очень привлекать внимание Толстого.
Судя по словам С. А. Толстой, весь этот вечер, когда старая тетя заснула под чтение «Повестей Белкина», прошел у Толстого под знаком Пушкина: он читал вслух «разные отрывки». Интересно, что именно отрывки: как будто именно в замыслах Пушкина, в начатых им вещах Толстой надеялся найти что-нибудь важное для своей новой работы. И кое-что он действительно нашел.
Первый набросок «Анны Карениной» был начат словами: «Гости после оперы съезжались к молодой княгине Врасской». Это явно воспроизводит начало пушкинского отрывка: «Гости съезжались на дачу графини». Но дело не только в этих первых словах: весь этот набросок, вошедший потом в измененном виде в главу VI второй части «Анны Карениной», написан по следам Пушкина[739]. Запись С. А. Толстой дополняется еще свидетельством Ф. И. Булгакова (вероятно, со слов Т. А. Кузьминской): пробежав первую строчку отрывка «Гости съезжались на дачу», Толстой «невольно продолжал чтение. Тут в комнату вошел кто-то. "Вот прелесть-то! — сказал Лев Николаевич. — Вот как надо писать. Пушкин приступает прямо к делу. Другой бы начал описывать гостей, комнаты, а он вводит в действие сразу"[740]».
Известно, что работа над «Анной Карениной» связана с Пушкиным еще тем, что некоторые черты наружности Анны взяты Толстым с дочери Пушкина, Марии Александровны Гартунг, с которой Толстой познакомился в Туле. В черновом наброске указанной выше главы вместо фамилии Карениной мелькает даже фамилия Пушкиной; Аня, или Анастасья Аркадьевна Пушкина, — так названа Анна Каренина.
Итак, несомненно, что «Анна Каренина» была начата при непосредственном воздействии прозы Пушкина — его стиля, его манеры. Но этого мало. Поскольку «Анна Каренина» продолжала или, вернее, заканчивала линию семейного романа, постольку в этом романе чувствуются историко-литературные связи с «Евгением Онегиным» — произведением, которое Толстой, при всем своем равнодушии к поэмам Пушкина, всегда выделял. Тут дело идет, конечно, уже не о прямом воздействии, не о «влиянии», а об естественном историческом родстве. На наших глазах происходит то историческое дозревание или перерождение, о котором я говорил вначале. Сочетание города и деревни, на котором построен роман Пушкина, повторяется у Толстого, но с особым идеологическим и эмоциональным нажимом именно на деревню. Анна и Кити вместе с Вронским и Левиным на балу дают новый поворот пушкинской сцене ссоры Онегина с Ленским. Даже сон Татьяны откликнулся в «Анне Карениной», но в каком перерожденном, почти неузнаваемом виде! Он превратился в ужасный, почти мистический кошмар, предрекающий гибель Анны: здесь на место Пушкина встал Шопенгауэр.
И наконец — еще одно. Стоит читателю представить себе дальнейшую жизнь пушкинской Татьяны — Татьяну замужем за нелюбимым мужем, как тотчас «Анна Каренина» начинает выглядеть своего рода продолжением и окончанием «Евгения Онегина». Биография пушкинской Татьяны кончается словами: «Но я другому отдана и буду век ему верна». Но кончается ли этим биография героини русского семейного романа? Конечно, нет. Измена неизбежна — и в романе Толстого перед нами как бы раскрывается эта ее роковая судьба. В таком случае и перерождение наивного девического сна Татьяны в мистический кошмар Анны кажется логически оправданным. Вронский — второй Онегин, более примитивный, но зато более решительный. Самая фамилия Вронского явно восходит к литературе 30-х годов — к «светской повести». Он — такое же историческое перерождение Онегина, как Анна — перерождение Татьяны.
Можно думать, что и заглавие романа — «Анна Каренина» (до того было заглавие «Два брака») — явилось у Толстого как бы в ответ на заглавие пушкинского романа. Типовое родство этих двух заглавий, по-видимому, не случайно.
4
Указание С. А. Толстой на связь между «Анной Карениной» и прозой Пушкина находит себе подтверждение в одном интересном документе — в письме к Е. Г. Го- лохвастову, написанном в марте 1873 года, то есть в самом начале работы над романом. Толстой пишет: «Давно ли вы перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу — прочтите сначала все повести Белкина. Их надо изучать и изучать каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу вам передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение» (62, 22).
Итак, воздействие пушкинской прозы в период писания «Анны Карениной» не ограничилось тем вечером, о котором записала в дневнике С. А. Толстая. Отвечая С. А. Рачинскому на его суждение о романе, Толстой писал: «Суждение ваше об А. Карениной мне кажется неверно. Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок» (62, 377).
Эта архитектурность «Анны Карениной» была, между прочим, результатом изучения Пушкина. Но не одна архитектурность.
Цитированное выше письмо к Голохвастову имеет замечательное продолжение, над которым придется еще много подумать. Толстой говорит вслед за приведенными выше словами: «Изучение это чем важно? Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства. Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается. Чтение даровитых, но не гармонических писателей (то же музыка, живопись) раздражает и как будто поощряет к работе и расширяет область; но это ошибочно; а чтение Гомера, Пушкина сжимает область, и если возбуждает к работе, то безошибочно».
Здесь Пушкин взят Толстым уже вне злобы дня — вне вопроса о новых задачах литературы, а теоретически, как образец, на котором нужно учиться независимо от тех или иных точек зрения. Толстой почувствовал в Пушкине самую основную черту его искусства — «гармоническую правильность распределения предметов», то есть полное равновесие стиля и жанра, отсутствие «раздражающих» нажимов и попыток освободиться от сковывающих свободу цепей искусства — попыток, которые обнаруживают только недостаточную силу обладания. Он почувствовал в Пушкине полную власть над «предметами поэзии», придающую его произведениям такую внутреннюю устойчивость, такую организованность.
В устах Толстого — особенно если смотреть на него только в те моменты, когда он «бьет стекла» (как он сам говорил о статьях Леонтьева)[741], — мысль о предвечной «иерархии предметов» в искусстве и о гармоническом их распределении кажется неожиданной, слишком тонкой. Возможно, что мысль эта и самая ее формулировка явились у него в результате изучения именно Пушкина, и в частности — его критических статей и заметок.
Реализм Пушкина ведь тем и отличается от «реализма вообще», что в нем высокое и низкое, «простонародное», не смешаны кое-как, а сообразованы, соотнесены, соразмерены. Мысль Толстого, только в более общей и простой формулировке, высказана в одном афоризме Пушкина: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности»[742]. Рукописи Пушкина, испещренные необычайным количеством вычеркнутых слов (вариантов), показывают, как напряженна и принципиальна была у него эта работа по отбору. Закон, относящийся к деталям, относится и к более крупным элементам — к элементам жанра, построения и пр.
Для Толстого вопрос о выборе и распределении «предметов поэзии» был сугубо острым, потому что ему нужно было внести в литературу новые, еще не испробованные, еще не тронутые предметы. Ему нужно было преодолеть условный реализм Тургенева, чтобы вызвать ощущение подлинного реализма — подлинной правды и полноты. Когда Толстой подходил к Пушкину (особенно к его прозе) с злободневными требованиями и брал его вещи на фоне новых вопросов и потребностей, они могли казаться ему и «голыми как-то», и устаревшими, и даже «смешными». Но стоило ему раскрыть Пушкина в момент самой творческой работы, когда все силы направлены на преодоление трудностей, на создание устойчивой, организованной и гармонической формы, чтобы почувствовать, что в этом смысле Пушкин остается образцом, который надо «изучать и изучать писателю».
И в «Войне и мире», и особенно в «Анне Карениной» Толстой добился того, что «предметы поэзии» оказались не просто смешанными, а гармонически распределенными. Именно потому эти романы вместили в себя столь широкий и столь разнообразный по своим иерархическим соотношениям материал: от Наполеона и исторического движения народов до пеленок, от высших вопросов жизни и смерти до похождений Стивы Облонского, до лошади Фру-Фру, до сельского хозяйства. И тут он многим обязан Пушкину.
Однако как же все-таки примирить резкие суждения Толстого о Пушкине, некоторые образцы которых были приведены выше? Как соединить письмо к Голох- вастову 1873 года с письмом к Страхову 1872 года? Ссылка на обычные у Толстого и характерные для него противоречия вообще в данном случае вряд ли уместна.
Дело в том, что для Толстого было два Пушкиных. Один — тот, о котором постоянно говорили в речах и в журнальных статьях, тот, о котором ему толковали и Тургенев, и Анненков, и Дружинин: тот Пушкин, при помощи которого жрецы искусства возвеличивали самих себя и упрочивали свое привилегированное положение. Этого Пушкина Толстой ненавидел и пользовался случаями поиздеваться над ним. Другой Пушкин был его яснополянским собеседником и учителем, с которым он любил говорить в тишине и к каждому слову которого внимательно прислушивался. Это был совсем другой Пушкин, непохожий на Пушкина петербургских салонов и редакций. Об этом-то другом Пушкине Толстой и писал Голохвастову.
Конечно, лирика Пушкина, но естественным историческим причинам, осталась все-таки чуждой Толстому; но искусство Пушкина в целом, и именно в его принципиальных основах, в его корнях, было Толстым продумано и принято как образец. Это отношение к Пушкину осталось незыблемым, несмотря на все позднейшие колебания, кризисы, отказы, измены и сокрушения.
О ПРОТИВОРЕЧИЯХ ЛЬВА толстого
1
Отличительной чертой внутренней и внешней биографии Толстого была непрерывная и иногда очень резкая изменчивость его взглядов и его поведения. Обычное прежде деление жизни и творчества Толстого на два периода — до «кризиса» 80-х годов и после него — искажает реальную перспективу. Новые материалы (дневники, письма, черновые рукописи) показывают, что, с одной стороны, изменчивость эта характерна и для молодости Толстого, а с другой — что она не прекращалась и после 80-х годов до самого конца. Кризисы сопровождали Толстого на всем протяжении его жизни — от выхода из Казанского университета до ухода из Ясной Поляны.
Совершенно ясным стало и другое: что изменчивость эта, сказавшаяся в конце концов на домашнем быту Толстого и осложнившая его семейную жизнь, не была простым психологическим явлением — свойством или особенностью его «натуры»; в основе этой изменчивости лежали постоянные противоречия, о которых неоднократно говорил Ленин в своих статьях. Эти противоречия, как убедительно показал Ленин, создавались особым положением Толстого среди борющихся классов и идеологий, а не его индивидуальными свойствами. «Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, — действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в пашей революции», — утверждал Ленин в 1908 году[743], направляя этот тезис против распространенных тогда теорий о «двойственности» Толстого. В 1910 году он повторил этот тезис, сделав его еще более точным и ясным: «Противоречия во взглядах Толстого — не противоречия его только личной мысли, а отражение тех в высшей степени сложных, противоречивых условий, социальных влияний, исторических традиций, которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества в пореформенную, но дореволюционную эпоху» (20, 22).
Итак, противоречия Толстого и порождаемая ими постоянная изменчивость (как все новые и новые попытки выйти из них и окончательно развязать «узел жизни») — это факт истории, а не психологии, и изучать его надо, следовательно, с исторической точки зрения. Так понимал Толстого и Горький, когда говорил о нем в своих лекциях 1909 года: «Человек глубоко правдивый, он еще потому ценен для нас, что все его художественные произведения, написанные со страшной, почти чудесной силой, — все его романы и повести — в корне отрицают его религиозную философию. Действительность — живой процесс, постоянно текучий, изменяющийся, этот процесс всегда и шире и глубже всех возможных обобщений.
Он часто бывал грубо тенденциозен в своих попытках подтвердить выводы свои непосредственно взятой действительностью, но действительность, даже и подтверждая иногда тенденцию пассивизма, все-таки указывала направление, единственно достойное человека — к активизму, к непосредственному вмешательству в жизнь человеческой воли и разума.
Толстой видел это и сам осмеивал свои попытки, но, осмеяв их, снова принимался за то же, то есть желал обработать действительность в интересах своей тенденции»[744]. Здесь же Горький указывает и на главную причину этих упорных попыток Толстого: «Его книги — документальное изложение всех исканий, которые предприняла в XIX веке личность сильная, в целях найти себе в истории России место и дело», личность, завершающая целый период истории своей страны»[745].
У самого Толстого есть запись, которая с необычайной ясностью показывает основу его изменчивости. Как бы возражая самому себе, Толстой пишет в дневнике 1892 года: «Когда проживешь долго — как я 45 лет сознательной жизни, то понимаешь, как ложны, невозможны всякие приспособления себя к жизни. Нет ничего stable[746] в жизни. Все равно как приспособляться к текущей воде. Всё — личности, семьи, общества, все изменяется, тает и переформировывается, как облака. И не успеешь привыкнуть к одному состоянию общества, как уже его нет и оно перешло в другое»[747]. Эта запись — плод большого исторического опыта, накопленного человеком, который начал свою «сознательную жизнь» в 40-х годах, взволнованно и деятельно пережил 50-е годы, с трудом «привыкал» к состоянию общества в 60-х годах, с еще большим трудом примерял себя и свое поведение к тому, что происходило в 70-х годах, заново определил свое поведение в 80-х годах и, вступив в 90-е годы, опять увидел, что жизнь идет куда-то в сторону от него.
Изменчивость Толстого, происходившая от постоянного накопления противоречий и стремления выйти из них, не была, конечно, простой сменой разнообразных взглядов, свидетельствующей о бессилии или о беспринципности. Бывают разные противоречия и разная изменчивость. Противоречия Толстого — это противоречия русской действительности; результат «быстрой, тяжелой, острой ломки всех старых "устоев" старой России» (Ленин, 20, 39), Изменчивость Толстого — это последовательные фазы определенного социального явления, проходящего через разные исторические периоды. Эта изменчивость граничила иногда с изменами, — так резко отходил Толстой от людей, с которыми только что был близок, так менял свои оценки, так неожиданно подпадал под влияния и освобождался от них, так решительно отказывался от собственных взглядов и произведений. И вместе с тем все эти «измены» выглядели всегда проявлением не растерянности, а цельности, устойчивости, даже упорства или упрямства. Отмечая именно эту особенность исторического поведения Толстого, Горький, слегка иронизируя (как человек другой эпохи и другого миросозерцания), говорил: «Почти все художественное творчество Толстого сводится к единой теме: найти для князя Нехлюдова место на земле, хорошее место, с которого вся жизнь мира представлялась бы ему гармонией, а он сам себе — красивейшим и величайшим человеком мира»[748].
Толстой сам определил очень точно эту особенность своего поведения, найдя для нее и теоретическую и практическую формулировку. В 1857 году он записал: «Ум, который я имею и который люблю в других, — тот, когда человек не верит ни одной теории; проводя их дальше, разрушает каждую и, не доканчивая, строит новые» (47,212). Этот своеобразный толстовский «нигилизм», отмеченный Горьким в его воспоминаниях, уживался рядом с «догматизмом», — характернейшее для Толстого противоречие. Практическая формула дана Толстым в письме 1860 года Б. П. Ковалевскому: «Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы знать, что нужно делать, а в том, — чтобы знать, что делать прежде, а что после» (60, 328). Все это вместе создавало условия для той «диалектики души», которую Чернышевский заметил в персонажах Толстого и которая еще в гораздо большей степени характерна для самого Толстого.
2
Основным противоречием, над разрешением которого Толстой бился всю жизнь, было противоречие человека и общества, человека и истории. Это противоречие, лежащее в основе всех его главных произведений, приобрело для него особую остроту вследствие не совсем обычного положения, в котором он оказался с самого начала своей «сознательной жизни». Начальный период его деятельности и самое вхождение его в литературу резко отличают его биографию от классических биографий русских писателей второй половины XIX века.
Бросив в 1847 году Казанский университет и оставшись, в сущности, «недорослем из дворян», хотя и с графским титулом, Толстой целых четыре года не находит себе никакого дела и мечется между Ясной Поляной, Москвой и Петербургом. Ему уже двадцать три года, а у него нет ни положения в обществе, ни образования, ни профессии, ни службы, ни определенного плана на будущее. Брат Сергей, окончивший математический факультет, не без основания называет его «пустяшным малым» и не верит его утверждениям, что он переменится или уже переменился — понял, что «надо жить положительно, то есть быть практическим человеком» (59, 29). Толстой ведет так называемую "светскую жизнь", — но что он значит для «света»? Его ближайшие друзья и знакомые (Перфильев, барон Ферзен, Озеров, князь Львов) служат и делают карьеру, а у него есть только свидетельство из Казанского университета — о том, что он, как не окончивший полного курса наук, «сравнивается в преимуществах по чинопроизводству с лицами, получившими образование в средних учебных заведениях, и принадлежит ко второму разряду гражданских чиновников»[749]. Ничего, кроме досады, раздражения и постоянных уколов самолюбия эта «светская жизнь» ему не дает. С московской и петербургской интеллигенцией, с «людьми сороковых годов», он никак не связан и в их среде не бывает. Литературные и общественно-философские кружки, журналы, студенчество — все это, сформировавшее Тургенева, Достоевского, Щедрина, идет мимо него. В то время как его сверстники, будущие писатели и общественные деятели, изучают Гегеля, Фихте, Фурье, он либо играет в карты, либо читает романы Дюма — «Виконт де Бражелон», «Тысяча одно привидение» и пр. Ему приходится признаться в письме к брату, что он действительно «самый пустяшной малый»: «Бог знает, что я наделал! — Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там путного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо... Надо было мне поплатиться за свою свободу и философию, вот я и поплатился... Мне совестно писать это тебе, потому что я знаю, что ты меня любишь и тебя огорчат все мои глупости и безосновательность... Бог даст, я и исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком» (55, 44—45). О какой «философии» упоминает здесь Толстой, считая ее главной виновницей своих житейских неудач? Эта философия запечатлена в дневниках. Он, оказывается, занят страшной и мучительной работой самонаблюдения и самоиспытания. На эту работу, не дающую пока никаких ощутимых результатов, уходят все его силы. Он следит за каждым своим шагом, вырабатывает целую систему «правил» поведения, ставит себя нарочно в самые трудные положения, экспериментирует и анализирует. Дневник этих лет представляет собой собрание записей по «диалектике души», которой страстно занят Толстой. Это его собственный «университет» на дому. Начальная программа этого университета — изучение самого себя, теоретическое и практическое. Вот примерный образчик этих занятий за один день (7 марта 1851 года): «Утром долго не вставал, ужимался, как-то себя обманывал. — Читал романы, когда было другое дело; говорил себе: надо же напиться кофею, как будто нельзя ничем заниматься, пока пьешь кофей. — С Колошиным не называю вещи по имени, хотя мы оба чувствуем, что приготовление к экзамену есть пуф, я ему этого ясно не высказал. — Пуаре принял слишком фамилиарно и дал над собою влияние: незнакомству, присутствию Ко- лошина и grandseigneur'cTBy[750] неуместному. — Гимнастику делал торопясь. — К Горчаковым не достучался от fausse honte[751]. — У Колошиных скверно вышел из гостиной, слишком торопился и хотел сказать что-нибудь очень любезное — не вышло. В Манеже поддался mauvaise immeur[752] и по случаю барыни забыл о деле. У Бегичева хотел себя выказать и, к стыду, хотел подражать Горчакову. Fausse honte. — Ухтомскому не напомнил о деньгах. — Дома бросался от рояли к книге и от книги к трубке и еде. — О мужиках не обдумал. — Не помню, лгал ли? Должно быть. — К Перфильевым и Панину не поехал от необдуманности» (46,47). Итог этой работы — рассказ «История вчерашнего дня»; своего рода зачетное сочинение по «диалектике души», содержащее в себе зародыши будущего толстовского психологического анализа.
Следующая, более высокая стадия этих занятий, которую Толстой проходит уже на Кавказе, — изучение других людей на основе пройденной диалектики собственной душевной жизни. Так последовательно и стройно развивается программа его университета, построенная на проблеме человека и общества. На деле оказывается, что этот университет, придуманный Толстым будто бы для самоусовершенствования, представляет собой своеобразную литературную школу: Толстой выходит из нее писателем — не только с накопленным материалом, но и с определенным методом. В конце 1851 года он уже пишет Т. А. Ергольской: «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы; так вот я послушался вашего совета — мои занятия, о которых я вам говорю, — литературные» (59, 119). Самую поездку на Кавказ он называет «внушенной свыше»: она вывела его из узкой сферы самонаблюдения в более широкую сферу. «Детство» и кавказские рассказы с фигурами солдат и офицеров — это нечто принципиально иное, чем «История вчерашнего дня». Дальше возникнет уже проблема человека и истории, записанная в дневнике 1853 года: «Написать русскую историю с Михаила Романова до Александра Благословенного, объясняя человечески все исторические события... Каждый исторический факт необходимо объяснять человечески и избегать рутинных исторических выражений» (46, 293, 212). Это выход в еще более широкую сферу и вместе с тем первое проявление антиисторизма, выросшего на основе принципиального внимания к «диалектике души» — к человеку, взятому интимно.
Толстой вступает в литературу со стороны — как человек иного круга, иных навыков и традиций, иной культуры, чем «люди сороковых годов». Он рос под другими влияниями и впечатлениями и не имеет никакого представления о тех вопросах, которыми они поглощены. Более того: к журналам и литераторам он относится с некоторым предубеждением и даже полупрезрением. «Я ничего так не боюсь, как сделаться журнальным писакой» (59, 215), — признается он брату уже после того, как «Детство» напечатано и Некрасов просит присылать другие вещи. Тон его первых писем к Некрасову — тон человека, который намеренно подчеркивает свое независимое положение: «Я буду просить вас, Милостивый Государь, дать мне обещание насчет будущего моего писания, ежели вам будет угодно продолжать принимать его в свой журнал, — не изменять в нем ровно ничего» (59, 214). Позднее, в 1855 году, он записывает в дневнике общее «правило» своего дальнейшего поведения: «Быть, чем есть: а) по способностям — литератором, в) по рождению — аристократом» (47, 53). Второму пункту он придает очень важное значение — как признаку, отличающему его общественное положение от других литераторов.
Писание «правил» продолжается, но Толстой сам относится к ним уже иронически, понимая, что практическое их значение ничтожно, а теоретическое («диалектика души») уже сыграло свою роль. «Смешно, 15-ти лет начавши писать правила, около 30 все еще делать их, не поверив и не последовав ни одному, а все почему-то верится и хочется» (47, 45). Он дает сам себе очень точную характеристику, объясняя постоянные нарушения собственных правил: «Я один из тех характеров, которые, желая, отыскивая и готовые на все прекрасное, неспособны именно поэтому к постоянно хорошему». Один недостаток особенно мучает его, потому что опрокидывает все правила и заставляет его делать нечто совсем другое: «Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них» (47, 9). В дневнике 1855 года записано решительно, уже в форме правила, которое подлежит исполнению: «Мне нужно, во что бы то ни стало, приобрести славу» (47,60). Дело тут, конечно, не в простом честолюбии или тщеславии, а в смутном ощущении особой силы, особой миссии, — чувство, которое потом сообщит всему поведению и творчеству Толстого характер героики. В ранние годы эта героика выражается в наивных формах, но очень определенно: «Ежели пройдет 3 дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя», — записывает он 15 июня 1854 года (47, 4). Военные неудачи под Севастополем вызывают у него чувства и мысли, выходящие далеко за пределы «диалектики души» и подготовляющие будущего автора «Войны и мира»: «Велика моральная сила Русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастной России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства» (47, 27—28). 23 ноября 1854 года он записывает: «Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться» (47,31). Смерть Николая I вызывает у него следующие патетические строки: «Великие перемены ожидают Россию. Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России» (47, 37). И тут же, через несколько дней, записана «великая, громадная мысль», осуществлению которой он чувствует себя способным посвятить жизнь: «Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. — Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение» (47, 37-38).
Вот объем, содержание и движение той «философии», которая помешала Толстому благополучно закончить Казанский университет и сделать нормальную карьеру. Его внешняя биография осталась неустроенной, хотя ему уже около тридцати лет; но он совсем не тот «пустяшный малый», за которого его считали. Он успел дослужиться всего-навсего до чина подпоручика, но это уже не смущает его: «Военная карьера не моя, — записывает он в 1855 году, — и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне предаться литературной, тем будет лучше» (47, 38). Проделанная за эти годы огромная работа по самонаблюдению и по наблюдению над разными слоями общества была порождена тогдашним противоречивым положением Толстого. В основе этой работы лежало недовольство окружающим его миром и самим собой, поскольку отношение между этим миром и им никак не налаживалось. Еще не разобравшись во всем этом хаосе личной и общественной жизни, он медлит и рискует, сохраняя свободу действий и пристально изучая самую противоречивость своего положения и поведения. Именно эта противоречивость заставила его «сломя голову» кинуться на Кавказ, отсюда поехать на Севастопольский фронт, а из Севастополя — в Петербург, в литературу.
Но и литература оказалась в конце концов не настоящим для него делом, — по крайней мере та литература, с которой он познакомился, приехав в 1855 году в Петербург и сразу вступив в круг некрасовского «Современника». Это была избранная, передовая интеллигенция — «люди сороковых годов», прошедшие сложную общественную и философскую школу. Они всецело заняты выработкой своих убеждений и вопросом о влиянии тех или других намечающихся партий на политическую и общественную жизнь России. В их среде назревает серьезный раскол в связи с появлением «новых людей» (Чернышевский), иначе мыслящих и иначе реагирующих на события. Толстого встречают с распростертыми объятиями: его
хвалят, им интересуются и печатают его рассказы. Но скоро отношение к нему меняется. Он ни с кем не соглашается, вступает в яростные споры и смеется над «убеждениями», противопоставляя им свои моральные «правила». Его называют «дикарем», видят в нем прискорбные «следы барского и офицерского влияния», стараются перевоспитать. Но это не так легко, — тем более что одному из его воспитателей, П. В. Анненкову, приходится (в письме к Тургеневу) прийти к неожиданному выводу: «Просто изумительно, как много мыслил этот человек о нравственности, добре и истине — и с каких ранних пор... В последнее время я пришел к такому убеждению, что между нами нет лица более нравственного, чем Толстой»[753].
Что касается самого Толстого, то он совершенно разочарован в этой среде и плохо слушает своих советчиков и руководителей — даже таких авторитетных, как Тургенев. Он прежде всего ни за что не хочет быть только литератором, только интеллигентом: он помещик, аристократ, для которого литература — никак не профессия. Вопреки настойчивым советам Тургенева, он решительно утверждает, что построить жизнь на одной литературе «противозаконно». В его дневнике 1856 года мелькают характерные записи: «Был у Дружинина и Панаева, редакция "Современника" противна... Собрание литераторов и ученых противно... Литературная подкладка противна мне до того, как ничто никогда противно не было» (47, 98, 100, 101). В письме к В. Боткину 1857 года он заявляет: «Слава богу, я не послушал Тургенева, который доказывал мне, что литератор должен быть только литератор. Это было не в моей натуре» (60, 234). Он занят хозяйством, он хлопочет о крестьянах, он пишет проекты о лесонасаждении в Тульской губернии и поднимает вопрос о разведении лесов в южной России. Тургенев острит по его адресу: «Вот человек! с отличными ногами непременно хочет ходить на голове... Что же он такое: офицер, помещик и т. д.? Оказывается, что он лесовод. Боюсь я только, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту»[754]. Позднее, когда Толстой, бросив литературу, сделался сельским учителем, Тургенев опять недоумевал и, повторяя свою остроту, писал Фету: «А Лев Толстой продолжает чудить. Видно, так уж написано ему на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз — и встанет на ноги?»[755]. В 1880 году, уже подводя некоторый жизненный итог, Толстой писал Страхову, прямо намекая на Тургенева, который посетил его перед этим в Ясной Поляне: «До сих пор, простите за самонадеянность, все, слава богу, случается со мной так: "Что это Толстой какими-то глупостями занимается. Надо ему сказать и показать, чтобы он этих глупостей не делал" И всякий раз случается так, что советчикам станет стыдно и страшно за себя» (63, 16). Интересно, кстати, что из главных деятелей «Современника», кажется, только Чернышевский не приставал к Толстому ни с какими советами и не брался за его перевоспитывание, а Толстой, несмотря на совершенно враждебное отношение к взглядам Чернышевского, записал в дневнике 1857 года: «Пришел Чернышевский, умен и горяч» (47, 110). Какую-то разницу между Чернышевским и остальными литераторами «Современника» Толстой заметил и оценил.
В рассказе «Из записок кн. Д. Нехлюдова (Люцерн)» Тургенев заметил «сильную кривизну»[756]. Он был по-своему прав: рассказ этот был, в сущности, публичным выступлением Толстого против профессиональной интеллигенции, против своих советчиков с их выработанными философскими теориями и убеждениями. «Диалектика души», до тонкости изученная Толстым, превращается здесь уже в подлинную диалектику, с которой он обрушивается на своих воспитателей. Заключительные страницы этого рассказа, проникнутого страстной полемикой, являются как бы стенограммой тех речей, которые Толстой произносил в редакции «Современника» и от которых голос Тургенева превращался в фальцет: «Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива! Ложна односторонностью, по невозможности человека обнять всей истины, и справедлива по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом вечном движущемся, бесконечном, бесконечно перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет мильонов других подразделений совсем с другой точки зрения, в другой плоскости... И кто определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие запутанные факты? У кого так велик ум, чтоб хотя в неподвижном прошедшем обнять все факты и свесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не от того, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее?» (5, 24-25). Это бунт человека, прошедшего суровую школу самонаблюдения и самоиспытывания, пристально изучавшего противоречия действительности и уже давно пришедшего к выводу, записанному в дневнике 1854 года: «Все истины парадоксы. Прямые выводы разума ошибочны, нелепые выводы опыта — безошибочны» (47, 23).
Советчики и воспитатели получают отставку. Последним советчиком и ментором, на время увлекшим Толстого своей ученостью, был гегельянец Б. Н. Чичерин. Он посмеивался над разрушительными набегами Толстого на философию, над его недоверием к истинам, над его своеобразной кустарной диалектикой, ниспровергающей все выводы разума и науки. «Как тебе трудно дойти до простого понимания вещей! — писал он Толстому в 1858 году. — Недаром у тебя полуженский почерк: тебя, как женщину, надо изнасиловать... или же поразить твое воображение чем- нибудь необыкновенным»[757]. Но в 1859 году Толстой освобождается и от этого советчика. Он пишет Чичерину о своих занятиях хозяйством: «Я уже положительно могу сказать, что я не случайно и временно занимаюсь этим делом, а что я на всю жизнь избрал эту деятельность. Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил» (60, 316). В ответ на это Чичерин имел неосторожность посоветовать Толстому «бросить годика на два» Ясную Поляну и ехать «наслаждаться природой и изучать искусство в Италию»[758]. Толстой воспринял это как личное оскорбление и как возмутительную пошлость: «Ты небрежно и ласково подаешь мне советы, как надобно развиваться художнику, как благотворно Италия действует, памятники, небо... и т. п. избитые пошлости... Как ни мелка и ложна мне кажется твоя деятельность, я не подам тебе советов... Скажу тебе только, в ответ на твои советы, что, по моему убежденью, в наши года и с нашими средствами, шлянье вне дома или пи- санье повестей, приятных для чтения, одинаково дурно и неблагопристойно... Самообольщение же так называемых художников, которое ты, льщу себя надеждой, допускаешь только из дружбы к приятелю (не понимая его), обольщение это для того, кто ему поддается, есть мерзейшая подлость и ложь» (60,327). Дружба тянулась до 1861 года, когда Чичерин опять позволил себе пошутить над Толстым, возвращавшимся из-за границы на родину: «Что бы тебе к нам присоединиться! Нет, счастливец летит в матушку Россию, слушать жаворонков в деревне и долбить азбуку грязным мальчишкам»[759]. Толстой отвечал: «Тебе странно, как учить грязных ребят. Мне непонятно, как, уважая себя, можно писать о освобождении — статью. Разве можно сказать в статье одну мильонную долю того, что знаешь и что нужно бы сказать, и хоть что-нибудь новое и хоть одну мысль справедливую, истинно справедливую? А посадить дерево можно и выучить плести лапти наверно можно» (60, 380). В тот же день Толстой записал в дневнике: «Чичерин противен страшно» (48, 35).
Итак, Толстой уже совсем не литератор, а помещик и сельский учитель. Анненков, Боткин, Дружинин, Панаев, Некрасов, Тургенев, Чичерин — все это отошло в сторону. Толстой совершает очередной «прыжок» или очередную «глупость», как будто нисколько не заботясь о «хребте» своего таланта. Он замыкается в Ясной Поляне: учит крестьянских детей, строит винокуренный завод, женится. На просьбу Дружинина прислать что-нибудь в журнал он отвечает, что ничего не пишет и надеется не писать такие «милые и приятные для чтения» повести, как раньше, потому что «совестно» (60, 308).
Толстой обрушивается на литературную профессию, на журналистику, доходя в этом до нигилизма. «Для меня очевидно, — заявляет он в статье «Прогресс и определение образования» 1862 года, — что распложение журналов и книг, безостановочный и громадный прогресс книгопечатания был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и наборщиков... Число литературных работников увеличивается с каждым днем. Мелочность и ничтожество литературы увеличивается соразмерно увеличению ее органов... Есть "Современник", есть "Современное слово", есть "Современная летопись", есть "Русское слово", "Русский мир", "Русский вестник", есть "Время", есть "Наше время"... есть "Орел", "Звездочка", "Гирлянда", есть "Грамотей", "Народное чтение" и "Чтение для народа", — есть известные слова в известных сочетаниях и перемещениях, как заглавия журналов и газет, все эти журналы твердо верят, что они проводят какие-то мысли и направления. Есть сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, Филарета. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды» (8,339-340). Это похоже уже не на бунт, а на погром. Толстой, оказывается, забрался в Ясную Поляну и стал сельским учителем для того, чтобы расправиться с писателями, эксплуатирующими и обманывающими, по его мнению, народ. Он хочет доказать, что народ без их помощи и содействия может создавать и создает литературу, которая стоит на несравнимой с ними высоте. Ясная Поляна становится, по словам Анненкова, «питомником натуральных поэтов»[760]. Толстой печатает статью под ироническим заглавием, явно адресованным не к педагогам, а к писателям, в ту же редакцию «Современника»: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?». Здесь он объявляет шедеврами рассказы, написанные Федькой и Семкой — учениками яснополянской школы: «Ничего подобного этим страницам я не встречал в русской литературе», — говорит он о повести Федьки «Солдаткино житье» (<?, 315). Ясная Поляна превращается в идеологическую крепость, откуда Толстой, нашедший себе новое «настоящее дело», громит своих прежних советчиков.
Все дело в том, что у Толстого — иное отношение к действительности и иное представление о своем участии в ней. «Ломка всех старых "устоев" старой России» сказывается на нем иначе, чем на «людях сороковых годов» — на представителях дворянской интеллигенции. Он отошел от них не по личным мотивам, а принципиально: ему «противны» Чичерины, потому что с его точки зрения они — филистеры, упрощающие и искажающие действительность. Пройдя через опыт душевной диалектики и вступив в область диалектики общественных отношений, он остается верен себе в том смысле, что видит каждое явление и событие с разных сторон. Он принципиально не хочет доходить до «простого понимания вещей», потому что чувствует их сложность и противоречивость. Он отказался от профессии литератора и интеллигента именно потому, что это надстройка над жизнью, а не сама жизнь. Он предпочитает посадить дерево и выучиться плести лапти, чем писать статью об освобождении. Он совершенно не заинтересован в снимании противоречий, потому что не собирается занять место среди так называемых общественных деятелей. Он не верит ни в их убеждения, ни в их истины.
Ломка устоев поставила перед всеми вопрос о народе; но для Толстого народ — совсем не то, что для Чичериных. Для него это не одно из «сословий», заслуживающее особого внимания и сочувствия, а основа и сущность исторической жизни — ее настоящий создатель. Он не понимает и не представляет себе деятельности и поведения без опоры на народ. Еще в 1858 году, в период увлечения хозяйственными проектами, он писал в наброске «Лето в деревне»: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я может быть яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его. Хорошо ли, дурно ли, но я не знаю другого чувства родины и не понимаю и не уважаю в другом чувства родины, не вводящего его в любовь и несправедливость» (J, 262). Здесь уже начало полемики с интеллигенцией, в ожесточенных схватках с которой он, по словам Некрасова, доходил тогда до замечательных посылок вроде: «Он потому на стороне освобождения крестьян, что у него нет таковых»[761].
Позиция интеллигента, разглядывающего мир сверху, из своего узенького окошка, продырявленного где-то в «надстройке», совсем не пленяет Толстого. Ему нужно «настоящее дело», при котором он чувствовал бы свою органическую связь с действительностью. Описывая в «Войне и мире» Платона Каратаева, Толстой говорит: «Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка» (курсив мой. — Б. Э.). Это не простая характеристика, а нравоучительное определение идеала, к которому стремился сам Толстой. Мало того: сказать эти слова можно было только на основе собственного душевного опыта — пережив именно такое отношение к жизни. Это отношение явно противопоставляется другому — «разумному».
Вместо простого понимания сложных вещей, которого требовал от него Чичерин, Толстой демонстрирует сложное понимание простых вещей. В эпилоге он высмеивает историческую науку, которая делает вид, что «имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного». Прямо против интеллигенции направлен основной тезис эпилога: «Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, — то уничтожится возможность жизни». Проблема свободы и необходимости развернута в эпилоге для того, чтобы утвердить действительное существование этого жизненного противоречия. «Только в наше самоуверенное время популяризации знаний, благодаря сильнейшему орудию невежества — распространению книгопечатания, вопрос о свободе воли сведен на такую почву, на которой и не может быть самого вопроса».
Следующий естественный этап на этом пути — углубление полемики с исторической наукой. Метод «душевной диалектики» (описание жизни одного человека) переносится на историю — с тем, чтобы сохранить живость и многообразие фактов. Вслед за расправой с исторической наукой идет расправа с народнической интеллигенцией. Толстой наносит ей удар в самом чувствительном месте — в вопросе об отношении к народу, о «народном образовании». Битва с педагогами по вопросу о методах обучения грамоте развертывается в целый поход на народников, — тем более серьезный и сложный для них, что Толстой громит их взгляды и теории с позиций самого «народа», а не какой-либо партии. Он подготовляет окончательный отход от литературы и от интеллигенции — с опорой на «народность».
За двадцать лет, прошедших со времени Крымской войны, Толстой совершил длинный и очень извилистый путь. Тургенев сказал бы, что это были сплошные кувырканья и чудачества. Но Толстому было важно и нужно не потерять настоящего места и дела в современности, хотя бы ценой непрерывных поворотов и даже «измен». Юношеское честолюбие, искавшее «славы», принимает теперь форму героических стимулов, порожденных сознанием особой исторической миссии.
4
В 70-х годах противоречивость взглядов Толстого и его позиции была уже констатирована критикой. Михайловский подыскал для нее название «десницы» и «шуйцы» и восклицал: «Ах, если бы у него не было шуйцы!»[762]. Шуйцей считались и философские рассуждения Толстого в «Войне и мире», и заключительные части «Анны Карениной», описывающие выход Левина из обступивших его сомнений. Появившаяся вслед за этим «Исповедь» подтверждала наличие «шуйцы», а позднейшее выступление Толстого с трактатом «Так что же нам делать?» (1882-1886) показывало, что эта «шуйца» начинает побеждать «десницу».
Так называемый кризис 80-х годов, как я говорил вначале, был, с одной стороны, достаточно подготовлен предыдущими «изменами», а с другой — вовсе не обозначал укрепления позиции. Но в одном отношении «кризис» этот должен быть выделен как особо значащий. До сих пор Толстой, как бы двигаясь по кругу разнообразных общественных отношений (помещичья и крестьянская среда, светское общество, военная среда, среда литераторов и ученых, интеллигенция), демонстрировал противоречия действительности, подходя к ним с методом душевной диалектики и превращая «простые вещи» в сложные. Тем самым он, как и указывал Ленин, отражал те «в высшей степени сложные, противоречивые условия, социальные влияния, исторические традиции, которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества в пореформенную, но дореволюционную эпоху» (20, 22). Он, выражаясь языком Горького, искал себе в «истории России место и дело»[763]. Конец 70-х годов (вместе с событиями, которые Толстой оценивал как канун «большого переворота» или «революции») был некоторой границей: Толстой сделал решительные усилия, чтобы выйти из своего неопределенного социального состояния — «аристократа» среди интеллигенции и из своей идеологической позиции, объявленной еще в «Люцерне», — позиции человека, демонстрирующего свое несогласие со всеми теориями и «убеждениями». Если эпилог «Войны и мира» подчеркивал именно эту позицию, отвергая всю историческую науку с ее принципом «причинности» и оставляя нерешенной проблему свободы и необходимости, то финал «Анны Карениной» имеет несколько иной характер, поскольку в нем прямо указывается выход из противоречий действительности. «Слова, сказанные мужиком, произвели в его (Левина. — Б. Э.) душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его... — Нет, я понял его (мужика. — Б. Э.) и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усумниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимают и в одном этом не сомневаются и всегда согласны». Эти страницы романа, вышедшего совершенно за пределы любовного сюжета, соприкасаются с дневником и приводят к «Исповеди», которая является попыткой не только подвести новый итог всем своим старым дневникам, но и ликвидировать самую «диалектику души», а вместе с ней — диалектику общественных отношений и все противоречия действительности. Первый набросок «Исповеди» начинался словами, ставящими границу между прежней жизнью и новой, в которую теперь вступал Толстой: «Я вырос, состарился и оглянулся на свою жизнь» (23, 524).
Характерно, что этот новый поворот Толстого резко сказался на его художественном творчестве (о чем так скорбел Тургенев). Правда, перерывы и решения прекратить литературные занятия являлись и прежде, но на деле Толстой очень быстро возвращался к писательской работе. Теперь, после «Анны Карениной», казалось, что к художественной литературе он уже не вернется. В старости Толстой сам признавался Д. Маковицкому: «Два раза переставали меня интересовать художественные сочинения. В первый раз в 1875 году, когда я писал "Анну Каренину", и второй раз в 1878, когда я снова взялся за "Декабристов", а потом начал "Исповедь"»[764]. Неудачи с петровским романом и с «Декабристами» произошли потому, что исторические проблемы потеряли для Толстого свой интерес, свою принципиальную важность: противоречие историзма и антиисторизма, вдохновлявшее его в период работы над «Войной и миром», оказалось в конце концов ненужным или несущественным, поскольку на первый план выступили проблемы морали и религии. Что касается художественного творчества вообще, то оно после «Исповеди» перестало на время «интересовать» Толстого, помимо всего, потому, что «диалектика души» потеряла свою прежнюю ценность. Все основные персонажи Толстого изображались подвижными, меняющимися, текучими. Это не мешало представлению о характере, об индивидуальности, потому что внимание самого автора было сосредоточено именно на изображении личности со всеми ее душевными и умственными противоречиями. Уже Левин в «Анне Карениной» (если не говорить о Пьере «Войны и мира») почти лишен характера в собственном смысле этого слова, потому что его фигура постепенно к концу романа превращается в отвлеченный символ — в героя притчи: «диалектика души» подменяется умственной диалектикой, действующей за пределами характера. Более того: в финале и эта диалектика снимается, поскольку Левин находит выход из всех сомнений и противоречий. В старческих вещах Толстого понятие характера почти исчезает. В «Воскресении» этот процесс разложения характера завершается: Нехлюдов уже никак не характер, не личность. К этому времени Толстой (через «народные рассказы») нашел для себя новый художественный метод и жанр, в котором «диалектика души» уже не играла роли: метод сатирического и нравоучительного изображения действительности, жанр «притчи» или «мистерии» (как «Власть тьмы»). Но в начале 80-х годов, после «Исповеди», этот жанр еще не был найден. Трактат «Так что же нам делать?» по своему заглавию противостоит роману Чернышевского «Что делать?». На самом деле он противостоит всем принципам и теориям, созданным демократической интеллигенцией 60-х и 70-х годов. Здесь подведен окончательный итог борьбе с этой интеллигенцией. В основу этого трактата положен тезис, уничтожающий значение не только исторических, экономических и социальных наук, но и самой культуры. Вот этот тезис, подготовленный финалом «Анны Карениной» и «Исповедью»: «Только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дело только для него важно и одно только дело оно делает — оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет. Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их себе, и уяснение это кажется неважным и незаметным для того, кто не хочет жить им. Но это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества» (25,226). Итак, история и культура — это только кажущееся дело, а настоящее дело (опять, как и всегда, — вопрос о «настоящем деле») — уяснение нравственных законов. Стоит людям уяснить себе уже существующие и всем доступные нравственные истины, стоит сорвать с этих истин всякие покровы и личины — и окончательная цель будет достигнута. Это утверждение приводило к естественному и неизбежному вопросу: что же делать человеку, уже уяснившему себе эти нравственные законы, уже тем самым совершенно свободному и от внушений истории и от власти привычек? Очевидно — изменить собственное поведение соответственно этим законам и убеждать других сделать то же. Общественно-историческая задача превратилась в задачу личной морали, личного поведения, а самому Толстому пришлось занять рискованную и парадоксальную позицию мудреца-проповедника, спасающего человечество от гибели.
Интересно, что В. Г. Чертков (новый друг Толстого) настойчиво рекомендовал ему изменить заглавие этой статьи, или, вернее, книги: «В ней очень, очень много хорошего и нужного, но заглавие нехорошее. Если б вы назвали это "Что мне делать", кажется было бы лучше, и в таком случае, если бы оказалось там для многих, то каждый нашел бы и применил к себе без сознания, что его обличают. Вместе с тем, если б вы назвали "Что мне делать", то чувствовали бы себя свободнее от потребности оканчивать. Такую постановку вопроса, как "что мне делать", можно когда угодно прекратить на бумаге, ибо можно продолжать наделе» (85,213). Чертков верно заметил, что книга Толстого представляет собой, в сущности, продолжение или завершение «Исповеди» и является скорее развернутым дневником, чем общеобязательным или общеполезным трактатом. Он намекает Толстому, что в таком заглавии есть оттенок чрезмерной «гордости». Но Толстой шел уже и на эту «гордость»: «Думаю, — говорит он как бы в ответ Черткову, — что решение вопроса, который я нашел для себя, будет годиться и для всех искренних людей, которые поставят себе тот же вопрос... Я увидал ложь нашей жизни благодаря тем страданиям, к которым меня привела ложная дорога; и я, признав ложность того пути, на котором стоял, имел смелость идти, прежде только одною мыслью, туда, куда меня вели разум и совесть, без соображения о том, к чему они меня приведут. И я был вознагражден за эту смелость. Все сложные, разрозненные, запутанные и бессмысленные явления жизни, окружавшие меня, вдруг стали ясны, и мое прежде странное и тяжелое положение среди этих явлений вдруг стало естественно и легко» (25, 376-377).
Толстой торжествует свою победу над «кажущейся» сложностью жизни. Он с восторгом прозревшего смотрит на окружающее и видит его иначе, чем другие. Все оказывается не таким, каким представлялось ему прежде, — и все гораздо проще. Чичерин удивился бы теперь, как в представлении Толстого самые сложные вещи оказываются необыкновенно простыми. Что такое, например, город и городская жизнь? «Богатства сельских производителей переходят в руки торговцев, землевладельцев, чиновников, фабрикантов, и люди, получившие эти богатства, хотят пользоваться ими. Пользоваться же вполне этими богатствами они могут только в городе... В деревне некому держать в порядке глупых мужиков, которые по своему необразованию могут расстроить все это. И поэтому богатые люди скопляются вместе и пристраиваются к таким же богатым людям с одинаковыми потребностями в городе, где удовлетворение всяких роскошных вкусов заботливо охраняется многолюдной полицией... Богатые люди собираются в городе и там, под охраной власти, спокойно потребляют все то, что привезено сюда из деревни» (25,230). Что такое деньги? Оказывается, и в этом вопросе никакой сложности нет, а сложность эту выдумала политическая экономия. Деньги придуманы для того, чтобы порабощать людей — и только.
По некоторым страницам этой замечательной своим размахом и страстностью книги видно, что она подготовлена прежде и больше всего окружающей действительностью — тем историческим моментом, который, постепенно назревая, предстал перед Толстым к концу-70-х годов. Россия выходила на новый путь, чреватый самыми серьезными потрясениями «устоев». Толстой обладал необычайно зорким историческим зрением. В дневнике 1881 года появляется запись: «Революция экономическая не то, что может быть. А не может не быть. Удивительно, что ее нет» (49, 50).
Будь Толстой слабее, будь он меньше проникнут сознанием своей исторической миссии, не будь он, короче говоря, «личностью, завершающей целый период история своей страны» (Горький), остановись он — история перешагнула бы через него, предоставив ему возможность доживать свои дни в качестве замечательного, но уже несколько забытого писателя прошедшей эпохи. Согласиться на такое положение Толстой не мог, — для него это было бы равносильно самоубийству: слова о том, что «сорок веков смотрят на него с высоты этих пирамид» и что «весь мир погибнет, если он остановится», не были пустыми словами. Толстой вступает в полосу героических стимулов, героического поведения.
Книга «Так что же нам делать?» заканчивается грозной картиной, рисующей то положение, в котором находится человечество, и доказывающей, что сила восприятия действительности нисколько не ослабела в Толстом, несмотря на стремление освободиться от сомнений и противоречий. Наоборот, самое это стремление подсказано сознанием грядущих общественных катастроф и желанием вовремя подготовиться к ним, занять определенную позицию, найти себе настоящее «место и дело». Вот как рисует Толстой состояние европейского общества: «Как ни стараемся мы скрыть от себя простую, самую очевидную опасность истощения терпения тех людей, которых мы душим, как ни стараемся мы противодействовать этой опасности всякими обманами, насилиями, задабриваниями, опасность эта растет с каждым днем, с каждым часом и давно уже угрожает нам, а теперь назрела так, что мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее взрыв. Таково положение в Европе; таково положение у нас и еще хуже у нас, потому что оно не имеет спасительных клапанов... В нашем народе в последние три-четыре года вошло в общее употребление новое, многозначительное слово; словом этим, которого я никогда не слыхал прежде, ругаются теперь на улице и определяют нас: дармоеды. Ненависть и презрение задавленного народа растет, а силы физические и нравственные богатых классов слабеют; обман же, которым держится все, изнашивается, и утешать себя в этой смертной опасности богатые классы не могут уже ничем. Возвратиться к старому нельзя; возобновить разрушенный престиж нельзя; остается одно для тех, которые не хотят переменить свою жизнь: надеяться на то, что на мою жизнь хватит, а после как хотят. Так и делает слепая толпа богатых классов; но опасность все растет, и ужасная развязка приближается. Устранить угрожающую опасность богатые классы могут только переменою жизни» (25, 394-395).
Совершенно ясно, что «кризис», пережитый Толстым в 80-х годах и в подробностях описанный в «Исповеди» и в трактате «Так что же нам делать?», был прямым отражением социального кризиса, надвигавшегося на Россию. Толстой сам говорит, что «рабочая революция» угрожает и Европе и России уже в течение тридцати лет, относя, таким образом, начало этой угрозы ко времени Крымской войны. В самом деле, еще в 1856 году он писал Д. Н. Блудову о грозящей помещикам катастрофе: «Теперь не время думать о исторической справедливости и выгодах класса, нужно спасать все здание от пожара, который с минуты на минуту обнимет. Для меня ясно, что вопрос помещикам теперь поставлен уже так: жизнь или земля... Ежели в 6 месяцев крепостные не будут свободны — пожар. Все уже готово к нему, недостает изменнической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожар везде» (60, 66-67). Однако, в отличие от 50-х и 60-х годов, Толстой теперь не только ищет практического выхода для себя, но и делает попытку осмыслить положение человечества и указать ему пути спасения. В течение тридцати лет он искал себе «места и дела», менял занятия, изучал действительность в самых разных направлениях, присматривался к жизни разных классов и слоев общества, нащупывал опору для своей деятельности. Теперь это движение по кругу закончено: давнишнее «тщеславие» Толстого превращается в пафос «посланничества». Дело не в религиозных истолкованиях этого стимула, а в самом его наличии. Толстой действует как человек, дождавшийся своей исторической очереди. Чертков был прав, отметив в заглавии трактата «Так что же нам (курсив мой. — Б. Э.) делать?» некоторую «гордость», но он не понимал, что за толстовской этикой стояла героика — чувство особой силы, особой исторической миссии.
Наступала эпоха развязывания «узлов русской жизни» (выражение Толстого), завязанных еще в XVIII веке. Толстой недаром тянулся и к Петровской эпохе и к декабристам. Проблемы капитализма и феодализма, города и деревни, дворянства и крестьянства, сельской и промышленной России не были решены. Патриархальная крестьянская Русь была забита развитием капитализма, но она существовала и требовала к себе внимания. До сих пор она не имела своего голоса, а имела только своих заступников или адвокатов в рядах народнической интеллигенции. Это была помощь «меньшому брату», приходившая со стороны. Между тем приближались последние сроки. Крестьянская Русь, веками накопившая и свою силу и свое бессилие, и свою веру и свое отчаяние, и свою мудрость и свое горе, и свою любовь и свою ненависть, — должна была получить от истории право на голос. Толстой всем своим прошлым был подготовлен к тому, чтобы история вручила это право именно ему. В нем как будто скопились в последний раз все идейные силы русского поместного дворянства, пришедшего через все фазы своего исторического бытия к последнему пункту — к «мужику». Ленин формулировал этот исторический парадокс в беседе с Горьким по поводу его воспоминаний о Толстом: «Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник. И, — знаете, что еще изумительно в нем. Его мужицкий голос, мужицкая мысль, настоящий мужик в нем. До этого графа — подлинного мужика в литературе не было. Не было!»[765].
Кризис, пережитый Толстым в 80-х годах, насыщен таким ясным историческим смыслом, что он бросает свет и на все его прошлое — на всю историю его измен, «глупостей», «чудачеств», «кувырканий» и «прыжков». Это были заключительные фазы того движения в дворянстве, которое дало о себе знать в декабризме и затем определило поведение и судьбу Пушкина и Лермонтова. «Люди сороковых годов» — это была уже новая общественная формация, не связанная с «обломками обиженных родов». Толстой оказался чужим в этой среде именно потому, что в нем продолжалась и завершалась давняя и органически связанная с вопросами о крестьянстве идеология старого передового дворянства. Он сам чувствовал это, когда в ответ на речь Александра II (1858) писал в своей язвительной записке: «Рескрипт о освобождении только отвечал на давнишнее, так красноречиво выражавшееся в нашей новой истории желание одного образованного сословия России — дворянства. Только одно дворянство со времен Екатерины готовило этот вопрос и в литературе, и в тайных и не тайных обществах, и словом и делом. Одно оно посылало в 25 и 48 годах, и во все царствование Николая, за осуществление этой мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы и, несмотря на все противодействие правительства, поддержало эту мысль в обществе и дало ей созреть так, что нынешнее слабое правительство не нашло возможным более подавлять ее.
Ежели некоторые в порыве излишнего восторга, а другие избрав великое дело поприщем подлой лести, умели убедить государя императора в том, что он 2-й Петр I и великий преобразователь России и что он обновляет Россию и т. д., то это совершенно напрасно, и ему надо поспешить разувериться; ибо он только ответил на требование дворянства, и не он, а дворянство подняло, развило и выработало мысль освобождения... Поэтому поощрять его обещаньем благодарности и высоким доверием — неприлично, укорять его в медленности — несправедливо, а угрожать тем, что его порежут за то, что правительство слабо и нелепо, и давать чувствовать, что это было бы не худо, — нечестно и неразумно... Ежели бы, к несчастью, правительство довело нас до освобождения снизу, а не сверху, по остроумному выражению государя императора, то меньшее из зол было бы уничтожение правительства» (5, 267, 268, 270). Это тон человека, чувствующего свою кровную связь с декабризмом и имеющего особые исторические счеты с правительством. Боязнь крестьянской революции, которой окрашены и цитированное выше письмо Толстого к Блудову, и эта записка, и «Война и мир» (Богучаровский бунт), и даже трактат «Так что же нам делать?» (угроза «рабочей революции с ужасами разрушений и убийств») ведет к тому страху перед «новой пугачевщиной», который был характерен для декабристов и их последователей. Толстой избавился от этого страха тем, что сам перешел на позиции патриархального крестьянства. Так в его лице завершился процесс эволюции и своего рода перерождения декабристской идеологии. Этим, между прочим, объясняется его длительный (с 1856 г.) и повышенный интерес к декабризму и его неудачи в попытках написать роман на эту тему.
5
Итак, позиция аристократа-помещика и писателя окончательно оставлена и заменена позицией отрекшегося от культуры богатых классов (в том числе и интеллигенции) учителя жизни. Толстой выступает от лица крестьянства, видя в нем источник настоящей мудрости и опору для спасения человечества. В книге «Так что же нам делать?» он решительно утверждает, разрубая все узлы и увлекаясь пафосом нигилизма: «Все, что мы называем культурой: наши науки и искусства, усовершенствования приятностей жизни, — это попытки обмануть нравственные требования человека; все, что мы называем гигиеной и медициной, — это попытки обмануть естественные, физические требования человеческой природы». В особом примечании Толстой окончательно отмежевывается от своих прежних советчиков и учителей: «За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миросозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, — это были два живущие теперь замечательные человека, оба всю свою жизнь работавшие мужицкую работу, — крестьяне Сютаев и Бондарев» (25, 386).
Прежние советчики Толстого имели все основания назвать новую его позицию уже не «чудачеством», а прямо «юродством». Но Толстого не могла смутить эта характеристика: он готов был, пожалуй, признать ее правильной. В позиции и поведении Толстого последних лет были характерные для исконного, древнерусского патриархального крестьянства элементы «юродства», уживающиеся рядом с цепкой хозяйственностью и собственничеством. Отказ от всех благ жизни, недоверие к «разуму», отрицание всего, кроме «нравственных законов», обличение всяческой лжи, угроза грядущей гибелью, проповедь «непротивления злу насилием» — все это типично для философии деревенских «юродивых», противостоявшей и напору власти, и давлению помещиков, и обману церкви. В этой философии находило себе выражение то историческое отчаяние, которое не раз овладевало русским крестьянством. Это то самое сочетание силы с бессилием, о котором писал Ленин, характеризуя Толстого, с одной стороны, как гениального художника, а с другой — «помещика, юродствующего во Христе» (17, 209).
«С одной стороны, века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости. Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать наместо полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян, — это стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному «христианскому анархизму», как оценивают иногда «систему» его взглядов.
С другой стороны, крестьянство, стремясь к новым формам общежития, относилось очень бессознательно, патриархально, по-юродивому к тому, каково должно быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе свободу, какие руководители могут быть у него в этой борьбе, как относится к интересам крестьянской революции буржуазия и буржуазная интеллигенция, почему необходимо насильственное свержение царской власти для уничтожения помещичьего землевладения. Вся прошлая жизнь крестьянства научила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа на все эти вопросы» (17, 211),
Именно накануне социальных катастроф и «неизбежного переворота» (так называлась одна из последних «прокламаций» Толстого) это органическое противоречие русского патриархального крестьянства должно было особенно обостриться и найти себе выражение уже не в форме кустарной деревенской политики и философии, а в форме фомкой, страстной, несколько даже истерической, но насыщенной мыслью и опытом проповеди на весь мир. Это дело и взял на себя Толстой, подготовленный к нему всем ходом своей жизни, — всеми своими противоречиями и «изменами».
Философия «юродства» назревала у Толстого давно — рядом с нарастающим протестом против буржуазного уклада жизни, правительственной политики и поведения интеллигенции. Это сочетание достаточно ярко окрасило собою рассказ «Люцерн»: бунт против общественного лицемерия и жестокости сменяется в конце этого рассказа примирением с противоречиями действительности и проповедью будущего «непротивления»: «Нет, сказалось мне невольно, ты не имеешь права жалеть о нем (уличном певце. — Б. Э.) и негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вон он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит в блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой, благоуханной ночи, в душе его нет ни упрека, ни злобы, ни раскаянья. А кто знает, что делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми, высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека? Бесконечна благость и премудрость Того, Кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, беззаконно пытающемуся проникнуть Его законы, Его намерения, только тебе кажутся противоречия». Самый образ уличного певца получает здесь черты русского «юродивца», забредшего на швейцарский курорт. Те же черты повторены в рассказе «Альберт». Эти зародыши «юродства» сказываются и в педагогических статьях 1861-1862 годов; недаром Чернышевский, прочитав номер «Ясной Поляны», сравнил Толстого с полуграмотным заседателем уездного суда, очень добрым и честным человеком, который вздумал быть законодателем. Образ Платона Каратаева представляет собой уже точную зарисовку русского деревенского юродивца — с характерным для него поведением и даже манерой речи; но образ этот дан не просто как тип, а как своего рода идеал, которым восторгаются и Пьер и сам автор «Войны и мира». Это был прямой шаг к выработке новой позиции. В 1877 году, отвечая Страхову на его утешения, Толстой признается: «Мучительно и унизительно жить в совершенной праздности и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Все это пошло и ничтожно. Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым — т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда» (62, 347). Так в конце концов сформулирован самим Толстым идеал его поведения накануне объявленного всему миру отречения от прежней жизни. Если это замечательное признание поставить радом с почти одновременным признанием, сделанным в письме к А. А. Толстой («с высоты этих пирамид сорок веков смотрят на меня, и... весь мир погибнет, если я остановлюсь» — 62, 130), то перед нами встает во весь размах своих исторических противоречий фигура Толстого, соединяющая в себе героику вождя с «непротивлением» юродивого. Этому кричащему противоречию «позволила и велела существовать» история — и оно осталось до последних дней жизни Толстого, выражая собой и силу и слабость его позиций.
Героика Толстого, определившая его поведение в последний период жизни, носила трагический характер, — и это не могло быть иначе, поскольку Толстой был «личностью, завершающей целый период истории своей страны». Со стороны могло казаться, что он нашел себе наконец и место и дело, — так по крайней мере думали многочисленные «толстовцы», кровно заинтересованные в том, чтобы их учитель был непоколебим и тверд. В действительности место и дело Толстого было зыбким, как и самая почва, на которой он стоял. В чем, в сущности, кроме проповеди личного совершенствования, могла состоять его деятельность при тех предпосылках, которые были развернуты в его учении? А жизнь и история шли своим ходом, ставя перед людьми новые конкретные задачи и новые общественные противоречия. Самое крестьянство менялось, все больше теряя свой патриархальный облик под давлением быстро развертывающихся событий. Не случайно вышло так, что главные свои силы в последние годы Толстому пришлось потратить на борьбу не столько с общественным злом, сколько с собственной семьей. Оказалось, что история, заставив Толстого отречься от прежней жизни и показать все зло старой России, больше ничего от него не требовала. Уже в 1896 году в его дневниках появляются записи, свидетельствующие о трагических муках и неразрешенных противоречиях: «Вчера шел в Бабурино и невольно (скорее избегал, чем искал) встретил 80-летнего Акима пашущим, Яремичеву бабу, у которой в дворе нет шубы и один кафтан, потом Марью, у которой муж замерз и некому рожь свозить, и морит ребенка, и Трофим и Халявка, и муж и жена умирали, и дети их. А мы Бетховена разбираем, и молился, чтобы он (бог) избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь» (53, 102). Что это — жалобы на невозможность изменить свой образ жизни, на зависимость от семьи? Но что бы сделал Толстой вне своей семьи для этого Акима, для этой Яремичевой бабы и Марьи? Благотворительность он сам давно отверг, как бессмысленное и вредное дело, а учение о «царстве божьем внутри нас» и о «непротивлении злу насилием» помогло бы этим несчастным мужикам еще меньше, чем обыкновенная благотворительность. Или это просьба о смерти? В начале этого же года Толстой, жалуясь на «упадок духа», обратился к богу с замечательной речью, требуя от него особого к себе внимания и диктуя ему свои условия: «Отец моей и всякой жизни! Если дело мое кончено здесь — как я начинаю думать — и испытываемое мною прекращение духовной жизни означает совершающийся переход в ту, иную, жизнь, что я уже начинаю жить там, а здесь понемногу убирается этот остаток, то укажи мне это явственнее, чтобы я не искал, не тужился. А то мне кажется, что у меня много задуманных хороших планов, а сил нет не только исполнить все — это я знаю, что не нужно думать, — но хоть делать что-нибудь доброе, угодное Тебе, пока я живу здесь. Или дай мне силы работать с сознанием служения Тебе. Впрочем, да будет Твоя воля. Если бы только я всегда чувствовал, что жизнь только в исполнении Твоей воли, я бы не сомневался. А что сомнение от того, что закусываю удила в не чувствую поводьев» (58, 80). Это жалобы человека, чувствующего не только приближение смерти, но и разобщение с историей, что для Толстого было равносильно смерти. Бог, как водится, ничего не ответил на это трогательное старческое послание. Наоборот, все кругом (и семейная драма больше всего) показывало, что Толстой покинут на самого себя. Тогда, «закусив удила», Толстой двинулся к тому делу, от которого совсем было отошел, считая его «пустяком», — к художественной работе.
После 1886 г., то есть после окончания книги «Так что же нам делать?», художественная работа почти со всем остановилась. Несколько страниц этой книги были отведены разоблачению «людей умственного труда», и в частности, деятелей искусств. Здесь Толстой дал полную волю своему нигилизму. Грозя вопросом, который со временем поставит рабочий человек перед людьми умственного труда, Толстой писал: «Чем удовлетворим его художественным требованиям? Пушкиным, Достоевским, Тургеневым, J1. Толстым, картинами французского салона и наших художников, изображающих голых баб, атлас, бархат, пейзажи и жанры, музыкой Вагнера или новейших музыкантов? Ничто это не годится и не может годиться, потому что мы с своим правом на пользование трудом народа и отсутствием всяких обязанностей в нашем приготовлении духовной пищи потеряли совсем из виду то единственное назначение, которое должна иметь наша деятельность... Мы произвели пропасть людей и великих писателей, разобрали этих писателей по косточкам и написали горы критик, и критик на критики, и критик на критики критики; и картинные галереи собрали, и школы искусств разные изучали до тонкости; и симфонии и оперы у нас такие, что уже нам самим трудно становится их слушать. А что мы прибавили к народным былинам, легендам, сказкам, песням, какие картины передали народу, какую музыку?.. Писатели, сочинители, казалось бы, не нуждаются в обстановке, в студиях, натуре, оркестрах и актерах; но и тут оказывается, что писателю, сочинителю, не говоря уже об удобствах помещения, всех сладостей жизни, для изготовления своих великих произведений нужны путешествия, дворцы, кабинеты, наслаждения искусствами, посещения театров, концертов, вод и т. п. Если сам он не наживет, ему дают пенсию, чтобы он лучше сочинял. И опять сочинения эти, столь ценимые нами, остаются трухою для народа и совершенно не нужны ему.
Что если разведется еще больше, чего так желают люди наук и искусств, таких поставщиков духовной пищи, и придется в каждой деревне строить студию, заводить оркестры и содержать сочинителя в тех условиях, которые считают для себя необходимыми люди искусств? Я полагаю, что рабочие люди зарекутся скорее никогда не видать картины, не слышать симфонии, не читать стихов или повестей, только бы не кормить всех этих дармоедов» (25, 350, 357—358, 361).
Естественно, что после таких инвектив Толстой должен был остановить свою художественную работу, — по крайней мере для того, чтобы объяснить себе и другим, что же такое настоящее искусство. Этой темой он начал заниматься уже в 1889 году, но работа не пошла: «Должно быть, слишком важный таинственный это предмет», — записал он тогда же в дневнике (50,82). Работа возобновилась в 1891 году, но снова остановилась: «Все перемарал, вновь написал и опять перемарал, и не могу сказать, чтобы подвинулся» (52, 5). Наконец, уже во время работы над «Воскресением», Толстой берется заново за эту тему и работает до конца 1897 года: вместо начатой когда-то статьи и получился целый большой трактат «Что такое искусство?». Однако записи в дневнике этого времени показывают, что вопрос об искусстве, в самой своей основе, остался для Толстого неясным и противоречивым. Главное сомнение было в том, следует ли признать две цели искусства (искусство — игра и искусство более высокое) или нет: сомнение характерное, потому что отрицательный ответ оправдывал отход самого Толстого от художественного творчества, а положительный явился бы толчком для его возобновления. Сначала преобладал отрицательный ответ, формулированный в записи от 20 октября 1896 года: «Главное же, что хотелось бы сказать об искусстве, это то, что его нет в том смысле какого-то великого проявления человеческого духа, в каком его понимают теперь. Есть забава, состоящая в красоте построек, в изваянии фигур, в изображении предметов, в пляске, в пении, в игре на разных инструментах, в стихах, в баснях, сказках, но все это только забава, а не важное дело, которому можно сознательно посвящать свои силы. Так всегда и понимал и понимает это рабочий, неиспорченный народ. И всякий человек, не удалившийся от труда и жизни, не может смотреть на это иначе» (53, 112—113). Потом точка зрения изменилась — оценка искусства повысилась. Интересно, что одновременно с этим изменением в дневнике появилась запись: «Боюсь, что тема об искусстве заняла меня в последнее время по личным эгоистическим скверным причинам» (53, 144). Под этими «скверными причинами» Толстой разумеет появившуюся у него сильнейшую тягу к художественному творчеству: кроме «Воскресения», явилась мысль написать повесть о Хаджи Мурате, — сюжет, никак не связанный с проповедью «непротивления» и даже прямо противоречащий ей. В конце концов вся работа над вопросом об искусстве была действительно необходима самому Толстому, чтобы осмыслить и утвердить его возвращение к художеству. Еще в 1891 году он записал в дневнике: «Стал думать о том, как бы хорошо писать роман de longue haleine[766], освещая его теперешним взглядом на вещи. И подумал, что я мог бы соединить в нем все замыслы, о неисполнении которых я жалею... Как бы я был счастлив, если бы записал завтра, что начал большую художественную работу. — Да, начать теперь и написать роман имело бы такой смысл. Первые прежние мои романы были бессознательное творчество. С Анны Карениной, кажется больше 10 лет, я расчленял, разделял, анализировал; теперь я знаю, что что, и могу все смешать опять и работать в этом смешанном» (52, 5—6). По окончании трактата об искусстве Толстой записал: «Моя работа над Искусством многое уяснила мне. Если бог велит мне писать художественные вещи — они будут совсем другие. И писать их будет и легче и труднее. Посмотрим» (5J, 169). После этого пошла работа над «Воскресением», «Отцом Сергием», «Живым трупом», «Хаджи Муратом» и пр.
Характерно, что в 1899 году, в период окончания работы над «Воскресением», Толстой высказал в письме к Д. Хилкову одну мысль об искусстве, не входившую в трактат и заново оправдывавшую его занятия художеством, как будто несовместимые с его главным делом: «Думаю, что как природа наделила людей половыми инстинктами для того, чтобы род не прекратился, так она наделила таким же кажущимся бессмысленным и неудержимым инстинктом художественности некоторых людей, чтобы они делали произведения приятные и полезные другим людям. Видите, как это нескромно с моей стороны, но это единственное объяснение того странного явления, что неглупый старик в 70 лет может заниматься такими пустяками, как писание романа» (72, 139). Толстой никак не хотел признать власть истории над собой, а между тем это она (а не природа) поставила его в такое сложное и парадоксальное положение, при котором ему, Льву Толстому, пришлось оправдываться и доказывать свое право на художественную работу!
Горький говорил в своих лекциях, что художественные произведения Толстого «в корне отрицают его религиозную философию»[767]. Действительно, «Воскресение» изображает царскую Россию с такой силой негодования, что роман выглядит сатирой и никак не соединяется с идеей «непротивления». Никак не соприкасается с этим учением и повесть «Хаджи Мурат», герой которой «отстаивает свою жизнь до последнего». Толстой явно любуется фигурой этого «разбойника», как бы забывая о всех своих моральных учениях и отдаваясь воспоминаниям о своей далекой молодости. Но есть среди старческих произведений Толстого несколько вещей, написанных на тему, прежде отсутствовавшую и появившуюся в связи с его новой позицией, — но не с его учением, а с тем идеалом «юродивости», о котором я говорил выше: это тема ухода от людей, отъединения от общества. «Отец Сергий», «Живой труп», «Корней Васильев», «Посмертные записки старца Федора Кузми- ча» — все это разные варианты одного образа, преследующего воображение Толстого: человека, бросающего общество, порывающего все привычные связи с ним и ведущего жизнь отщепенца, юродивого. Настойчивость этой темы и патетический характер ее разработки указывают на глубокую связь ее с тем, что переживал Толстой в последние годы своей жизни. В этих вещах отражается усталость Толстого от собственных противоречий и учений. Это уже творчество человека, смотрящего в глаза смерти. Горький пишет в своих воспоминаниях: «Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, — даже и в дневнике своем, — молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это "нечто" лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и JI. А. Сулержицко- му; мне оно кажется чем-то вроде "отрицания всех утверждений" — глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью»27. В другом месте воспоминаний Горький говорит, в сущности, о том же: «Удивляться ему — никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже — в одной комнате. Это — как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью»[768].
Горький почувствовал тот исторический трагизм, которым окрашена старческая героика Толстого — гениального человека, «завершающего целый период истории своей страны». Самый уход Толстого из Ясной Поляны был уходом не только от семьи, но и от всего того, что он делал здесь своими руками в течение шестидесяти с лишком лет, — уходом от самого себя и от истории, которая поступила с ним почти так, как Шекспир с королем Лиром. Недаром он ненавидел этот образ так, как можно ненавидеть только двойника.
Ленин посмеялся над либеральными витиями, провозгласившими Толстого после его смерти «величавой... мощной, вылитой из единого чистого металла, фигурой»; он спокойно ответил на эту пышную фразу: «Не из единого, не из чистого и не из металла отлита фигура Толстого» (20, 94), Но характерно, что он не возразил против двух определений: величавая и мощная. Историческую мощь и подлинную героику толстовского творчества и поведения Ленин чувствовал и признавал: «Какой матерый человечище!»
ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОЙ ПАЛОЧКЕ
1
Некоторые впечатления детства обладают такой силой, что следы от них сохраняются в памяти до конца жизни. По этим следам, как по остаткам древних надписей, можно иной раз восстановить факты, имеющие историческое значение.
Лев Толстой запомнил на всю жизнь, как однажды старший брат, Николенька, объявил младшим, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми «муравейными братьями»; тайна эта написана на зеленой палочке, а палочка зарыта в лесу, у дороги, на краю оврага. Ни- коленьке было тогда десять лет, Льву — пять. Прошло семьдесят лет, в Толстой рассказал в «Воспоминаниях» эту полюбившуюся ему детскую утопию, ставшую для него своего рода символом веры: «Как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает»[769].
В памяти Толстого сохранилась, конечно, только самая основа Николенькиной легенды; в полном виде легенда эта была, наверно, и таинственнее, и занимательнее, и ближе к детским интересам и представлениям. Толстой говорит о Николеньке: «Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории... без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка» (34, 386). Николенька сумел уверить братьев в действительном существовании зеленой палочки с написанной на ней тайной, а игра в «муравейное братство» стала одной из любимых: «...помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед теми удивительными вещами, которые нам открывались. В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывавшаяся с ним и долженствующая осчастливить всех людей» (34, 387).
Откуда же взял Николенька сюжет для этой замысловатой легенды-утопии? Что означают и чему соответствуют ее образы? Эти вопросы возникли и у Толстого: «Как теперь я думаю, — говорит он в «Воспоминаниях», — Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приема в их орден, вероятно слышал о Моравских братьях и соединил все это в одно в своем живом воображении и любви к людям, к доброте...» (34, 387).
Предположение Толстого, что Николенька «наслушался» взрослых или присутствовал при их беседах, поддерживается «Войной и миром» — той сценой в конце романа, где Николенька Болконский слушает рассказ Пьера о последних событиях в Петербурге. Эта сцена написана явно по следам детских воспоминаний о брате: «Кудрявый болезненный мальчик, с своими блестящими глазами, сидел никем незамечаемый в уголку, и только поворачивая кудрявую голову на тонкой шее, выходившей из отложных воротничков, в ту сторону, где был Пьер, он изредка вздрагивал и что-то шептал сам с собою, видимо, испытывая какое-то новое и сильное чувство».
Вот под таким же впечатлением Николенька Толстой и мог сочинить легенду о зеленой палочке и «муравейных братьях». Он, видимо, часто оказывался в обществе взрослых и пристрастился к этому времяпрепровождению, тем более что после смерти матери (ему было тогда семь лет) домашний присмотр за ним ослабел. Из услышанных рассказов он талантливо лепил всевозможные фантастические истории, которыми увлекал и «морочил» (по выражению Толстого) младших братьев. Он обладал несомненным писательским дарованием: «Тургенев говорил про него очень верно, — вспоминает Толстой, — что (он) не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем» (34, 386).
Вполне правдоподобно, что легенда о зеленой палочке была сочинена Нико- ленькой на основе услышанной им беседы взрослых; но о чем шла эта беседа? Толстой высказал предположение, что Николенька «наслушался о масонах» и о таинственных обрядах приема в их орден; значит, он считал, что отец был связан с масонством. Однако ниоткуда не видно, чтобы отец и его друзья увлекались религиозно-обрядовой стороной масонства: как и Пьер Безухов, Николай Ильич Толстой занимался масонством лишь в той мере, в какой оно могло тогда способствовать просвещению общества. Он не проявлял интереса к религиозным вопросам, но увлекался политикой и историей; естественно предположить, что темой взволновавшей Николеньку беседы были политические события — в том роде, как это описано в «Войне и мире».
Николенька Болконский слышал разговор Пьера с Николаем Ростовым и Денисовым в 1820 году (бунт в Семеновском полку, Аракчеев и пр.) а Николенька Толстой оказался свидетелем каких-то бесед взрослых в 1832 или 1833 году. Кто же были эти взрослые и о чем они беседовали?
2
Толстой имел довольно смутное представление об отце. Иначе и быть не могло. Отец умер внезапно в 1837 году, когда Толстому было всего девять лет (мать умерла в 1830 году), опекавшие его потом «тетеньки» мало что могли рассказать об отце (особенно о его молодости), кроме семейных и бытовых подробностей. В одном наброске к «Казакам» Толстой говорит об отце Оленина: «Отец умер, когда еще ребенок не успел оценить его. И когда старые друзья отца встречались с сыном и, взяв его за руку и глядя ему в лицо, говаривали: "как я любил вашего отца! Какой славный, отличный человек был ваш батюшка!" — мальчику казалось, что в глазах друзей проступали слезы, и ему становилось хорошо. Отец так и остался для сына туманным, но величаво мужественным образом простого, бодрого и всеми любимого существа» (6, 246). Это несомненный мемуар, рисующий действительное представление об отце, как оно сложилось у Толстого в итоге юности (набросок сделан в 1858 году). В дальнейшем образ отца несколько уточнился, — вероятно, благодаря воспоминаниям друзей, с которыми сохранилась семейная связь.
В «Воспоминаниях» Толстой говорит об общественно-политической позиции отца: «Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образованных людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14 и 15 годов, он был не то что теперь называется либералом, а просто, по чувству собственного достоинства, не считал себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае» (34, 356—357). Толстой не хочет называть отца либералом, потому что к концу XIX века это слово стало обозначать политическую партию. Однако отказ от службы «по чувству собственного достоинства» нельзя считать просто личным капризом: по тому времени это было выражением определенной гражданской позиции. Так вели себя оппозиционеры, «либералисты» — люди, связанные с декабристским движением. Борьба за независимость взглядов и поведения была их главной заботой. Об этом говорит Пьер в конце «Войны и мира», когда он рассказывает о положении в Петербурге: «Все молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняют женщины, другого почести, третьего тщеславие, деньги, и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остается».
Николай Ильич Толстой принадлежал к этой дворянской оппозиции[770]: именно поэтому он, бывший кавалергард и герой Отечественной войны, бросил военную службу (как делали тогда многие из будущих декабристов) и замкнулся в деревне. Толстой говорит; «Дома отец, кроме занятия хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоящую по тому времени в французских классиках, исторических и естественно-исторических сочинениях — Бюфон, Кювье» (34, 356). В начале 20-х гг. это было типично для оппозиционно настроенной молодежи. В «Горе от ума» Скалозуб с возмущением говорит о своем двоюродном брате, вместе с которым они «отличились» в 1813 г.:
Но крепко набрался каких-то новых правил.
Чин следовал ему: он службу вдруг оставил,
В деревне книги стал читать.
Так повел себя и отец Толстого. Это не значило, что он решил уйти от людей, от общества; он ушел только от петербургского правительства, от чиновников, — «по чувству собственного достоинства». Он окружил себя родственниками и друзьями.
Толстой вспоминает: «События в детской деревенской жизни были следующие: поездки отца к Киреевскому и в отъезжее поле, рассказы об охотничьих похождениях, к которым мы, дети, прислушивались, как к важным событиям. Потом — приезды моего крестного Языкова с его гримасами, трубкой, лакеем, стоявшим за его стулом во время обеда. Потом приезды Исленьева с его детьми, одна из которых стала потом моей тещей (то есть мать Софьи Андреевны, Любовь Александровна Берс. — Б. Э.). Потом приезды Юшкова, который всегда привозил что-нибудь странное: карикатуры, кукол, игрушки... Еще памятные впечатления: приезд Петра Ивановича Толстого, отца Валериана, мужа моей сестры... Другое — приезд его брата — знаменитого американца Федора Толстого» (34, 392).
Как видно, Ясная Поляна была в 30-х годах местом, куда охотно приезжали гостить и соседи по имению, и дальние родственники, и знакомьте, но только люди «независимые» по положению и взглядам. Толстой говорит об отце: «Он не только не служил нигде во времена Николая, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство. За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником» (34, 357).
Из воспоминаний Толстого видно не только то, что в Ясную Поляну часто приезжали гости, но и то, что эти приезды были событиями в жизни детей: дети с любопытством «прислушивались» к рассказам и беседам взрослых — именно так, как это описано в «Войне и мире». Отец женился и уединился в деревне в 1824 году; о событиях 1825 года и о последовавших казнях и ссылках он мог знать только от приезжавших в Ясную Поляну друзей. Кое-что мог рассказать, например, упомянутый Толстым А. М. Исленьев, бывший когда-то адъютантом генерала М. Ф. Орлова и знавший многих декабристов. Но еще больше, подробнее и основательнее мог и должен был рассказать Н. И. Толстому один из самых близких его друзей — Павел Иванович Колошин, приезжавший в Ясную Поляну с женой (родственницей Толстых) и детьми[771].
П. И. Колошин был не просто «фрондером» (как это можно сказать об А. М. Ис- леньеве), а серьезным декабристом (как и его брат Петр Иванович), членом Союза благоденствия, принимавшим деятельное участие в составлении «Зеленой книги» (устава Союза благоденствия). Друг И. И. Пущина, В. П. Зубкова и С. Н. Кашкина, он принадлежал к числу умеренных декабристов «Муравьевской группы»; ближайшей и важнейшей целью тайного общества он считал «нравственное и умственное образование», а «содействие к получению конституции» — целью отдаленнейшей, нужной и возможной только после того, как поднимется умственный и нравственный уровень народа. Такая позиция была, наверно, по душе и Н. И. Толстому: по его поведению в годы 1819—1824 видно, что он был близок к правым декабристам. Как бы следуя указаниям «Зеленой книги», он бросил военную службу и занял скромную должность воспитателя в военно-сиротском училище.
В декабре 1825 года Колошин был арестован, а в июле 1826 года выслан в сельцо Смольново, Владимирской губернии, под надзор полиции. Общение его с Н. И. Толстым, таким образом, прервалось, но ненадолго: в 1831 году он уже получил разрешение приехать в Москву для лечения, а затем и для постоянного жительства. Можно не сомневаться, что скоро после этого, то есть в 1832 или в 1833 году, Ко- лошин приехал в Ясную Поляну повидать своего друга после семилетней разлуки. Это были, конечно, дни больших радостей и волнений для всех жителей яснополянского дома, вплоть до детей.
Колошин, конечно, рассказывал Н. И. Толстому о судьбе декабристов; как человек светского круга, он, приехав в Москву, мог узнать подробности следствия и суда над ними. Естественно, что друзья, обсуждав создавшееся положение, говорили и о «Зеленой книге», и о конституции Никиты Муравьева, и о «Русской правде» Пестеля как о трех важнейших документах декабристской эпохи. В связи с этим Колошин, вероятно, рассказал интересную историю поисков рукописи «Русской правды», содержавшей основной закон будущего Российского государства. Сначала следственные власти искали эту рукопись в зеленых портфелях, в которых (как было сказано в доносе) Пестель хранил все важные бумаги; там ее, однако, не оказалось. В дальнейшем выяснилось, что рукопись зарыта в земле — в канаве у села Кирнасовки. В этой канаве рукопись «Русской правды» была в конце концов найдена и доставлена Николаю I.
Допустим, что Николенька слышал хотя бы часть беседы Колошина с отцом: слышал о «Зеленой книге» и зеленых портфелях (зеленый цвет был у декабристов цветом свободы), о правде, зарытой в землю, о братьях Муравьевых (о них Колошин говорил с особым уважением). Это должно было произвести на него огромное впечатление — не меньшее, чем то, какое произвел рассказ Пьера на Николеньку Болконского: «Когда все поднялись к ужину, Николенька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами... Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время разговора...». Вот так получилось и с Нико- ленькой Толстым. Из разговора Колошина с отцом он понял, что есть люди, которые знают тайну, как избавить людей от зла, «сделать их счастливыми»; они написали правду об этом и зарыли ее в землю. Все было готово для создания легенды, оставалось дать ход воображению. Из запаса детских игр и сказок явилась палочка- выручалочка; она оказалась зарытой в землю, но с ясным следом от рассказа о рукописи: на палочке написана тайна, как сделать людей счастливыми. Братья Муравьевы превратились в «муравейных братьев».
Так история «Русской правды» послужила основой для создания детской легенды о зеленой палочке, настолько поразившей воображение пятилетнего Льва Толстого, что он запомнил ее на всю жизнь и даже просил похоронить себя на том месте, где, по словам Николеньки, была зарыта эта палочка. При скудости материалов, относящихся к детству Толстого и к жизни его родителей, эта легенда (если верна сделанная здесь расшифровка) является любопытным свидетельством о связи его отца с декабризмом. Интерес Николеньки к вопросу о том, как сделать людей счастливыми, мог образоваться только в атмосфере постоянных бесед и споров на социально-исторические и политические темы; в этой атмосфере формировалось детское сознание Льва Толстого.
О ВЗГЛЯДАХ ЛЕНИНА НА ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛСТОГО
Прошло уже почти пятьдесят лет со времени появления в печати статей Ленина о Толстом, а можно ли сказать, что они до конца продуманы и изучены? А. В. Луначарский еще в 1932 году утверждал: «Статьи Ленина о Толстом нуждаются в особенно пристальном рассмотрении...»[772]. За протекшие с тех пор годы написано об этих статьях много, но изучение ленинских статей нередко сводилось к их цитированию, без глубокого анализа существа вопроса.
Статьи Ленина о Толстом кажутся простыми (как все, что писал Ленин), потому что в них нет никакого словесного тумана, никакой «академической» фразеологии; однако по мыслям они сложнее многих монографических сочинений. За каждой из ленинских статей стоят большие проблемы русской истории и русской революции.
История дала Толстому право и силу довести до логического конца (то есть до обнажения всех противоречий) идеологию старой России, по выражению Ленина, — «России деревенской, России помещика и крестьянина»[773]. Естественно, что вождь рабочего класса не мог пройти мимо такого явления, как Толстой, не мог не сказать свое слово о великом писателе. Это и сделано им в статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции», написанной в 1908 году, то есть при жизни Толстого.
Последнее обстоятельство существенно — не потому, что Толстой мог прочитать эту статью (он ее, конечно, не читал и даже не знал о ней)[774], а потому, что Ленин писал о своем современнике, о живом и действующем писателе, как бы беседуя и споря с ним. Надо вспомнить, что в годы 1905-1906 Толстой издал ряд статей и «обращений» по поводу революционных событий: «Об общественном движении в России», «Великий грех», «Конец века» (глава III — «Сущность революционного движения в России»), «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу», «О значении русской революции». Большинство этих сочинений появилось не только в русской, но и в заграничной печати (в изданиях «Свободного слова»). Летом 1908 года было опубликовано знаменитое «Не могу молчать» — «одновременно в газетах почти всех цивилизованных стран», как сказано в предисловии И. Ладыжникова к берлинскому изданию. Нет сомнения, что Ленин знал эти произведения и, в частности, последнее из них. Об этом свидетельствуют слова, сказанные им в начале статьи, что Толстой «явно не понял» революции и «явно отстранился» от нее.
Заглавие «Лев Толстой, как зеркало русской революции» похоже на тезис. И действительно, слово «зеркало» употреблено здесь не в качестве обычной разговорной метафоры, а в роли термина, обоснованного пониманием искусства как особой формы «отражения» действительности[775]. Толстой назван здесь не «зеркалом жизни» вообще (так ради красноречия мог бы выразиться любой критик), а «зеркалом русской революции». Было бы ошибочно думать, что такого рода терминологией утверждается представление о художественном творчестве как о процессе механическом. В развернутом виде заглавие этой статьи звучало бы приблизительно так: «Лев Толстой как художник, сумевший отразить особенности русской крестьянской революции». Это и сказано в самом начале статьи как пояснение к заглавию: «И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях» (77, 206).
Таково первое и главное положение статьи; из него вытекает второе, касающееся вопроса о противоречиях Толстого: эта черта его произведений, с точки зрения Ленина, представляет собой «не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века» (17, 210). Ленин отбросил старую теорию «двойственности» Толстого как художника и моралиста и противопоставил ей теорию противоречий как исторического явления, отражающего особенности крестьянской революции. Тем самым вся проблема изучения Толстого была сдвинута с индивидуально-психологической почвы на историческую. До Ленина Толстой неизменно оказывался стоящим вне исторического процесса; Ленин преодолел это положение, показав, наоборот, полную историческую закономерность и необходимость появления Толстого с его «кричащими противоречиями». В позднейшей статье эта мысль приобрела еще большую ясность: «Противоречия во взглядах Толстого — не противоречия его только личной мысли, а отражение тех в высшей степени сложных, противоречивых условий, социальных влияний, исторических традиций, которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества в дореформенную, но дореволюционную эпоху» (20, 22).
Статья «Лев Толстой, как зеркало русской революции» была написана в 1908 году в связи с 80-летием Толстого, как ответ на юбилейную прессу, которая была «до тошноты переполнена лицемерием». В течение ноября и декабря 1910 года в печати появились три новые статьи Ленина о Толстом, а в феврале 1911 года — еще одна. Мало того — 18 января 1911 года Ленин прочитал в Париже лекцию о Толстом: «Вчера читал здесь реферат о Толстом, — может быть, поеду с этим рефератом по Швейцарии в объезд», — писал он матери 19 января (55, 319). В объезд по
Швейцарии Ленин не поехал, но само это намерение показывает, что вопрос о Толстом возник не только в связи с его смертью, но и как важная общественно- политическая тема.
Рукописных следов от парижского реферата, к сожалению, не осталось (а ведь он должен был бы занять не менее печатного листа!); есть только найденная в архиве департамента полиции выписка из письма некоего А., слушавшего этот реферат: «Недавно был реферат Ленина "Толстой и русское общество", — писал этот А., — в котором Ленин характеризовал Толстого как выразителя эпохи подготовки революции и эпохи революционных настроений до выступления революционного класса, отметил революционную роль его как критика частной собственности на землю, брака современного и реакционность его взглядов на развитие капитализма, реакционный характер его религии и пр.»[776]. Благодаря этой выписке мы знаем по крайней мере заглавие реферата и некоторые его тезисы. Видимо, реферат Ленина был распространенным изложением статьи, появившейся 29 ноября 1910 г. в газете «Социал-демократ» под заглавием «Л. Н. Толстой». Первоначальное ее заглавие было «Значение Л. Н. Толстого в истории русской революции и русского социализма». Здесь сказано, что Толстой осветил в двоих произведениях «эпоху подготовки революции», здесь говорится и о его непреклонном отрицании частной поземельной собственности и о том, что в противоречиях Толстого отражается психология «различных слоев русского общества»; здесь же, наконец, указано и на то, что Толстой обнаружил в своих произведениях «непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса» и что борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, а обличение капитализма — с «совершенно апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет международный социалистический пролетариат» (20, 19-22; курсив мой. — Б. Э.).
Надо вспомнить еще об одном публичном выступлении Ленина, посвященном вопросу о Толстом, выступлении, о котором почему-то не говорится ни в работах о Ленине, ни среди дат его жизни и деятельности. Сохранилось донесение заведующего заграничной агентурой в Париже от 2 февраля 1912 года, где сказано: «По полученный подполковником Эргардтом от агентуры сведениям, 31 января с. г. в Лейпциге Ленин прочел реферат на тему: "Историческое значение JI. Н. Толстого" Выручено было с реферата: за продажу билетов 84 марки, продано литературы "Социал-демократ" и "Звезда" на 14 марок и в пользу политических ссыльных и каторжан собрана 21 марка»[777] (курсив мой. — Б. Э.). В январе 1912 г. Ленин действительно жил некоторое время в Лейпциге и участвовал в совещании членов вновь избранного на Пражской партийной конференции ЦК с депутатами Государственной думы (большевиками). Партийная работа не помешала Ленину выступить с публичной лекцией о Толстом — признак того, что он считал эту тему существенной и актуальной.
Со времени первой статьи прошло больше трех лет; за эти годы многое изменилось в русской жизни. Если в 1908 г. главной задачей Ленина было показать, что все творчество и вся деятельность Толстого представляют собой верное отражение «тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции...» (77, 210), то в следующие годы на первый план выдвинулась другая проблема, получившая важный жизненный смысл. Первый намек на эту проблему был сделан в статье «Jl. Н. Толстой» (первоначально — «Значение JI. Н. Толстого в истории русской революции и русского социализма»), там, где Ленин говорит, что Толстой «сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования». Дальше сказано, что непосредственной задачей революции 1905 года было свержение царского самодержавия и разрушение помещичьего землевладения, а не свержение господства буржуазии. «В особенности крестьянство не сознавало этой последней задачи, не сознавало ее отличия от более близких и непосредственных задач борьбы» (20, 20). А еще дальше Ленин говорит о Толстом, что «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски-образованному писателю» (20, 21). Это вовсе не значит, будто бы Ленин хочет снизить писательскую «квалификацию» Толстого — перевести его из ранга «европейски-образованных» в другой, более низкий ранг. Смысл этих слов иной: при всей своей европейской образованности Толстой в вопросе о кризисе рассуждает как наивный крестьянин, потому что он — «зеркало» крестьянской революции. Тем самым не только противоречивость Толстого, но и «наивность» его учений, казавшаяся просто личным свойством его ума, получила историческое обоснование.
Развивая свои мысли о социальной природе учений Толстого, Ленин во второй статье определяет их с большой исторической точностью: в этих учениях отразилась стихийность крестьянского революционного движения со всеми ее сильными и слабыми сторонами. Слабые стороны этого движения заключались (с точки зрения Ленина) в его недостаточной сознательности. В третьей статье («Л. Н. Толстой и современное рабочее движение») Ленин говорит, что критика Толстого отражает перелом во взглядах миллионов крестьян: «Толстой отражает их настроение так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, "непротивление злу", бессильные проклятья по адресу капитализма и "власти денег" Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого» (20, 40). Наконец, в четвертой статье («Толстой и пролетарская борьба»), которая отличается крайним лаконизмом (одна печатная страница) и написана в стиле тезисов, Ленин еще раз и уже совершенно ясно формулирует свою мысль: «Чья же точка зрения отразилась в проповеди Льва Толстого? Его устами говорила вся та многомиллионная масса русского народа, которая уже ненавидит хозяев современной жизни, но которая еще не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними». И дальше — о том, что крестьянская масса, с одной стороны, показала в революции, «как велико в ней стихийное стремление освободиться...», а с другой — «что в своей ненависти она недостаточно сознательна...» (20, 70).
Это утверждение и лежит в основе ленинских статей 1910 г. как тема, выдвинутая самой жизнью, самой историей, как одна из важных и сложных проблем революционного движения. Известно, что вопрос о соотношении стихийности и сознательности был поставлен Лениным еще в 90-х годах, в связи с организацией русской социал-демократической партии. Поэтому статьи Ленина о Толстом нельзя изучать особняком: они должны рассматриваться в общем контексте ленинских работ этого времени как звенья одной логической цепи. Ленин поступил в отношении Толстого так, как поступает ученый, сделавший важное открытие или построивший новую общую теорию: анализируя противоречия Толстого, Ленин применил свое учение о революции, опираясь на те конкретные выводы относительно роли стихийности и сознательности, к которым он пришел после революции 1905 года.
Вопрос о помощи, которую должна оказать партия в деле развития классового самосознания рабочих, был поднят Лениным еще в 1895-1896 гг. Так, в «Проекте и объяснении программы социал-демократической партии» он утверждал, что наступило время помочь рабочим перейти от первоначальной экономической борьбы (когда вражда против капитала выражалась только «в желании отомстить капиталистам») к новой стадии — к борьбе политической, планомерной (2, 102). В следующие годы вопрос о влиянии партии на рабочее движение становится все более очередным и острым — и Ленин говорит о нем: в статьях «Наша ближайшая задача» и «О стачках» (1899). В заявлении от редакции «Искры» (1900) Ленин уже решительно утверждал: «Кто понимает социал-демократию» как организацию, служащую исключительно стихийной борьбе пролетариата, тот может удовлетвориться только местной агитацией и "чисто рабочей" литературой. Мы не так понимаем социал-демократию...» (4, 359). В том же номере «Искры» была напечатана статья Ленина «Насущные задачи нашего движения»; здесь из ряда общих теоретических положений сделан практический вывод: русская социал-демократия должна «внедрить социалистические идеи и политическое самосознание в массу пролетариата и организовать революционную партию, неразрывно связанную с стихийным рабочим движением» (4, 374).
Так постепенно определяется и оформляется проблема соотношения стихийности и сознательности — рабочей массы и революционной партии. В 1901 г. Ленин пишет статью «Беседа с защитниками экономизма», в которой полемизирует с авторами полученного «Искрой» письма. Ленин говорит: «Основная ошибка авторов письма — совершенно та же, в какую впадает и "Раб. дело" (см; особенно № 10). Они путаются в вопросе о взаимоотношении между "материальными" (стихийными, по выражению "Раб. дела") элементами движения и идеологическими (сознательными, действующими "по плану"). Они не понимают, что «идеолог» только тогда и заслуживает названия идеолога, когда идет впереди стихийного движения... Чтобы действительно "считаться с материальными элементами движения", надо критически относиться к ним, надо уметь указывать опасности и недостатки стихийного движения, надо уметь поднимать стихийность до сознательности» (J, 363). Здесь уже виден корень позднейших взглядов Ленина на Толстого как на «зеркало» стихийного крестьянского движения.
От этой «Беседы» нити протягиваются прямо к книге «Что делать?» (1902), в которой Ленин, по его собственным словам, полемически исправлял экономизм. В предисловии Ленин называет вопрос о роли социал-демократии по отношению к стихийному массовому движению «основным». Вторая глава («Стихийность масс и сознательность социал-демократии») целиком посвящена анализу этого вопроса в полемике с экономистами. Ленин утверждает, что без помощи идеологов-руководителей у рабочих не могло быть социал-демократического сознания. «Оно могло быть принесено только извне» (б, 30). Полемизируя с преклонением перед стихийностью, Ленин говорит, что задача социал-демократии «состоит в борьбе со стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь рабочее движение с этого стихийного стремления тред-юнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко революционной социал-демократии» (6, 40).
Вопрос о соотношении стихийности и сознательности приобрел еще более важное жизненное значение в 1905 г., когда рядом с вопросом о рабочем движении встал во всей своей исторической сложности и остроте вопрос о крестьянской революции. В газете «Вперед» появляется статья Ленина «Пролетариат и крестьянство», которая вносит некоторые новые детали. Речь идет о двоякой задаче социал-демократии в отношении к крестьянскому движению: «Мы должны безусловно поддерживать и толкать его вперед, поскольку оно является революционно-демократическим движением. Мы должны вместе с тем неуклонно стоять на своей классовой пролетарской точке зрения, организуя сельский пролетариат, подобно городскому и вместе с ним, в самостоятельную классовую партию, разъясняя ему враждебную противоположность его интересов и интересов буржуазного крестьянства, призывая его к борьбе за социалистическую революцию, указывая ему, что избавление от гнета и нищеты лежит не в превращении нескольких слоев крестьянства в мелких буржуа, а в замене всего буржуазного строя социалистическим» (Р, 341-342). Отсюда уже образуется мост к статьям о Толстом, где речь идет о крестьянской буржуазной революции, непосредственной задачей которой было «разрушение помещичьего землевладения, а не свержение господства буржуазии».
В статье «Пролетариат и крестьянство» Ленин уже не подвергает теоретическому анализу вопрос о стихийности и сознательности, а говорит о конкретных задачах социал-демократической пропаганды в деревне — о путях внедрения социал-демократических взглядов в сознание революционного крестьянства. Это произошло, конечно, потому, что теоретическую сторону вопроса Ленин считал достаточно выясненной. Недаром в статье «Вторая Дума и вторая волна революции» (1907) он говорит уже совершенно уверенно, как об очередной практической задаче: «Мы с восторгом приветствуем приближающуюся волну стихийного народного гнева. Но мы сделаем все, от нас зависящее, чтобы новая борьба была как можно менее стихийной, как можно более сознательной, выдержанной, стойкой» (14, 383—384). Характерно и то, что в предисловии к сборнику «За 12 лет» (написанном в 1907 г.) Ленин не придает уже серьезного значения новой полемике меньшевиков по вопросу о создании кадров «профессиональных революционеров», вносящих сознательность и планомерность в стихийное движение масс. Уяснение этого вопроса он считает одним из тех завоеваний, которые «в свое время стоили борьбы, а теперь давно уже упрочились и сделали свое дело» (76, 101).
Таким образом, вопрос о роли стихийности и сознательности был не только подвергнут теоретическому анализу и обсуждению, но и проверен на практике, прежде всего на революции 1905 года. Оставалась еще важная задача — проверить этот анализ каким-нибудь историческим фактом, семена которого скрывались в освободительном движении XIX столетия, а всходы появились к началу XX в. Для такого рода научной проверки естественно было обратиться к крестьянскому движению после 1861 года: об исторической связи этого движения с событиями 1905 года Ленин неоднократно говорит в своих работах. При этом не менее естественно было сделать центром исследования вопрос об историческом значении Толстого, связавшего всю свою деятельность и всю свою судьбу с крестьянским движением и с гениальной силой отразившего его в своих произведениях.
Так была подготовлена (и ходом событий и логикой исследования) первая статья Ленина о Толстом — «Лев Толстой, как зеркало русской революции». В конце этой статьи есть очень важные слова, устанавливающие прямую связь толстовского учения с крестьянским движением 1905 года: «Толстой отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, — и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости. Историко-экономические условия объясняют и необходимость возникновения революционной борьбы масс и неподготовленность их к борьбе, толстовское непротивление злу, бывшее серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании» (77, 212-213). Это «толстовское непротивление злу» раскрылось в позднейших ленинских статьях как характерная для крестьянства недостаточность политической сознательности.
В статьях 1910 года вопрос об историческом значении Толстого был как будто исчерпан, по крайней мере в тех пределах, которые были поставлены задачами момента. Последняя из этих статей была уже кратким итогом сказанного раньше и имела практический, агитационный характер. Надо было сжато и ясно сформулировать свое несогласие с учением Толстого и заявить, что эпоха его влияния как идеолога старой России, «России деревенской», закончена. Это и было сделано в статье «Толстой и пролетарская борьба»: «Только тогда добьется русский народ освобождения, когда поймет, что не у Толстого надо ему учиться добиваться лучшей жизни, а у того класса, значения которого не понимал Толстой и который единственно способен разрушить ненавистный Толстому старый мир, — у пролетариата» (20, 71).
Но как могло случиться, что человек, по рождению и воспитанию принадлежавший «к высшей помещичьей знати в России», вдруг «порвал со всеми привычными взглядами этой среды» (20, 39-40)? Такого рода «кризисы» не могут быть проявлением просто индивидуальной, «совести» — они должны иметь историческую опору и подготовку; а если так, то каковы же те исторические корни, из которых в конце концов вырос идейный кризис Толстого, приведший его к крестьянству и сделавший «зеркалом» крестьянской революции?
Возможно, что Ленин и не обратился бы к этому вопросу, если бы он не возник сам собою в процессе борьбы с противниками. К концу 1910 года относится статья «Исторический смысл внутрипартийной борьбы в России», где Ленин говорит о меньшевиках и «ликвидаторах», в том числе о Потресове и его журнале «Наша заря», в котором, по словам Ленина, вполне оформилось ликвидаторское течение. В № 10 этого журнала (1910) были напечатаны статьи о Толстом М. Неведомского, В. Базарова и Е. Маевского. Ленин ответил им статьей «Герои "оговорочки"», которую начал словами: «Только что полученная нами десятая книжка журнала г. Потресова и К0, "Нашей Зари", дает такие поразительные образчики беззаботности, а вернее: беспринципности в оценке Льва Толстого, на которых необходимо немедленно, хотя бы и вкратце, остановиться» (20, 90), Помимо всего прочего, Ленина возмутила полнейшая внеисторичность этих статей, их научный дилетантизм. Таким субъективным и «беззаботным» в научном отношении истолкованиям Толстого надо было противопоставить подлинно историческую его оценку с углублением некоторых сторон, прежде почти не затронутых.
К этому обстоятельству прибавилось другое: наступил 50-летний юбилей крестьянской реформы. Ленин пишет статью «По поводу юбилея», где говорит о несомненной и очевидной связи между 1861 г. и событиями, разыгравшимися 44 года спустя. История вполне показала, что Россия развивается капиталистически и что иного развития у нее быть не может. «Но плох был бы тот марксист, — говорит далее Ленин, — который из этой же истории полувека не научился бы до сих пор тому, в чем состояло реальное значение этих облеченных в ошибочную идеологию полувековых стремлений осуществить "иной" путь для отечества» (20, 168). И Ленин определяет в общих чертах реальное историческое значение народнической идеологии. Аналогичная задача возникла и в отношении Толстого: хотя русскому народу надо было учиться добиваться лучшей жизни не у него, но тем более важно было понять реальное историческое значение его жизни и деятельности, теснее и глубже связать его с эпохой, чтобы нащупать его исторические корни. Размышления над вопросом о 19 февраля 1861 года и его последствиях (вплоть до вопроса о будущем России) оказались связанными с вопросом о Толстом так же, как раньше с этой темой были связаны размышления об итогах и перспективах 1905 года. Ленин пишет статью «Л. Н. Толстой и его эпоха», подчеркивая этим заглавием ее сугубо исторический характер.
Статья занимает всего четыре печатные страницы[778], но в ней поставлены проблемы, не затронутые в прежних статьях и подсказанные новой задачей: дать конкретно-историческую характеристику Толстого уже независимо от вопроса о соотношении стихийности и сознательности. Ленин говорит здесь и о раннем Толстом (о рассказе «Люцерн» и о статье «Прогресс и определение образования»), и об «Анне Карениной», и о том, что «толстовщина» в ее реальном историческом содержании является «идеологией восточного строя» и что Толстой, подобно народникам, «отвертывается от мысли о том, что «укладывается» в России никакой иной, как буржуазный строй». Здесь же окончательно сформулирована и точка зрения на учение Толстого, как наявление, порожденное периодом 1862-1904 годов, «эпохой ломки», которая могла и должна была породить это учение «не как индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени» (20, 101-103). Показать, что то или другое событие или явление не только могло, но и должно было быть — это и значит дать ему конкретно-историческую характеристику, найти его исторические корни, перенести его из категории индивидуальных или случайных в категорию закономерных и даже необходимых, неизбежных. Но статья этим не исчерпывается: опираясь на прочную историческую основу, Ленин обнаруживает новые черты и в самом содержании толстовского учения. Последняя страница статьи содержит ряд интереснейших соображений и проблем, открывавших новые перспективы в изучении Толстого.
Ленин говорит: «Учение Толстого безусловно утопично и, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова» (20, 103). Как следует понимать здесь слова «утопично» и «реакционно»?
Слово «утопично» употреблено здесь Лениным не в простом или обыденном смысле (как говорят про чьи-нибудь мечты или фантазии — «это утопия!»), а в его точном, научном значении: как видно из следующих слов, речь идет об утопическом социализме, о том, что учение Толстого представляет собой разновидность этого движения общественной мысли[779]. Но если так, то каким же образом и почему рядом со словом «утопично» стоит слово «реакционно»? Как можно назвать реакционным учение утописта-социалиста, каким, по словам Ленина, был Толстой? И что значат прибавленные к слову «реакционно» и, видимо, очень важные дополнительные слава «в самом точном и в самом глубоком значении этого слова»?
Некоторые литературоведы считают (или считали) нужным говорить, что Ленин причислил, таким образом, Толстого к самым подлинным реакционерам. Однако это явно противоречило бы всему сказанному в прежних статьях, в том числе и знаменитому заглавию первой из них. Может быть, Ленин изменил свой взгляд на Толстого в короткий промежуток между началом января и началом февраля 1911 года? Нет, Ленин не изменил своего взгляда и вовсе не причислил Толстого к политическим «реакционерам». Чтобы убедиться в этом, надо заглянуть в работу Ленина «К характеристике экономического романтизма» (1897) и найти то место, где речь идет об «утопичности» и «реакционности» (именно в таком сочетании) теорий Сисмонди и Прудона. К слову «реакционный» Ленин сделал следующее примечание: «Этот термин употребляется в историко-философском смысле, характеризуя только ошибку теоретиков, берущих в пережитых порядках образцы своих построений. Он вовсе не относится пи к личным качествам этих теоретиков, ни к их программам. Всякий знает, что реакционерами в обыденном значении слова ни Сисмонди, ни Прудон не были. Мы разъясняем сии азбучные истины потому, что гг. народники, как увидим ниже, до сих пор еще не усвоили их себе» (2, 211),
Так вот что значит — реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова. В самом точном — то есть в филологическом, словарном значении: латинская приставка «ре» означает — «опять, обратно, назад»; «реакция» — в этом смысле — «ход или движение назад», но вовсе не в качестве непременного противодействия движению вперед. В самом глубоком — то есть в том философско-историческом смысле, в каком, например, учение Руссо и его последователей оказывается «реакционным». Ленин считал это «азбучной истиной» и, разъяснив однажды, не хотел повторяться, тем более что дальше в статье о Толстом говорится: «Но отсюда вовсе не следует ни того, чтобы это учение не было социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов» (20, 103). Мало того — в конце статьи Ленин, как будто предвидя возможные недоразумения, говорит о распространении, какое получили «сознательно-реакционные, в узкоклассовом, в корыстно-классовом смысле реакционные идеи "веховцев" среди либеральной буржуазии...» (20,104). Ясно, что «реакционное» учение Толстого и реакционные идеи веховцев — вещи разные и что Ленин никогда не думал называть Толстого политическим реакционером.
Итак, учение Толстого — одна из «романтических» разновидностей утопического социализма. В таком случав возникает новый вопрос — об исторических корнях этого толстовского социализма, о его генезисе. Это тем более интересно и важно, что толстовский социализм не был, конечно, взят в готовом виде из западных источников, а образовался на родной почве, как разновидность русского социализма. Недаром вторая статья Ленина называлась «Значение Л. Н. Толстого в истории русской революции и русского социализма». Какова же природа толстовского социализма?
Ленин пишет: «Есть социализм и социализм. Во всех странах с капиталистическим способом производства есть социализм, выражающий идеологию класса, идущего на смену буржуазии, и есть социализм, соответствующий идеологии классов, которым идет на смену буржуазия. Феодальный социализм есть, например, социализм последнего рода, и характер такого социализма давно, свыше 60 лет тому назад, оценен был Марксом наряду с оценкой других видов социализма» (20, 103). Значит ли это, что Ленин считает социализм Толстого «феодальным» в том смысле, в каком Маркс говорит в «Коммунистическом манифесте» о феодальном (аристократическом) социализме? Конечно, нет. Та форма, в которой Ленин напоминает слова Маркса («феодальный социализм есть, например, социализм последнего рода»), не случайна. Она позволяет предположить, что один из источников толстовского социализма следует искать в идеологических построениях русской феодально-крепостнической эпохи — в старой России, в России деревенской, России помещика и крестьянина, в частности — в идеологии дворянского освободительного движения. Это тем более законно, что по ленинской периодизации дворянский период освободительного движения, самыми выдающимися деятелями которого были декабристы и Герцен, продолжался с 1825 по 1861 г. Вся молодость Толстого, вплоть до замысла «Войны и мира», целиком входит в этот период. Интересно, что к этому же периоду относится начало работы Толстого над романом «Декабристы» (а это было зерном, из которого выросла «Война и мир») и что по поводу этого романа Толстой переписывался с Герценом.
Работы Ленина о Толстом — плод огромного напряжения теоретической мысли, выросшей и окрепшей в борьбе за социализм. Предлагаемая статья — лишь опыт «пристального рассмотрения» некоторых положений Ленина по вопросу об историческом значении Толстого. Сказанным здесь содержание ленинских статей, конечно, не исчерпывается.
ГЛАВЫ ИЗ НЕЗАВЕРШЕННОЙ МОНОГРАФИИ О Л. Н. ТОЛСТОМ
ТОЛСТОЙ — СТУДЕНТ (1844-1847 гг.)
1
Юность Льва Николаевича Толстого относится к замечательной эпохе 40-х годов. Прошло несколько лет со времени гибели Пушкина; погиб Лермонтов, явно погибал талант Гоголя. Таковы были роковые последствия воцарившейся после 1825 г. реакции. Надо было спасать русскую культуру от грозившего ей застоя — от той страшной перспективы разочарования и равнодушия, о которой Лермонтов предупреждал своей «Думой». Надо было отказаться от бесплодных занятий абстрактной философией («Мы иссушили ум наукою бесплодной»), надо было вернуться к борьбе за общественные и нравственные идеалы, за «счастье человечества» — надо было восстановить «надежды лучшие и голос благородный неверием осмеянных страстей». Это дело и взяла на себя молодая русская интеллигенция. Во главе нового движения становятся Белинский и Герцен; зарождается журнал «Современник», начинают свою деятельность Тургенев, Некрасов, Достоевский, Салтыков-Щедрин.
Юношеские годы Толстого прошли в стороне от этого движения; он рос и развивался в замкнутой среде поместной и городской аристократии. Детство Толстой провел в архаической обстановке дворянского поместья, намеренно сохранявшего уклад и традиции александровского времени. Такова была принципиальная позиция его отца, бывшего участника войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1814 гг. Толстой писал: «Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образованья людей своего времени. Как большая часть людей первого александровского времени и походов 13, 14, 15 годов, он был не то что теперь называется либералом, а просто по чувству собственного своего достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае... Он не только не служил нигде... но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство. За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником»1* Толстой не хочет называть отца «либералом», потому что слово это приобрело уже иной и неприятный ему смысл; однако «чувство собственного достоинства», заставившее отца бросить службу и замкнуться в деревне, было выражением определенной общественной позиции, характерной для значительной части тогдашней дворянской молодежи2.
♦ В связи с большим объемом текста для удобства читателя примечания к разделу «Главы из незавершенной монографии о Л. Н. Толстом» помещены в конце раздела.
По всем признакам Николай Ильич Толстой был, как тогда выражались, «ли- бералистом» и принадлежал к тому кругу дворянской молодежи, в котором после войны 1812 г. зародились декабристские настроения и идеи. Об этом свидетельствует прежде всего выбор друзей. Это были не просто «фрондеры», но люди, прямо связанные с декабристским движением. Ближайшими друзьями отца были Павел Иванович Колошин и Александр Михайлович Исленьев; дружеская связь с ними была крепкая, семейная, перешедшая от родителей к детям3. Первый из них — декабрист «муравьевского круга» и масон, член Союза благоденствия, писатель: «...молодой человек высшего образования и солидных достоинств, отличавшийся лю- безностию и блеском светской образованности, бывший в родственных связях со многими аристократическими фамилиями»4. Близкий приятель И. И. Пущина и С. Н. Кашкина, он, как и многие декабристы-масоны, считал ближайшей целью Союза благоденствия «нравственное и умственное образование себя и других», а отдаленнейшей — «содействие к получению конституции»5. В декабре 1825 г. Колошин был арестован и выслан во Владимирскую губернию под надзор полиции; в 1831 г. ему было разрешено поселиться в Москве. А. М. Исленьев (сосед Толстого по имению) был одно время адъютантом М. Ф. Орлова и дружил с декабристами, за что был тоже арестован и выслан в Холмогоры, откуда за отсутствием улик был возвращен через полтора года. Достаточно уже этих фактов, чтобы причислить Н. И. Толстого к «либералистам»; к тому же выводу приводит анализ его служебной карьеры, типичной для молодых людей, прошедших через войну 1812 г. и в той или иной степени примкнувших к масонско-декабристскому движению. В 1812 г. он по собственному желанию вступил в армию (в Иркутский гусарский полк); после взятия Парижа (1814 г.) «за отличие» был переведен в кавалергардский полк — тот самый, в котором оказались П. И. Пестель, С. Н. Бегичев (друг Грибоедова) и многие будущие декабристы6. В 1817 г. Н. И. Толстой был переведен в только что образованный Белорусский принца Оранского гусарский полк. Несмотря на такую блестящую военную карьеру, он в 1819 г. в чине подполковника (хотя ему всего 25 лет) уходит в отставку, как это делали многие декабристы именно тогда. Мало того — через некоторое время он поступил на гражданскую службу. Правда, причиной такого странного поведения могла быть бедность: в 1821 г. умер его отец, казанский губернатор, не оставив сыну ничего, кроме долгов; характерно, однако, что он, несмотря на обильные связи, выбрал необыкновенно скромную должность — «смотрительского помощника» в военно-сиротском отделении Московского комендантского управления. Так поступали многие масоны и декабристы в годы образования Союза благоденствия. И. И. Пущин стал судьей надворного суда — «к удивлению большинства лиц его круга, так как служба в таком учреждении считалась унизительной»7. Такого рода должности и занятия рекомендовались «Зеленой книгой» (уставом Союза благоденствия): члены Союза должны были «уговаривать соотечественников к составлению человеколюбивых обществ и заведений и вступать во все уже ныне существующие», заботиться о воспитании юношества, о правосудии и пр.8 Надо полагать поэтому, что Н. И. Толстой выбрал должность «смотрительского помощника» не по материальным, а по идейным соображениям. В 1822 г. Толстой женился на Марии Николаевне Волконской, а в 1824 г. вышел окончательно в отставку и поселился в полученном за женой имении (Ясной Поляне).
Все эти факты, взятые вместе, заставляют думать, что отец Толстого был на уровне не только «образованных», но и передовых людей своего времени и своего круга. Сам Толстой не говорил прямо о связях отца с масонско-декабристским кругом, потому что имел очень смутное и неточное представление о его жизни до женитьбы. Отец умер внезапно в 1837 г., когда Толстому было всего девять лет; мать умерла еще раньше (в 1830 г.), а окружавшие его потом «тетушки» мало что могли ему рассказать об отце; поэтому он и говорит так осторожно — «сколько я могу судить». Интересно, однако, что в одном черновом наброске к «Казакам» (совершенно автобиографическом и не пригодившемся для окончательного текста) Толстой рассказывает, как вспоминали о покойном отце Оленина его друзья: «Отец умер, когда еще ребенок не успел оценить его. И когда старые друзья отца встречались с сыном и, взяв его за руку и глядя ему в лицо, говаривали: "как я любил вашего отца! Какой славный, отличный человек был ваш батюшка!" — мальчику казалось, что в глазах друзей проступали слезы, и ему становилось хорошо. Отец так и остался для сына туманным, но величаво мужественным образом простого, бодрого и всеми любимого существа» (б, 246). Это, конечно, мемуарный набросок — и от него протягивается нить прямо к финальной сцене «Войны и мира», где Николенька спрашивает Пьера об отце и, засыпая, думает: «Отец! Отец! Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен» (12, 295)9. Отец Толстого действительно принадлежал к тому «мыслящему и уже раздвоенному в своей психологии барству», из которого (как говорит, вероятно, со слов самого Толстого, Н. Г. Молоствов в его биографии10) вышли впоследствии Тургенев и Герцен. Из этого же круга, жившего масонскими и декабристскими идеями, вышел и сам Толстой. Эти исторические корни сказались на всей его жизни и на всем его поведении.
Семейная жизнь Толстых была, по свидетельству родных и друзей, хорошей и счастливой. Мария Николаевна была не только на редкость образованной, но и умной женщиной, близкой отцу по своим мыслям и взглядам. В том же наброске к «Казакам» Толстой говорит дальше о матери Оленина, умершей после его рождения: «Образ матери был еще более туманный и еще более прекрасный. Как она любила сына! Как все не могли не уважать ее, как даже сам отец преклонялся перед нею! Мать была удивительная женщина. Из всех детских убеждений только эти два милые образа остались нетронутыми в душе мальчика, тогда как после смерти отца, переехав в Москву, началось вообще разрушение того детского мира» (6, 246-247). Это «разрушение» действительно началось в 1837 г., когда осиротевшие дети (их было пятеро) перешли на попечение тетки, А. И. Остен-Сакен, а после ее смерти (1841 г.) — на попечение другой тетки, П. И. Юшковой, жившей в Казани. Связи Толстых с Казанью были давние и крепкие: дед Толстого был казанским губернатором. Так случилось, что осенью 1841 г. тринадцатилетний Толстой очутился в Казани.
Старший брат, Николай, уже учившийся в Московском университете, перешел в Казанский; в 1843 г. туда же поступили следующие два, Сергей и Дмитрий; очередь была за Львом. Братья учились на так называемом втором отделении философского факультета, т. е. на физико-математическом отделении; Лев поступил на восточное отделение, чтобы (по его собственным словам) «впоследствии стать дипломатом». Это решение было принято, вероятно, потому, что восточное отделение Казанского университета считалось лучшим и было очень популярным. В только что вышедшей тогда и сильно нашумевшей книжке Э. Турнерелли это восточное отделение было прославлено на весь мир: «Я сказал, что Казанский университет может во многом соперничать с самыми знаменитыми европейскими университетами. Прибавлю, что в одном он превосходит все существующие. Я имею в виду изучение восточных языков. Во всем мире нет учреждения, которое давало бы для этой отрасли обучения столько преимуществ, сколько дает этот университет. Кроме многочисленных профессоров, большинство которых хорошо известно в Европе и лекции которых дают теоретическое представление о восточных языках, к услугам студентов имеется, чего недостает европейским университетам: обширное поле для практического пользования этими языками. Казань — единственный город в мире, обладающий университетом, в который стекается такое количество персов, монголов, турок, татар, армян и проч.»11. Такой отзыв о восточном отделении мог подействовать на выбор специальности — тем более что у Толстого с детства обнаружились способности к языкам; к этому надо прибавить, что именно в это время (в связи с позицией Англии в отношении к Франции) «восточный вопрос» был очень злободневным, а потому дипломатическая карьера привлекала к себе особое внимание.
Согласно семейному решению, Толстой осенью 1844 г. поступил в Казанский университет «студентом своекоштного содержания по разряду арабско-турецкой словесности» (59, 5). Однако университетскими науками он не занимался, полугодичные испытания держал плохо и к переводным экзаменам на второй курс (весной 1845 г.) допущен не был. Тем и кончилась его дипломатическая карьера: осенью 1845 г. он подал прошение о переводе на юридический факультет. В письме к «тетеньке» Т. А. Ергольской (по-французски) он сам следующим образом аргументирует этот новый выбор: «Нахожу, что применение этой науки легче и более подходяще к нашей частной жизни, нежели другие; поэтому я и доволен переменой» (59, 11). На новом факультете Толстой начал довольно деятельно заниматься, но продолжилось это недолго; на второй курс он перешел, но полугодичные испытания на этом курсе (в январе 1847 г.) сдавал плохо и весной подал прошение об увольнении из университета «по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам». В то самое время, когда братья Сергей и Дмитрий, окончив университет, получили соответственные звания и права, Лев Толстой получил свидетельство о том, что он «сравнивается в преимуществах по чинопроизводству с лицами, получившими образование в средних учебных заведениях» (59,15,16). С этим скромным документом Толстой выехал в апреле 1847 г. из Казани в Ясную Поляну.
Принято думать, что закончившиеся такой неудачей казанские годы не имели вообще никакого серьезного значения в истории умственного развития Толстого, хотя он прожил в Казани почти шесть лет: приехал мальчиком тринадцати лет, а выехал на девятнадцатом году. Этому взгляду на казанский период способствовало и то, что сам Толстой сравнительно редко вспоминал о своих студенческих годах, а если и вспоминал, то с тем, чтобы лишний раз подчеркнуть бесплодность своих университетских занятий. В 90-х годах он говорил Р. Левенфельду: «Меня совсем не интересовало то, что читали наши профессора в Казани. Я около года посвятил изучению восточных языков, но больших успехов не сделал. Я горячо отдавался всему, читал бесконечное количество книг, но все в одном направлении. Когда меня заинтересовывал какой-нибудь вопрос, то я, не сворачивая ни вправо, ни влево, старался познакомиться со всем, что могло бросить свет на этот интересующий меня вопрос. Так было со мной и в Казани»12. В беседе с А. Гольденвейзером (1904 г.) Толстой сказал, что бросил университет именно потому, что захотел заниматься: «Когда я был в Казани в университете, я первый год действительно ничего не делал. На второй год я стал заниматься. Тогда там был профессор Мейер, который заинтересовался мною и дал мне работу — сравнение "Наказа" Екатерины с "Esprit des lois" Монтескье. И, я помню, меня эта работа увлекла; я уехал в деревню, стал читать Монтескье; это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать Руссо и бросил университет, именно потому, что захотел заниматься. А там я должен был заниматься тем и учить то, что меня не интересовало и не было мне ни на что нужно»13. Из этих признаний, однако, никак не следует ни того, что казанский период был пустым, ни даже того, что Казанский университет ничего не дал Толстому; наоборот, Толстой прямо говорит и о «бесконечном количестве» прочитанных в Казани книг, и о заинтересовавших его вопросах, и об увлекшей его работе над «Наказом» Екатерины. Сложившееся представление о казанском периоде, по-видимому, неверно и требует пересмотра.
Биограф Толстого П. И. Бирюков использовал в своей книге работу казанского профессора Н. П. Загоскина «Граф JI. Н. Толстой и его студенческие годы»14. Опубликованные здесь официальные документы иллюстрируют экзаменационные неудачи Толстого, но, естественно, ничего не говорят о его умственной жизни. Этот вопрос остался неосвещенным; опираясь на «Исповедь» самого Толстого, Загоскин говорит только о «развращающем» влиянии казанского светского общества и о том, что «впечатлительная, от природы даровитая, склонная к созерцанию и более или менее сознательная в своем стремлении к добру, натура юного графа должна была инстинктивно чувствовать протест» и т. д. Прочитав в рукописи Бирюкова эти суждения15, Толстой решительно возразил против них: «Никакого протеста не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, всегда очень хорошем обществе». И еще: «Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым, не затрогивая непосильных вопросов и живя хоть и праздной, роскошной, но не злой жизнью» (34, 397). Тем самым Толстой опроверг не только мнение Загоскина, но и свои собственные слова в «Исповеди»; вопрос о казанском периоде стал еще менее ясным. «Исповедь» была, конечно, не столько действительной исповедью или автобиографией (особенно в отношении юности), сколько проповедью, имевшей свою специальную задачу. Помимо того, теория «среды», из которой исходил Загоскин, противоречила взглядам Толстого, изложенным в той же «Исповеди». Одновременно с приведенными возражениями Загоскину Толстой написал рассказ «После бала» (1903), который начинается своего рода полемикой с теорией «среды»: «Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае» (34, 116). Далее рассказывается случай из казанской жизни, которому предпосланы следующие слова: «То, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились» (34, 117). Это почти буквальное повторение приведенных выше слов о «непосильных вопросах». Они имеют свою причину и свой злободневный повод: в это время Толстой был настроен против «студенческих волнений» и вообще против увлечения студентов политикой.
Итак, признания самого Толстого о своих студенческих годах и разнообразны и противоречивы; притом все они относятся к старости и связаны с некоторыми характерными для этих лет тенденциями. Нельзя поэтому безоговорочно пользоваться и ограничиваться такого рода материалом при изучении казанского периода. Верно, например, то, что, учась в университете, Толстой не участвовал ни в каких студенческих кружках (а кружки и «теории», конечно, были); из этого, однако, никак не следует, что вся его казанская жизнь состояла из балов и увеселений. Этому противоречат и некоторые признания самого Толстого (в том числе слова в «Исповеди» о том, что он «с 16 лет начал заниматься философией» (23, 490), и некоторые воспоминания современников, и текст «Юности», и, наконец, исторические факты. Биографы Толстого, правда, говорят о волновавших его в ту пору вопросах, но ограничиваются отдельными цитатами и очень общими психологическими рассуждениями16. Надо, с одной стороны, обратиться к историческим фактам, а с другой — учесть, что многое из своей душевной и умственной жизни Толстой освещал полнее, глубже и даже точнее не в своих поздних воспоминаниях и беседах, а в художественных произведениях, неизменно (особенно в черновых редакциях) насыщенных автобиографическим материалом. Некоторые страницы «Юности» и «Казаков» дают возможность и право понять казанский период иначе, чем это делалось прежде, а в связи с этим меняется и вся картина юношеского развития Толстого до отъезда на Кавказ и начала работы над «Детством».
2
Толстой недаром вспоминал о «роскошной» жизни тогдашнего казанского «очень хорошего общества». Казань была не только университетским городом, но и своего рода столицей всего среднего Поволжья с соответствующим такому положению «великосветским дворянством». По словам Э. Турнерелли, вращавшегося на правах английского «джентльмена» в этом обществе, Казань в некоторых отношениях могла соперничать тогда с Петербургом. Сверх того, у Казани была своя особая культурно-историческая миссия, связанная с ее положением «у ворот Азии» и с ее коренным татарским населением. Казанский университет (и, в частности, его восточное отделение) имел особенное значение именно потому, что у него была своя местная национальная база, постоянно пополнявшаяся приезжавшей с Востока молодежью. С другой стороны, Казанский университет был связан не только с университетами Петербурга и Москвы, но и с Дерптским, откуда издавна вывозились в Казань и немецкие профессора и немецкая наука. Все это вместе придавало казанской жизни очень пестрый и разнообразный характер, мало похожий на жизнь провинциального «захолустья».
Юридический факультет Казанского университета долго влачил довольно жалкое существование: именно здесь руководящую роль играли бездарные немецкие профессора, даже не владевшие русским языком и вызывавшие своими лекциями смех у студентов. К середине 40-х годов Н. И. Лобачевский, занимавший должность ректора, добился значительных изменений к лучшему. Весной 1845 г. (когда Толстой решил перейти на юридический факультет) в Казани появился Дмитрий Иванович Мейер — молодой ученый, воспитанник Петербургского Главного педагогического института, специалист по русскому гражданскому праву. Это был не только замечательный ученый, но и замечательный человек, быстро приобретший огромную популярность среди студентов. Г. Ф. Шершеневич пишет: «Студенты казанского университета выносили из его лекций такую массу знаний, какой не получали в ту эпоху нигде слушатели. Кроме обширного материала, расположенного в строго научной системе, лекции Мейера были проникнуты тем гуманным характером, тою смелостью чувства, которые должны были увлекательным образом действовать на учеников. Когда в 40-х годах с кафедры раздается голос протеста против крепостничества, чиновничьего взяточничества, против различия в правах по сословиям и вероисповеданиям — приходится заключить, что профессор обладал значительным гражданским мужеством»17. Дело было не только в «мужестве», но и в том, что Мейер был человеком очень передовых воззрений. По всем признакам, он, живя в Петербурге, был близок к кругу Белинского и «Отечественных записок». П. П. Пекарский вспоминает: «Тогдашние "Отечественные записки" читались с большою охотою студентами, которые были в восторге от Гоголя и осыпали насмешками "Москвитянина", силившегося тогда в критическом отделе восставать против "Отечественных записок". Критики последнего журнала, напротив, находили такое одобрение, что целые страницы разборов многим известны были почти наизусть. Однако студенты не знали автора их и, в провинциальной наивности, уверены были, что нравившиеся им критические статьи писаны самим редактором "Отечественных записок" Мейер вывел из заблуждения студентов, рассказав с большим увлечением, что за человек был Белинский, автор неподписанных критик, и какое значение имеет он для нашей литературы»18.
Толстой не принадлежал к числу этих окружавших Мейера студентов, но все же Мейер обратил на него внимание. В доказательство особой проницательности Мейера, делавшего иногда свои заключения о молодых людях по их наружности, Пекарский приводит его слова о Толстом: «Сегодня я его экзаменовал и заметил, что у него вовсе нет охоты заниматься; а это жаль: у него такие выразительные черты и такие умные глаза, что я убежден, что при доброй воле и самостоятельности он мог бы сделаться замечательным человеком»19. Это сообщение заслуживает доверия, потому что оно появилось в 1859 г., когда имя Толстого (оно заменено у Пекарского буквой Т. — Б. Э.) еще не было популярным; но дело было, очевидно, не только в чертах лица: из разговора с Толстым Мейер понял, что перед ним юноша с серьезными умственными запросами. Хотя на экзамене по истории русского гражданского права Толстой получил двойку, Мейер посоветовал ему заняться сравнением «Наказа» Екатерины II с «Духом законов» Монтескье; надо думать, что тема эта возникла из беседы, при которой обнаружилась склонность Толстого к такого рода общественно-философским вопросам. В биографии, составленной П. И. Бирюковым, приведены слова самого Толстого: «В конце этого года я в первый раз стал серьезно заниматься и нашел в этом даже некоторое удовольствие. Сверх факультетских предметов, из которых энциклопедия права и уголовное право заинтересовали меня (немец профессор Фогель на лекциях устраивал собеседования и, помню, очень заинтересовавшее меня — о смертной казни)20, — сверх факультетских предметов Мейер, профессор гражданского права, задал мне работу — сличить Esprit des lois Montesquieu с Наказом Екатерины, и эта работа очень заняла меня» (34, 397-398).
Среди отметок, полученных Толстым на полугодичных испытаниях в январе 1847 г.21, обращают на себя внимание две четверки: по энциклопедии законоведения и по русскому государственному праву. Обе эти отметки поставлены читавшим эти предметы молодым адъюнктом А. Г. Станиславским. Это был интересный и талантливый ученый. Г. Ф. Шершеневич пишет о нем: «Человек с широким образованием, притом поэт, Станиславский был далек от мысли пропагандировать мелочное исследование исторического материала. Его сочинения посвящены были истории права, но при этом он искал в прошедшем народной жизни объяснения явлений современного быта, а не довольствовался нагромождением одних архивных данных, как это делали многие германские последователи исторической школы, справедливо заслужившие упреки от своих противников»22. Воспитанник Киевского университета, Станиславский попал в Казань не по своей воле еще студентом: в 1839 г. он вместе с целой группой студентов Киевского университета и Виленской медико-хирургической академии был отправлен под «особый надзор» в Казанский университет. Причиной было дело польского революционера Ши- мона Конарского — участника восстания 1830 г., основателя польской революционной газеты в Париже «Polnoc» (1835), расстрелянного в Вильне 15 февраля 1839 г. Волнения среди студентов, вызванные его казнью, заставили правительство прибегнуть к широким карательным мерам — к массовым ссылкам студентов на Кавказ, в Казань и в другие места. Надо отметить, что появившиеся в Казани польские студенты оказали сильное влияние на местную молодежь. Н. Н. Булич, будущий казанский профессор (учившийся одновременно с Толстым), вспоминает: «В смысле более широких идеалов и воззрений, я должен упомянуть о поляках, присланных в казанский университет из киевского после какой-то истории политического свойства. Я почти со всеми ими сблизился и скоро выучился от них по-польски»23. Из дальнейших слов видно, что разумел Булич под «более широкими идеалами»: «Доходили до нас слухи и отчасти французские брошюры социалистов; книг было много, доходили они легко; я получил Revue des deux Mondes без вырезок. А тут февраль 1848 года, увлекательная история жирондистов Ламартина, книга Минье, "История десяти лет" Луи Блана — в подлиннике. Хорошие были годы!»24
Хотя Толстой стоял тогда в стороне от такого рода интересов и увлечений, но это не значит, что он был вовсе изолирован от них. В биографии, составленной Н. Г. Молоствовым и П. А. Сергеенко, есть примечание (к главе «Чопорный граф», описывающей казанскую жизнь Толстого), в котором говорится: «Руссоловский, Бжожовский, Ячевский. Вспоминая свою студенческую жизнь, Л. Н. Толстой, между прочим, передавал нам, что в Казани он познакомился с тремя поляками: Руссоловским, Бжожовским и Ячевским. В лице этих людей Толстой соприкоснулся с совершенно новым для него тогда миром. Один из этих поляков, высланный из Польши в Казань по какому-то политическому делу, был, по выражению само- гоЛ. Н., "грубый революционер", не внушавший ему особых симпатий. Зато Ячевский — "аристократ до мозга костей", "изящный и корректный", "с длинными тонкими руками", имел на Льва Николаевича значительное влияние, и Толстой даже "подражал ему"»25. Итак, появление в Казани студентов-поляков не прошло мимо Толстого; названные им имена — совершенно реальные. Среди 47 студентов, высланных в 1839-1840 гг. из Киева и Вильны в Казань, были названные Толстым Ахиллес Россоловский, Иосиф Бржозовский и Дионисий Ячевский26. Интересно, что Толстой не только запомнил их фамилии, но и использовал их в рассказе «За что?» (1906). Ячевским назван здесь старый пан — «патриот времен второго раздела Польши», служивший под знаменами Костюшки; вполне возможно, что такова была биография отца казанского Ячевского. «Сосланный поляк» Бржозовский не играет в рассказе никакой роли — он назван только как шафер на свадьбе Мигур- ского. Зато большую роль играет Росоловский — «бывший учитель математики» (казанский Россоловский был тоже математиком), «длинный, сутуловатый, худой человек с впалыми щеками и нахмуренным лбом» (42,95): он помогает Мигурским осуществить план побега из Уральска. Таким образом, отголоски казанских впечатлений обнаруживаются не только в рассказе «После бала», но и в рассказе «За что?».
А. Г. Станиславский читал в 1846/47 г. энциклопедию права (или законоведения) — предмет, который тогда очень заинтересовал Толстого. Впоследствии он относился иронически ко всей юридической науке в целом; в одной из своих последних статей («Письмо студенту о праве», 1909) он называет философию права «величайшей чепухой», придуманной для того, чтобы «оправдать дурные поступки, постоянно совершаемые людьми нерабочих сословий» (38, 54, 55). Однако здесь же Толстой вспоминает: «Я ведь сам был юристом и помню, как на втором курсе меня заинтересовала теория права, и я не для экзамена только начал изучать ее, думая, что я найду в ней объяснение того, что мне казалось странным и неясным в устройстве жизни людей» (38,60). Заинтересовал Толстого именно курс А. Г. Станиславского, построенный на широкой философской основе27. Недаром он получил на экзамене у Станиславского четверку: интерес к Руссо и Монтескье, чтение которого открыло ему «бесконечные горизонты», возник не только из бесед с Мейе- ром, но и из лекций Станиславского. Приходится не согласиться со словами, сказанными Толстым по поводу статьи Н. П. Загоскина: кое-что из области «непосильных вопросов» (то, что казалось «странным и неясным в устройстве жизни людей») беспокоило Толстого уже в казанский период, и жизнь его в Казани не ограничивалась светскими удовольствиями.
Следует остановиться еще на одном ученом, сыгравшем, по-видимому, немалую роль в студенческой жизни Толстого: это Н. А. Иванов — «кровожадный профессор истории», «всегда готовый провалить студента, особенно из числа так называемых аристократов и ловких кавалеров, к которым он питал заметную и нескрываемую ненависть»28. Толстой принадлежал к числу этих «аристократов». Мало того: с Н. А. Ивановым его связывали сложные семейные отношения. Иванов был женат на троюродной сестре Толстого — графине А. С. Толстой. Брак был не только «неравный» (Иванов был сыном канцелярского служителя), но и несчастливый. Н. П. Загоскин пишет: «Профессор Иванов был женат на графине Александре Сергеевне Толстой, внучке родного брата бывшего казанского губернатора Ильи Андреевича, графа Василия Андреевича... Здесь-то и имеем мы, быть может, ключ к уразумению той антипатии профессора Н. А. Иванова к казанской аристократии, которою ознаменована была его казанская жизнь и от которой порядочно-таки доставалось студентам-аристократам: несмотря на его брачные связи, местный большой свет, исполненный предубеждений и сословных предрассудков, не мог простить Иванову его буржуазного происхождения и никогда не упускал случая дать молодому профессору понять, что в его глазах он — "муж графини Сашеньки Толстой" — и ничего больше»29. Н. П. Загоскин считает почему-то, что «с памяти профессора Н. А. Иванова должно быть снято обвинение в гонении на графа Л. Н. Толстого, возведенное на него В. Н. Назарьевым». Если рассказ Назарьева о том, как Иванов на экзамене «закатил» Толстому нуль, и неточен, то факт преследования все равно остается. Товарищ Толстого по университету А. Ф. Мартынов рассказывает: «Первый год университетской жизни Л. Н. Толстой жил у своего родственника, профессора русской истории и археологии Иванова... Но, рассорившись с ним, снова переселился к своей тетке П. И. Юшковой»30. Сам Толстой вспоминает (в статье «Воспитание и образование», 1862): «Первый год я был не перепущен из первого на второй курс профессором русской истории, поссорившимся перед тем с моими домашними, несмотря на то, что я не пропустил ни одной лекции и знал русскую историю» (8,234)31. Н. А. Иванов по-видимому, преследовал своего аристократического «родственника» еще сильнее, чем других студентов- аристократов. Перейдя на юридический факультет, Толстой не спасся от Иванова, который читал историю и для юристов. Возможно, что это систематическое преследование было одним из поводов к уходу Толстого из университета.
Из всего сказанного об Н. А. Иванове вовсе не следует, однако, что он был бездарным ученым (как принято говорить в биографиях Толстого); такое представление о нем не подтверждается ни его работами, ни отзывами о нем многих современников — в том числе таких авторитетных, как известный славист А. А. Котляревский и историк (профессор Казанского университета в 1870-1890-х гг.) Д. А. Корсаков. Наоборот, о нем говорят как о крупном историке и блестящем лекторе. Его ученик И. И. Михайлов (учился в 1839-1844 гг.) пишет: «Профессор истории Иванов был человек даровитый, завершивший свое образование после Казанского в Дерптском университете. Еще до поступления своего на кафедру истории в Казань о нем гремела уже молва как об отличном знатоке своего предмета... Он составлял резкий контраст с скучными педантами, читавшими до него историю без всякого сочувствия к своему предмету. Живое слово нового профессора привлекло в его аудиторию не только студентов из других факультетов, но и посторонних лиц из местного общества, которые дотоле никогда не заглядывали в университет... Не ограничиваясь одним лишь своим предметом, он старался всеми силами развивать студентов, обогащать их познания. Он будил их любознательность, освещал науку с разных сторон, знакомил студентов с разными светилами науки, с современным движением идей. Это был истинный сеятель знаний»32. Многие с восторгом вспоминают о публичных лекциях, читанных Ивановым в 1843-1844 (о Петре Великом) и в 1844-1845 гг. (о преемниках Петра). На первой лекции Иванов, приветствуя собравшихся в большом количестве слушателей, говорил: «Отрадно видеть пробуждение, которое ныне соединило вас... Без сомнения, еще не изгладилась та пора... когда наука таинственно заключалась в неподвижном заколдованном круге, вне пределов гражданской жизни... Наука и жизнь теперь идут вместе к великой своей цели, к совершенству! Скромные подвижники науки не отказываются уже вступать в ряд общественных деятелей. Они убедились, что человека надо изучать не в мертвой книге, но в жизни и что только такое изучение приближает к верховному назначению науки: просветить, возвысить, украсить жизнь»33. Такая точка зрения на науку, во всяком случае, не соответствует образу сухого педанта, излагающего одни факты, каким рисуют Н. А. Иванова биографы Толстого.
По словам В. Назарьева, Толстой, сидя в карцере за непосещение лекций, ругал историю как «собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен»; при этом он говорил: «Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана»34. Однако Иванов менее всего повинен в такого рода примитивном взгляде; сохранилось начало его лекции как раз на эту тему — «О личности Иоанна Грозного», где он говорит о необходимости рассматривать деятелей и события в истории «не отдельно, не особняком, но в связи прошедшего с настоящим, в преемство и последовательности явлений»: «В том-то и заключался главный недосмотр прежних историков, — в том-то и источник их противоречащих и зачастую весьма неверных суждений об Иоанне Грозном, что они смотрели на него без оглядки на то, что было целию стремлений его предшественников, без вникания в то, какие задачи они оставили ему для решения, без рассмотрения среды, в которой привелось ему действовать. А это такие условия, без которых ни одна историческая личность не может быть ни правильно понята, ни верно оценена»35. Итак, нападения Толстого на Иванова объясняются, очевидно, личными причинами; к этому надо прибавить, что Толстой, увлекавшийся в то время «умозрением», относился отрицательно ко всей исторической науке в целом; в одном наброске этого времени («Философические замечания на речи Ж.-Ж. Руссо») он писал: «Одна из главных ошибок, делаемых большей частью думателей, есть та, что, сознав свою неспособность для решения важных вопросов из начал разума, они хотят решить философские вопросы исторически, забывая то, что история есть одна из самых отсталых наук и есть наука, потерявшая свое назначение. — Самые жаркие партизаны ее не найдут никогда ей приличной цели. — История есть наука побочная» (1, 222). Возможно, что, говоря о «жарких партизанах» исторической науки, стремящихся при помощи истории решить философские вопросы, Толстой имел в виду и Н. А. Иванова; однако именно Иванов настойчиво и страстно доказывал необходимость философии для любой науки и читал, кроме исторических курсов «историю философских систем, по собственному конспекту»36.
Н. А. Иванов был по своим философским воззрениям (как свидетельствуют об этом и Н. Булич, и Д. Корсаков) гегельянец; Булич прибавляет: «Но им не ограничивалось гегелианство в Казани, занесенное из Дерпта; были и другие, один русский профессор, другой немецкий; собирались, читали Гегеля, переводили и объясняли его»37. Русский профессор — это, вероятно, известный математик И. П. Котельников, учившийся в Дерпте и Берлине (в Казани — с 1837 г.); немецкий профессор — И. Г. JIиндгрен, медик. Вокруг них группировался целый кружок гегельянцев. По всем признакам Казанский университет 40-х годов был одним из рассадников русского гегельянства — наравне с Петербургским и Московским. Философская литература была в библиотеке Казанского университета в большом количестве и постоянно пополнялась новыми работами и изданиями38. Совершенно естественно, что Толстой, и без того расположенный к философским размышлениям, не остался в стороне от этих интересов и увлечений, столь характерных для той эпохи вообще. Н. Булич вспоминает о беседах с Толстым: «Один из его товарищей, близкий мне, познакомил нас, и мы часто видались: и на губернских баликах танцуя, и в его комнатке возле темных хор в квартире его тетки, и у меня, Тогда мы вели серьезные разговоры, и всего больше о философии. Я изучал Спинозу, и помнится впечатление, произведенное на меня оригинальным умом Толстого»39. Оказывается, балы и танцы, о которых охотно говорят биографы Толстого, описывая его жизнь в Казани, не мешали ему думать и говорить о философии. Сам Толстой, противореча другим своим заявлениям, пишет в «Исповеди»: «С ранней молодости меня занимали умозрительные знания» (23, 17); в черновом тексте — подробнее: «Философия всегда занимала меня, я любил следить за этим напряженным и стройным ходом мыслей, при котором все сложные явления мира сводились — их разнообразия — к единому» (23, 499).
Хотя «Отрочество» и «Юность» — не простые автобиографии, но история собственного умственного развития отражена в них, конечно, вернее и глубже, чем в «Исповеди». Николенька Иртеньев рассказывает, как его беспокоили все отвлеченные вопросы — о назначении человека, о бессмертии души и пр.: «Детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему» (2, 56). Оказывается, Толстой ставил перед собой «непосильные вопросы». В «Юности» Иртеньев вспоминает про «чудные незабвенные ранние утра от 4 до 8 часов», когда он «один сам с собой перебирал все свои бывшие впечатления, чувства, мысли, поверял, сравнивал их, делал из них новые выводы и по-своему перестроивал весь мир божий» (2, 343). Далее следуют замечательные и, конечно, совершенно автобиографические подробности: «Я уже и прежде занимался умозрительными рассуждениями, но никогда я не делал этого с такой ясностью, последовательностью и с таким упоением... И я убежден, что выводы, которые я делал, были не только относительно меня, но положительно новые. Я чувствовал это по тому неожиданному, счастливому и блестящему свету, который вдруг разливала на всю жизнь вновь открытая истина. Я внутренне чувствовал, что, кроме меня, никто никогда не дошел и не дойдет по этому пути до открытия того, что открывал я» (2, 344).
Эти патетические строки не были бы написаны, если бы Толстой сам не пережил в юности подобных «незабвенных» дней. Об этом свидетельствуют и его дневники, и тетради с «правилами» и философскими набросками (/, 226-236)40, о которых он говорит в той же второй половине «Юности»41. Итак, казанские годы были периодом не столько «праздной жизни», сколько «философских открытий».
з
Философские наброски юного Толстого содержат несомненные следы его знакомства с немецким идеализмом. Он старается усвоить учение Фихте и пользуется его терминологией: «Я нашел в себе деятельность, причиною которой есть я и не я... Я не ограничен в соединениях с не я, но ограничен самим соединением... Я имел два понятия, не требующие никаких доказательств и которые не могут быть заменены ничем другим, столь же безусловным. Понятия эти я выразил так: я ограничен, и я деятелен; имея эти положительные понятия в различных степенях, я могу себе представить бесконечно малую степень обоих этих понятий, которую мы называем отрицательным, т. е. неограниченность и недеятельность» и т. д. Почти цитатами из «Наукоучения» Фихте звучат следующие слова наброска: «Я сознавал, что я ограничен во всем, — и между тем понимал неограниченность, даже находил ее в себе... я понял, что стремление, которое я находил в себе, происходило от соединения ограниченного с неограниченным — и так как я есмь неограниченное, то надо было знать, каким образом я — (неограниченное) должен согласоваться с ограниченным и чтобы знать это, надо было знать, что есть неограниченное и что ограниченное». Или: «Из этого заключения выходит, что ежели бы не было ограниченности, то не было бы и деятельности, следовательно первое сознание есть сознание ограниченности» (/, 226, 227)42. Толстой делает усилия, чтобы овладеть понятиями и терминами идеалистической философии и войти в ее святилище — в область метафизики и теории познания. Однако это дается ему с трудом и в конце концов приводит к усталости, к разочарованию. Картина этих мучительных усилий изображена в «Отрочестве»; после рассказа об увлечении «скептицизмом» следуют замечательные признания: «Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрогивать. Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка» (2,57-58)43. И дальше: «Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил...» (2, 57-58).
Из области «познания спекулятивной философии» (как он сам выражается) Толстой то и дело сбивается на изучение «практической философии», которое, по его словам, «состоит в анализе всех вопросов, встречающихся в частной жизни, в точном исполнении правил морали, в последовании законов природы». Философия в привычном для него понимании — «наука жизни», а основа жизни (как ему кажется несомненным) — стремление к счастью, к благосостоянию: «Для познания философии, т. е. знания, каким образом направлять естественное стремление к благосостоянию, вложенное в каждого человека, надобно образовать и постигнуть ту способность, которой человек может ограничивать стремление естественное, т. е. волю, потом все способности человека к достижению блага. — (Психология)» (/, 229-230). Это уже другой язык, другая сфера мысли, другая традиция. Появляется многозначительное для будущего Толстого понятие — «психология», интерес к которой возникает на основе понимания жизни как «стремления к счастью». Толстой рассуждает: «Чтобы удовлетворить этому стремлению к счастию, человек не должен стараться искать счастие в внешнем мире, т. е. искать его в случайных приятных впечатлениях внешнего мира, но в образовании себя... И так цель философии есть показать, каким образом человек должен образовать себя. — Но человек не один; он живет в обществе, следовательно философия должна определить отношения человека к другим людям. — Ежели бы каждый стремился к своему благу, ища его вне себя, интересы частных лиц могли бы встречаться, и отсюда беспорядок. Но ежели каждый человек будет стремиться к своему собственному усовершенствованию, то порядок никак не может нарушаться, ибо всякий будет делать для другого то, что он желает, чтобы другой делал для него» (/, 229). Практическая философия явно побеждает теоретическую, «спекулятивную». Толстой занят детальной выработкой правил для развития воли: телесной, умственной и чувственной — правил, охватывающих всю область человеческой деятельности: «1) в отношении к Высшему существу, 2) в отношении к равным себе существам и 3) в отношении к самому себе» (46, 263).
Несомненно, что об учении Гегеля Толстой узнал тоже в казанские годы. В трактате «Так что же нам делать?» он вспоминает: «Когда я начал жить, гегельянство было основой всего: оно носилось в воздухе, выражалось в газетных и журнальных статьях, в исторических и юридических лекциях, в повестях, в трактатах, в искусстве, в проповедях, в разговорах. Человек, не знавший Гегеля, не имел права говорить; кто хотел познать истину, изучал Гегеля. Всё опиралось на нем, и вдруг прошло 40 лет, и от него ничего не осталось, об нем нет и помину, как будто его никогда не было» (25, 332). Слова об «исторических и юридических лекциях» являются, очевидно, отзвуком собственных студенческих впечатлений. Далее Толстой пишет: «Было время, когда мудрецы-гегельянцы торжественно поучали толпу; и толпа, ничего не понимая, слепо верила всему, находя подтверждения того, что ей на руку, и верила, что то, что ей казалось неясным и противоречивым, там, на высотах философии, все ясно, как день; но прошло время — теория эта износилась, явилась новая теория на ее место, и старая стала не нужна, и толпа заглянула туда в таинственные капища жрецов и увидела, что там ничего нет, да и не было, кроме слов очень темных и бессмысленных» (25, 332). Это была своего рода месть за потраченные даром усилия. В 50-х годах Толстой признавался своему другу, гегельянцу Б. Н. Чичерину, что «пробовал читать Гегеля, но... для него это была китайская грамота»44. В казанском дневнике (1847 г.) есть некоторый след от знаменитой в истории русского гегельянства формулы — «все существующее разумно». Толстой рассуждает о пользе уединения: «Оставь действовать разум, он укажет тебе на твое назначение, он даст тебе правила, с которыми смело иди в общество. Все, что сообразно с первенствующею способностью — разумом, будет равно сообразно со всем, что существует; разум отдельного человека есть часть всего существующего, а часть не может расстроить порядок целого. Целое же может убить часть» (46у 4). Однако «разум», о котором говорит здесь Толстой, — это вовсе не тот «чистый разум», о котором говорили немецкие философы; это «разум» утопистов и просветителей — тот всеобщий разум, на котором была основана вера в прогресс, в возможность улучшения человеческой жизни, разум не трансцендентный, не созерцательный, а практический, выражающийся в форме моральных истин и правил. Этот-то разум и эти истины имеет в виду Толстой. Недаром он много раз говорил, что первым его увлек Руссо, что Руссо был его «учителем» с 15 лет и пр.: юный Толстой вместе со своим поколением, со своей эпохой вступал в область социально-утопических идей («перестроивал весь мир божий»). Именно в этой связи возникло увлечение идеями Руссо и Монтескье, открывшее Толстому «бесконечные горизонты». В том отрывке из «Юности», где рассказано, как он «по- своему перестроивал весь мир божий», есть интересные слова о Руссо: «В голове моей происходила горячечная усиленная работа. Никогда не забуду сильного и радостного впечатления и того презрения к людской лжи и любви к правде, которые произвели на меня признания Руссо... Рассуждение Руссо о нравственных преимуществах дикого состояния над цивилизованным тоже пришлось мне чрезвычайно по сердцу. Я как будто читал свои мысли и только кое-что мысленно прибавлял к ним» (2, 345).
Здесь же Толстой вспоминает, что он прочитал книгу Вейса «Principes philo- sophiques, politiques et moraux» (1785). Книгу эту, найденную им, вероятно, в библиотеке отца, хорошо знали декабристы45. Автор ее — швейцарский генерал Ф.-Р. Вейс, ученик Руссо, участник французской революции. В предисловии Вейс говорит о практическом значении философии (против спекулятивного мышления) и рассказывает, как он понял свои ошибки и слабости и как выработал свою систему борьбы с ними. Философия, по его словам, имеет предметом своего изучения человека, целью — мудрость, средством — нравственность; ее можно назвать «школой счастья», или «искусством жить». Книга Вейса построена в виде отдельных очерков, изобилующих афоризмами: о добродетели, об истине, о предрассудках и пр. Для Толстого Руссо и Вейс (а затем и Монтескье) были важной опорой для борьбы со «скептицизмом», с чрезмерной умозрительностью — с тем состоянием, когда «ум за разум заходит». Отход от спекулятивной философии сказывается на первых же страницах его юношеского дневника. Процитированные слова о разуме обведены скобкой, против которой па полях написано: «фразы», а вся эта запись кончается ироническим замечанием: «Легче написать 10 томов философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике» (46, 4). Толстого волнуют вопросы жизненной практики, жизненного поведения — вопросы личной и общественной морали. Именно в это время (в марте 1847 г.) он берется за предложенную Д. И. Мейером работу: сравнение «Наказа» Екатерины с «Духом законов»
Монтескье. Работа эта идет совсем не в том направлении, какое требовалось от студента: это не историко-юридический анализ старинного памятника, а критика его отдельных положений и полемика с их автором как с современником. Толстой изучает «Наказ» Екатерины не как студент юридического факультета, а как человек, готовящийся к государственной деятельности или к составлению собственного жизненного наказа.
Как ученик Мейера Толстой явно сочувствует республиканским идеям и упрекает Екатерину в том, что, заимствовав эти идеи у Монтескье («как справедливо замечает Мейер», — прибавляет он; 46, 27), она употребила их для оправдания деспотизма. Утверждение Екатерины, что монарх является представителем всех граждан и потому имеет право «накладывать наказания», вызывает у него язвительный вопрос: «Но разве представительство государем народа в неограниченных монархиях есть выражение совокупности частных, свободных волей граждан?» (46, 11, 12). Толстой подвергает «Наказ» моральной критике, находя в нем «более мелочности, чем основательности, более остроумия, чем разума, более тщеславия, чем любви к истине, и наконец более себялюбия, чем любви к народу» (46, 27). Он упрекает Екатерину и в том, что она все свое внимание отдала «публичному праву, т. е. отношениям государства», и оставила в стороне право гражданское, т. е. «отношения частных граждан» (46, 28).
Больше всего интересует и беспокоит Толстого вопрос о положении и судьбах русской родовой аристократии («благородных») — вопрос, как бы завещанный ему отцом. В ответ на утверждение Екатерины, что «благородные» не должны заниматься торговлей, Толстой заявляет: «Но почему же благородные в России не должны торговать? Ежели бы у нас была аристократия, которая бы ограничивала монарха, то в самом деле ей бы и без торговли было бы много дела. — Но у нас нет ее. — Наша аристократия рода исчезает и уже почти исчезла по причине бедности; а бедность произошла от того, что благородные стыдились заниматься торговлею. Дай бог, чтобы в наше время благородные поняли свое высокое назначение, которое состоит единственно в том, чтобы усилиться» (46, 21). Само собой разумеется, что Толстой относит себя к числу этих «благородных» (les nobles) — вопрос о судьбе русской «аристократии рода» выделен им как вопрос актуальный, жизненно важный для него самого.
Работа над «Наказом» привела Толстого не в область науки (как надеялся Мейер), а в область самой действительности с ее злободневными вопросами. Едва приступив к изучению материала, Толстой уже задумывается над перспективами своих занятий: «Во мне начинает проявляться страсть к наукам, — записывает он 19 марта, — хотя из страстей человека эта есть благороднейшая, но не менее того я никогда не предамся ей односторонне, т. е. совершенно убив чувство и не занимаясь приложением, единственно стремясь к образованию ума и наполнению памяти. Односторонность есть главная причина несчастий человека» (46, 7). Увлечение наукой испугало его так же, как увлечение спекулятивной философией: в обоих случаях его беспокоит мысль о «приложении» («приложить одно какое-нибудь начало к жизни»), т. е. о деятельности. Занятия на юридическом факультете до некоторой степени соответствовали его напряженным моральным исканиям и запросам. К этому надо прибавить, что в нем сохранялись черты того «юридического мышления», которым отличалась русская философская и общественная мысль конца XVIII века: оно перешло к нему вместе с семейными традициями и навыками старого дворянства. Для 40-х годов XIX века это было, конечно, некоторым анахронизмом, но в системе мышления и поведения Толстого такого рода анахронизмы были исторически неизбежны и характерны. В этом смысле критика «Наказа» очень показательна: Толстой спорит с Екатериной как человек, воспитанный научении о «естественном праве», на идеях Руссо и Монтескье, заинтересованный в переходе от феодальных порядков к буржуазному строю (вопрос о торговле). Это тем более любопытно, что именно в это время подготовлялся раздел имущества между братьями, в связи с чем у Толстого явилась мысль о переходе (по его собственному выражению) «от жизни студенческой к жизни помещичьей» (46, 30). Увлечение наукой усилило в нем потребность дела — «приложения» науки к жизни. Он, как и Иртеньев, «часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины» (2,345). Мало кто из окружавших его лиц мог знать об этой «горячечной» внутренней работе, об этом «тяжелом моральном труде» (46, 345): гордый и самолюбивый юноша тщательно скрывал свои думы и мечты от чужих глаз, от «остальных смертных». Впрочем, некоторые замечали, что он имел вид человека, «мысли которого далеко от окружающего», и «относились к нему как к большому чудаку и философу». В отрывке из «Юности» он вспоминает: «Не считая никого достойным понимать мои умствования, я никому не сообщал их и все более и более разобщался и холодел ко всему семейству. Я не только не привязывал себя к жизни новыми нитями любви, я понемногу разрывал те, которые существовали. Я думал, что мне никого не нужно в жизни. Впрочем, это не был эгоизм, это была неопытная гордость молодости» (2, 345).
Студенческие годы Толстого были, таким образом, годами большого умственного и душевного напряжения. Мало того: это напряжение не было беспредметным, неопределенным — оно имело свою цель, характерную для эпохи. В одной из своих педагогических статей Толстой писал: «Всякий мыслитель выражает только то, что сознано его эпохой, и потому образование молодого поколения в смысле этого сознания совершенно излишне, — сознание это уже присуще живущему поколению» (8, 8). В такой общей и категорической форме (полемической по своему смыслу) это, конечно, неверно, но верно то, что «сознание эпохи» образуется не только путем чтения книг и специального образования. Не обязательно было жить в Петербурге или в Москве, участвовать в кружках и читать всю новейшую литературу, чтобы уловить общий дух новой эпохи. Фразу Толстого можно рассматривать как личное признание, как итог собственного опыта: оглянувшись назад, Толстой увидел, что его умственное развитие в юношеские годы шло в соответствии с духом эпохи, хотя он жил как будто в стороне от нее. Дело не в том, что сознание эпохи «уже присуще живущему поколению», а в том, что это сознание улавливается самыми разными путями, потому что «носится в воздухе». Жизнь Толстого в Казани не была жизнью в безвоздушном пространстве: этого было достаточно, чтобы «сознание эпохи» дошло до него. На умственном и душевном развитии юного Толстого сказывается та самая борьба за новое сознание, которую переживали люди 40-х годов — Белинский, Герцен, Тургенев, В. Боткин и многие другие. Это был конфликт между «спекулятивным» мышлением и мышлением «реальным», между метафизикой и «социальностью», между умозрением и деятельностью, скептицизмом (индивидуализмом) и верой в возможность «счастья», «благосостояния». Такова была новая стадия в развитии русской философской и общественной мысли, прошедшей через увлечение немецким идеализмом. Об этом «перевороте» в философских исканиях русской интеллигенции писали и В. Милютин, и В. Майков, и П. Анненков, и Герцен и др. «Отечественные записки» подвели этому движению некоторый итог: «Вещественное благосостояние человека занимает умы всех сословий... Метафизическая эпоха германской жизни кончилась... Как земное благосостояние человека заменило собою его идеальное, фантастическое, отвлеченное от земли блаженство, так политическая экономия изгнала философию»46. Нечто аналогичное произошло и в умственном развитии Толстого — с теми вариантами, которые были порождены особенностями его происхождения, образования, положения, традиций, опыта и пр. Эти особенности резко скажутся впоследствии, когда он лицом к лицу встретится с представителями русской интеллигенции в сложной обстановке 50-х годов. Пока важно отметить, что 40-е годы были пережиты Толстым не только как его личная «юность», но и как «эпоха», сознание которой он по-своему уловил и выразил.
4
В черновой редакции «Казаков» Толстой писал об Оленине: «С 18 лет еще только студентом Оленин был свободен, так свободен, как только бывали свободны русские люди. В 18 лет у него не было ни семьи, ни веры, ни отечества, ни нужды, ни обязанностей, был только смелый ум, с восторгом разрывающий все с пелен надетые на него оковы, горячее сердце, просившееся любить, и непреодолимое желание жить, действовать, идти вперед, вдруг идти вперед, по всем путям открывавшейся жизни» (б, 246). Так представлялась Толстому собственная юность, когда она осталась позади. Эти строки были написаны в 1858 г. — после того, как остановилась работа над второй половиной «Юности»: выяснилось, что задуманный в 1852 г. роман («Четыре эпохи развития») превращается в чистейшую автобиографию. Толстой бросил его и вернулся к «Казакам» (начатым тоже в 1852 г.) — с тем, чтобы перенести на Оленина кое-что из того, что было намечено и заготовлено для Иртеньева. Подробности оставлены — дается общий итог: «Очень скоро Митя начал думать (еще до поступления в университет), что тетка его очень глупа, несмотря на то, что всегда говорит так кругло, и несмотря на то, что сам князь Михаил к ней ездит и целует ее мягкую белую руку. Долго он колебался, все предполагая умышленную внешность глупости, скрывающую глубокие вещи. Но когда ему минуло 16 лет и он принял от нее именье и советы, он окончательно убедился в этом, — и открытие это доставило ему величайшее наслаждение. Это был первый шаг во вновь открытую землю, товарищи по университету делали такого же рода открытия и сообщали их, и Оленин с жаром молодости предался этим открытиям, все расширяя и расширяя их поприще» (б, 247). Итак, философские и моральные открытия делались при помощи не только книг, но и товарищей.
Большую роль играли отношения с братьями47. Николай был старше на пять лет; в 1844 г., по окончании университета, он уже уехал на Кавказ, так что его влияние на Толстого в эти годы было незначительно. Зато велико было влияние Сергея и Дмитрия. В Сергее Толстого восхищала черта, которой он сам вовсе не обладал и которую он называет «непосредственность, эгоизм»: «Я всегда себя помнил, себя сознавал, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и это портило мне радости жизни», — признается Толстой в «Воспоминаниях». Сергей был полною противоположностью: «Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная» (34, 387—388). Именно подражая Сергею (и, вероятно, его приятелю поляку Ячевскому), Толстой напускал на себя аристократический вид и проповедовал теорию «comme il faut». В. Назарьев вспоминает, как оттолкнул его сначала юный граф «напускною холодностью, щетинистыми волосами и презрительным выражением прищуренных глаз. В первый раз в жизни встретился мне юноша, преисполненный такой странной и непонятной для меня важности и преувеличенного довольства собою»48. Совсем иным было влияние Дмитрия, который был всего на год старше Толстого; в «Воспоминаниях» Толстой больше всего рассказывает именно о нем. Дмитрий был серьезен, задумчив и принципиален до фанатизма. Толстой особенно подчеркивает высоту его нравственных стремлений и демократичность его поведения. В Казани он не водился со светской молодежью, а выбрал себе в товарищи «жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова» (34, 381), которого называли Полубезобедовым49. Это тот самый Безобедов, с которым в «Юности» дружит Дмитрий Нехлюдов: «Безобедов был маленький, рябой, худой человечек, с крошечными, покрытыми веснушками ручками и огромными нечесанными рыжими волосами, всегда оборванный, грязный, необразованный и даже плохо занимавшийся... Единственная причина, по которой он (Дмитрий. — Б. Э.) мог выбрать его из всех товарищей и сойтись с ним, могла быть только та, что хуже Безобедова на вид не было студента во всем университете» (2, 206). Дмитрий колебал «комильфотные» принципы Льва. Его взгляды и поведение заставляли Толстого уже в это время задумываться над некоторыми социальными вопросами, одним из которых был вопрос о владении крепостными. Толстой пишет: «Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в 40-х годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о матерьяльном, но о нравственном состоянии крестьян. И в этом смысле была написана записка Митеньки очень серьезно, наивно и искренно. Он, малый 20 лет (когда он кончил курс), брал на себя обязанность, считал, что не мог не взять обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями. Так, как написано у Гоголя в письме к помещику. Я думаю, и помнится, что Митенька читал эти письма, что на них указал ему острожный священник. Так и начал Митенька свои помещичьи обязанности» (2, 383)50. Возможно, что беседы с братом об этих «обязанностях» и о письме Гоголя к помещику повлияли на решение Толстого, не теряя времени, перейти от жизни студенческой к жизни помещичьей — заняться «помещичеством».
В «Юности» рассказывается, как Николай Иртеньев и его товарищи учились в Московском университете; несомненно, однако, что материалом для этих глав послужили казанские впечатления и что этой повестью можно пользоваться как своего рода мемуаром. Естественно, что Толстой перенес место действия из Казани в Москву: в его задачу совершенно не входило описание провинциальной жизни и среды, потому что все дело было в истории внутреннего развития героя. Никаких специфически московских черт в «Юности» нет, между тем как некоторые детали казанского происхождения присутствуют. Во введении к «Воспоминаниям» Толстой сделал интересное признание: «В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть и неискренность: желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным, — мое демократическое направление» (34, 349). Итак, в обеих вещах (а в «Юности» особенно) есть «правда», т. е. автобиография. Это сказывается иногда в мелочах. Появившийся, например, в главе «Кутеж» бывший дерптский студент, поющий немецкую песню, — персонаж, характерный именно для казанского общества. Фамилия студента Нехлюдова, ставшая впоследствии своего рода псевдонимом самого Толстого, — казанского происхождения: в 1842-1846 гг. в Казанском университете (на юридическом факультете) учился Дмитрий Иванович Неклюдов. Иртеньев вспоминает, как он решил вести «расписание обязанностей и занятий», как разделил обязанности на три рода, как решил прежде написать «Правила жизни»; все это подтверждается документами казанского периода. Тема «комильфотности» и аристократичности, поданная с такой остротой и проходящая через всю «Юность», характерна не для Московского, а для Казанского университета. Именно в казанских условиях Толстой мог так резко чувствовать и подчеркивать свое социальное превосходство, свой «аристократизм». В Московском университете такое поведение было бы невозможно или встретило бы решительный отпор со стороны студентов. Стоит вспомнить слова Герцена в «Былом и думах»: «Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества... Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей белой костью или богатством, был бы отлучен "от воды и огня", замучен товарищами»51. Если таково было положение в 30-х годах, то в 40-х оно сказалось бы еще резче. В Казанском университете картина была иная. Все мемуаристы говорят о делении казанского студенчества на «аристократов» и «разночинцев» и об отчуждении этих двух групп друг от друга. Сплоченной и влиятельной студенческой «интеллигенции», подчиняющей себе всех прочих, в Казани не было. Положение изменилось после 1848 г., когда Толстой уже уехал из Казани: «В университет перешло несколько молодых людей из Петербурга. Эти молодые люди принадлежали к обществу Петрашевско- го, Спешнева, Достоевского, Филиппова и пр. и к примыкавшим к ним кружкам... На университет пахнул свежий западный ветер. Павлуше (т. е. Берви. — Б. Э.) было ближе всего сойтись с ними, и он вскоре сделался интимным членом их кружка. Они взаимно развивали и вырабатывали друг друга и сами не заметили того, как они породили из себя явление оригинальное и небывалое не только в университете, но даже в городе... Это была запорожская сечь среди города и студенчества, это было интеллигентное казачество»52. Так пишет о Казанском университете В. В. Берви (будущий автор знаменитой книги «Положение рабочего класса в России» — Н. Флеровский) в своем автобиографическом романе «На жизнь и смерть».
В. Берви, учившийся вместе с Толстым на юридическом факультете, с презрением говорит о «золотой молодежи». Толстой встречался с Берви (в «Журнале ежедневных занятий» есть запись: «Берви помешал»; 46, 245), но отношения их, как видно, были неприязненными. Это отразилось впоследствии, когда Берви (под псевдонимом С. Навалихина) напал на «Войну и мир» в статье «Изящный романист и его изящные критики», где сравнивал Толстого с «ограниченным, но речистым унтер-офицером»53. В представлении Берви автор «Войны и мира» был тем же самым «комильфотным» аристократом, каким он знал его в Казани: «Человек (пишет он об Андрее Болконском. — Б. Э.), который распоряжается жизнию и счастьем десятков тысяч рабочих сил и не в силах понять последствия и значение такого простого факта, как освобождение крестьянина от барщины, показывает ясно, что он не имеет ни малейшего понятия ни о своих обязанностях, ни о положении своем в обществе»54. Этими словами Берви метил, конечно, не только в «сиятельного героя» романа, но и в его сиятельного создателя — бывшего представителя казанской «золотой молодежи». Возможно, что Толстой имел в виду Берви, когда описывал в «Юности» (в главе «Университет») студента Оперова — «скромного, очень способного и усердного молодого человека, который подавал всегда руку, как доску, не сгибая пальцев и не делая ею никакого движения» (2, 192). Завязавшиеся между Иртеньевым и Оперовым отношения испортились после того, как Иртеньев дал ему понять свое социальное превосходство: «Я нашел нужным раз в разговоре объяснить ему, что моя матушка, умирая, просила отца не отдавать нас в казенное заведение, и что я начинаю убеждаться в том, что все казенные воспитанники, может, и очень учены, но они для меня... совсем не то, се ne sont pas des gens comme il faut, сказал я, заминаясь и чувствуя, что я почему-то покраснел. Оперов ничего не сказал мне, но на следующих лекциях не здоровался со мною первый, не подавал своей дощечки, не разговаривал, и когда я садился на место, то он бочком, пригнув голову на палец от тетрадей, делал как будто вглядывался в них» (2,193). «Демократическое направление», которого на самом деле (как утверждает Толстой) у него в казанский период не было, сказывается в тех главах «Юности», где описываются встречи Иртеньева со студентами-разночинцами. Толстой писал эти главы в 1856 г.; в них, таким образом, могли отразиться впечатления и мысли петербургского периода — беседы в «Современнике», встречи с Чернышевским, Некрасовым, Тургеневым и др. В главе «Новые товарищи» Иртеньев рассказывает, как обнаружилось, что студенты-демократы знают и понимают литературу лучше его: «Пушкин и Жуковский были для них литература (а не так, как для меня, книжки в желтом переплете, которые я читал и учил ребенком). Они презирали равно Дюма, Сю и Феваля и судили, в особенности Зухин, гораздо лучше и яснее о литературе, чем я, в чем я не мог не сознаться...55 Так что же такое было та высота, с которой я смотрел на них? Мое знакомство с князем Иваном Иванычем? Выговор французского языка? дрожки? голландская рубашка? ногти? Да уж не вздор ли все это? — начинало мне глухо приходить иногда в голову под влиянием чувства зависти к товариществу и добродушному, молодому веселью, которое я видел перед собой» (2, 218-219). Интересно объяснение того, почему Иртеньев, несмотря на все свое желание, никак не мог сойтись с демократами: «Я чувствовал себя перед ними виноватым и, то смиряясь, то возмущаясь против своего незаслуженного смирения и переходя к самонадеянности, никак не мог войти с ними в ровные, искренние отношения» (2, 217). Весьма вероятно, что такого рода места в «Юности» отражают позднейшие отношения и чувства Толстого; к ним относится то впечатление «неискренности», о котором он говорит в «Воспоминаниях». Однако этим не снимается самый факт встреч Толстого-студента с «некомильфотными» товарищами и последующих размышлений, которые могли быть зародышем его будущих моральных и социальных исканий. В этом смысле существенно и характерно признание Иртеньева после проведенного у этих товарищей вечера. «Я... колебался, с одной стороны, между уважением к ним, к которому располагали меня их знания, простота, честность и поэзия молодости и удальства, с другой стороны, между отталкивающей меня их непорядочной внешностью» (2, 217).
«Отрочество» кончается рассказом о том, как под влиянием Дмитрия Нехлюдова Иртеньев усвоил и его направление, сущность которого составляло «восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью, — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым» (2, 75). «Юность» начинается продолжением этой темы — решением начать «прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им... Мне был в то время шестнадцатый год в исходе» (2,79). Это уже никак не «выдумка»: именно такие мысли и намерения составляют идейный центр казанского дневника и «Правил жизни». Толстой подробно рассказывает, как Иртеньев решил вести «расписание обязанностей и занятий», как разделил обязанности на три рода (на обязанности «в отношении к ближним, к себе, к богу»; 2, 97), как решил прежде всего написать «Правила жизни». Все это чистейшая автобиография, подтверждаемая казанскими рукописями. Толстой рассказывает далее о судьбе этих «Правил», как бы подводя итог казанскому дневнику и пользуясь им: «Тетрадь с заглавием Правила жизни тоже была спрятана с черновыми ученическими тетрадями. Несмотря на то, что мысль о возможности составить себе правила на все обстоятельства жизни и всегда руководиться ими нравилась мне, казалась чрезвычайно простою и вместе великою, и я намеревался все-таки приложить ее к жизни, я опять как будто забыл, что это нужно было делать сейчас же, и всё откладывал до какого-то времени» (2, 97). Так в «Юности» зафиксирован момент перехода от «метафизических рассуждений», о которых говорится в конце «Отрочества» («когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их» (2, 73)), к практической философии, к вопросам деятельности и поведения — момент, о котором была речь в связи с философскими набросками и дневником 1847 г. Кто бы ни был прототипом Дмитрия Нехлюдова (отчасти им был, несомненно, брат Дмитрий56, но, как всегда у Толстого, не только он), важно то, что все эти «моральные открытия» совершались не в одиночку, а при помощи казанских товарищей, как об этом и сказано в приведенной в начале главы цитате из «Казаков».
Студенческий период заканчивается работой над «Наказом» Екатерины. Впоследствии Толстой говорил: «Как это ни странно сказать, работа с Наказом и Esprit des lois... открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет с своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей» (34, 398). Решение бросить университет подготовлялось, очевидно, заранее, но по записям дневника этого не видно: вмарте 1847 г., кроме работы над «Наказом», Толстой занимается публичным и уголовным правом, «институциями» и римским правом, латинским языком — как будто готовится к весенним экзаменам. Внешним толчком к уходу был, по-видимому, раздел имения (11 апреля 1847 г.), совершенный в связи с тем, что Сергей и Дмитрий кончали университет57. 12 апреля Толстой подал прошение об увольнении из университета «по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам», а 14 апреля провел в имении Юшковых (в деревне Паново) — вероятно, на семейном совете58. В записи от 17 апреля говорится о «переходе от жизни студенческой к жизни помещичьей» как о вопросе, в решении которого сыграли роль «внешние обстоятельства», но Толстой занят внутренним смыслом и значением этого жизненного перелома: «Перемена в образе жизни должна произойти. Но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души» (46, 30). Цель жизни определяется здесь как «всевозможное способствование к всестороннему развитию всего существующего» (первоначально было написано — «развитию человечества»). Эта мысль обосновывается последовательно построенным логическим рассуждением: «Начну ли я рассуждать, глядя на природу... Стану ли я рассуждать, глядя на историю... Стану ли рассуждать рационально, т. е. рассматривая одни душевные способности человека... Стану ли рассуждать, глядя на историю философии... Стану ли рассуждать, глядя на богословию...» (46, 30-31) — всюду Толстой видит стремление к развитию. Рассуждение кончается словами: «Я был бы несчастливейший из людей, ежели бы не нашел цели для моей жизни — цели общей и полезной, полезной потому, что бессмертная душа, развившись, естественно перейдет в существо высшее и соответствующее ей. — Теперь же жизнь моя будет вся стремлением деятельным и постоянным к этой одной цели» (46, 31). Так «переход от жизни студенческой к жизни помещичьей» был осмыслен как переход от жизни умозрительной к жизни деятельной. Это зафиксировано в плане второй половины «Юности» (неосуществленной), где намечена перспектива глав, относящихся к «третьей зиме», т. е. именно к 1846/47 г. (третья университетская зима): «Володя уже рассудителен, практичен, разочарован. Я философ... Я болен и выхожу из университета, соединяю философию с практикой. Еду в Хабаровку хозяйничать» (2, 341).
Открывшаяся перед Толстым «новая область самостоятельного умственного труда» представляла собою, таким образом, соединение двух сторон деятельности: развития самого себя и способствования к развитию всего существующего. К первой сфере относится грандиозный план, который намечен для осуществления в деревне в течение двух лет и из которого видно, что Толстой вовсе не был намерен бросить занятия науками: «1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику, гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила. 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать» (46, 31). Это целый университет на дому по индивидуальной программе, составленный с явным практическим уклоном; обращает на себя внимание полное отсутствие занятий философией — она, очевидно, подразумевается только в «курсе юридических наук», как исключительно практическая. Отзвуком этого плана является первая яснополянская запись: «Ах, трудно человеку развить из самого себя хорошее под влиянием одного только дурного. Пускай не было бы хорошего влияния, но не было бы и дурного, и тогда бы в каждом существе дух взял бы верх над материей; но дух развивается различно. Или развитие его в каждом существе отдельно составляет часть всеобщего развития. Или упадок его в отдельных существах усиливает его развитие во всеобщем» (46, 32). Замечательно, что Толстого беспокоит именно эта проблема — соотношения частного и общего (личности и человечества) — проблема, столь характерная и злободневная для «людей сороковых годов», для Белинского, Герцена, В. Майкова, В. Милютина и др.
Вторая сфера деятельности, намеченной в деревне, не отражена в дневнике, потому что Толстой перестал его вести (после 16 июня 1847 г.); о ней можно составить себе представление по «Роману русского помещика». В первой редакции этого неосуществленного романа (1852 г.) Толстой рассказывает, как Дмитрий Нехлюдов бросил университет и уехал в полученную им по разделу деревню (Красные Горки), откуда написал своей родственнице: «Я принял решение, от которого должна зависеть участь моей жизни: я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее... Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я нашел, что главное зло заключается в самом жалком бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением.... Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться для счастия этих 700 человек, за которых я должен буду отвечать богу? Не подлость ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия. И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая блестящая, благородная карьера. Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином; а для того, чтобы быть хозяином, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов...» (4, 368, 371). Беседы с братом Дмитрием и читанное им письмо Гоголя к русскому помещику не прошли для Толстого даром59, как не прошло даром все пережитое продуманное и прочитанное в казанские годы.
23 апреля 1847 г. Толстой выехал из Казани в Ясную Поляну.
ТОЛСТОЙ НА КАВКАЗЕ (1851-1853 гг.)
1
Брат Николай, видя, как не ладится жизнь Льва в Ясной и в Москве, давно звал его к себе на Кавказ; вопрос был, по-видимому, решен при свидании в Москве. В марте 1851 г. Толстой пишет Т. А. Ергольской (по-французски): «Приезд Нико- леньки был для меня очень приятной неожиданностью, так как я почти потерял надежду, что он ко мне приедет. — Я так ему обрадовался, что даже несколько запустил свои обязанности... Теперь я снова в одиночестве, и в полном одиночестве, нигде не бываю и никого не принимаю к себе. — Строю планы на весну и лето, одобрите ли вы их? К концу мая приеду в Ясное, проведу там месяц или два, стараясь как можно дольше задержать там Николеньку, а потом с ним вместе съезжу на Кавказ (все это в том случае, ежели мне здесь ничего не удастся» (59, 92). На деле все вышло раньше: 2 апреля Толстой приехал в Ясную Поляну, а 20 апреля уже выехал с братом в Москву, а оттуда — на Кавказ, через Саратов и Астрахань. 30 мая братья приехали в станицу Старогладковскую. В тот же вечер Толстой записал в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже» (46, 60).
Жизнь явно начиналась заново. Позади остался целый период — исканий, противоречий, самоиспытывания, борьбы с собой и пр. Замечательные итоги этому периоду Толстой подвел позже, в 1858 г., когда после «Юности» взялся снова за «Казаков». В черновой редакции главы «Оленин» он дал себе полную волю; перед нами (как это было и с «Юностью») — несомненный и очень драгоценный мемуар, в котором Толстой сам раскрывает внутреннее содержание своего юношеского периода и своей молодости. Он пишет: «С 18 лет еще только студентом Оленин был свободен... как только бывали свободны русские люди. В 18 лет у него не было ни семьи, ни веры, ни отечества, ни нужды, ни обязанностей, был только смелый ум, с восторгом разрывающий все с пелен надетые на него оковы, горячее сердце, просившееся любить, и непреодолимое желание жить, действовать, идти вперед, вдруг идти вперед, по всем путям открывавшейся жизни» (6, 246). Таково было, действительно, и положение и душевное состояние юного Толстого, когда он решил бросить университет и кинуться в жизнь — «вдруг идти вперед». Далее Толстой говорит об этом своем раннем периоде с еще большими подробностями — о периоде, когда, после смерти отца и переезда в Москву, «началось вообще разрушение того детского мира»: «Очень скоро Митя начал думать (еще до поступления в университет), что тетка его очень глупа, несмотря на то, что всегда говорит так кругло, и несмотря на то, что сам князь Михаил к ней ездит и целует ее мягкую белую руку.
Долго он колебался, все предполагая умышленную внешность глупости, скрывающую глубокие вещи. Но когда ему минуло 16 лет и он принял от нее именье и советы, он окончательно убедился в этом, — и открытие это доставило ему величайшее наслаждение. Это был первый шаг во вновь открытую землю, товарищи по университету делали такого же рода открытия и сообщали их, и Оленин с жаром молодости предался этим открытиям, все расширяя и расширяя их поприще. Понемногу стали открываться необыкновенные вещи. Открылось, что все наше гражданское устройство есть вздор, что религия есть сумасшествие, что наука, как ее преподают в университете, есть дичь, что сильные мира сего большей частью идиоты или мерзавцы, несмотря на то, что они владыки. Что свет есть собрание негодяев и распутных женщин и что все люди дурны и глупы. И еще, еще, и все ужаснее открывались вещи. Но все эти открытия не только не грустно действовали на молодую душу, но доставляли ей такое наслаждение, которое могло бы доставить только открытие совсем противное, что все люди умны и прекрасны» (6, 247).
В окончательном тексте все это отсутствует, поскольку для характеристики Оленина такие психологические подробности были не нужны. Толстой явно увлекся воспоминаниями о своей молодости и написал то, что ему не удалось написать ни в «Юности», ни в предполагавшейся четвертой части. Автобиографизм этого наброска к «Казакам» дошел до того, что к словам о «сильных мира сего» на полях записано: «Он учился презирать Закревского»; речь идет о том самом московском генерал-губернаторе, в доме которого Толстой бывал в 1850—1851 гг. О себе самом говорит Толстой и дальше, разъясняя парадоксальное сочетание полнейшего скептицизма с жизненной энергией: «Это было потому, что все те же люди, только стоило им захотеть и послушаться Оленина, они могли бы вдруг сделаться так умны и прекрасны. Эта молодая душа чувствовала, что она сама прекрасна, и совершенно удовлетворялась и утешалась этим. Вследствие этого молодой Оленин не только не казался мизантропом, напротив, поглядев на него, когда он спорил с товарищами или боролся с ними и пробовал свою силу, или когда Оленин подходил к женщине и робея стоял у двери на бале, поглядев на его румяные щеки, здоровые плечи, быстрые движенья, в особенности на его блестящие, умные глаза и добрую, добрую, несколько робкую улыбку, всякий бы сказал, что вот счастливый молодой человек, верящий во все хорошее и прекрасное. — А он был отчаянный скептик, разрушивший весь существовавший мир и очень довольный тем, что разрушил» (6, 247). Далее Толстой прямо объясняет самую возможность такого рода противоречий в молодости: «В первой молодости то хорошо, что человек живет разными сторонами своего существа, независимо одна от другой. — Ум давно уже объяснил ему, что генерал-губернатор есть идиот, а он все-таки изо всех сил желает, чтобы его рука была пожата рукою генерал-губернатора. Ум доказал, что свет есть уродство, а он с трепетом, волнением входит на бал и ждет, ждет чего-то волшебно счастливого от этого ужасного света. Профессора наши только говорят вздор, а вздор этот он жадно всасывает в себя и на нем строит дальнейшие скептические рассуждения. Игра, любовь, все это — сумасшествие, а он отдается этому сумасшествию. Так для Оленина все эти осужденные им приманки жизни имели власть, от которой он и не думал отделываться, и только чем больше отдавался одной из них, тем больше осуждал ее... Университетское время прошло в этих открытиях и в бессознательных попытках найти жизнь, где все было легко и хорошо. Но настало время жить и действовать среди этих безобразных людей и учреждений! И Оленин стал жить и пошел вдруг по всем путям, открывшимся перед ним: наука, слава, любовь, свет, кутежи, игра. Все это было вздор, но тянуло ко всему» (6, 247-248).
Этот итог молодости служит превосходным комментарием ко всему периоду между Казанью и Кавказом и бросает яркий свет на природу дневников и «Журнала для слабостей». Перед нами богатая, страстная натура, которая одновременно тянется и ко всем «приманкам жизни» и к идеалу совершенства. Все надо испытать, через все надо пройти — хотя бы для того, чтобы все это объявить «вздором» и отвергнуть. Сила отрицания растет вместе с силой соблазна. Среди записей при чтении книг 1851 г. есть одна очень туманная, но явно относящаяся к вопросу об этом противоречии. Толстой пишет: «Что натуры богатые ленивы и мало развиваются, это, во-первых, мы видим в действительности, во-вторых, ясно, что несовершенные натуры стремятся раскрыть мрак, который покрывает для них многие вопросы, и достигают усовершенствования и приобретают привычку работать. Потом: труды, предстоящие натуре богатой, чтобы идти вперед, гораздо больше и не пропорциональны с трудами натуры несовершенной в дальнейшем развитии» (46, 70). Под «натурой богатой» Толстой разумеет, очевидно, себя. Запись отражает его размышления о самом себе — о своем медленном развитии, о неспособности к постоянному труду и к последовательному совершенствованию. В дневнике Толстой постоянно упрекает себя в этих недостатках; здесь он находит им объяснение и оправдание. Богатым натурам труднее развиваться и идти вперед, чем натурам бедным, «несовершенным». Своего Оленина Толстой изображает именно как «натуру богатую». Оглядываясь на свою жизнь в 1847-1851 гг., Толстой пишет: «Пять лет прожил так молодой человек полным хозяином своего довольно большого состояния, числясь на службе, то в Москве, то в Петербурге, то в деревне, ничего не любя горячо, ничего не делая и все собираясь что-то сделать. Пускай рассудители-мудрецы осуждают прошедшее молодое поколение за праздность; я люблю эту праздность людей, оглядывающихся вокруг себя и не сразу решающихся положить куда-нибудь всю ту силу, которую они вынесли из юности. Плохой юноша, выйдя на свет, не задумывался, куда положить всю эту силу, только раз бывающую в человеке. Не силу ума, сердца, образования, а тот не повторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть молодости сделать из себя все, что он хочет, и, как ему кажется, сделать из всего мира все, что он хочет» (6, 248). Это написано совсем в тоне Герцена, оправдывающего в «Былом и думах» «людей сороковых годов»; вполне возможно, что Толстой уже прочитал в «Полярной звезде» повесть Герцена о своей молодости. Видно также, что это написано уже после «Рудина» и литературы о нем. Именно в этой атмосфере Толстой дает своему Оленину (и тем самым своей молодости) не только психологическую, но и историческую характеристику, связывая его поведение с особенностями николаевской эпохи. Вот эта замечательная характеристика, подтверждающая связь Толстого с 40-ми годами: «Странно подделывалась русская молодежь к жизни в последнее царствование. Весь порыв сил, сдержанный в жизненной внешней деятельности, переходил в другую область внутренней деятельности и в ней развивался с тем большей свободой и силой. Хорошие натуры русской молодежи сороковых годов все приняли на себя этот отпечаток несоразмерности внутреннего развития с способностью деятельности, праздного умствования, ничем не сдержанной свободы мысли, космополитизма и праздной, но горячей любви без цели и предмета» (6, 246). Так определил Толстой сущность так называемых "лишних людей" — по следам Тургенева и Герцена. Свою молодость он, очевидно, тоже связывал с этими чертами николаевской эпохи. В конспекте эти черты эпохи определены еще резче и точнее в политическом отношении: «Отъезд из Москвы, его положение в свете, его странное Николаевское развитие, отрицать тяжело, соглашаться нельзя, жить хочется» (6, 259). Замечательная формула, явившаяся, очевидно, плодом бесед и с Тургеневым, и с Анненковым, и с В. Боткиным, — формула, за которой чувствуется фигура Белинского с его попыткой «примирения с действительностью» («отрицать тяжело»).
Этот мемуарный набросок об Оленине заканчивается его отъездом на Кавказ. Как объясняет Толстой это внезапное решение? Он рассказывает, как Оленин увлекался светской жизнью, как потом, «вследствие щелчка самолюбию или усталости, бросился в разгульную жизнь, страстно играл в карты, пил и ездил к цыганам. Потом, промотавшись, уезжал в деревню, много читал, пробовал хозяйничать и опять бросал и опять, надеясь, что он ошибся, возвращался к прежней жизни» (6, 249). Дело кончилось тем, что он проиграл больше, чем мог заплатить. «Тут он в первый раз испытал отчаяние и ему уже казалось, что все кончено и жизнь испорчена навсегда. Но жизнь не портится, пока есть молодые силы жизни». Долг был уплачен — и старик дядя предложил Оленину «старое известное средство для поправки и денежных дел, и характера, и карьеры — службу на Кавказе... Много должно было спасть спеси с молодого Оленина, чтобы послушаться совета на себе испытать меру, употребляемую для бесполезных и неисправных мальчишек-шалопаев... Он поступил юнкером в первую батарею, какая попалась из наиболее действующих. Трудно передать, как сам себе объяснял Олений причину своей поездки на Кавказ. Война, по его понятиям, вообще была самая последняя деятельность, которую мог избрать благородный человек, особенно война на Кавказе с несчастным рыцарским племенем горцев, отстаивающих свою независимость. Он говорил себе, что ехал для того, чтобы быть одному, чтобы испытать нужду, испытать себя в нужде, чтобы испытать опасность, испытать себя в опасности, чтоб искупить трудом и лишеньями свои ошибки, чтобы вырваться сразу из старой колеи, начать все снова, и свою жизнь и свое счастье. А война, слава войны, сила, храбрость, которые есть во мне! А природа, дикая природа! думал он. Да, вот где счастье! решил он и, счастливый будущим счастьем, спешил туда, где его не было» (6, 250).
Итак, решение ехать на Кавказ было подсказано традицией («старое известное средство»): кавказская война давала возможность всякому «мальчишке-шалопаю» отличиться и поправить свои дела. Брат Николай имел в виду, конечно, именно это; недаром Сергей называл Толстого «пустяшным малым». Однако результаты жизни на Кавказе получились совсем не традиционные: Толстой стал писателем.
Уже в первой дневниковой записи (от 30 мая) говорится: «Хотел бы писать много: о езде из Астрахани в станицу, о казаках, о трусости татар, о степи...» (46, 60). Первое письмо к Т. А. Ергольской наполнено описанием местности и людей. Понемногу и в дневнике начинают появляться наброски пейзажей и портреты знакомых людей. Во всех этих набросках и опытах заметно сказывается одна черта: решительное стремление передать всю сложность и полноту своих впечатлений и наблюдений, не считаясь с литературной традицией или сознательно нарушая ее. Этому способствовала острота и свежесть самых впечатлений от незнакомых прежде кавказской природы и окружающих людей. Пересмотр традиции и борьба с ней идет по всем линиям — как в отношении анализа своей душевной жизни, так и в отношении изображения действительности. Основную проблему Толстой формулирует сам с необыкновенной точностью, показывающей ясность его теоретического сознания — сознания очередных задач литературы. В дневнике от 3 июля 1851 г. записано: «В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастие было бы соединение того и другого» (46, 65). Это та самая центральная проблема творчества, которая волновала и Лермонтова («Не верь себе...», «Как часто, пестрою толпою окружен...») и Гоголя. Толстой не отказывается от лирики, от внесения в окружающую действительность элементов мечты и настроения, но только при условии точной и верной передачи самой действительности. Приведенной формуле предшествует опытный набросок ночи и рассуждение по поводу этого наброска. Задача наброска ясная: собрать вместе все разрозненные и многообразные впечатления и ощущения. Толстой пишет: «Сейчас лежал я за лагерем. Чудная ночь! Луна только что выбиралась из-за бугра и освещала две маленькие, тонкие, низкие тучки; за мной свистел свою заунывную, непрерывную песнь сверчок; вдали слышна лягушка, и около аула то раздается крик татар, то лай собаки; и опять все затихнет, и опять слышен один только свист сверчка и катится легенькая, прозрачная тучка мимо дальних и ближних звезд». Далее следует характерное размышление, самая наивность которого обнаруживает подлинность и силу поставленного вопроса: «Я думал: пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это. Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составят слова, слова — фразы; но разве можно передать чувство. Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описание недостаточно» (46,65). Толстой сознательно обходится без поэтических шаблонов, без сравнений — и это подчеркнуто им самим при описании другого ночного пейзажа: «Третьего дня ночь была славная, я сидел в Старогладковской у окошка своей хаты и всеми чувствами, исключая осязания, наслаждался природой. — Месяц еще не всходил, но на юго-востоке уже начинали краснеть ночные тучки, легкий ветерок приносил запах свежести. — Лягушки и сверчки сливались в один неопределенный, однообразный ночной звук. Небосклон был чист и засеян звездами... Не знаю, как мечтают другие, сколько я ни слыхал и ни читал, то совсем не так, как я. — Говорят, что, смотря на красивую природу, приходят мысли о величии бога, о ничтожности человека; влюбленные видят в воде образ возлюбленной. Другие говорят, что горы, казалось, говорили то-то, а листочки то-то, а деревья звали туда-то. — Как может прийти такая мысль. Надо стараться, чтобы вбить в голову такую нелепицу. Чем больше я живу, тем более мирюсь с различными на- тянутостями (affectation) в жизни, в разговоре и т. д.; но к этой натянутости, несмотря на все мои усилия, привыкнуть не могу» (46, 80-81). И далее — против мечтательства: «Когда я занимаюсь тем, что называют мечтать, я никогда не могу найти в голове моей ни одной путной мысли; напротив, все мысли, которые перебегают в моем воображении, всегда самые пошлые — такие, на которых не может остановиться внимание. И когда попадешь на такую мысль, которая ведет за собою ряд других, то это приятное положение моральной лени, — которая составляет мое мечтание, исчезает, и я начинаю думать» (46, 81).
В дневнике от 4 июля Толстой делает опытный набросок портрета, который начинается теми же словами, какими кончается первый набросок пейзажа: «Попробую набросать портрет Кноринга. Мне кажется, что описать человека собственно нельзя; но можно описать, как он на меня подействовал. Говорить про человека: он человек оригинальный, добрый, умный, глупый, последовательный и т. д... слова, которые не дают никакого понятия о человеке, а имеют претензию обрисовать человека, тогда как часто только сбивают с толку» (46, 67). Следует портрет офицера Кноринга, намеренно совершенно аналитический, составленный как бы в процессе наблюдения со стороны и потому намеренно противоречивый. Значительную часть этого портрета занимает описание наружности: «Кноринг человек высокий, хорошо сложенный, но без прелести. Я признаю в сложении такое же, ежели не больше выражения, чем в лице: есть люди приятно и неприятно сложенные. — Лицо широкое, с выдавшимися скулами, имеющее на себе какую- то мягкость, то, что в лошадях называется "мясистая голова". Глаза карие, большие, имеющие только два изменения; смех и нормальное положение. При смехе они останавливаются и имеют выражение тупой бессмысленности» (46,67). Тут Толстой явно опирается на пример Лермонтова, создавшего таким аналитическим методом (со стороны) портрет Печорина. Набросанный в дневнике от 10 августа 1851 г. портрет казака Марки составлен уже твердо и принципиально из описания характерных деталей внешности, позы, поведения и разговора — деталей, внимательно наблюденных со стороны: «Марка человек лет 25, маленький ростом и убогий, у него одна нога несоответственно мала сравнительно с туловищем, а другая несоответственно мала и крива сравнительно с первой ногой; несмотря на это, или скорее поэтому, он ходит довольно скоро, чтобы не потерять равновесие, с костылями и даже без костылей, опираясь одной ногою почти на половину ступни, а другою на самую цыпочку. Когда он сидит, вы скажете, что это среднего роста мужчина и хорошо сложенный. — Замечательно, что ноги у него всегда достают до пола, на каком бы высоком стуле он ни сидел. — Эта особенность в его посадке всегда поражала меня; сначала я приписывал это способности вытягивания ног; но изучив подробно, я нашел причину в необыкновенной гибкости спинного хребта и способности задней части принимать всевозможные формы. — Спереди казалось, что он не сидит на стуле, а только прислоняется и выгибается, чтобы закинуть руку за спинку стула (эта его любимая поза); но обойдя сзади, я, к удивлению моему, нашел, что он совершенно удовлетворяет требованиям положения сидящего» (46, 84). Так взят и развит метод Лермонтова: «Его (Печорина. — Б. Э.) походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный признак некоторой скрытности характера... Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки» и т. д. Такой метод подчеркивает как объективность наблюдателя (независимость автора от героя), так и стремление дать верную, точную и индивидуальную (а потому и противоречивую) характеристику человека.
Надо остановиться еще на одной записи, относящейся уже к области самоанализа. Эта запись интересна тем, что она лишена обычной для прежнего дневника «кондуитности» и представляет собой своего рода этюд к будущим внутренним монологам толстовских персонажей, тоже противопоставленный литературной традиции — романтическим шаблонам. Толстой анализирует чувство грусти, охватившее его без всякой видимой причины: «Главное, я ничего похожего на ту грусть, которую испытываю, не нахожу: ни в описаниях, ни даже в своем воображении» (46, 47) (ср. выше о мечтании. — Б. Э.). Далее отвергаются все традиционные мотивы, составляющие обычное содержание романтической грусти: «Жалеть мне нечего, желать мне тоже почти нечего60, сердиться на судьбу не за что. Я понимаю, как славно можно бы жить воображением; но нет. Воображение мне ничего не рисует — мечты нет. Презирать людей — тоже есть какое-то пасмурное наслаждение, — но и этого я не могу, я о них совсем не думаю... Разочарованности тоже нет, меня забавляет все» (46, 77). Толстой перебрал все основные романтические темы и пришел к выводу, что ничего похожего в его душевном состоянии нет. То же самое в отношении к любви: «Не знаю, что называют любовью. Ежели любовь то, что я про нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал» (46, 79). Итак, природа не такова, как ее описывают, люди — тоже; мечта, грусть, любовь — все это на самом деле совсем не похоже на то, как эти чувства изображаются в литературе.
В наброске 1852 г. («Поездка в Мамакай-юрт») Толстой сам указывает литературные источники своих поэтических представлений о Кавказе: «Когда-то в детстве или первой юности я читал Марлинского и, разумеется, с восторгом, читал тоже не с меньшим наслаждением кавказские сочинения Лермонтова. Вот все источники, которые я имел для познания Кавказа... Но это было так давно, что я помнил только то (поэтическое) чувство, которое испытывал при чтении, и возникшие поэтические образы воинственных черкесов, голубоглазых черкешенок, гор, скал, снегов, быстрых потоков, чинар... бурка, кинжал и шашка занимали в них не последнее место. — Эти образы, украшенные воспоминанием, необыкновенно поэтически сложились в моем воображении. Я давно уже позабыл поэмы Марлинского и Лермонтова, но в моем воспоминании составились из тех образов другие поэмы, в тысячу раз увлекательнее первых» (3, 215). Действительность разрушила все эти романтические представления — и Толстой решительно отказывается от них, предлагая читателям сделать то же самое: «Чтобы поставить воображение читателя на ту точку, с которой мы можем понимать друг друга, начну с того, что черкесов нет — есть чеченцы, кумыки, абазехи и т. д., но черкесов нет. Чинар нет, есть буг, известное русское дерево, голубоглазых черкешенок нет (ежели даже под словом черкесы разуметь собирательное название азиатских народов) и мало ли еще чего нет. От многих еще звучных слов и поэтических образов должно вам будет отказаться, ежели вы будете читать мои рассказы» (3, 216). После слов о том, что читателям придется отказаться от многих звучных слов и поэтических образов, связанных с традиционным представлением о Кавказе, следует замечательная фраза: «Желал бы, чтобы для вас, как и для меня, взамен погибших, возникли новые образы, которые бы были ближе к действительности и не менее поэтичны» (3, 216). Толстой вовсе не для того борется с романтической традицией, чтобы заменить поэзию прозой, мечту — низкой действительностью. Недаром он занят был вопросом о том, как соединить мечту и действительность в жизни и в творчестве; недаром так поэтичны его первые наброски кавказских пейзажей и не случайно желание «перелить в другого свой взгляд при виде природы» (46, 65). Перейдя в кавказском наброске от предварительной беседы с читателем к самому описанию, Толстой говорит о барынях: «Барыни эти были, сколько я слышал, весьма достойные уважения барыни, но одно, чего я не мог простить им, это было то, что они жили в Чечне — на Кавказе — стране дикой, поэтической и воинственной (курсив мой. — Б. Э.) — так же, как бы они жили в городе Саратове или Орле. Жасминная помада прекрасная вещь и прюнелевые ботинки тоже; и зонтик тоже; но нейдут как-то они к моим понятиям о Кавказе» (3, 216-217). Итак, при всем отказе от «поэтических образов», навеянных чтением Марлинского и Лермонтова, Толстой не отказывается от поэзии вообще — наоборот: он считает своей обязанностью найти поэзию в самой действительности. Он так и говорит: «Слово далеко не может передать воображаемого, но выразить действительность еще труднее. Верная передача действительности есть камень преткновения для слова» (3, 216). Толстой ставит перед собой именно реалистические задачи (не «натура», а действительность) и в этом смысле стоит на высоте художественных требований, созданных новой эпохой. В черновой редакции «Детства» Толстой высмеивает манеру французских писателей (Бальзака, Ламартина) прибегать к сравнениям: «У французов есть странная наклонность передавать свои впечатления картинами. Чтобы описать прекрасное лицо — "оно было похоже на такую-то статую", или природу — "она напоминала такую-то картину", — группу — "она напоминала сцену из балета или оперы". Даже чувства они стараются передать картиной. Прекрасное лицо, природа, живая группа всегда лучше всех возможных статуй, панорам, картин и декораций». Эти слова кажутся цитатой из книги Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», утверждавшего, что прекрасное в жизни выше, чем прекрасное в искусстве, что действительность выше мечты и пр. Интересны и дальнейшие слова Толстого: «Вместо того, чтобы напомнить читателю, настроить воображение так, чтобы я понял идеал прекрасного, они показывают ему попытки подражаний» (7, 177). Не удивительно, что первые же произведения Толстого были так восторженно встречены редакцией «Современника» — не только Некрасовым и Тургеневым, но и Чернышевским.
2
Можно предвидеть, что художественная работа Толстого пойдет вначале по двум путям: по пути автобиографизма, подготовленного дневником, и по пути «верной передачи действительности». Эти два пути не разобщены для него и не находятся в противоречии, как то было у романтиков, поскольку он свободен от проблем и традиций романтического индивидуализма или субъективизма. Его самонаблюдение с первых же шагов имеет характер объективного изучения человеческой души, не затрудненной темами одиночества, мечтательства, разочарованности, презрения к людям и пр. Он охвачен пафосом открытия общих «моральных истин» и усовершенствования человеческой жизни. Такова принципиальная (теоретическая) основа его напряженного самонаблюдения и самоиспытывания, такова же и основа его художественного автобиографизма («История вчерашнего дня»): он возникает не на почве сознания замкнутости и отъединения (как, например, у юного Лермонтова), а наоборот — на почве глубокой заинтересованности в детальном изучении человека. В ранних философских набросках Толстой исходит из того, что основное стремление человека есть стремление к счастью, или «благосостоянию». Толстой утверждает: «Для познания философии, т. е. знания, каким образом направлять естественное стремление к благосостоянию, вложенное в каждого человека, надобно образовать и постигнуть ту способность, которой человек может ограничивать стремление естественное, т. е. волю, потом все способности человека к достижению блага. — (Психология)» (/, 229—230). Итак, именно психология оказывается основой философии, понятой как «наука жизни». Такова идейная основа юношеских дневников, художественно оформленная уже в «Истории вчерашнего дня». Перестройка мира (предварительно разрушенного, как рассказывает об этом сам Толстой в черновой редакции главы об Оленине) на основе тщательного изучения «моральной механики» человеческой души — таков основной творческий стимул Толстого, сказывающийся как в ранних дневниках с использованием «журнала слабостей» (изучение воли), так и в первых автобиографических произведениях (изучение «способностей»). Здесь заложены основы толстовского «психологизма»: не психология сама по себе («психологический анализ») нужна ему, не психология ради психологии, а открытие моральных истин, которые должны привести людей к «благосостоянию» и в существовании которых он твердо убежден.
Толстому как зачинателю казалось, что никто, кроме него, не может дойти до открытия этих истин; так он сам говорит, вспоминая «эти чудные незабвенные ранние утра от 4 до 8 часов», когда наедине сам с собой «перебирал все свои бывшие впечатления, чувства, мысли, поверял, сравнивал их, делал из них новые выводы и по-своему перестроивал весь мир божий»: «Я внутренно чувствовал, что, кроме меня, никто никогда не дошел и не дойдет по этому пути до открытия того, что открывал я» (2, 343, 344). На самом деле эти искания и «открытия» составляли одну из характерных черт эпохи, особенно ясно определившуюся после революционных событий 1848 г. Внимание направляется на изучение человеческой души — на человека, взятого интимно, на «психологию». Проблема общественно-политического устройства (и самая проблема истории) осложняется проблемой человеческой личности с ее потребностями, с ее естественным стремлением к «счастью». В русской философии и литературе это направление мысли приобрело особенно значительный смысл в связи с крепнувшей на протяжении 30-х годов реакцией. Надежды на историю не оправдались — надо было обратиться к другому, более реальному и, может быть, более надежному началу: к природе человека. Одним из первых заговорил об этом Лермонтов, прошедший весь путь последекабристских разочарований; в предисловии к «журналу» Печорина он смело и решительно заявил: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа». Это многозначительное заявление открывало новые горизонты для литературы. Герцен начинает усиленно говорить о важности изучения «частной жизни», ежедневных домашних отношений и рекомендует ввести употребление микроскопа в нравственный мир («Капризы и раздумье»)61. Это нисколько не противоречит характерному для эпохи увлечению идеями утопического социализма. Русский фурьеризм 40-х годов имел разные оттенки и истолкования; среди них важное значение имело учение о природе человека — о вложенных в него «страстях», от удовлетворения которых зависит счастье людей. В своем изложении учения Фурье петрашевец Н. Я. Данилевский (которого сами петрашевцы считали тогда одним из самых «ярых» фурьеристов) говорит: «Для определения законов междучеловеческих отношений имеем мы два источника наблюдений: самого человека и те формы общежития, в которых находим мы его теперь и в которых показывает нам его история. Формы общежития доселе всегда изменялись и по сущности своей могут изменяться еще; природа же человека всегда оставалась постоянною и в своей сущности никак измениться не может. Имея два данных, которые должно привести во взаимную соответственность, так сказать, приладить друг к другу — очевидно должно прилаживать то из них, которое изменить есть возможность, к тому, которое переменить не в нашей власти. Следовательно, дабы определить законы гармонического устройства междучеловеческих отношений, должно анализировать природу человека и по требованиям ее устроить ту средину(т. е. среду. — Б. Э.), в которой она должна проявляться»62. Поэтому главное внимание должно быть направлено (как утверждает Данилевский) не на «политическое устройство... человеческого общества», а на те «ежедневные, домашние, так сказать, будничные отношения людей... которые только для поверхностных наблюдателей могут казаться ничтожными, а которые в сущности играют самую важную роль в вопросе человеческого счастья»63. О том же говорит другой петрашевец, А. П. Беклемишев, в своем сочинении «О страстях и о возможности сделать труд привлекательным»: «Нужно согласить форму общественную с страстями, врожденными человеку, если хотим произвести целое стройное, а не беспорядочное. Но как согласить их? Для этого естественно представляются только два средства: или подвести страсти под известную данную форму общества, или устроить форму общественную, согласно врожденным страстям человека... Отнимем же все вековые предрассудки, страсти существуют в виде врожденных наклонностей, следовательно, нужно искать средства не подавить их, что невозможно, но употребить их на благо человека; а для этого разберем предварительно эти врожденные наклонности, страсти, определим и назовем их, одним словом — анализируем человека»6*.
Такова идейная, принципиальная почва для развития в 40—50-х годах художественного психологизма как метода не только познания «законов междучеловеческих отношений», но и перестройки этих отношений в целях достижения «гармонии». Это направление мысли порождено, конечно, разочарованием в «политике» и в истории — разочарованием, охватившим значительную часть русской передовой интеллигенции после неудачи 1825 г. и усилившимся после краха революционных надежд 1848 г. (ср. «Письма» Герцена). В этом смысле установка на «страсти», на «природу человека» (как на начало «вечное», неизменное) имела свои исторические основания, которые для того времени нельзя считать «реакционными», хотя они и таили в себе возможность получить в дальнейшем реакционный смысл. Дневники юного Чернышевского обнаруживают, например, несомненную близость к такого рода психологизму и по общему своему методу очень похожи на юношеские дневники Толстого; недаром именно Чернышевский первый понял и оценил силу и значение толстовского «психологического анализа» и сопоставил его с анализом Лермонтова. Более того: юношеская повесть Чернышевского «Теория и практика» (1849 ?) принципиально близка к «Истории вчерашнего дня» Толстого и представляет собою тоже ход от дневников к художественному творчеству. Замечательно, что Чернышевский, ничего не знавший о дневниках Толстого, но сам прошедший через эту школу, уверенно умозаключил от его произведений к предшествовавшему усиленному и систематическому самонаблюдению. «Та особенность таланта графа Толстого, о которой говорили мы выше, — писал он в статье 1856 г., — доказывает, что он чрезвычайно внимательно изучал тайны жизни человеческого духа в самом себе; это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность написать картины внутренних движений человеческой мысли, на которые мы обратили внимание читателя, но еще, быть может, больше потому, что дало ему прочную основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений»65. Чернышевский явно намекает здесь на то, что творчество Толстого имеет отнюдь не только «психологический» смысл («картины внутренних движений человеческой мысли»), а захватывает и гораздо большую область человеческих отношений и жизненных проблем.
Напряженный психологизм Толстого порожден его уверенностью в том, что основное стремление человека есть стремление к счастью, или «благосостоянию», а эта уверенность подсказана ему самой эпохой, искавшей выхода из исторических неудач и разочарований. Именно на этой почве возникло увлечение идеями Сен- Симона и Фурье, а затем — учением П. Леру и других утопистов. На этой же почве возродился интерес к Руссо как к родоначальнику учений о «естественном человеке». Идея «благосостояния» должна была привести Толстого к соприкосновению с утопическими идеями эпохи. Дело не в том, читал ли Толстой в эти годы сочинения утопистов и какие именно; он был человеком своего времени — и этого достаточно. «Всякий мыслитель выражает только то, — писал впоследствии сам Толстой, — что сознано его эпохой, и потому образование молодого поколения в смысле этого сознания совершенно излишне, — сознание это уже присуще живущему поколению» (8, 8; курсив мой. — Б. Э.). Это сказано на основании собственного опыта: когда он вступил в литературу, «сознание эпохи» в ее основных исканиях и стремлениях было в сильнейшей степени присуще ему, хотя на первый взгляд могло казаться, что он растет вне этого сознания. Именно на основе этого сознания возник его напряженный интерес к изучению природы человека и к открытию «моральных истин». За этим стоял вопрос: как добиться такого положения, при котором естественное стремление человека к счастью будет удовлетворено? На историю нет надежды — и характерно, что Толстой в эти годы относится к исторической науке совершенно отрицательно. Возражая против суждения Руссо о влиянии наук и художеств, Толстой пишет: «Одна из главных ошибок, делаемых большей частью думателей, есть та, что, сознав свою неспособность для решения вопросов из начал разума, они хотят решить философские вопросы исторически, забывая то, что история есть одна из самых отсталых наук и есть наука, потерявшая свое назначение» (7,222). Поэтому он ищет решения вопроса вне истории: «Ежели бы каждый стремился к своему благу, ища его вне себя, интересы частных лиц могли бы встречаться, и отсюда беспорядок. Но ежели каждый человек будет стремиться к своему собственному усовершенствованию, то порядок никак не может нарушаться, ибо всякий будет делать для другого то, что он желает, чтобы другой делал для него» (1, 229). Это наивно, но последовательно, поскольку отвергнуто представление о реальности и значении исторического процесса. Тут уже заложены основы и художественного метода, и будущего учения Толстого.
Интересно, что Н. Я.Данилевский, излагая учение Фурье, решает вопрос о достижении «гармонического устройства междучеловеческих отношений» очень сходно: «Как причины деятельности, т. е. как силы, страсти сами по себе ни добры, ни злы, а безразличны, но могут привести и к добру и к злу, смотря по тому, как будут направлены и какова та середина, в которой должны они проявляться. Вся задача общественная, следовательно, будет состоять в том, чтобы так устроить междучеловеческие отношения, чтобы страсти одних людей не сталкивались враждебно со страстями других; чтобы удовлетворение стремлений одного человека не влекло за собою нарушения интересов другого; другими словами: заменить борьбу частных интересов между собою и интереса частного с интересом общим — всегдашним совпадением этих интересов. Сделать так, чтобы то, что служит к удовлетворению моих стремлений, не только не вредило бы никому другому, но было бы согласно с выгодами всех, и наоборот»66. Это сходство не случайно: еще в Казани, а затем в Москве и Петербурге Толстой имел достаточно возможностей и поводов для того, чтобы проникнуться «сознанием эпохи». Петрашевец Д. Д. Ах- шарумов писал в своих «Признаниях»: «Отовсюду с разных сторон являются те же самые мысли, которые даже становятся модою между молодыми людьми, — ясно, что это есть влияние, следствие духа времени, который быстро распространяется и обнимает все наше поколение, и всякий из нас, кто особенным случаем, обстоятельствами какими-нибудь не удален от общества, и если у него в душе хоть несколько здравого смысла, — легко уже увлечен общим стремлением»67. Как ни своеобразно было положение и поведение юного Толстого по сравнению со своими будущими современниками, он не был настолько удален от общества или лишен «здравого смысла», чтобы этот «дух времени» прошел мимо него. Чтобы проникнуться этим «духом», незачем было непременно читать сочинения Фурье или быть петрашевцем — достаточно было встречаться с людьми или читать русские журналы. Среди московских друзей Толстого (еще с детства) был, например, кроме С. Колошина, В. А. Милютин — экономист, близко знакомый и с кружком Петрашевского и с учением Фурье. В 1847 г. Милютин напечатал в «Отечественных записках» и в «Современнике» ряд статей, в которых говорил о современных социальных вопросах и учениях. Одним из «коренных убеждений века» он считал «идеи о постоянном, постепенном, бесконечном усовершенствовании человечества»68. Эта идея была особенно решительно и страстно сформулирована в трактате П. Леру «О человечестве»: «Мы можем с уверенностью объявить сегодня великую истину, которая не была известна древним: человек может совершенствоватьсячеловеческое общество может совершенствоваться, человеческий род может совершенствоваться. Таков главный итог всех философских трудов в течение двух столетий»69. Это усовершенствование как для отдельного человека, так и для всего человечества в целом состоит, по словам Милютина, «в гармоническом всестороннем развитии его способностей и сил и в полном удовлетворении всем законным его потребностям, данным ему природой и развитым образованностью. Другими словами, истинное призвание человечества заключается в непрерывном стремлении к счастью, к блаженству, к развитию своего благосостояния в физическом, материальном, умственном и нравственном отношениях»70. Интересно, что к идеям французских утопистов Милютин относился скептически, хотя, как утверждает И. Г. Блюмин, он «уловил и развил идею, лежащую в основе теории цивилизации Фурье, — идею естественных законов, вытекающих из неизменной природы человека»71. Милютин считает, что в учениях утопического социализма «частные интересы» слишком подчинены общему: «В тех формах общественного устройства, которые придуманы новыми школами, личность человека или исчезает совершенно, или подвергается самым стеснительным ограничениям. Вместо того чтобы найти средства для примирения двух равно необходимых начал: индивидуализма и общинности, современные теории по большей части жертвуют первым в пользу второго и подчиняют деятельность неделимого известным правилам, исполнение которых не может обойтись без принуждения или самопожертвования»72. Эта защита «личности» от «форм общественного устройства», предлагаемых утопистами, — явление, характерное именно для русской мысли 40-х годов; из него исходит и Н. Я.Данилевский в своем изложении системы Фурье. Л. Райский правильно утверждал, что «не все русские ученики Фурье усматривали в доктрине своего учителя одно и то же действительное содержание; вариации бывали иной раз весьма значительны»73.
Толстой стоит тоже на точке зрения «неизменности» человеческой природы, стремящейся к счастью, к «благосостоянию». Важно, кстати, учесть, что терминология в его юношеских рассуждениях совершенно совпадает с терминологией эпохи: «благосостояние» (как термин, равнозначный понятию «счастье»), «частные интересы» и пр. Более того: из одной записи 1851 г. видно, что идеи утопического социализма были ему в это время уже известны и что он отнесся к ним сочувственно, хотя и с некоторым характерным недоверием (как ко всякой «политике»).
Среди тех выписок из книг и размышлений, о которых была речь выше, есть следующая: «Искали философальный камень, нашли много химических соединений. — Ищут добродетели с точки зрения социализма, т. е. отсутствия пороков, найдут много полезных моральных истин» (46, 72). Слово «философальный» указывает на французский источник этой записи («pierre philosophale» — философский камень алхимиков). Очень близкое к этому изречение имеется в книге П. Леру «О человечестве»: «Отыскивая философский камень, открыли химию; отыскивая высшее благо человечества, усовершенствовались»74. Однако полного совпадения нет — и трудно думать, что Толстой читал эту книгу, потому что никаких других следов ее чтения в дневнике нет; вернее, эта мысль П. Леру дошла до него каким- нибудь другим путем — тем более что она была, по-видимому, довольно распространена. Сходную мысль высказал, например, Достоевский в своих показаниях по делу петрашевцев: «Социализм — это наука в брожении, это хаос, это алхимия прежде химии, астрология прежде астрономии; хотя, как мне кажется, из теперешнего хаоса вырабатывается впоследствии что-нибудь стройное, благоразумное и благодетельное для общественной пользы, точно так же, как из алхимии выработалась химия, а из астрологии — астрономия»75. Важно, во всяком случае, то, что Толстой находится, несомненно, в сфере идей своего времени и что его первые художественные замыслы и опыты порождены кругом этих вопросов и идей. В частности, сведения о французских социально-утопических идеях Толстой мог почерпнуть хотя бы из романа Ж. Санд «Орас», который он читал в 1851 г. Рядом с Орасом, в котором брат Николай находил сходство с Толстым, в этом романе действует благородный и проникнутый передовыми идеями Арсен — одновременно «фурьерист, республиканец, сенсимонист и христианин» (горячий поклонник идей Ламеннэ)76. Его устами Ж. Санд излагает идеи П. Леру: «Речь идет теперь уже не о том, чтобы запугивать преступника страшной карой после смерти или обещать несчастному утешение по ту сторону могилы. В этом мире нужно установить высокую нравственность и общее благополучие — то есть равенство... Мы не принимаем веры, которая все переносит на небеса, которая равенство перед богом сводит к равенству после смерти, признанному не только христианством, но и язычеством»77 и т. д. В дневнике нет следов от чтения этих страниц романа, но надо сказать решительно, что в дневниках этих лет Толстой далеко не всегда записываетто, чего ожидает для себя исследователь: самое важное, сложное, относящееся именно к миру идей, часто отсутствует, потому что дневник имеет другую цель и большей частью чрезвычайно лаконичен. Толстой сам говорит об этом в дневнике 1852 г.: «Есть мысли, которые я сам себе не говорю; атак дорожу ими, что без них не было бы для меня ничего» (46, 102). Надо принять во внимание и то, что Толстой крайне нетерпелив — в частности, в отношении выписок из книг и записей по поводу чтения: «Выписок не делал, лень», «ленился делать выписки», «дома ленился выписывать», «выписки лень писать» — таковы постоянные упреки в дневнике 1851 г.
Итак, Толстой, при всем своеобразии своего умственного развития, своих традиций, навыков и положения, — все же человек, прошедший через идейную школу 40-х годов и впитавший «дух» этого времени, «сознание» этой эпохи. В частности, идея «счастья» как основного стремления человека пришла к нему из той сферы утопических идей, которыми была насыщена эта эпоха. Об этом, кстати сказать, говорили люди, судившие впоследствии о Толстом с самых разных и даже противоположных позиций. Так, философ-мистикА. А. Козлов осуждает Толстого за то, что в его миросозерцании отразились все те направления, которые «преобладали в Европе» «в 50-х, 60-х и 70-х годах»: «материализм, антропологизм, социализм, эволюционизм и наконец позитивизм». «Он был, — говорит Козлов, — под некоторым влиянием всех вышеозначенных направлений или поочередно или одновременно, не беспокоясь, однако, заботою согласить их в одно строго систематическое миросозерцание»78. Никакого другого счастья, кроме земного, Толстой знать не хочет и осуждает всю метафизику: «Такое отношение его к философской метафизике вполне произвольно и ничем другим кроме связи его с господствующими направлениями объяснено быть не может»79. Центр системы Толстого — «в счастии человечества, как идеале, к которому должны быть направлены нравственные усилия людей, именно в счастии земном, или царствии божием на земле. В этом отношении система эта есть не более, как одна из разновидностей социализма»80. А. Козлов находит даже в доктрине Толстого много сходного с религией человечества Огюста Конта и особенно с учением «социалиста сороковых годов Пьера Леру, так же, как и Конт, бывшего сначала приверженцем известного реформатора Сен-Симона. Разница только в том, что доктрина эта, высказанная Пьером Jlepy в большом сочинении "De PHumanite", развита и обоснована, в связи с различными философскими и религиозными; учениями, несравненно обстоятельнее, чем у гр. Толстого... По сущности своей доктрина гр. Толстого всего скорее составляет одну из разновидностей социальных утопических учений»81. С другой стороны, Роза Люксембург тоже причисляет Толстого к эпигонам утопического социализма; защищая его от упреков в непонимании классовой борьбы и рабочего движения, она говорит: «По глубине и проницательности своей критики, по смелости и радикализму намеченных перспектив, так же как по идеалистической вере в могущество человеческой воли и сознания, по тому, что составляет как силу, так и слабость его взглядов, Толстой должен быть... поставлен в один ряд с великими социалистами-утопистами. Не вина, а историческая беда Толстого, что его долгая жизнь началась на заре XIX столетия, у порога которого стояли предшественники современного социализма Сен-Симон, Фурье, Оуэн, и достигла порога XX столетия, преступив через который, Толстой оказался одиноким противником выросшего перед ним и непонятого им юного гиганта»82.
з
Замысел «Детства» и начало работы над ним в дневнике не записаны — лишнее подтверждение тому, что о самом важном Толстой иногда умалчивает. Систематические, хотя и очень короткие, деловые записи начинаются, в сущности, только с марта 1852 г., когда работа шла уже над третьей редакцией; между тем начало работы относится, по-видимому, к лету 1851 г. В письме к Т. А. Ергольской от 12 ноября 1851 г. Толстой говорит уже определенно (по-французски): «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы; так вот, я послушался вашего совета — мои занятия, о которых я вам говорю, — литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа, да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу» (59,119). На одной из черновых рукописей «Детства» имеется проект заглавия, из которого видно, что Толстой задумал роман из четырех частей: «Четыре эпохи развития. Воспоминания о нескольких днях. Первый день. Детство» (7, 313). Итак, роман был с самого начала задуман не в форме мемуара вообще, а в форме воспоминаний об отдельных днях, пережитых героем в детстве, отрочестве, юности и молодости. Этим замысел романа явно обнаруживает свою органическую связь с дневником и с «Историей вчерашнего дня»: его сюжет должен строиться не на цепи событий (не на фабуле), а на сцеплении чувств, впечатлений и мыслей, на конкретных деталях душевной и умственной жизни. Тем самым Толстому предстояло решить трудную художественную проблему авторского повествования: кто же будет, собственно, рассказчиком и с точки зрения кого будет рассказана история четырех эпох? Если всю эту историю будет рассказывать взрослый, то получится мемуар, в котором конкретные детали одного дня (особенно в пределах детства и отрочества) окажутся немотивированными, а все описание будет лишено самого важного — специфики детского восприятия. Если о детстве будет рассказывать сам ребенок — так, что повествование примет форму своего рода детского дневника, то вместо художественного произведения может получиться психологический документ, выдуманный и, конечно, фальшивый, а притом и ненужный, поскольку психология сама по себе, вне более существенных задач, совсем не интересует Толстого. Замысел «Четырех эпох развития» возник, конечно, в связи с проблемой «добродетели» и «благосостояния» и с попытками открыть те важные «моральные истины», которые должны привести людей к счастью. В этом смысле первая часть романа, «Детство», должна была иметь особо важное значение, поскольку с этим периодом жизни у Толстого (как и у многих социальных утопистов) было связано представление о «естественном», «гармоническом», цельном и потому счастливом человеке.
Первая редакция «Детства» была начата в форме «записок», адресованных близкому знакомому: «Зачем писал я их? — говорит в предисловии автор. — Я вам верного отчета дать не могу. Приятно мне было набросать картины, которые так поэтически рисуют воспоминания детства. Интересно было мне просмотреть свое развитие, главное же, хотелось мне найти в отпечатке своей жизни одно какое- нибудь начало — стремление, которое бы руководило меня, и вообразите, ничего не нашел ровно: случай... судьба!» (7,103). Итак, роман задуман не с целью прямой дидактики: как и «История вчерашнего дня», он в известном отношении противостоит дневнику с поисками «одного стремления», с изображением всевозможных правил, составлением расписаний и пр. Главная задача романа — полная откровенность. Толстой недаром читал «Исповедь» Руссо; следуя его примеру, Толстой считает, что откровенность — хорошая наклонность, которая выкупает все дурные: «Я так был откровенен в этих записках во всех слабостях своих, — говорит он в предисловии, — что я думаю, не решился бы прямо бросить их на суждения толпы. — Хотя я убежден, что я не хуже большей части людей; но я могу показаться самым ничтожным человеком, потому что был откровенен» (7, 103-104). Однако эти слова имеют в виду, конечно, не «Детство» и не «Отрочество», а следующие части романа, в которых детский мир, полный поэзии, должен был подвергнуться разрушению. По первоначальному плану «Детство» и «Отрочество» должны были, по-видимому, занять гораздо меньше места, чем это произошло на самом деле. В первой редакции после предисловия, обращенного к приятелю, следует общее вступление, содержащее характеристики матери и отца. Здесь же намечается нечто вроде фабулы, которая сначала, очевидно, казалась необходимой Толстому как для движения событий, так и для мотивировки будущих несчастий своего героя: «Я несчастлив, — говорит он в предисловии, — и, ежели не совершенно невинен, то не более виноват в своем несчастии, чем другие, которые несчастливы» (7,103). Главное несчастье, отражающееся на всем будущем героя, заключается втом, что он — незаконный ребенок (как и другие дети). Мать вышла замуж за нелюбимого человека: «Она прожила с ним три месяца и оставила его, или он оставил ее, не знаю, только знаю, что они разошлись. Это было в 1818 году. В 1819 году maman зиму жила в К., где на бале встретилась она с отцом моим, тогда еще молодым и очень приятным человеком... Как составилась эта несчастная связь, не знаю; знаю только то, что с 1819 года и до времени кончины матушки 1834 года она жила с отцом моим, как с мужем, то в своей деревне П. губернии, то в Тульской губернии, в дорогом воспоминаниями сердцу моему Красном» (7, 104). Характеристики матери и отца сделаны тем же способом, каким в дневнике сделаны были портреты знакомых. Детали наружности и сложения сопровождаются целым комментарием, обнаруживающим специальный интерес Толстого к характерным для этого времени теориям физиологии и анатомии — к учениям о человеческих конституциях. Толстой пишет: «Я отличаю по сложению людей добрых, злых, хитрых, откровенных и особенно людей понимающих и непонимающих вещи. Высокая грудь — человек добрый и энтузиаст. Впалая и выдавшиеся спинные позвонки — человек, склонный к жестокости и скрытный. Впалый живот и выдавшиеся лопатки — человек не понимающий вещей, и наоборот, и мало ли еще у меня примет» (7,105). Козлов был по-своему прав: туг явно отражены и антропологизм, и механистический материализм 40-х годов (ср. о значении естественных наук у Герцена).
После этого вступления, дающего общую картину семьи, следуют «записки», которые состоят из подробнейшего описания одного дня из детства: 12 августа 1833 года. Толстой решил пояснить: «У меня прежде еще были набросаны некоторые сцены из моей жизни и все замечательные случаи в моей жизни, т. е. такие случаи, в которых мне перед собою нужно было оправдаться. Вот из этих-то отрывков... и составились эти записки» (7, 108). Это пояснение вычеркнуто, потому что на самом деле получилось нечто другое: судя по выставленной вначале дате, Толстой собирался описать несколько «сцен», относящихся к различным моментам детства; на деле получилось описание одного дня — с утра до вечера, которое тем самым никак не похоже на «записки» или на «отрывки». Вторая часть (после отъезда в Москву) возвращает читателя к вступлению: «Здесь кончается писанное мною прежде, и я опять начинаю писать к вам и для вас» (7,135), т. е. для приятеля. Итак, первая редакция написана двумя манерами, в двух разных жанрах: в стиле «записок» (мемуара для приятеля) и в стиле дневника. Однако дневник этот получился условным, поскольку он написан как бы по следам событий, т. е. как бы самим ребенком, подводившим итог всем впечатлениям одного дня, — так, как была написана «История вчерашнего дня». Явно столкнулись два принципа: мемуарный и дневниковый. Ни один из них сам по себе не удовлетворял Толстого, потому что мешал его намерениям или стеснял их; однако их соединение оказалось затруднительным. Толстой попробовал ввести специальную мотивировку, чтобы написать первую часть не в мемуарном жанре и избежать необходимости описывать детство с точки зрения взрослого, т. е. ограничиваться общими картинами и характеристиками. Это не соответствовало его основной задаче — дать детство изнутри, показать своеобразие детского восприятия, «поэзию» детства. Однако эта мотивировка не спасла положения — и он вычеркнул ее. Надо было решать задачу иначе. Вторая часть не удовлетворила Толстого: дважды на ее протяжении он повторил характерную мысль, как бы указывая на органический и мешающий ему недостаток мемуарного жанра: «Чем общее стараешься описывать предметы и ощущения, тем выходит непонятнее, и наоборот...
В общих чертах описывать характер так трудно, что даже невозможно. Я раз уже пробовал описать вам в общих чертах нашу жизнь в училище, и мне не удалось. Теперь, чтобы дать вам понятие о наших респективных характерах, я возьму эпизоды из нашей жизни самые простые, но постараюсь как можно подробнее передать их вам и с тою же простотою, с которою тогда они представлялись мне» (/, 137, 151). Однако, когда Толстой попробовал писать так вторую часть (т. е. «Отрочество»), то она рассыпалась на отдельные эпизоды и стала бесформенной. Работа прервалась.
Надо было решить вопрос о сочетании мемуара с дневником. Толстой берется за переделку первой части. Он отбрасывает все вступление, обращенное к приятелю, ликвидируя тем самым фабульную основу и первоначальную мотивировку. Теперь это уже не «записки», а описание одного дня в деревне, предшествующего переезду в Москву. Далее, вместо отдельных эпизодов второй части, первоначально рассказанных приятелю, следует описание одного дня в Москве, после чего — финал (смерть матери). В промежутке помещены главы, образующие лирический переход от первой части ко второй: XIII («Наталья Савишна»), XIV («Разлука») и XV («Детство»). Основная часть «Детства» написана, таким образом, как бы от лица ребенка — не как воспоминания взрослого, а как своего рода дневниковая запись, как воображаемый дневник. Мотивировка убрана — и именно потому, что такого рода воображаемый дневник никак невозможно мотивировать. Получилась условная, но зато свободная от внутренних противоречий форма. Толстой считает как бы само собою разумеющимся, что описание детства с точки зрения ребенка может быть сделано только в условной и потому не требующей никакой мотивировки форме. Это-то и составляет литературную новизну и смелость толстовской повести по сравнению с другими (очень распространенными в те годы) мемуарами и автобиографическими повестями. Такое решение вопроса было продиктовано твердым намерением Толстого сделать центром повести не быт, не нравы, а «поэзию» детства. Насыщенность точным, конкретным и миниатюрным материалом, который преобладает над общими рассуждениями (их Толстой выбрасывает беспощадно), описаниями и характеристиками придает его повести совершенно своеобразный характер. Само собою разумеется, что дневниковый принцип не мог быть проведен педантично; но именно поскольку этот дневник условен, постольку он допускает возможность появления в нужных случаях иного рода кусков — не дневникового, а мемуарного жанра (т. е. с точки зрения взрослого, оглядывающегося на свое детство). В «Детстве» есть не только лирические главы, выпадающие из дневникового стиля, но и такие, в которых о людях и событиях говорится вне зависимости от детского восприятия (например, «Что за человек был мой отец»); есть даже документ, который никак не мог быть известен ребенку (письмо матери к отцу в главе XXV) и потому не должен был бы фигурировать в тексте. Однако все эти «отступления» от дневникового принципа нисколько не колеблют художественной основы повести, поскольку эта основа не связана ни с какой жанровой мотивировкой (как это было в первой редакции). В итоге получился сложный и новый жанр, внутри которого угол зрения меняется—и именно благодаря этому создается ощущение многообразия, точности, полноты и перспективы: описания двух дней достаточно для того, чтобы казалось, будто последовательно рассказано все детство. Вещь приобрела три измерения, стала объемной, несмотря на крайний лаконизм, отсутствие внешних описаний и простоту композиции (по течению времени). Добиться этой объемности в изображении мира и людей — это и было основной художественной задачей Толстого.
Еще до «Детства» Толстого в «Современнике» появилась повесть П. А. Кулиша «История Ульяны Терентьевны»; о ней в дневнике Толстого записано: «Хорошая повесть, похожая на мое "Детство", по неосновательная» (46> 143). Упрек очень характерный и правильный: повесть Кулиша, написанная в жанре семейной хроники, лишена конкретного анализа, изобилует общими местами; в целом она следует традициям старой беллетристики — как в манере и позиции рассказчика, так и в психологических характеристиках персонажей. У Толстого эти проблемы были решены заново — соответственно новым идейным потребностям и исканиям. Некрасов, приняв повесть Толстого для «Современника», запросил Тургенева: «"Детство" в IX № — это талант новый и, кажется, надежный... Что ты думаешь об авторе "Ульяны Терентьевны"?..»83 Тургенев ответил: «Я было начал читать "Ульяну Терентьевну" — да что-то мне показалось, что это — нашего поля ягода — старая погудочка на новый лад», а в следующем письме прибавил: «От него (т. е. от Кулиша. — Б. Э.), как от земли до неба — и "Ульяну Терентьевну" я читать не стану»84. Тургенев верно заметил, что в «Детстве» Толстого были признаки нового художественного метода, свидетельствовавшие о новизне самой идейной позиции.
Сохранился набросок главы «К читателям»85, где Толстой заявляет, что его «Детство» написано не «из головы», а «из сердца» и что он решил отказаться от всех обычных в литературе «авторских приемов»: «По моему мнению, личность автора, писателя (сочинителя) — личность антипоэтическая» (/, 208—209). Это очень важное принципиальное заявление, которое бросает дополнительный свет на причины, побудившие Толстого отказаться от вступительного обращения к читателю и от всей мотивировки. Толстому важно, чтобы между героями его сочинения и читателем не было никакого третьего лица и чтобы автор, как лицо в этом смысле постороннее («антипоэтическое»), не мешал восприятию, не вмешивался со своими соображениями и мотивировками. Это направлено против старой беллетристики, изобиловавшей «отпечатками авторства». Пожалуй, только «Герой нашего времени» Лермонтова отличался решительным отделением автора от его героев и созданием новой формы романа на основе дневника («журнал» Печорина). Толстой выбрал форму автобиографии для того, чтобы избавиться от «сочинителя». Он восторгается «Сентиментальным путешествием» Стерна (сохранился перевод значительной части этого произведения, сделанный Толстым в 1851 г.) и называет его своим любимым писателем именно потому, что находит у него осуществление принципа «задушевности» («из сердца»); то же самое — в повести швейцарского писателя Тёпфера «Библиотека моего дяди» (по указанию самого Толстого) и в «Давиде Копперфильде» Диккенса. Положенный в основу «Детства» принцип дневника (с точки зрения ребенка) заставил его отказаться не только от придуманной сначала фабульной ситуации (поскольку она не могла иметь никакого психологического значения для ребенка), но и от целого ряда наблюдений и размышлений, исходивших от взрослого «автора» и вносивших в текст нечто прозаическое («антипоэтическое»). Зато сентиментальная окраска усилена вводом целого ряда лирических отступлений, характеризующих поэзию детства. В своем стремлении уйти от нравоописательного стиля, от «хроник», «очерков» и т. п. Толстой доходит почти до стилизации в духе Карамзина: «Где те горячие молитвы? Где лучший дар — те чистые слезы умиления?.. Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?» (/, 45). Это говорит не автор, не «сочинитель»: это говорит тот самый человек, который посмотрел на свою жизнь с точки зрения своего же детства.
Толстой сам чувствовал, что взятый им в «Детстве» сентиментальный тон, сопровождаемый целой системой лирических размышлений и «намеков», становится иногда чрезмерным; в дневнике от 11 мая 1852 г. (когда работа близилась к концу) записано: «Мне пришло на мысль, что я очень был похож в своем литературном направлении этот год на известных людей (в особенности барышень), которые во всем хотят видеть какую-то особенную тонкость и замысловатость» (46, 115). Это относится, надо полагать, не только к общему лирическому тону «Детства», но и к тому миниатюризму («мелочности», по определению самого Толстого), которым пронизан весь текст. В обращении к читателям Толстой специально разъяснил, что его читатель должен быть «человеком понимающим» — «одним из тех людей, с которым, когда познакомишься, видишь, что не нужно толковать свои чувства и свое направление... Есть такие тонкие, неуловимые отношения, чувства, для которых нет ясных выражений, но которые понимаются очень ясно. Об этих-то чувствах и отношениях можно смело намеками, условленными словами говорить с ними» (1, 208). Толстой сам определил эту свою манеру как «литературное направление», т. е. как осознанный метод. Надо сказать, что этим направлением окрашены не только «История вчерашнего дня» и «Детство», но и письма к «тетеньке» Ергольской 1851 г., принимающие часто характер литературных упражнений или заготовок. Толстой, например, пишет ей (по-французски): «Я не умею высказать вам своего чувства к вам, и нет слов его выразить; боюсь, что вы подумаете, что я преувеличиваю, а между тем я сейчас заливаюсь горячими слезами» (59, 149). Боясь насмешек брата Сергея (всегда любившего подсмеяться над ним), Толстой просит тетеньку не показывать ему этих писем; но одно из них брат прочитал и в ответ на просьбу Толстого послать ему «Новую Элоизу» Руссо написал: «Зачем она тебе? Из писем твоих к тетеньке видно, что ты ее помнишь наизусть. Послушай, я право люблю старуху тетку, но, убей меня бог, в экстаз прийти от нее не могу; не знаю, разве расстояние производит такое странное действие, что можно шестидесятилетней женщине писать письма вроде тех, которые писывали в осьмнадцатом веке друг другу страстные любовники, ибо теперь этак и любимой женщине не напишешь» (59, 187). Письмо Сергея очень задело Толстого, потому что касалось именно его «литературного направления»; в дневнике записано: «Получил от Сережи письмо, которое опечалило меня» (46, 137). Интересно, что в письмах к Сергею (ему он пишет по-русски) совсем иной тон и стиль. В одном из них он подробно описывает Пятигорск в духе иронических записей Печорина. Офицер Буемский изображен здесь как вариант Грушницкого: «Как только мы вышли из тарантаса, мой офицер надел голубые панталоны с ужасно натянутыми штрипками, сапоги с огромными шпорами, эполеты, обчистился и пошел под музыку ходить по бульвару, потом в кондитерскую, в театр и в собрание. Но сколько мне известно, вместо ожидаемых знакомств с семейными домами и невесты помещицы с 1000 душами он в целый месяц познакомился только с тремя оборванными офицерами, которые обыграли его дотла, и с одним семейным домом, но в котором два семейства живут в одной комнате и подают чай вприкуску» (59,183). Это, конечно, тоже литературная заготовка, окрашенная известным «направлением», совершенно непохожим на первое. В дневнике отмечено: «Написал порядочное (т. е. хорошее или удачное. — Б. Э.) письмо Сереже... Прочел Буемскому то, что писал о нем, и он, взбешенный, убежал от меня» (46, 126).
По всему видно, что по окончании «Детства» Толстой обратится к иного рода вещам и прервет работу над романом «Четыре эпохи развития». На просьбу Некрасова выслать продолжение Толстой ответил: «Принятая мною форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предыдущею так стесняют меня, что я часто чувствую желание бросить их и оставить 1-ую без продолжения» (59, 202-203). Признание очень характерное: поскольку задуманный роман не имел, в сущности, ничего общего с семейной «хроникой», связь дальнейших частей с первой оказывалась действительно неопределенной, а «форма автобиографии» — стеснительной. В «Детстве» все дело было в том, что эта «автобиография» превратилась в воображаемый детский дневник. Уже в пределах этой части Толстого затрудняла проблема второго дня (т. е. дня в Москве): отсутствие фабулы, сосредоточенность внимания на отдельных сценах и кусках, значение «подробностей», движение по часам — все это привело к тому, что второй день оказался как бы ненужным. 10 апреля 1852 г. Толстой записывает в дневнике: «Принялся за роман, но, написав две страницы, остановился: потому что мне пришла мысль, что второй день не может быть хорош без интересу и что весь роман похож на драму. — Не жалею, отброшу завтра все лишнее» (46, 108—109). Это, по-видимому, значит, что без драматического «интереса» (т. е. без фабульного движения) второй день не может конкурировать с первым и потому сильно проигрывает. Так и вышло: второй день имеет, конечно, гораздо меньшее художественное значение, чем первый, и беднее по своему психологическому содержанию. Не удивительно поэтому, что уже в мае 1852 г. (еще до окончания «Детства») Толстой начал писать «Письмо с Кавказа» (цитированное выше письмо к брату — одна из заготовок к нему), а про «Детство» пишет в дневнике, что оно ему «опротивело до крайности» (46, 116). Мало того: вместо продолжения «Детства» он задумывает новый роман. 3 июля 1852 г. рукопись «Детства» была отправлена Некрасову, а 18 июля в дневнике записано: «Обдумываю план Русского помещичьего романа с целью» (46, 135). Выражение «роман с целью» уясняется из дальнейших записей как роман с определенной политической и общественной тенденцией, которой в романе о четырех эпохах развития не было и быть не могло. Естественно, что у Толстого возник вопрос о соотношении этих двух романов; 30 ноября 1852 г. он записал в дневнике: «4 эпохи жизни составят мой роман до Тифлиса (т. е. до поступления на военную службу в ноябре 1851 г. — 5. Э.). Я могу писать про него, потому что он далек от меня. И как роман человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен, хотя не догматический. Роман же русского помещика будет догматический» (46, 150-151). Определение понятия «догматический» есть у самого Толстого в отрывке «Для чего пишут люди»: «Люди хотят быть счастливы; вот общая причина всех деяний. Единственный способ, чтобы быть счастливым, есть добродетель, следовательно благоразумно только читать... те книги, которые учат добродетели. Какие же это книги? Догматические, основанные на началах разума, и умозрительные — других здравый рассудок не допускает» (/, 246). Итак, «Четыре эпохи развития» — роман, очевидно, умозрительный, теоретический, а «Роман русского помещика», как основанный на началах разума, должен быть практически полезным. В декабре 1852 г. Толстой сообщил брату, что начал «новый, серьезный и полезный» роман, на который «намерен употребить много времени и все свои способности» (59, 215).
Жизнь на Кавказе значительно расширила душевный и умственный опыт Толстого. «История вчерашнего дня» и «Детство» не выходили за пределы интимной психологии; теперь перед ним встал вопрос о человеке, живущем в иных условиях и положениях и связанном законами иной действительности — не только семейной или бытовой, но и исторической. Интересна большая запись в дневнике от 20 марта 1852 г., сделанная после перечитывания старого дневника: «Все время, которое я вел дневник, я был очень дурен, направление мое было самое ложное; от этого из всего этого времени нет ни одной минуты, которую бы я желал возвратить такою, какою она была; и все перемены, которые бы я желал сделать, я бы желал их сделать в самом себе» (46, 92). Следует пересмотр всего своего поведения, причем главной вредной страстью («моральной болезнью») объявлено тщеславие — «какая-то недозрелая любовь к славе, какое-то самолюбие, перенесенное в мнение других... Эта страсть чрезвычайно развита в наш век, над ней смеются; но ее не осуждают, потому что она не вредна для других. Но зато для человека, одержимого ей, она хуже всех других страстей — она отравляет все существование... Я много пострадал от этой страсти — она испортила мне лучшие года моей жизни и навек унесла от меня всю свежесть, смелость, веселость и предприимчивость молодости». Дальше Толстой утверждает, что он «подавил» эту страсть, и думает, что ему помогло «отдаление от тщеславного круга и образ жизни, который заставил меня смотреть с серьезной точки зрения на свое положение» (46, 95). Правда, тут же Толстой признается, что страсть эта, источник которой — любовь к славе, уничтожена не совсем, что наклонность к ней осталась; однако несомненно, что направление этой страсти изменилось. Толстой осуждает чрезмерную ограниченность и замкнутость своих прежних интересов и стремлений: «Меня мучит мелочность моей жизни, — записывает он 29 марта 1852 г., — я чувствую, что это потому, что я сам мелочен; а все-таки имею силу презирать и себя и свою жизнь. — Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все. — Но отчего это происходит? Несогласие ли — отсутствие гармонии в моих способностях, или действительно я чем-нибудь стою выше людей обыкновенных? — Я стар — пора развития или прошла, или проходит; а все меня мучат жажды... не славы — славы я не хочу и презираю ее; а принимать большое влияние в счастии и пользе людей (курсив мой. — Б. 5.). — Неужели я-таки и сгасну с этим безнадежным желанием?» (46, 102). Толстой борется с романтической (индивидуалистической по своему смыслу) традицией «славы» — так же, как он боролся с романтическими понятиями любви, мечты, природы и пр., но, как и там, он не отказывается от нее вообще, а стремится наполнить ее другим содержанием. В дневнике от 5 ноября 1853 г. записано: «Я совершенно убежден, что я должен приобрести славу» (46, 196). Характерно, что он начинает усиленно читать исторические книги — Тьера, Михайловского-Данилевского, Д. Юма («Историю Англии»), Мишо. «Я начинаю любить историю и понимать ее пользу, — записывает он 14 апреля 1852 г. — Это в 24 года; вот что значит дурное воспитание!» (46, 110). В письме к Т. А. Ергольской от 30 мая 1852 г. он специально сообщает: «С некоторых пор я полюбил исторические книги (это бывало причиной несогласия между нами, теперь же я совершенно вашего мнения)» (59, 177).
«Очерки Кавказа» были задуманы Толстым с полным учетом новых задач, нового «литературного направления». Набросок «Поездки в Мамакай-юрт» (о нем шла речь выше) показывает, что он был вполне в курсе того поворота, который определился в отношении к кавказской теме в русской литературе 50-х годов. В рецензии на «Записки» Я. Костенецкого говорится: «Было время, когда о Кавказе писалось у нас довольно много, благодаря Марлинскому, которого успех порождал подражателей-прозаиков, и Пушкину, которого "Кавказский пленник" породил в свое время множество кавказских поэм. Несмотря на то, публика наша мало знала о Кавказе, и неоткуда было почерпать ей сведений о нем; потому что все, что писалось тогда о Кавказе, относилось более к области фантазии, чем в самом деле к Кавказу. Местность Кавказа, нравы населяющих его разнообразных племен... самая природа Кавказа, — все это очень мало обращало на себя внимание тогдашних писателей и поэтов... Недостаток фактических сведений обыкновенно пополнялся красотами цветистого слога, сделавшегося до того неизбежным в кавказских повестях, что одно время кавказская повесть и высокий слог были синонимами в русской литературе»86. Толстой, вероятно, читал эту рецензию — вступление к «Поездке» написано как бы по ее следам. Однако у Толстого были свои задачи и темы, не затронутые другими. Он собирался написать «Очерки Кавказа» из трех частей по следующему плану: «1) Нравы народа: а) История Сал., Ь) Рассказы Балты, с) Поездка в Мамакай-Юрт. 2) Поездка на море: а) История Немца, Ь) Армянское управление, с) Странствование кормилицы. 3) Война: а) Переход, Ь) Движение, с) Что такое храбрость?» (3, 291). Из всего этого плана была осуществлена только третья часть, получившая название «Набег». Это неслучайно. Еще 12 июня 1851 г., вскоре по приезде на Кавказ, Толстой записал в дневнике: «Разговоры офицеров о храбрости. Как заговорят о ком-нибудь. Храбр он? Да, так. Все храбры» (46, 64). Следует рассуждение о храбрости, целиком перечеркнутое — как неудавшееся. Вопрос о храбрости беспокоит Толстого не сам по себе, а в связи с вопросом о войне: если каждый человек стремится к своему счастью, то как же возможен самый факт войны и какова психологическая природа так называемой храбрости? Таким образом, Толстой переносит весь вопрос о войне в область моральных проблем.
С особенной ясностью это выступает в черновых редакциях, содержащих много материала, который был снят, по-видимому, не столько по художественным, сколько по цензурным соображениям87. Толстой пишет: «Война всегда интересовала меня. Но война не в смысле комбинаций великих полководцев — воображение мое отказывалось следить за такими громадными действиями: я не понимал их — а интересовал меня самый факт войны — убийство. Мне интереснее знать: каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве». И дальше еще определеннее: «Меня занимал только вопрос: под влиянием какого чувства решается человек без видимой пользы подвергать себя опасности и, что еще удивительнее, убивать себе подобных?» (3, 228). Вопрос поставлен психологически: Толстой принципиально отступает от традиционных описаний войны и вступает в полемику с военно-исторической литературой, игнорирующей «самый факт войны». Именно поэтому он превратил своего рассказчика из юнкера в «волонтера» (о чем есть специальная запись в дневнике), не связанного военными традициями и имеющего возможность наблюдать войну со стороны. Это подчеркнуто в самом тексте. Капитан Хлопов говорит волонтеру: «Хочется вам узнать, какие сражения бывают? прочтите Михайловского-Данилевского "Описание войны" — прекрасная книга: там все подробно описано, — и где какой корпус стоял, и как сражения происходят». Волонтер отвечает: «Напротив, это-то меня и не занимает» (J, 16). Толстой не предвидел в это время, что через 15 лет он сам будет подробно описывать именно расположение войск при Аустерлицком и Бородинском сражениях, полемизируя с тем же Михайловским-Данилевским, но уже с совсем иных позиций. В данный момент для него реальна только «психология», только «моральная механика» человеческой души. С этой точки зрения война оказывается неестественным, «непонятным явлением»: «Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения справедливым» (3, 234). Итак, вопрос переносится в плоскость историческую и государственную, но и здесь он остается неразрешенным, поскольку неизбежно возникает новый вопрос, имеющий давнюю традицию: на чьей стороне справедливость в войне с горцами? В черновой редакции «Казаков» Оленин прямо осуждает войну на Кавказе «с несчастным рыцарским племенем горцев, отстаивающих свою независимость» (б, 250); в черновой редакции «Набега» есть замечательное рассуждение волонтера на эту тему: «Кто станет сомневаться, что в войне русских с горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежей, убийств, набегов народов диких и воинственных?» (J, 234). Таков один тезис, как будто бы все разрешающий; однако для Толстого это разрешение вопроса недостаточно: «Но возьмем два частные лица. На чьей стороне чувство самосохранения и, следовательно, справедливость: на стороне ли того оборванца, какого- нибудь Джеми, который, услыхав о приближении русских, с проклятием снимет со стены старую винтовку и... побежит навстречу гяурам... или на стороне этого офицера, состоящего в свите генерала, который так хорошо напевает французские песенки именно в то время, как проезжает мимо вас? Он имеет в России семью, родных, друзей, крестьян и обязанности в отношении их, не имеет никакого повода и желания враждовать с горцами, а приехал на Кавказ... так, чтобы показать свою храбрость. Или на стороне моего знакомого адъютанта, который желает только получить скорее чин капитана и тепленькое местечко и по этому случаю сделался врагом горцев» (3, 324-325) и т. д. Так обнажена диалектика действительности и истории (противоречие частного и общего), усмотренная им через характерную для Толстого «диалектику души». Он остановился в недоумении перед этим противоречием; выход из него был возможен только при условии социально-исторической постановки всего вопроса, которая для Толстого этой поры была неосуществима.
Противоречие это, хорошо знакомое еще декабристам, усилено лермонтовской (руссоистской по своему происхождению) темой: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом?» (3,29). Волонтер оказывается мыслителем-утопистом, оценивающим все происходящее с точки зрения «естественного стремления к счастью» и потому недоумевающим перед явлением войны и поведением окружающих его людей: «Я совершенно ничего не понимал», — признается он; или в другой редакции: «Понятия мои о храбрости окончательно перепутались». Некоторые слова и поступки можно было бы принять за выражение подлинного «героизма» и тем самым открыть какие-то реальные психологические мотивы, заставляющие людей убивать других и подвергать себя опасности; однако война на Кавказе (не оборонительная, а наступательная и, с точки зрения Толстого, «несправедливая») не давала такого рода примеров — и пристальный глаз философа-волонтера видит нечто иное: либо наивную восторженность юноши, как у прапорщика Аланина, либо не менее наивную и смешную театральность, как у поручика Розенкранца («образовавшегося по Марлинскому и Лермонтову»), либо профессионально военное, но бессодержательное кокетство, как у генерала, который под огнем спокойно говорит по-французски. Романтическое представление о «храбрости» (как и представление о Кавказе) решительно преодолено — однако не с тем, чтобы просто ликвидировать его, а с тем, чтобы показать реальную сложность и противоречивость действительности. В этом отношении характерна и убедительна фигура «старого кавказца» капитана Хлопова, ведущая свое происхождение от того же Лермонтова. Волонтер приходит к выводу, что он «истинно храбр» — той особенной «русской храбростью», которая обходится без пышных фраз и «достопамятных изречений», столь излюбленных французскими героями. Капитан Хлопов, несомненно, подготовлен лермонтовским Максимом Максимовичем; слова о «русской храбрости» ведут тоже к «Герою нашего времени», где Печорин говорит: «Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость». Выше уже была речь об очерке «Кавказец», которым Лермонтов нанес удар романтическому эпигонству. Сходство капитана Хлопова с лермонтовским «старым кавказцем» (о котором Толстой не знал) свидетельствует об исторической закономерности созданного Толстым образа.
Следует отметить, что «Набег» был задуман и начат в сатирическом духе — очевидно, по примеру очерков; однако в процессе работы Толстой решил отказаться от сатирического тона («сатира не в моем характере»): «Все сатирическое не нравится мне, — записал он 1 декабря 1852 г., — а так как все было в сатирическом духе, то все нужно переделывать». И 3 декабря: «Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сатиры. Мне даже неприятно описывать дурные стороны целого класса людей, не только личности» (46, 151). Это, конечно, очень типично для утопической системы мышления, строящейся на представлении об исходном совершенстве человеческой природы. Сатира наличность противоречила бы взглядам Толстого, а для сатирического изображения «целого класса» надо стоять на определенной социально-исторической позиции. При отсутствии такой позиции сатира неизбежно получает смысл мелких нападок на отдельные недостатки, «об- личительства», к которому Толстой был, конечно, совершенно не расположен. Недаром он считал своей главной задачей заменить погибшие романтические образы новыми, не менее поэтичными. Это было сделано главным образом в «Казаках», но о них придется говорить потом, поскольку работа над этим романом растянулась на многие годы. Здесь следует отметить только то, что «Казаки» были начаты в виде стихотворной поэмы, с явным намерением противопоставить ее кавказским романтическим поэмам.
Программа «Кавказских очерков» не была выполнена, но в 1853 г. возник новый план — «Дневник кавказского офицера». Толстой упорно держится за дневниковую форму, потому что сюжетом для него служит самое движение чувств, мыслей и впечатлений, протекающее во времени. Основной мерой для Толстого остается пока один день, с утра до вечера. Так построен «Набег», так построена «Рубка леса», первоначально называвшаяся «Записки фейерверкера». Эта вещь имеет явную связь и с «Набегом» (упоминается капитан Хлопов, как уже известный читателю персонаж) и с наброском «Поездка в Мамакай-юрт»; офицер Волхов говорит здесь о Кавказе почти теми же словами, какими говорил там автор: «Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками, — все это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету веселого. Если бы они знали по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д.». Из того же наброска взят ответ рассказчика: « — Да, — сказал я смеясь, — мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь... Как читать стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?» Характерно, что и здесь (как и в «Поездке») Толстой вовсе не ставит себе задачей уничтожить вообще поэзию Кавказа. Рассказчик «Рубки леса» не вполне согласен с Волховым; на его слова — «Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ» — рассказчик отвечает: «Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе...» (3, 54). Интересно, что этому разговору офицеров предшествует разговор солдат; балагур Чикин рассказывает, как он в отпуску описывал Кавказ: «Тоже спрашивают, какой, говорит, там, малый, черкес, говорит, или турка у вас на Капказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть» (3, 50) — и Чикин под смех товарищей рассказывает небылицы о «тавлипцах», которые камни «замест хлеба едят», и о «мумрах», которые «двойнешками» родятся. Этому на родине верят, а вот тому, что есть гора «Кизбек», на которой «все лето снег не тает», не поверили: «Видано ли дело: большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас, малый, в ростепель так какой бугор, и то прежде растает, а в лощине снег лежит. — Поди ты! — заключил Чикин, подмигивая» (3, 51). Весь рассказ построен на контрастном соотношении офицерских и солдатских разговоров. Солдаты ведут себя здесь, на чужбине, совершенно так же, как дома. Толстой рисует их с явной симпатией, обращенной против офицеров, которые заражены тщеславием и, в сущности, ни о чем, кроме наград, не думают. В этом, несомненно, сказались уже впечатления 1854-1855 гг.: «Рубка леса» была закончена в Севастополе.
Работой над «Детством» и «Кавказскими очерками» литературная деятельность Толстого на Кавказе не исчерпывается. Уже говорилось о том, что в 1852 г. он задумал писать «Роман русского помещика» — роман «догматический», полезный. Первая запись об этом романе сделана 18 июля 1852 г., а накануне Толстой встретился в Железноводске с петрашевцем А. И. Европеусом: «Разжалованный женатый Европеус очень интересует меня» (46, 135) — записал он 17 июля. А. И. Европеус состоял в кружке Н. С. Кашкина, занимался политической экономией, хорошо знал «коммуниста» Н. А. Спешнева, у которого присутствовал на чтении А. П. Беклемишевым «Переписки двух помещиков» — об устройстве крестьянских работ по системе Фурье. Надо думать, что Европеус произвел на Толстого сильное впечатление; в записи от 18 июля сказано: «Мне кажется, что все время моего пребывания в Железноводске в голове моей перерабатывается и приготовляется много хорошего (дельного, полезного), не знаю, что выйдет из этого» (46, 135). После возвращения в Пятигорск Толстой усиленно занялся чтением политических и исторических книг («Политика» Платона, «Общественный договор» Руссо и пр.) и записал в дневнике 3 августа: «В романе своем я изложу зло правления русского, и ежели найду его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического избирательного, соединенного с монархическим, правления, на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни» (46, 137).
Эта неожиданная запись представляет собою, очевидно, след от знакомства с А. И. Европеусом.
Итак, Толстой задумал политический роман. Работа сначала пошла хорошо: в течение 1852 г. Толстой написал всю первую часть. В ней рассказано, как молодой помещик Дмитрий Нехлюдов обходит своих крестьян и возвращается домой расстроенным. Главное место занимают крестьянские сцены; Толстой демонстративно предупреждает своих читательниц, что в его романе не будет ни светских сцен, ни светской любви: «ни графа богача соблазнителя в заграничном платье, ни маркиза из-за границы, ни княгини с коралловыми губами, ни даже чувствительного чиновника»88; о любви нет, да, кажется, и не будет ни слова, все мужики, мужики, какие-то сошки, мерена, сальные истории о том, как баба выкинула, как мужики живут и дерутся. — Решительно нет тут ничего достойного вашего высокого образования и тонких чувств. Вам, я думаю, надоело слушать, как супруг или папенька ваш возится с мужиками; а может быть даже вы никогда и не думали о них; притом их так много, 9/10 нашего народонаселения, так что же это за редкость: что же для вас может быть приятного читать такую книгу, в которой больше ничего нет, как мужики, мужики и мужики» (4, 341-342). В центре задуманного романа — вопрос о судьбе русского помещика, поставившего своей целью улучшить жизнь крестьян. Нехлюдов понимает всю трудность этого дела — идеи Гоголя остались позади. После обхода крестьянских дворов Нехлюдов размышляет: «Искоренить ложную рутину, нужно дождаться нового поколения и образовать его, уничтожить порок, основанный на бедности, нельзя — нужно вырвать его. — Дать занятия каждому по способности» (курсив мой. — Б. Э.\ 4, 355). Это звучит как цитата из утопических программ. Крестьянская жизнь сама по себе, вне влияния рабства, представляется Толстому идеалом нравственной высоты: «У них человек ценится по пользе, которую он приносит... бездействие, желчность, болезни, скупость и эгоизм старости неизвестны им так же, как и низкий страх медленно приближающейся смерти — порождения роскоши и праздности. Тяжелая трудовая дорога их ровна и спокойна, а смерть есть только желанный конец ее, в котором вера обещает блаженство и успокоение. Да, труд — великий двигатель человеческой природы; он единственный источник земного счастия и добродетели» (4, 337). Этот гимн труду звучит тоже как отклик социально-утопических идей: привлекательность труда и рациональное его распределение среди членов «ассоциации» — один из основных пунктов в системе Фурье89.
Первоначальная «политическая» окраска романа («изложу зло правления русского»), навеянная, по-видимому, беседами с А. И. Европеусом, оказалась, однако, непрочной. По плану, набросанному в октябре 1852 г., видно, что замысел сильно изменился: «Герой ищет осуществления идеала счастия и справедливости в деревенском быту. Не находя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его, она, наводит его на мысль, что счастие состоит не в идеале, а постоянном, жизненном труде, имеющем целью — счастие — других» (46, 146). Замысел перенесен из социально-политической сферы (с «идеалом» в центре) в сферу моральную, где вопрос о «правлении русском» уже утратил свое значение. Работа остановилась. В 1853 г. Толстой начал ее заново; в этом варианте появилась глава «Его прошедшее», явно автобиографическая (о ней говорилось выше, в главе второй). На этом работа опять остановилась — и роман остался незаконченным. Интересно, что эта попытка возобновить роман относится к тому моменту, когда Толстой опять приехал в Железноводск (в августе 1853 г.) и познакомился там с петрашевцем Н. С. Каш- киным, который, как и Достоевский, был приговорен к смертной казни, но помилован и сослан на Кавказ. Толстой очень подружился с Кашкиным; сын Кашкина пишет с его слов: «Летом 1853 г., заболев лихорадкою, Николай Сергеевич ездил лечиться в Железноводск, где познакомился с юнкером графом Л. Н. Толстым, с которым сошелся "на ты" и с которым до самой смерти великого писателя сохранил добрые отношения»90. Н. С. Кашкин (сын декабриста), крупный помещик, принадлежал к числу так называемых чистых фурьеристов (типа Н. Я. Данилевского), противников революционных воззрений и вообще «политики». Как рассказывает Д. Ахшарумов, в кружке Кашкина считалось «неприличным и даже невежественным говорить о революции, как потому, что бесполезность ее доказана историей, так и потому, что Фурье осуждает все революции и говорит, что они ни к чему не ведут, что обществу надо измениться в нравах, в работах, в частной жизни и в каждодневных своих занятиях»91. Кашкин слыл в своем кружке философом, «мудролюбом», рассматривавшим все вопросы человеческого общежития с нравственной точки зрения. Ко времени встречи с Толстым Кашкин представлял, по- видимому, очень жалкое зрелище опустившегося, «пропащего» человека.
Сразу по возвращении из Железноводска Толстой написал рассказ «Записки маркёра», а затем взялся снова за «Роман русского помещика» (новый вариант) и задумал рассказ «Разжалованный». В этом рассказе он, по собственному признанию, изобразил разжалованного в рядовые офицера А. М. Стасюлевича, но не только его: «Я нехорошо это сделал, — говорил Толстой впоследствии, — он был так жалок, и не следовало его описывать. Впрочем, это не совсем он. Я соединил с ним еще Кашкина, который судился вместе с Достоевским»92. В самом деле, Толстой имел в виду, очевидно, Кашкина, когда упомянул в «Разжалованном» о «несчастной, глупой истории», после которой Гуськов (герой рассказа) три месяца сидел под арестом и был сослан на Кавказ. Сам Гуськов рассказывает: «Разве вы не слышали про эту несчастную историю с Метениным?.. В то время в Петербурге этот Метенин имел репутацию... — И Гуськов продолжал в этом роде рассказывать мне историю своего несчастия, которую, как вовсе неинтересную, я пропущу здесь. — Два месяца я сидел под арестом, — продолжал он, — совершенно один, и чего ни передумал я в это время... Я чувствовал, что хам был виноват, неосторожен, молод, я испортил свою карьеру и только думал о том, как снова поправить ее» (J, 87-88). Под «несчастной историей» Толстой разумеет, по-видимому, историю петрашевцев; в незаконченной фразе о Метенине не хватает, вероятно, слова «революционер». В рукописи рассказа есть слова, подтверждающие эту догадку: «Все дурное я принимал к сердцу, бесчестность, несправедливость, порок были мне отвратительны, и я прямо говорил свое мнение, и говорил неосторожно, слишком горячо и смело» (J, 276). К Стасюлевичу это не имеет никакого отношения. Надо учесть, что рассказ был написан только в декабре 1856 г. для Дружинина, в разгар его полемики с Чернышевским; неизвестно, каким был задуман этот рассказ в 1853 г., после встреч с Кашкиным. Сразу после этих встреч написан другой рассказ — «Записки маркёра», который вызвал неодобрительный отзыв Некрасова. Между тем Толстой писал Некрасову, что он дорожил этой маленькой «статьей» больше, чем «Детством» и «Набегом». Работа над этим рассказом продолжалась всего четыре дня (13-16 сентября 1853 г.) и сопровождалась взволнованными записями в дневнике: «Мне кажется, что я теперь только пишу по вдохновению, от этого хорошо... Пишу с таким увлечением, что мне тяжело даже: сердце замирает» (46,175). Чем же объясняется такое волнение?
По дневнику видно, что в июле 1853 г. Толстой вернулся к работе над «Отрочеством», а в конце года взялся опять за «Роман русского помещика». В сентябре он прочитал В. П. Толстому то, что было написано для этого романа раньше, и записал: «Решительно все надо изменить, но самая мысль всегда останется необыкновенною» (46, 176). В декабре новый план романа «ясно обозначился», было набросано предисловие, а в январе 1854 г. написана глава «Его прошедшее», раньше отсутствовавшая. К этому же времени относится изменение дневника, который заполняется новым содержанием — «вести регулярно и чисто, так чтобы он составлял для меня литературный труд, а для других мог составить приятное чтение» (46,179). Толстой уже очень серьезно думает о своей писательской работе и ставит перед собой новые важные задачи. Так, 1 ноября 1853 г. записана интересная мысль: «Странно, что все мы таим, что одной из главных пружин нашей жизни деньги. Как будто это стыдно. — Возьмите романы, биографии, повести: везде стараются обойти денежные вопросы, тогда как в них главный интерес (ежели не главный, то самый постоянный) жизни и лучше всего выражается характер человека» (46, 189). Толстой много читает — «Историю государства российского» Карамзина, журнал Новикова (у Толстого ошибка — Карамзина) «Утренний свет». В связи с этим чтением — интересная запись: «Читая философское предисловие... я удивлялся тому, как могли мы до такой степени утратить понятие о единственной цели литературы — нравственной, что заговорите теперь о необходимости нравоучения в литературе, никто не поймет вас. А право не худо бы, как в баснях, при каждом литературном сочинении писать нравоучение — цель его... Вот цель благородная и для меня посильная — издавать журнал, целью которого было бы единственно распространение полезных (морально) сочинений» (46,213—214). Вянваре 1854 г. Толстой возобновляетфранклинов- ский журнал. Надо еще прибавить, что Толстой решил бросить военную службу и вернуться к помещичьей жизни. 30 мая 1853 г. он подал в отставку, а в июне писал брату Сергею: «Я подал в отставку и на днях, т. е. месяца через 1/2 надеюсь свободным человеком ехать в Пятигорск, а оттуда в Россию» (59, 236).
Все это свидетельствует прежде всего о том, что в 1853 г. (после неудачи с первоначальным замыслом «Романа русского помещика») Толстой вернулся к своему автобиографическому роману («Отрочество»), к психологической проблематике. Глава «Его прошедшее» (о ней шла речь в главе первой) превращает «политический» роман в автобиографический. Это подтверждается и наброском предисловия: «Главное основное чувство, которое будет руководить меня во всем этом романе, — любовь к деревенской помещичьей жизни... главная мысль сочинения: счастие есть добродетель. Юность чувствует это бессознательно, но различные страсти останавливают ее в стремлении к этой цели. И только опыт, ошибки и несчастия заставляют, постигнув цель эту сознательно, единственно стремиться к ней и быть счастливу, презирая зло и спокойно перенося его. На этом основании и роман должен делиться на 3 части. — Благородное, но неопытное увлечение юности, ошибки и увлечение страстями. Исправление и счастье» (4, 363). Об изображении «зла правления русского» и о борьбе с ним нет ни слова — к этой стороне замысла Толстой, видимо, совершенно охладел. Как будто именно в отмену прежнего замысла сказано: «презирая зло и спокойно перенося его». Роман «догматический» до такой степени приблизился к «автобиографическому» («умозрительному»), что стал сливаться с ним — как его продолжение. Толстой возвращается (может быть, под некоторым воздействием Н. С. Кашкина) к более привычной и близкой ему сфере частных, домашних отношений.
В связи с этим рассказ «Записки маркёра» приобретает особый смысл. Герой рассказа — все тот же Нехлюдов. Его предсмертное письмо, которым заканчивается рассказ, приводит нас к «автобиографическому» роману: «В моем воображении возникли надежды, мечты и думы моей юности. Где те светлые мысли о жизни, о вечности, о боге, которые с такою ясностью и силой наполняли мою душу? Где беспредметная сила любви, отрадной теплотой согревавшая мое сердце? Где надежда на развитие, сочувствие ко всему прекрасному, любовь к родным, к ближним, к труду, к славе? Где понятие об обязанности?» (J, 115-116). В рукописи близость эта еще резче: «Я пробовал распределение дня, как делывал в старину; но ничто не занимало меня, и определения воли, основанные на воспоминаниях, а не на наклонностях, были бессильны. — Я пробовал снова вести франклиновский журнал и каждый вечер рассматривать свои поступки и объяснять себе причины тех, которые были дурны. Тщеславие, лень, тщеславие» (3, 283). Это уже отклики не только романа, но и дневника. Тут же отклики того письма из «Романа русского помещика», которое писал Нехлюдов, когда бросил университет и уехал в деревню; финал оказался трагическим: «Бог дал мне богатство, вверил мне существование 2000 людей. Что я сделал? Я разорил их... И это сделал я, который отроком так хорошо понимал священную обязанность помещика» (3, 279).
Итак, биография Нехлюдова, собиравшегося сначала бороться со «злом правления русского», а потом искать идеала в семейном быту (дневник от 19 октября
г.), трагически закончилась самоубийством. «Записки маркёра», внезапно вырвавшиеся из-под пера, были как бы свидетельством того, что оба романа, и «автобиографический» и «догматический», не имеют перспективы. Их герой погиб раньше, чем были написаны о нем романы, рассчитанные на совсем иной конец. Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая работа Толстого, если бы в этот момент не изменилась его жизнь — и совсем не так, как он хотел и предполагал. В июне
г. он писал брату Сергею: «Я уже писал тебе, кажется, что я подал в отставку. Бог знает, однако, выйдет ли и когда она выйдет теперь, по случаю войны с Турцией... Нахожусь в самом неприятном положении неизвестности насчет моей отставки, которая для меня теперь составляет важнейший интерес в жизни» (59,241—242). В связи с начавшейся 14 июня 1853 г. войной отставки и отпуска были запрещены. В октябре Толстой подал заявление о переводе в действующую армию, а в ноябре писал брату: «Когда я приеду? Знает один бог, потому что вот уж год скоро, как я только о том и думаю, как бы положить в ножны свой меч, и не могу. — Но так как я принужден воевать где бы то ни было, то нахожу более приятным воевать в Турции, чем здесь» (59, 251). В январе 1854 г. Толстой выехал с Кавказа в Ясную Поляну, а в марте отбыл в Дунайскую армию, где был назначен в 12-ю артиллерийскую бригаду, а затем в штаб артиллерии Южной армии. Неудовлетворенный этим положением, Толстой стал проситься в Крымскую армию, в Севастополь — «отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпу- товского, который мне не нравился, а больше всего из патриотизма, который, в то время, признаюсь, сильно нашел на меня» (письмо к брату Сергею; 59, 321). В ноябре 1854 г. Толстой приехал в Севастополь.
ТОЛСТОЙ В «СОВРЕМЕННИКЕ» (1856-1857 гг.)
1
В ноябре 1855 г. Толстой был командирован в Петербург в качестве военного курьера — с донесением о действиях артиллерии в день последнего штурма Севастополя. 19 ноября он прибыл в Петербург и в тот же день явился к Тургеневу, с которым до тех пор не встречался. «Мы с ним сейчас же изо всех сил расцеловались, — сообщает он 20 ноября сестре, с которой Тургенев был знаком. — Он очень хороший. С ним вместе поехали к Некрасову, у которого обедали и до 8 часов сидели и играли в шахматы... Некрасов интересен, и в нем много доброго, но в нем нет прелести, привязывающей с первого раза» (61,369). В следующие дни Толстой знакомится со всем писательским кругом «Современника»: с Дружининым, Панаевым, Гончаровым, В. Боткиным, Фетом, Анненковым и др. Он собирался пробыть в Петербурге всего несколько дней, но случилось иначе: он был прикомандирован к Петербургскому ракетному заведению, а затем (в конце 1856 г.) уволен по прошению со службы. Итак, Толстой — помещик и писатель; исполнилось то, о чем он записал в дневнике 17 июля 1855 г.: «Быть, чем есть: а) по способностям литератором, Ь) по рождению — аристократом» (47, 53). Однако и то и другое было связано с целым рядом трудностей.
Писатели встретили Толстого восторженно и приветствовали его как автора «Севастопольских рассказов». Дружинин писал: «Граф Толстой, в своих рассказах о Севастополе, важен как человек военный, как счастливейший представитель образованнейшей части нашего достославного воинства. Он попал в Крым не в виде зрителя и живописца по приглашению, не в виде туриста, любящего сильные ощущения, даже не в виде литератора, явившегося на поле борьбы за новым вдохновением. Наш новый нувелист и дорогой товарищ — русский офицер, начавший свою службу на Кавказе, много ночей спавший у костра, рядом с артиллерийскими солдатами, видавший в свою жизнь военные дела и уже присмотревшийся к той картинности военного быта, которая всегда неотразимо поражает незнакомых с жизнью воина... Оттого нам как нельзя более понятна та завидная популярность, какою пользуется... граф Толстой между образованнейшими классами военного сословия. Может быть, он сам не догадывается о размерах этой популярности; но по нашему собственному опыту, довольно многостороннему по этой части, ее размеры, увеличиваясь со всяким днем, достигли самой завидной степени»93. В следующей статье (по поводу отдельного издания «Военных рассказов» 1856 г.) Дружинин говорит в еще более лестных выражениях: «С появлением "Рубки леса" слава образцового военного рассказчика окончательно утвердилась за графом Толстым, в то же самое время печатавшим свои "Очерки Севастополя". Сильный талант, наблюдатель и мастер, военный человек, истинный воин по службе и призванию, — сказались читателю самому недальновидному... И когда осада кончилась, и когда автор "Рубки леса" вернулся к нам не только целый и здоровый, но еще с "Севастополем в августе"... он был встречен в Москве и Петербурге, как один из первых русских писателей и чуть ли не единственный знаток поэзии военного быта»94. Это было похоже на рекламу. Впоследствии (в первой главе «Декабристов») Толстой довольно едко ответил на эти похвалы, за которыми скрывались соображения литературной политики: «Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из деятелей того времени. Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне сочинение, приобретшее ему великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки прибыл в центр государства, в ракетное заведение, где и пожал лавры своих подвигов. Он видел восторг обеих столиц и всего народа и на себе испытал, как Россия умеет вознаграждать истинные заслуги. Сильные мира сего искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе и для того, чтобы узнать от него подробности войны, рассказывали ему свои чувствования» (/7, 8-9). Заключенная в этих словах ирония — уже плод большого и, в общем, горького опыта, вынесенного Толстым из общения с литературной и интеллигентской средой 1855—1859 гг.
Ничто, казалось бы, не мешало Толстому войти в круг «Современника» и стать его постоянным сотрудником. Наделе вышло иначе. Толстой появился в «Современнике» в момент сильнейшего обострения общественных и политических проблем, в момент начавшегося после войны расслоения интеллигенции. Выплыли на поверхность все вопросы русской жизни, отодвинутые в сторону Крымской войной, — вопросы экономического, социального и политического переустройства России. Определились позиции либералов и крепостников, возобновилась полемика западников и славянофилов, раздались голоса «новых людей» — революционных демократов во главе с Чернышевским, за границей появилась «Полярная звезда» Герцена, напоминавшая о революционных традициях декабризма. Писатели, выступившие в 40-х годах, наследники Пушкина и Гоголя, ученики Белинского (Тургенев, Салтыков, Гончаров, Некрасов), должны были заново определить свои общественные и литературные позиции. Настало время дифференциации сил и стремлений, время напряженной социальной и идеологической борьбы, своего рода «гражданской войны». Это выразилось, между прочим, в необычайном развитии прессы: в 1856-1858 гг. появилось множество новых журналов, газет и всевозможных «листков». В Москве начали выходить такие солидные журналы, как «Русская беседа» (орган славянофилов) и «Русский вестник»; в Петербурге рядом с «Современником» начала действовать обновленная «Библиотека для чтения», созданная группой писателей, отошедших от «Современника», — во главе с А. В. Дружининым. Еще до приезда Толстого «дружеский кружок», собравшийся в «Современнике», начал распадаться, разделяться на партии. Главным поводом для этого было появление Чернышевского, взявшего в свои руки критический отдел журнала. Начинаются страстные споры об «Эстетических отношениях искусства к действительности» (диссертация Чернышевского, 1855 г.), о Пушкине и Гоголе, о
Белинском, о «дидактическом» и «чистом» искусстве. В ответ на статью Чернышевского о новом издании сочинений Пушкина (под редакцией П. В. Анненкова) Дружинин пишет статью, в которой заявляет: «Что бы ни говорили пламенные поклонники Гоголя (и мы сами причисляем себя не к холодным его читателям), нельзя всей словесности жить на одних "Мертвых душах" Нам нужна поэзия. Поэзии мало в последователях Гоголя, поэзии нет в излишне реальном направлении многих новейших деятелей... Скажем нашу мысль без обиняков: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением. Против того сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может служить лучшим орудием»95. Чернышевский печатает «Очерки гоголевского периода русской литературы», которые заканчиваются прямым нападением на Дружинина и «эпикурейцев» — теоретиков «чистого искусства»; в ответ на это Дружинин печатает свою программную статью — «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения». «Дидактической» теории Дружинин противопоставляет теорию «артистическую», согласно которой «искусство служит и должно служить само себе целью»96. В переписке этих лет непрерывно мелькает имя Чернышевского — особенно в связи с вопросом о пушкинском и гоголевском направлениях. Борьба с «дидактикой» была шифром — настоящий ее смысл был в борьбе с революционной демократией, с Чернышевским и с «молодым поколением». Дружинин откровенно пишет В. Боткину 19 августа 1855 г.: «Если мы не станем им противодействовать, они («юноши». — Б. Э.) наделают глупостей, повредят литературе и... заставят нас лишиться того уголка на солнце, который мы добыли потом и кровью»97.
Вот в этот-то момент Толстой и появился в «Современнике». Его отличие от всех сотрудников журнала не только в том, что он — военный писатель, участник Севастопольской обороны, но и в том, что он пришел в литературу со стороны и совершенно не подготовленным к тем вопросам, которые были предметом обсуждения и в редакции и в печати. Его жизнь сложилась так, что в 40-х годах он не имел никакой связи с писательской и журнальной средой, а затем уехал на Кавказ, откуда попал прямо на фронт. Единственный среди сотрудников «Современника», он, в сущности, не имел точного представления ни о том, что такое «Критика гоголевского периода» и традиции Белинского, ни о том, что такое славянофилы и западники, ни о том, в чем состоит разница между «дидактической» и «артистической» теорией искусства. Чернышевский для него — совершенно новый человек, как и Дружинин, Боткин или Анненков. В первом письме из Петербурга к родным (от 30 ноября 1855 г.) он сам признается: «Я наслаждаюсь двумя вещами, которых я долго был лишен и которые здесь нашел — удобства жизни и умную беседу. Но, к несчастью, я чувствую, что я уже слишком отстал от них — в гостиной мне хочется развалиться, снять штаны и сморкаться в руку, а в умной беседе хочется соврать глупость» (61, 371). Вначале он вел себя в писательской среде как посторонний, к которому все эти споры не относятся; недаром его прозвали «милейшим троглодитом» и восхищались его «натурой». Некрасов писал о нем Боткину, что он «умница», «милый, энергический, благородный юноша — сокол!., а может быть, и — орел», «выше своих писаний»98 и пр. Но прошло некоторое время, и Толстой стал принимать участие в спорах на общественные и литературные темы. Впечатление сразу изменилось. Тот же Некрасов пишет 7 февраля 1856 г. тому же Боткину, что Толстой нес у него за обедом «чушь»: «Он говорит много тупоумного и даже гадкого. Жаль, если эти следы барского и офицерского влияния не переменятся в нем.
Пропадет отличный талант»99. Об этом же обеде Боткину пишет Тургенев: «С Толстым я едва ли не рассорился — нет, брат, невозможно, чтобы необразованность не отозвалась так или иначе. Третьего дня, за обедом у Некрасова, он по поводу Ж. Занд высказал столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя. Спор зашел очень далеко — словом — он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете»100.
Толстой — человек другой среды, другого воспитания, других традиций и взглядов, чем все, собравшиеся в «Современнике». При этом он ведет себя демонстративно: вступает с ними в яростные споры, смеется над их «убеждениями», отвергает их теории. Чернышевский называет его «диким человеком» и «мальчишкой по взгляду на жизнь». Не будь он автором «Детства» и в особенности «Севастопольских рассказов», двери «Современника» были бы, конечно, закрыты для него. Этого не произошло: все надеются, что его можно перевоспитать, что «блажь уходится» (Некрасов — Боткину)101, что «когда это молодое вино перебродит, выйдет напиток, достойный богов» (Тургенев — Дружинину),02. Весь вопрос в том, на чью сторону станет Толстой и кто займется его образованием и воспитанием. Это одна из постоянных тем в переписке 1856-1857 гг. К концу 1856 г. положение определилось: Толстой стал на сторону Дружинина — против «Современника», против Чернышевского и Некрасова, против Гоголя и Белинского, за «артистическую» теорию103. Некрасов пишет взволнованное письмо Тургеневу, который рассчитывал стать главным руководителем Толстого: «Что сказать о Толстом, право не знаю. Прежде всего он самолюбив и неспособен иметь убеждение — упрямство не замена самостоятельности... при нынешних обстоятельствах, естественно, литературное движение сгруппировалось около Дружинина — в этом и разгадка. А что до направления, то тут он мало понимает толку. Какого нового направления он хочет? Есть ли другое — живое и честное, кроме обличения и протеста? Его создал не Белинский, а среда, оттого оно и пережило Белинского, а совсем не потому, что "Современник" — в лице Чернышевского — будто бы подражает Белинскому... Однако все это ясно для нас, но не для Толстого. Чем его удержать?»104 В то же время Чернышевский пишет Некрасову: «На днях приедет Толстой и привезет "Юность" для 1-го № "Современника"»105. В следующем письме Чернышевский сообщает: «Я не имел еще случая сойтись с ним, но Боткин говорит, что он исправляется от своих недостатков и делается человеком порядочным. На днях я увижу его у Боткина»106. Встреча произошла у Панаева (18 декабря) — и Толстой записал: «К Панаеву, там Чернышевский, мил» (47,105). Интересно, что в это время вышел декабрьский номер «Современника» со статьей Чернышевского о Толстом, написанной (по словам самого Чернышевского в письме к Некрасову) «так, что, конечно, понравится ему, не слишком нарушая в то же время и истину»107 Вторая встреча произошла 11 января 1857 г.; Толстой записал: «Пришел Чернышевский, умен и горяч» (47, 110).
Итак, 1856 г. проходит для Толстого под знаком выбора себе друзей и руководителей. Жизнь строится почти заново; старые связи, занятия и привычки отошли в прошлое. Его окружают л итераторы, журналисты, общественные деятели — представители русской интеллигенции, разбившейся на разные лагери: лагерь дворян- либералов, лагерь «новых людей», революционных демократов, лагерь славянофилов. Общественная и журнальная жизнь бьет ключом, всюду обсуждаются вопросы переустройства России после Крымской войны. В каком же лагере окажется Толстой?
В первой главе «Декабристов», написанной, по-видимому, в 1860 г., Толстой подводит итог этому времени — «когда со всех сторон появились вопросы (как называли в 1856 году все то стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толку)». Итог явно иронический: «Все старались отыскивать еще новые вопросы, все пытались разрешать их; писали, читали, говорили проекты, всё хотели исправить, уничтожить, переменить, и все россияне, как один человек, находились в неописанном восторге. Состояние, два раза повторившееся для России в XIX столетии: в первый раз, когда в 12-м году мы отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в 1856-м году нас отшлепал Наполеон III. Великое, незабвенное время возрождения русского народа!!!... Как тот француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую французскую революцию, так и я смею сказать, что кто не жил в 56-м году в России, тот не знает, что такое жизнь» (77, 8). Что значит эта ирония? А. В. Амфитеатров не без основания писал потом: «Нет никакого сомнения, что, если бы начальная глава "Декабристов" появилась в печати, когда была написана, а не четверть века спустя, она вызвала бы сильную и неприятную для Толстого бурю — не за декабриста только, конечно, но за весь свой сатирический и "реакционный" тон»108.
По дневникам и письмам Толстого 1856-1857 гг. видно, что он — противник всех «теорий» и всяческих «убеждений». Еще в 1854 г. он записал в дневнике характерную мысль: «Все истины парадоксы. Прямые выводы разума ошибочны, нелепые выводы опыта — безошибочны» (47,23). Записи 1856 г. свидетельствуют о том, что Толстой не может сойтись ни с одним направлением, находя в каждом узость или односторонность. После ссор в «Современнике» он сближается с Дружининым, В. Боткиным и Анненковым — с «бесценным триумвиратом», по его собственному выражению; но проходит некоторое время — и появляются записи, указывающие на охлаждение: «Собрание литераторов и ученых противно... литературная подкладка противна мне до того, как ничто никогда противно не было... Прочел 2-ю статью Дружинина (очевидно, о «Критике гоголевского периода». — Б. Э.). Его слабость, что он никогда не усумнится, не вздор ли это все... К Боткину — там застал Анненкова и Дружинина, ужинал. Мне очень грустно» (47, 100, 101, 104).
Не лучше складываются отношения со славянофилами, с которыми намечалась как будто возможность сближения. 8 мая 1856 г. записано: «Вечером сидел у Оболенского с Аксаковым, И. Киреевским и др. славянофилами. Заметно, что они ищут врага, которого нет. Их взгляд слишком тесен и не задевающий за живое, чтобы найти отпор» (47, 69-70). В письме В. Боткину от 20 января 1857 г. Толстой сообщает: «Славянофилы тоже не то. Когда я схожусь с ними, я чувствую, как я бессознательно становлюсь туп, ограничен и ужасно честен, как всегда сам дурно говоришь по-французски с тем, кто дурно говорит» (60, 153). В письме к нему же от 29 января Толстой сообщает, что познакомился с Б. Н. Чичериным (ярым западником), который очень ему понравился, и прибавляет: «Славянофилы мне кажутся не только отставшими, так что потеряли смысл, но уже так отставшими, что их отсталость переходит в нечестность» (60, 156). Итак, ни редакция «Современника», ни «бесценный триумвират», ни славянофилы, ни Тургенев — никто не находит у Толстого полного признания: все — «не то». 13 ноября 1856 г. записано: «Все мне противны, особенно Дружинин, и противны за то, что мне хочется любить, дружбы, а они не в состоянии» (47, 99).
В записной книжке 1857 г. есть мысли, бросающие свет на эту своеобразную позицию. Толстой относится недоверчиво к самым попыткам разума постичь истину и потому в любой теории находит ошибки и односторонность. «Есть два ума, — записывает он в апреле 1857 г. — По одному, логическому, маленькому — цивилизация ведет вперед — благо, по другому, глядя свыше, есть равная компенсация в отсутствии цивилизации. По-третьему, еще свыше, в область которого я только на минуту могу заглядывать — оба вместе справедливы» (47, 203-204). Это своего рода «диалектика»: сознание противоречий, которые снимаются признанием более высокой истины. Вопрос о противоречиях и о выходе из них не покидает Толстого. «Читая логического, матерьяльного Прудона, — записывает он в мае 1857 г., — мне ясны были его ошибки, как и ему ошибки идеалистов. Сколько раз видишь свою бессил ьность ума — всегда выражающуюся односторонностью, а еще лучше видишь эту односторонность в прошедших мыслителях и деятелях, особенно когда они дополняют друг друга. От этого любовь, соединяющая в одно все эти взгляды, и есть единственный непогрешительный закон человечества» (47,208-209). Об этом значении любви, преодолевающей все ошибки, Толстой писал и раньше—в период первых столкновений с «Современником»: «Да, лучшее средство к истинному счастию в жизни — это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального» (47, 71). Об этом же Толстой писал Некрасову в знаменитом письме от 2 июля 1856 г., направленном против Чернышевского: «У нас не только в критике, но в литературе, даже просто в обществе, утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым очень мило. А я нахожу, что очень скверно. Гоголя любят больше Пушкина. Критика Белинского верх совершенства, ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов. А я нахожу, что скверно, потому что человек желчный, злой не в нормальном положении. Человек любящий — напротив, и только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи» (60, 75). Здесь, конечно, сказалось влияние «артистической» теории Дружинина (слова о Гоголе и Пушкине), но дело этим не исчерпывается. У Толстого была своя идейная основа, заставившая его скоро отказаться и от этой теории и от дружбы с «бесценным триумвиратом». Эта основа выражалась прежде и больше всего в напряженности нравственного чувства — черта, специально отмеченная и подчеркнутая Чернышевским в его статье о Толстом: «Не то мы хотим сказать, что в произведениях графа Толстого чувство это сильнее, нежели в произведениях другого какого из замечательных наших писателей: в этом отношении они равно высоки и благородны, но у него это чувство имеет особенный оттенок. У иных оно очищено страданием, отрицанием, просветлено сознательным убеждением, является уже только как плод долгих испытаний, мучительной борьбы, быть может, целого ряда падений. Не то у графа Толстого: у него нравственное чувство не восстановлено только рефлексиею и опытом жизни, оно никогда не колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести... От этого качества, по нашему мнению, во многом зависит прелесть рассказов графа Толстого... Относительно "Детства" и "Отрочества" очевидно каждому, что без непорочности нравственного чувства невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и задумать их. Укажем другой пример — в "Записках маркёра": историю падения души, созданной с благородным направлением, мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант, сохранивший первобытную чистоту»109. И Чернышевский предсказывает: «Эти две черты — глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства, придающие теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого, всегда останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии»110. Интересно, что и П. Анненков (один из «триумвирата») отмечал эту особенность у Толстого: «Просто изумительно, как много мыслил этот человек о нравственности, добре и истине — и с каких ранних пор, — пишет он Тургеневу. — В последнее время я пришел к такому убеждению, что между нами нет лица более нравственного, чем Толстой»111. О том же Тургеневу 3 января 1857 г. писал В. Боткин: «Это во всех отношениях редкая натура; много сил и необыкновенное внутреннее стремление... Великий нравственный процесс происходит в нем, и он все более и более возвращается к основным началам своей природы, которые в прошлом году так затемнены были разными житейскими дрязгами прежнего кружка и прежней колеи жизни»112. В письме к Тургеневу от 25 января 1857 г. Анненков говорит о «героизме внутренней честности»113 у Толстого.
Не случайно именно Чернышевский первый обратил внимание на эту черту Толстого: при всем различии позиций их объединяло глубокое сознание нравственной ответственности и стремление воплотить свои жизненные идеалы в дело. Недаром Толстой после личной встречи с ним записал: «Чернышевский умен и горяч» (47, 110). Дело тут не в «характерах», а в историческом родстве: идейное развитие обоих совершалось под знаком утопических идей 40—50-х годов в их русском варианте. Это был их общий исторический корень, из которого вырастали ветви в разных и даже противоположных направлениях — соответственно различию социальных традиций, положений и навыков.
Мы говорили выше о явных связях молодого Толстого с утопическими веяниями эпохи, с русским фурьеризмом. В записи о «новой религии», дающей блаженство на земле, просвечивало знакомство с сенсимонизмом и с выросшей из него «позитивной религией» Конта. Согласно этому учению, в человеке, кроме умственных (познавательных) способностей, существуют другие, более эффективные и деятельные — сердечное чувство и воля, которые главенствуют над разумом: в них начало и конец жизни. Именно первенство сердца над умом приводит к объединению отдельного человека с целым человечеством («религия»). Отсюда — особое внимание к женщине, представляющей по преимуществу сердечную сторону человеческого общества. Все это находит себе отражение в Толстом как в человеке этой эпохи. Путь к счастью идет, по его мнению, не через разум, а через стихийное чувство любви, которое он противополагает всем теориям и законам. Именно опираясь на эти стихийные (сердечные) чувства, он старается преодолеть обступающие его жизненные противоречия. В наброске путешествия по Швейцарии («Отрывок дневника 1857 года») он пишет: «В молодости я решал и выбирал между двумя противоречиями; теперь я довольствуюсь гармоническим колебанием. Это единственное справедливое жизненное чувство» (5, 199). Выражение и самое понятие «гармонического колебания», — несомненно, книжное, философское, взятое Толстым, по-видимому, из фурьеристской литературы114. При всей своей борьбе с теориями он страстно ловит их и подвергает анализу, чтобы найти истину, стоящую «свыше» их. Это, между прочим, тоже отмечает Боткин в письме к Тургеневу (от 6 апреля 1859 г.) как присущую Толстому странность: «Я довольно часто вижусь с ним, — но так же мало понимаю его, как прежде. Страстная, причудливая и капризная натура. И притом самая неудобная для жизни с другими людьми. И весь он полон разными сочинениями, теориями и схемами, почти ежедневно изменяющимися. Большая внутренняя работа, но работа, похожая на иксионовскую»115. Дело тут было не только в «натуре», но и в эпохе, в истории. «Натура» побуждала
Толстого к деятельности, к вмешательству в «дело гармонического устройства междучеловеческих отношений»; эпоха направляла эти усилия и стремления «натуры» в сторону тех социально-утопических теорий, которые в 40-х годах распространились по всей Европе, а в России приняли сугубо нравственный характер, тем самым приобретавший религиозную форму и тяготевший к евангельскому учению. Социализм Чернышевского, построенный на материалистических основах, был, конечно, чужд и даже враждебен Толстому, но социальные утопии Сен-Симона, Фурье или Прудона должны были вызывать у него сочувствие и интерес. Симптоматична и не случайна сделанная им в 1857 г. запись (в записной книжке, за границей): «Социализм ясен, логичен и кажется невозможен, как казались пары. Надо прибавить силы, встретив препятствие, а не идти назад» (47, 214). Характерен также его интерес к Герцену. В ноябре 1856 г. он записывает: «Дочел Полярную звезду. Очень хорошо» (47,98). Будучи в 1857 г. за границей, Толстой мечтал о поездке к Герцену в Лондон; узнав об этом от Тургенева, Герцен писал ему: «Очень, очень рад буду познакомиться с Толстым — поклонись ему от меня как от искреннего почитателя его таланта. Я читал его "Детство", не зная, кто писал, — и читал с восхищеньем... Если ему понравились мои записки, то я вам здесь прочту выпущенную главу о Вятке и главу о Грановском и Кетчере»116. В ответ на это Тургенев писал Герцену: «Толстому я передал твой поклон; он очень ему обрадовался и велит тебе сказать, что давно желает с тобой познакомиться — и заранее тебя любит лично, как любил твои сочинения (хотя он №! далеко не красный)»117. Интерес Толстого к Герцену не был секретом для его близких; 7 октября 1857 г. А. А. Толстая писала ему: «На днях зашел разговор о вас; кто-то сказал, что вы, вероятно, со временем сделаетесь вторым изданием Искандера. Ох, как это меня задело за живое... Докажите им, милый друг, что ваша цель и пряма, и свята, и чиста, а мне скажите успокоительное слово насчет Искандера. Надеюсь, что вы ему не сочувствуете»118. Ответ Толстого на этот вопрос испуганной фрейлины неизвестен; в 1857 г. он не попал к Герцену, но в 1861 г. познакомился с ним — и это знакомство имело важные последствия.
Позиция Толстого, разобщившая его с «Современником», и с Тургеневым, и с Дружининым, и со славянофилами, должна была отразиться и на его творчестве 1856-1857 гг. От «артистической» теории Дружинина он скоро отошел, по вопрос об искусстве тем более волнует его. Ему нравится сказка Андерсена о платье короля («Вот идет голый король!») — и он записывает: «Дело литературы и слова — втолковать всем так, чтобы ребенку поверили» (47, 202), т. е. чтоб поверили, что все теории ошибочны. В июле 1857 г. в записной книжке есть очень интересная и важная запись: «Ум, который я имею и который люблю в других, — тот, когда человек не верит ни одной теории; проводя их дальше, разрушает каждую и, не доканчивая, строит новые. Например: теория объективного и субъективного творчества в искусстве — гиль. Вот подразделение, находящееся совсем в другой плоскости: дело искусства отыскивать фокусы и выставлять их в очевидность. Фокусы эти, по старому разделению, — характеры людей; но фокусы эти могут быть характеры сцен, народов, природы» (47, 212-213). Отвергая теорию объективного и субъективного творчества, Толстой имеет в виду, очевидно, Белинского, статьи которого он, по совету Дружинина, читал в начале 1857 г. Эта теория, возникшая из борьбы с романтизмом, естественно, чужда ему, потому что все его внимание направлено на самую действительность, а не на проблему «субъективизма». Теория отыскивания «фокусов» — это теория схватывания и воспроизведения основных
характерных черт действительности без ухода в натурализм; иначе говоря, это теория реализма. Проблема «субъективного» при этом не снимается, но теряет свое прежнее значение, свой прежний индивидуалистический смысл. В системе реализма под «субъективным» понимается участие автора в повествовании или его отношение к своим персонажам. Эта проблема очень интересует Толстого. Он сопоставляет с этой точки зрения Диккенса и Теккерея. «Первое условие популярности автора, — записывает он в 1856 г., — т. е. средство заставить себя любить. Есть любовь, с которой он обращается со всеми своими лицами. От этого диккенсовские лица общие друзья всего мира, они служат связью между человеком Америки и Петербурга; а Теккерей и Гоголь верны, злы, художественны, но не любезны... Теккерей до того объективен, что его лица с страшно умной иронией защищают свои ложные, друг другу противоположные взгляды... Хорошо, когда автор только чуть-чуть стоит вне предмета, так что беспрестанно сомневаешься, субъективно или объективно» (47, 178, 184, 191).
Первой вещью, написанной Толстым после приезда в Петербург, был рассказ «Метель». Это — явное возвращение к интимному психологизму, к «диалектике души», к жанру дневника, к «Истории вчерашнего дня». Толстой как будто демонстрирует здесь, какие возможности заложены в психологическом методе: никаких внешних событий, никакого «сюжета» в обычном смысле здесь нет, нет даже характеров или типов; есть только цепь наблюдений и снов, наполненных мельчайшими подробностями — вплоть до отмеченного Тургеневым воробья, который «притворился раза два, что энергически клюнул землю»119. Дружинин сопоставлял «Метель» с одной главой «Капитанской дочки»; характерно не это внешнее сходство само по себе, а то, что из одной главы, имеющей у Пушкина сюжетное значение, сделан отдельный рассказ. Здесь есть скрытая полемика с сюжетной прозой, которая строится на «интересе событий» и кажется Толстому устаревшей. В этом смысле Дружинин был отчасти прав, усмотрев в «Метели» нечто сходное с поэзией и, в частности, со стихотворениями Фета. В «Метели» нашла свое осуществление теория отыскивания фокусов — и именно фокуса сцен, а не характеров: здесь дело не в людях самих по себе, а в особых обстоятельствах, порождающих особые душевные состояния. Это своего рода опыт над человеческой психикой вообще, независимо от характера. Напряженный и сосредоточенный психологизм этой вещи вызвал недовольство критиков (втом числе и Дружинина). С. Аксаков, очень хваливший ее, тем не менее писал 12 марта 1856 г. Тургеневу: «Скажите ему, что подробностей слишком много; однообразие их несколько утомительно»120. С. Дудышкин сопоставил «Метель» с «Бесами» Пушкина, но не в пользу Толстого: «Эта наблюдательность, всегда меткая, не всегда порождает поэзию. Для поэзии нужно чувство шире, многообъемлющее... Для поэзии нужно, чтоб писатель отзывался на многие стороны жизни, откликался на многие вопросы, чтоб сердце его сочувствовало многому, а у гр. Толстого мы не видим этого; у пего точно один ум да фантазия работают»121. Здесь же Дудышкин упрекает Толстого в том, что он со времени «Детства» не сделал «ни шага вперед на поприще искусства, не создал ни повести, ни драмы, которые захватывают так много жизненных вопросов», а «ограничивается портретной живописью и разработкой одной психологии»122. Упрек характерный; человек совсем из другого лагеря, В. Боткин писал в это же время Тургеневу о неудачах Толстого: «Все это мне кажется оттого, что при одних характеристиках оставаться нельзя, как это до сих пор делает Толстой, а делает он это, кажется мне, потому, что у него не сформировалось еще взгляда на явления жизни. Он до сих пор все возился с собой»123.
Замечательно, что Чернышевский, понимавший всю идейную и принципиальную важность толстовского психологизма, встал на его защиту. В статье 1856 г. он говорит: «Стоит внимания то, что люди, особенно много толкующие о художественности, наименее понимают, в чем состоят ее условия. Мы где-то читали недоумение относительно того, почему в "Детстве" и "Отрочестве" нет на первом плане какой-нибудь прекрасной девушки лет восемнадцати или двадцати, которая бы страстно влюблялась в какого-нибудь также прекрасного юношу... Удивительные понятия о художественности! Да ведь автор хотел изобразить детский и отроческий возраст, а не картину пылкой страсти... Далее, там же мы нашли нечто в роде намека на то, что граф Толстой ошибся, не выставив картин общественной жизни в "Детстве" и "Отрочестве"; да мало ли и другого чего он не выставил в этих повестях? в них нет ни военных сцен, ни картин итальянской природы, ни исторических воспоминаний... ведь автор хочет перенесть нас в жизнь ребенка, — а разве ребенок понимает общественные вопросы, разве он имеет понятие о жизни общества? Весь этот элемент столь же чужд детской жизни, как лагерная жизнь, и условия художественности были бы точно так же нарушены, если бы в "Детстве" была изображена общественная жизнь, как и тогда, если б изображена была в этой повести военная или историческая жизнь... в "Детстве" или "Отрочестве" уместны только те элементы, которые свойственны тому возрасту, — а патриотизму, геройству военной жизни будетсвое место в "Военных рассказах", страшной нравственной драме — в "Записках маркёра", изображению женщины — в "Двух гусарах" Никогда не говорит он ничего лишнего, потому что это было бы противно условиям художественности, никогда не безобразит он свои произведения примесью сцен и фигур, чуждых идее произведения. Именно в этом и состоит одно из главных требований художественности»124. Большое принципиальное значение имеет повторяющийся здесь термин: условия художественности; иначе говоря — условия художественного воспроизведения действительности, т. е. того самого «искусства отыскивать фокусы и выставлять их в очевидность» (47, 212-213), о котором писал Толстой. Изображение действительности в сосредоточенной, сконцентрированной форме, обнаружение ее угловых точек («фокусов»), вокруг которых располагается материал, — вот о чем говорят и Чернышевский и Толстой, исходя из системы реализма.
«Метель» была написана в 1856 г., до решительных столкновений с «Современником» и с Тургеневым; следующая вещь, «Два гусара» (апрель 1856 г.), уже носит на себе явные следы возникших трений и споров. Первое упоминание о замысле этой повести, называвшейся «Отец и сын» (заглавие было изменено по совету Некрасова), следует непосредственно после слов: «С Тургеневым я кажется окончательно разошелся» (47, 67—68). Тогда только что появился «Рудин» — и самым злободневным был вопрос о новом русском деятеле, о молодом поколении. Рудин и Лежнев — «люди сороковых годов»; роман Тургенева был своего рода лирическим мемуаром, скрывавшим в себе неприязнь к «новым людям». Им был противопоставлен Покорский (Белинский): «Поэзия и правда — вот что влекло всех к нему. При уме ясном, обширном, он был мил и забавен, как ребенок... был на вид тих и мягок, даже слаб... Покорский вдыхал в нас всех огонь и силу... Человек он был нервический, нездоровый; зато когда он расправлял свои крылья — боже! куда не залетал он! в самую глубь и лазурь неба!»125 Это красноречивое воспоминание о Белинском было направлено против Чернышевского, о котором Тургенев писал в 1856 г. Дружинину: «Я досадую на него за его сухость и черствый вкус — а также и за его нецеремонное обращение с живыми людьми»126. Таково было представление о Чернышевском в дворянском лагере — и Толстой, инспирированный Дружининым и Тургеневым, откровенно писал Некрасову 2 июля 1856 г.: «Все это Белинский! Он то говорил во всеуслышание, и говорил возмущенным тоном, потому что бывал возмущен, а этот думает, что для того, чтобы говорить хорошо, надо говорить дерзко, а для этого надо возмутиться» (60, 75). Тактика была совершенно ясная: бить Чернышевского при помощи Белинского. В «Критике Гоголевского периода» Дружинин писал: «Все наши инстинкты возмущаются, когда нам по несчастию приходится в наше время, через десять лет после того, как окончился упомянутый нами период, встречать рабские, бледные, сухие, бездарные копии старого оригинала»127. Оригинал — это Белинский, копия — Чернышевский. Толстой примкнул в это время к дворянскому лагерю — и Некрасов, видя это, с огорчением пишет Тургеневу: «Может быть, Чернышевский недостаточно хорошо ведет дело — так дайте нам человека или пишите сами. Больно видеть, что Толстой личное свое нерасположение к Чернышевскому, поддерживаемое Дружининым и Григоровичем, переносит на направление, которому сам доныне служил и которому служит всякий честный человек в России»128.
Замысел повести «Два гусара» слагался в этой атмосфере разбушевавшихся страстен. Тургенев вел себя во всем этом конфликте двойственно и осторожно; недаром Некрасов жаловался на Толстого именно ему, надеясь, очевидно, на его поддержку. Что касается Толстого, то он видел уклончивое поведение Тургенева, не желавшего порывать с «Современником», и обрушивался на него за эту двойную политику. Надо, однако, сказать, что дело было не только в Тургеневе: Толстой, как мы уже видели, оказался скоро в оппозиции ко всей группе писателей и литераторов, ко всем их взглядам, теориям и «убеждениям»; более того — в некоторых отношениях он чувствовал себя ближе к Чернышевскому, чем к остальным — именно потому, что он был «горяч», а они холодны или теплы. «Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: "пока я жив, никто сюда не войдет". Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать суетность ваших мыслей и называете это убеждением»129, — кричал Толстой (по воспоминаниям Фета) в редакции «Современника». И Фет прибавляет характерные слова, рисующие своеобразие идейной позиции Толстого среди этого конфликта дворян с разночинцами — либералов с революционными демократами: «При тяготении нашей интеллигенции к идеям, вызвавшим освобождение крестьян, сама дворянская литература дошла в своем увлечении до оппозиции коренным дворянским интересам, против чего свежий неизломанный инстинкт Льва Толстого так возмущался»130. Слово «инстинкт» верно характеризует отмеченное выше положение и поведение Толстого в новой для него среде: уму он противопоставляет чувство («любовь»), теориям — инстинкт, науке и философии — искусство. В основе его позиции лежит принцип стихийности, который оказывается действующим в разные стороны — то против Тургенева, то против Чернышевского, то против славянофилов («их взгляд слишком тесен»), то против «бесценного триумвирата» с его «литературной подкладкой». Друзья объясняли это тем, что у него «не сформировалось еще взгляда на жизнь»; они были правы, но только в том смысле, что он и не хотел сформировывать его в виде тех или иных «убеждений» или «теорий» и предпочитал, разрушая их, смотреть на них «свыше» и пребывать в состоянии «гармонического колебания» между противоречиями, сознавая (как и в области «диалектики души») правоту противоположностей. Именно на этой основе возник замысел повести «Отец и сын».
Надо прежде всего отметить, что это была первая вещь, обращенная к истории и говорящая (в первой части) об эпохе «Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных» (J, 145). Повесть начинается грандиозной интродукцией, характеризующей начало века («В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света» и т. д. — J, 145). Откуда вдруг появился у Толстого интерес к этой эпохе, и что он означает? Следует прежде всего вспомнить, что Крымская война прочно ассоциировалась в сознании Толстого (и, конечно, не только у него) с Отечественной волной 1812 г., возникшее после Крымской войны общественное движение — с декабристским движением. Недаром он с таким увлечением читал «Полярную звезду» Герцена и недаром начал потом писать роман «Декабристы». В набросках предисловия к «Войне и миру» Толстой утверждает, что он начал писать повесть о декабристе в 1856 г. К вопросу о датировке романа «Декабристы» мы обратимся ниже; пока нам важно только то, что между повестью «Отец и сын» и замыслом «Декабристов» есть какая-то связь. Она подтверждается тем, что первая глава «Декабристов» начинается той же формой периода, как повесть, и еще более тем, что одна из ранних редакций «Войны и мира» (выросшей из работы над «Декабристами») возвращается к интродукции повести не только по форме, но и по самому материалу. Надо думать поэтому, что интродукция эта, имеющая мало внутренней связи с содержанием повести, представляет собой след от первоначальной работы над «Декабристами»; она кажется искусственно переделанной, перенесенной из вещи иного жанра и объема. Особенно характерно в ней упоминание о тугендбунде, о масонских ложах и мартинистах, не имеющее никакого отношения к описываемым затем лицам, но свидетельствующее об интересе Толстого к умственным и общественным движениям декабристской эпохи. Надо указать еще на то, что в 1856 г. Толстой часто и охотно посещал старика Д. Н. Блудова, одного из основателей «Арзамаса», и читал у него повесть «Отец и сын». В 1903 г. Толстой говорил о Блудове А. Б. Гольденвейзеру: «Это был очень интересный дом, где собирались писатели и вообще лучшие люди того времени. Я, помню, читал там в первый раз "Два гусара". Блудов был человек когда-то близкий кдекабристам и сочувствующий в душе всякому прогрессивному движению»131. Не случайно в записи А. Б. Гольденвейзера вслед за словами о «Двух гусарах» идут слова о близости Блудова к декабристам — здесь есть несомненная внутренняя связь. Самый материал для повести (особенно для интродукции) мог быть почерпнут отчасти из рассказов Блудова и его дочери132.
Во всяком случае, повестью «Отец и сын» Толстой заявил о своем несогласии с новым поколением и о своем предпочтении «отцам» — дворянскому поколению александровской эпохи. Это проглядывало и раньше; характеристика отца во второй редакции «Детства» заканчивается следующими словами: «Как и все люди прошлого Александровского века, — века великих переворотов и событий, которые живут в нынешнем, он с гордостью и даже некоторым презрением смотрел на спокойствие нынешнего. Он носил общий им характер внешнего благородства, устарелого волокитства и смелости» (7,320). Турбин-отец в «Двух гусарах» написан по этому образцу. Напрасно Дружинин старался доказать, что Толстой — «один из бессознательных (курсив мой. — Б. Э.) представителей теории свободного творчества», что заключенная в «Двух гусарах» мысль есть мысль «независимого художника, но никак не дидактика или современного моралиста», что в этой повести нет ни «предубеждения в пользу старого времени», ни «преднамеренного поучения» и т. д.; противореча сам себе, он должен тут же признать, что «сухость сердца, великая язва поколения нашего, никогда еще не была воплощена в нашей легкой литературе так сильно и так отчетливо». Дружинин сопоставляет молодого Турбина с типом «другого, сухого душой юноши» — с Астаховым в повести Тургенева «Затишье»: «На этой дороге автор "Двух гусаров" несомненно опередил одного из самых старших своих товарищей»133. Повесть Толстого, конечно, тенденциозна и дидактична, что сказывается на самом ее построении: две части повести, между которыми проходит двадцать лет, связаны нравоучительным противопоставлением двух эпох. За этим противопоставлением явно скрывается злободневное противопоставление пушкинского и гоголевского направлений — предмет яростной полемики Дружинина с Чернышевским. В этом смысле «Два гусара» — вещь совершенно злободневная и написанная под некоторым воздействием Дружинина. Турбин-отец — не только человек пушкинской эпохи, описанной в интродукции (которая, кстати сказать, несколько архаизует эпоху 20-х годов), но и типичный пушкинский герой, тогда как молодой Турбин, появление которого в городе К. точно датировано маем 1848 г., ведет себя как герой Гоголя, только лишенный гротеска и поданный без всякого смеха.
Однако в целом повесть Толстого идет, конечно, не по линии «артистической» теории Дружинина, а по линии тех чувств и размышлений, которые заставили его скоро отойти от Дружинина. В. Боткин правильно отметил в письме к Некрасову от 15 мая 1856 г., что «твердостью рисунка отличается только старый гусар и вообще первая половина повести... рисунки молодого гусара и особенно Лизы несколько смутны и не имеют определенной и живой индивидуальности... Старый гусар — полный тип, — но молодой и Лиза далеки от типов»134. Характерно, что сам Толстой записал в дневнике: «Пришел Фет и Трусон. Последний прелестно сказал, что второй гусар писан без любви» (47,72). Именно к этому времени относится датированная выше запись о Диккенсе и Теккерее, которая является, по-видимому, возражением Дружинину. В статье о «Ньюкомах» (1856 г.) Дружинин хвалит Теккерея за то, что у него «нет эффектов самых дозволенных, нет изысканной картинности, нет даже того, что, по понятиям русских ценителей изящного, составляет похвальную художественность в писателе. Оттого Теккерей любезен не всякому читателю, не всякому даже критику. У него солнце не будет никогда садиться для украшения трогательной сцены; луна никак не появится на горизонте во время свидания влюбленных; ручей не станет журчать, когда он нужен для художественной сцены; его герои не станут говорить лирических тирад, так любимых самыми безукоризненными повествователями. Его рассказ идет не картинно, не страстно, не художественно, не глубокомысленно, но жизненно, со всем разнообразием жизни нашей. Теккерей гибелен многим новым и прекрасным повествователям; после его романа их сочинения всегда имеют вид раскрашенной литографии. Изучать Теккерея — то же, что изучать прямоту и честность в искусстве». Основываясь на этом, Дружинин ставит Теккерея выше Диккенса: «Диккенс... всегда имел в своем таланте что-то сладкое, по временам слишком сладкое. Теккерей не имел никакого призвания к розовому цвету — строги и безжалостны были его взгляды на человечество». Статья кончается утверждением, что Теккерей — «самый могучий из художников нашего времени»135. Толстой явно не согласен: он предпочитает Диккенса, герои которого, написанные с любовью, — «общие друзья всего мира» (47, 178). В «Двух гусарах» Толстой как будто попробовал обе манеры: Турбин-отец написан несколько по-диккенсовски, а Турбин-сын — несколько по-теккереевски («без любви»). В итоге первая манера явно победила, что и соответствовало позиции Толстого в этом вопросе.
Повестью «Два гусара» Толстой вышел за пределы того, что критика называла «портретной живописью», или «характеристиками». Здесь намечалось нечто новое хотя бы уже тем, что идейной основой повести оказывалось сопоставление эпох и поколений. Эпиграфом к этой повести могли бы служить не строки из стихотворения Д. Давыдова («Жомини да Жомини, а об водке ни полслова»), а первая строка из лермонтовской «Думы»: «Печально я гляжу на наше поколенье». Интересно, что Турбин-отец так же спасает Ильина от проигрыша, как Арбенин Звез- дича в «Маскараде». Еще в 1854 г. Толстой читал «Маскарад» и записал: «Читал я нынче... Лермонтова драму, в которой нашел много нового, хорошего» (47, 11). Во всяком случае, повесть «Два гусара» свидетельствовала о новых возможностях Толстого за пределами исключительного психологизма — о возможностях перехода к историческому или семейному роману. Дружинин верно подметил, что в этой повести «просто и почти жестко передаются события, из которых легко сделать два романа»136. Об этих возможностях свидетельствует, как я уже говорил, и интродукция, по самому своему стилю и тону похожая на вступление к роману. Тем более вероятно, что Толстой в это время задумывал роман о декабристе. Однако на самом деле работа пошла пока по другим линиям.
2
После Крымской войны и смерти Николая I все пришло в движение — и прежде всего заново возник крестьянский вопрос. Для Толстого это один из главных жизненных вопросов, возникший еще в 1847 г., когда он решил посвятить себя жизни в деревне, чтобы исполнить «священную обязанность» помещика — заботиться о счастье крестьян. С тех пор прошло много лет, принесших много разочарований. Задуманный и начатый в 1852 г. «Роман русского помещика» оставлен. В Севастополе Толстой беседовал с Д. А. Столыпиным «о рабстве в России» и вернулся к мысли о романе — с тем, чтобы показать в нем «невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством» (47, 58). Вопрос обсуждался тогда, конечно, не с экономической, а с правовой и моральной точки зрения («рабство»); теперь возникал вопрос уже не о правах, а о земле — вопрос, для Толстого сложный и неясный. Будущее рисовалось ему в непременной связи с помещичьим делом, с Ясной Поляной, с заботами о «вверенных» ему крестьянах: вне этого он не мог себе представить ни своей жизни, ни России. В этом отношении Толстой явным образом оставался на старых декабристских позициях, укрепленных тем «барским и офицерским влиянием», о котором говорил Некрасов. Он разделял ту естественную дворянскую ограниченность декабристов, суть которой заключалась «в непонимании противоречий между интересами помещичьего класса и крестьянства... Декабристы отрывали вопрос о политических привилегиях дворянства от вопроса об его экономических интересах. Они полагали, что можно осуществить самый демократический строй, не задевая экономических интересов владельцев латифундий»137. Как будет видно ниже, Толстой в своих воззрениях на аграрный вопрос (и в самых колебаниях) был чрезвычайно близок к декабристам — и в частности, к Н. И. Тургеневу, продолжавшему в 50-х годах писать о земельной реформе.
Сильным толчком к новому обсуждению аграрного вопроса послужила речь Александра II, произнесенная им 30 марта 1856 г. и обращенная к московскому дворянству. В этой речи было сказано, что освобождение крестьян со временем «должно случиться» и что «гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу». Фраза эта облетела всю Россию и проникла в самые глухие деревенские углы. Началась эпоха всевозможных «записок» и «проектов», захватившая и Толстого. «Мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня», — записал он 22 апреля 1856 г., а 23 апреля он провел вечер у К. Д. Кавелина и записал: «Прелестный ум и натура. Вопрос о крепостных уясняется. Приехал от него веселый, надежный, счастливый. — Поеду в деревню с готовым писаным проектом» (47,69). На другой день он слушал «прелестный проект Кавелина», затем читал проект Н. А. Милютина, составил докладную записку министру внутренних дел, был у товарища министра А. И. Левшина и пр. По проекту, представленному Толстым Левшину и составленному применительно к проекту Кавелина, крестьяне освобождались от всех повинностей помещику (сборов, оброков, барщины и т. п.), получали по полдесятины на душу в полную и вечную собственность общины и ту землю в пахотных полях и лугах, которой они пользовались, но с условием ее выкупа. На бумаге все это выглядело ясно и хорошо — наделе получилось иначе.
28 мая 1856 г. Толстой приехал в Ясную Поляну и в тот же день вступил в переговоры с крестьянами. «Господь бог вложил мне в душу мысль отпустить вас всех на волю», — такими словами начиналось составленное им письменное предложение, а затем следовало: «Ежели бы можно было поехать в суд сейчас же, написать вам отпускную и отдать ее вам — я бы так и сделал. Но я советовался с умными и старыми людьми об этом деле, и они мне растолковали, что это вдруг нельзя сделать, и отчего нельзя, и как надобно поступить. Во-первых, как вы знаете, именье мое, и земля, и вы заложены в Опекунский совет на сумму около 20 ООО, и до тех пор пока эти деньги не заплатятся, я не имею права отпускать вас на волю. Во-вторых, ежели бы даже именье не было заложено, и я бы мог отпустить вас на волю, для вас бы самих было худо, ежели бы я отпустил вас на волю без земли, на которой вы сидите и с которой кормитесь... Так вот как я придумал: хотя я вам отпускной не могу еще дать законной, потому что долг на именьи есть, я вас отныне от всякой ко мне повинности освобождаю, так что уж вы мне ни барщины, ни столовых, ни дворовой службы в доме, ни оброков, никаких других повинностей справлять не будете; но будете мне ежегодно платить за мою землю, на которой вы сидите и которую в крестьянском поле обрабатывать будете, кроме податей казне, ежегодно по 4 рубля серебром кругом и за каждую озимую, и яровую, и паровую, и луговую десятину; да кроме того по рублю серебром с десятины будете платить в счет выкупа ее от меня. Так что через 30 лет уж вы мне больше ничего платить не будете, и земля ваша будет... Свою землю я вам же, кто захочет, с лугами и угодьями буду отдавать в наем за вольную цену. Которую землю не разберут, сам буду пахать наймом... Подумайте об этом деле, поговорите, посоветуйтесь с старыми, умными людьми и через три дня придите, скажите мне, что вы решили, согласны ли или нет, или что вам туг кажется неправда, не по закону написано, так научите меня, я поправлю и переменю» (5, 243, 244-245).
В первые дни после приезда Толстому казалось, что все идет хорошо, хотя крестьяне отнеслись к его предложению не как к барской «милости», а как к торговой сделке: «Мужики радостно понимают. И видят во мне афериста, потому верят» (47, 77). Затем положение резко изменилось. «Узнал от Василья, что мужики подозревают обман, что в коронацию всем будет свобода, а я хочу их связать контрактом», — записано 3 июня. «Не хотят свободу», — записано 4 июня. «Вечером беседовал с некоторыми мужиками, и их упорство доводило меня до злобы, которую я с трудом мог удерживать», — записано 7 июня (47, 77-79). 9 июня Толстой набросал большое письмо Д. Н. Блудову, в котором изложил свои впечатления от переговоров с крестьянами. Письмо это свидетельствует не только о раздражении, но о растерянности и испуге. Неудача с «предложением» привела Толстого к выводу, что все советы «умных и старых людей» были ошибочны и что в действительности крестьянский вопрос гораздо сложнее. В письме к Блудову ярко отразилась та своеобразная смесь понятий и взглядов, которая характерна для Толстого этой поры и которая приводила в недоумение Некрасова, Чернышевского, Тургенева и других. Толстой сообщает о решительном отказе крестьян от всех его предложений, в которых они, «по своей всегдашней привычке к лжи, обману и лицемерию, внушенной многолетним попечительным управлением помещиков», увидели «одно желание обмануть, обокрасть их». Из разговоров с крестьянами выяснились «два факта, чрезвычайно важные и опасные: 1) что убеждение в том, что в коронацию последует общее освобождение, твердо вкоренилось во всем народе, даже в самых глухих местах, и 2) главное, что вопрос о том, чья собственность — помещичья земля, населенная крестьянами, чрезвычайно запутан в народе и большей частью решается в пользу крестьян, и даже со всей землею помещичьего. Мы ваши, а земля наша» (60, 65). Повторилось то самое, о чем рассказывает в своих записках декабрист И. Д. Якушкин, предлагавший волю своим крестьянам; они спросили у него: «Земля, которою мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?» Когда Якушкин ответил, что землей владеть будет он, а что крестьяне смогут брать у него землю в аренду, они ответили ему: «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому: мы ваши, а земля наша»138. Толстой рассуждает далее так: «Деспотизм всегда рождает деспотизм рабства. Деспотизм королевской власти породил деспотизм власти черни. Деспотизм помещиков породил уже деспотизм крестьян; когда мне говорили на сходке, чтобы отдать им всю землю, и я говорил, что тогда я останусь без рубашки, они посмеивались, и нельзя обвинять их, так должно было быть». Это рассуждения человека, смотрящего па события с точки зрения «Духа законов» Монтескье. И Толстой продолжает: «Виновато правительство, обходя везде вопрос, первый стоящий на очереди. Оно теряет свое достоинство (dignite) и порождает те деспотические толкования народа, которые теперь укоренились... Пускай только правительство скажет, кому принадлежит земля».
Дальнейшая часть письма — самая интересная. Сначала Толстой заявляет: «Я не говорю, чтобы непременно должно было признать эту собственность за помещиком (хотя того требует историческая справедливость), пускай признают ее часть за крестьянами или всю даже. Теперь не время думать о исторической справедливости и выгодах класса, нужно спасать все здание от пожара, который с минуты на минуту обнимет. Для меня ясно, что вопрос помещикам теперь уже поставлен так: жизнь или земля» (60, 65, 66). И ниже Толстой еще раз повторяет эту мысль: «Ежели в 6 месяцев крепостные не будут свободны — пожар. Все уже готово к нему, недостает изменнической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожар везде» (60,67). Это тот самый страх перед «новой пугачевщиной», который был так характерен для декабристов, — и Толстой, при всей своей тяге к деревне, еще страшно далек от народа, как это видно и по его дневникам того времени и по письму к Блудову. Он не крепостник, но для него (как это было и для декабристов) помещичье землевладение является экономической основой русской жизни. Даже Пестель в «Русской правде» не идет дальше частичной национализации земли: «В этом предложении автора "Русской правды" получила весьма выпуклое выражение присущая декабристам тенденция установления компромисса между интересами крестьянства, жаждущего получить землю, и интересами помещичьего класса, стремящегося сохранить за собой всю землю»139. Известно, что значительная часть декабристов (особенно в «Северном обществе») стояла на точке зрения безземельного «освобождения» крестьян, ссылаясь иногда при этом на пример Англии с ее системой «фермерства». В 50-х годах такая точка зрения была возможна только среди крепостников; как видно из письма Толстого, он тоже склонен считать безземельное освобождение самым правильным: «И, признаюсь, я никогда не понимал, почему невозможно определение собственности земли за помещиком и освобождение крестьянина без земли?» (60, 66). Однако далее следует рассуждение, которое показывает, что точка зрения Толстого не имеет ничего общего со взглядами крепостников и что она порождена совсем иным ходом мысли: «Пролетариат! Да разве теперь он не хуже, когда пролетарий спрятан и умирает с голоду на своей земле, которая его не прокормит, да и которую ему обработать нечем, а не имеет возможности кричать и плакать на площади: дайте мне хлеба и работы. У нас почему-то все радуются, что мы будто доросли до мысли, что освобождение без земли невозможно, и что история Европы показала нам пагубные примеры, которым мы не последуем. Еще те явления истории, которые произвел пролетариат, произведший революции и Наполеонов140, не сказал свое последнее слово, и мы не можем судить о нем как о законченном историческом явлении. (Бог знает, не основали он возрождения мира к миру и свободе.) Но главное, в Европе не могли иначе обойти вопроса, исключая Пруссии, где он был подготовлен. У нас же надо печалиться тому общему убеждению, хотя и вполне справедливому, что освобождение необходимо с землей. Печалиться потому, что с землей оно никогда не решится. Кто ответит на эти вопросы, необходимые для решения общего вопроса, по скольку земли? или какую часть земли помещичьей? Чем вознаградить помещика? В какое время? Кто вознаградит его? Это вопросы неразрешимые или разрешимые 10-летними трудами и изысканиями по обширной России. — А время не терпит, не терпит потому, что оно пришло исторически, политически и случайно» (60, 66).
Эта часть письма требует, в сущности, обширного и специального комментирования; здесь можно сказать только самое основное, необходимое для понимания позиции Толстого и ее эволюции в дальнейшем. Толстой явно возражает и против «прелестного проекта» Кавелина, и против славянофилов, и против демократов. Кавелин настаивал па освобождении с землей («не иначе, как с вознаграждением владельцев»), угрожая противникам тем, что иначе «бывшие крепостные впали бы в крайнюю нищету и обратились в бездомников и бобылей, — нечто вроде сельских пролетариев, которых у нас покуда, слава богу, очень мало»141. Боязнь образования сельского «пролетариата» как социальной «язвы» характерна и для революционно- демократической интеллигенции, уделявшей много внимания проблеме «пауперизма». Толстой, зараженный «барским и офицерским влиянием», должен был бы поддерживать «феодальную» точку зрения, ясно выраженную, например, в записке князя П. П. Гагарина: 1) «дарование помещикам права освобождать крестьян без условий и без земли есть мера самая благодетельная, так как она упрочивает за помещиками право земельной собственности»; 2) что касается «сельского пролетариата», или «безработных», то «в России количество земли так значительно, что землепахарь не может опасаться не иметь работы»142. Действительно, Толстой тоже считает совершенно возможным и даже желательным освобождение без земли;
однако он вовсе не утверждает, что «пролетариата» нет и не будет — наоборот: как это ни странно, но Толстой констатирует наличие сельского пролетариата в России, «спрятанного» в общине и умирающего с голоду, и при этом совершенно серьезно говорит о возможной исторической миссии пролетариата («неосновали он возрождения мира к миру и свободе»). В этих неожиданных словах отразилось, по-видимому, некоторое знакомство Толстого с теорией научного социализма, дошедшей до него хотя бы через П. В. Анненкова и В. П. Боткина. Говоря об их дружбе с Толстым в 1856-1857 гг., мы обычно забываем, что оба они были прекрасно осведомлены во всех течениях западной социалистической мысли 40-х годов, а Анненков был даже лично знаком с Марксом и переписывался с ним в 1846 г. Было бы удивительно, если бы они, хотя уже и отошедшие от своих прежних увлечений и интересов, не поделились с Толстым своими знаниями и воспоминаниями. Слова Толстого о «пролетариате, не сказавшем своего последнего слова», но, быть может, призванном возродить «мир и свободу», звучат книжно, как цитата; тем более вероятно, что они представляют собой отголосок бесед с друзьями о социализме. Недаром в записной книжке 1857 г. появилась вышеприведенная запись о «ясности» и «логичности» социализма (47, 214).
Все это, разумеется, нисколько не значит, что письмо Толстого к Блудову написано с позиции научного социализма. При ближайшем рассмотрении оказывается, что письмо это ближе всего стоит к воззрениям Н. И. Тургенева. Он (как и Никита Муравьев) ориентировался на пролетаризацию крестьянства и не боялся ее. Тургенев различал два вида эмансипации: простую (т. е. без всякого наделения крестьян землей) и квалифицированную (с наделами). Он считал, что следует предпочесть первую, потому что ее можно значительно скорее и легче реализовать: «Квалифицированная эмансипация, по его мнению, представляет такие трудности, которые угрожают отбросить в далекое будущее реализацию всей крестьянской реформы»143. Он, как и Толстой, сравнивает положение с Европой и, в частности, с Пруссией. Указывая на преимущества метода освобождения крестьян в Пруссии (т. е. с предоставлением крестьянам половины их прежних наделов), Н. И. Тургенев тут же добавляет: «Но я не предлагал этого никому, зная, что это только устрашит и отдалит мысли помещиков от освобождения... Для нас это было бы слишком хорошо. Не надобно искать совершенства, где и менее совершенное было бы так благодетельно»144. Первое, побуждавшее к «безземельной» постановке, было желание ускорить ликвидацию крепостного права и преодолеть сопротивление дворянства. Второе — интерес прежде всего к правовому положению крестьян (этическая точка зрения). «Декабристов типа Тургенева, — пишет И. Г. Блюмин, — больше всего привлекал английский аграрный строй, сочетавший наличие крупных помещичьих латифундий с капиталистическими формами сельского хозяйства. Они мечтали заменить крестьянство сельскохозяйственным пролетариатом по типу Англии. Но Тургенев и его друзья в своих прогнозах проглядели такую "мелочь", как отсутствие в России фермерского класса. При отсутствии у помещиков капиталов для ведения крупного хозяйства доминировала бы следующая система: крестьяне в большинстве случаев арендовали бы помещичью землю на кабальных условиях»145. Тургенев был противником общинного землевладения: «Ликвидация последнего должна, по мнению Тургенева, значительно ускорить пролетаризацию крестьянства и облегчить распространение вольного труда»146. Суть концепции Тургенева сводилась «к превращению помещичьего хозяйства из крепостнического в капиталистическое с широким применением наемного труда на базе безземельного "освобождения" крестьян»147. В статье «О новом устройстве крестьян» (1861 г.) Тургенев настаивает на «вольном», самостоятельном крестьянине148.
Вот каковы основные исторические корни того, что Толстой написал Блудову. Недаром он писал Е. П. Ковалевскому 1 октября 1856 г. (повторив многое из письма к Блудову): «Как я занялся делом в подробности и увидал его в приложении, мне совестно вспомнить, что за гиль я говорил и слушал в Москве и Петербурге от всех умных людей об эмансипации... Вопрос стоит вовсе не так, как полагают умные: как решить лучше? (ведь мы хотим сделать лучше, чем во Франции и Англии), а как решить у скорее?» (60, 89). Важно, что Толстой пришел к отрицанию общины: «Община до такой степени стеснительна, что всякий член ее, ежели только он немного выходит из животного состояния, стремится выйти из нее» (47, 189). Думал Толстой и о фермерстве (как декабристы). Об этом свидетельствует набросок записки о превращении крепостных в «фермеров» (5, 241), вероятно, поддержанный Д. А. Столыпиным, который считал общину корнем экономических «настроений» и выдвигал идею «хуторного хозяйства». Эта мысль очень увлекала Толстого, как видно из новой редакции «Романа русского помещика». Он вернулся к работе над этим давно брошенным романом одновременно с приездом в Ясную — явно в связи со впечатлениями от переговоров с крестьянами и дневником помещика. В дневнике записано: «Передумал кое-что дельно из романа помещика. Кажется, я за него примусь» (8 июня); «Все обдумывается роман помещика» (9 июня — в один день с письмом к Блудову; 47, 80). Работа пошла в ноябре 1856 г. — получилось «Утро помещика». Одновременно писалась «Юность» — тоже как воспоминание о том периоде, когда мечты о совершенстве и моральные искания были полны веры и силы.
3
1857 год
1856-й год прошел для Толстого в колебаниях и в примеривании себя к новым людям, к новому положению. Итогом этого года было глубокое разочарование в писательской и журнальной среде и стремление противопоставить непрочным и, как ему казалось, ложным убеждениям «журнальных писак» (как он когда-то выразился в письме к брату Сергею) свои жизненные «правила» и «истины». Теперь начинался новый период — период решений и действий. В. Боткин, ставший в это время наиболее близким и приятным Толстому человеком, заметил эту перемену: «Великий нравственный процесс происходит в нем, — сообщил он Тургеневу 3 января 1857 г., — и он все более и более возвращается к основным началам своей природы, которые в прошлом году так затемнены были разными житейскими дрязгами прежнего кружка и прежней колеи жизни»149. Итак, писательский кружок, в котором Толстой вращался в 1856 г., объявлен уже «прежним», а сложные отношения с ним, сопровождавшиеся ссорами и бурными конфликтами, названы «житейскими дрязгами». Боткин пишет здесь же: «Живем мы тихо и мирно, но потребность в тебе чувствуется беспрестанно. Всего чаще сходимся у Дружинина. Толстой все это время здесь — ты бы не узнал его, если б увидел. Это во всех отношениях редкая натура; много сил и необыкновенное внутреннее стремление... Он до сих пор все возился с собой. Теперь наступил для него период Lehijahre, и он весь исполнен жажды знания и учения, — ты удивился бы, сколько цепкости и твердости в этом уме и сколько идеальности в душе его»150. Толстой, конечно, не перестал «возиться с собой», но Боткин верно определил и начало перемены («необыкновенное внутреннее стремление») и некоторые характерные черты в поведении Толстого: цепкость, твердость и «идеальность» при постоянном и устойчивом воззрении на цель жизни как на стремление к счастью, т. е. к «благосостоянию». Надо только прибавить, что дело тут было не исключительно в особенностях его личной «природы», или «натуры», но и в исторических особенностях эпохи и в своеобразии положения в ней Толстого, прошедшего уже через значительный общественный, умственный и душевный опыт.
Особенно серьезным и значительным был опыт, приобретенный Толстым за годы Крымской войны и за первый послевоенный год. Если на войне он впервые столкнулся с реальным значением истории, с вопросами международной и национальной политики, с проблемой патриотизма и исторического призвания России, то в послевоенный, 1856 г. он впервые увидел во всей жизненной сложности и остроте вопросы экономической и социальной политики, вопросы капиталистического развития России. Из письма к Блудову о крестьянском вопросе видно, как противоречиво сталкивались в его сознании самые «реакционные» и самые «прогрессивные» точки зрения; то же самое можно наблюдать и в отношении к другим вопросам. Необыкновенно характерно в этом смысле вступление к начатому роману «Декабристы», подводившее итоги впечатлениям первого послевоенного года — времени, когда «со всех сторон появились вопросы (как называли в 56 году все те стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толку), явились вопросы кадетских корпусов, университетов, цензуры, изустного судопроизводства, финансовый, банковый, полицейский, эманщшационный и много других; все старались отыскивать еще новые вопросы, все пытались разрешать их; писали, читали, говорили проекты, всё хотели исправить, уничтожить, переменить, и все россияне, как один человек, находились в неописанном восторге». Однако это ироническое перечисление злободневных «вопросов» (с нарочитым смешением больших и малых) показывает, насколько Толстой был в курсе дела и как вместе с тем скептически смотрел на попытки тех или других решений: «всё хотели исправить, уничтожить, переменить» — такова ироническая характеристика либеральных и радикальных (революционных) настроений 1856 г. Замечателен и итог этого перечисления: «Состояние, два раза повторившееся для России в XIX столетии: в первый раз, когда в 12-м году мы отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в 56-м году нас отшлепал Наполеон III. Великое, незабвенное время возрождения русского народа!!!... Как тот француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую французскую революцию, так и я смею сказать, что кто не жил в 56-м году в России, тот не знает, что такое жизнь» (77, 8). Все это проникнуто страшной иронией по адресу русской публицистики и журналистики 1856 г. разных партий; по-своему был прав А. В. Амфитеатров, когда впоследствии ужаснулся сатирическому тону этой главы: «Перечитав эту главу, я нарочно снял с нижной полки для сравнения "Взбаламученное море" Писемского, наиболее обруганный прессою шестидесятых годов роман — памфлет того времени. Отрицательный тон грубоватого и неглубокого, но незлобного ворчуна Писемского показался мне детским лепетом сравнительно с отрицательным замыслом и первым приступом к нему глубочайшего скептика — Толстого»151.
Дело тут, конечно, не в простом «скептицизме», но о романе «Декабристы» речь будет впереди. Пока важно только отметить, во-первых, то, что пережитые Толстым в 1856 г. впечатления привели его к замыслу романа именно о декабристах — к замыслу, который не покидал его до конца жизни и частичным осуществлением которого явилась «Война и мир», задуманная и начатая как первая часть обширного романа «Три поры» (1812,1825 и 1856 гг.); во-вторых, сделанное во вступлении к «Декабристам» сопоставление 1856 г. с 1812-м содержит в себе несомненное зерно «Войны и мира» как романа не только исторического, но и злободневного, политического.
Среди перечисленных Толстым «вопросов» нет одного, который и для этого времени и для самого Толстого имел чрезвычайную принципиальную и жизненную важность, — вопроса об искусстве, о его отношении к действительности, о поведении художника. Слегка, мимоходом, вопрос этот упомянут, но в ином плане: Толстой говорит о том времени, когда «появились плеяды писателей, мыслителей, доказывавших, что наука бывает народна и не бывает народна и бывает ненародная и т. д., и плеяды писателей, художников, описывающих рощу и восход солнца, и грозу, и любовь русской девицы, и лень одного чиновника, и дурное поведение многих чиновников» (17,8). Тут досталось и Тургеневу, и Гончарову, и Салтыкову- Щедрину, но в 1856 г. сущность вопроса заключалась не в этом, а в проблеме искусства и его роли в целом и в основном. В статье о Фете (1856 г.) В. Боткин говорит: «Всякий, кто пристально всмотрится в движение и развитие нравственных идей, увидит, что везде главным и самым сильным орудием и выражением их — служит искусство... Жизнь души и мир внутренних явлений только в искусстве имеют прямое, правдивейшее свое выражение. Отсюда и любовь человека к искусству и его произведениям, в которых он читает — все равно, сознательно или нет, — тайные движения и явления своей задушевной, внутренней жизни, проявление своих идеалов, своих лучших стремлений»152. Такая постановка вопроса должна была нравиться Толстому, но дело осложнялось тем, что так называемое у современников «практическое направление» века (развитие капитализма и индустрии) ставило как будто под удар самое существование искусства. В. Боткин, прекрасно ориентированный не только в области искусства и эстетики, но и в области новых экономических теорий и нарождающегося научного социализма, пишет в той же статье: «Изобретения неслыханных прежде машин, устройство железных дорог и пароходов, безопасность морей, облегчив обороты капиталов и бесконечно увеличив их обращение, представили деловым, практическим способностям человека такое обширное поприще, что все, не разбирая своих сил и способностей, с жадно- стию бросились в одну эту сторону. Вместе с тем развитие естественных наук, окончательно вступивших на путь опыта и наблюдения, изменившиеся экономические отношения народов — словом, все пробуждает и поддерживает практические стремления нашего времени. Очевидно, что так называемые меркантильные свойства, которые недавно еще ставили в упрек Англии, более и более делаются преобладающими свойствами народов, вступающих на высоту современной цивилизации. Весьма естественно, что и общественное мнение, увлеченное этим еще молодым, бурным деловым потоком, ценит только людей практических, то есть таких, деятельность которых проявляется в сфере видимых, осязательных приложений к общественным потребностям»153. При таком отношении к новым формам «цивилизации» Боткин должен был бы, в сущности, смотреть на искусство как на пережиток старины или найти для него какое-нибудь новое, прямо «практическое» применение; нечто подобное было с ним в 1846 г., когда он, увлеченный успехами естествознания и исторической мысли, напал на Белинского за его приверженность к «художественности». После революции 1848 г. он стал осторожнее в отношении к этому вопросу, явно впадая в эклектизм и беспринципность.
Когда-то Боткин, уже осведомленный об учении Маркса, утверждал, что первое место в общественной жизни занимают «промышленные интересы» и что «двигают массами не идеи, а интересы, но просвещают их идеи»154; теперь он утверждает нечто совсем другое: «Полагать, что наше время, потому только, что оно имеет практическое направление, должно изменить коренные свойства человеческой природы — значит совершенно односторонне понимать ее. При всех временных преобладаниях различных стремлений, которыми исполнена история народов, — основные свойства человеческой природы постоянно одинаковы во все времена. Практический характер нашего времени есть только результат экономических условий нового европейского общества, а могут ли экономические отношения изменить основные свойства человеческой души?»155 Таким ходом мысли, направленным явно против материалистических учений (и, конечно, против Чернышевского), Боткин создает себе противоречивую возможность соединить полное одобрение «практического направления» (капитализма) с романтическим истолкованием искусства — Маркса с Карлейлем. Он пишет: «Практическое направление нашего века должно радовать всякого, кому лежат к сердцу судьбы европейского общества. Это направление показывает разумный путь, на который наконец вступило это общество, показывает возмужалый, окрепший ум его. Господство пустых слов и фраз проходит, а с ними сколько вольных и невольных уз спадет с души! Искусство не должно ожидать себе ущерба от этого направления: всегда и везде было оно выражением душевной, внутренней жизни человека, а чрез то и общества, и пока будет в обществе духовное содержание, — непременно будет и выражение его, т. е. искусство»156. Это написано как будто двумя разными людьми, спорящими между собой о положении искусства в капиталистическом обществе.
Противоречивость и беспринципность позиции Боткина сказывается в особенности дальше — там, где речь, заходит о «бессознательности» художественного творчества. В цитированном выше письме к Тургеневу Боткин говорит по поводу своей напечатанной в «Современнике» (1857. № 1) статьи о Фете: «Тебе, верно, не понравится восторженный тон ее, — да и мне самому противен он, — но я решительно не могу, говоря о поэзии и искусстве, не выйти из обыденного тона. Говоря откровенно, мне самому хотелось дать себе посильный отчет о том, что такое искусство, что такое поэзия? Ответов на это я не находил ни у кого или находил их в таких сложных построениях, в таких отвлеченностях, что невозможно было схватить предмет в его общечеловеческом виде. Некоторый толчок дан мне был общими идеями Карлейля: из всего этого составилось посильное решение, которое предлагается на суд тебе»157. В переведенном самим Боткиным сочинении «О героях и героическом в истории» Карлейль утверждает, что современный образ поэта восходит к древнему образу героя-прорицателя, что герой может быть поэтом, прорицателем, правителем — «сообразно с свойством тога мира, той сферы, в которой он родится. Признаюсь, я не могу представить себе истинно великого человека, который бы не мог быть всякого рода человеком. Поэт, который может только сидеть на своем стуле и сочинять стихи, никогда не произведет ни одного хорошего стихотворения. Никогда не будет он в состоянии воспеть героического воина, не будучи сам в душе героическим воином. Я представляю себе, что в поэте заключаются государственный человек, мыслитель, законодатель, философ: в некоторой степени он может быть всеми ими, и таков он есть в сущности»158. Боткин по-своему использовал эту мысль, доказывая, что произведение искусства «входит... в практику нашей жизни, становится действующим ее элементом и часто оказывает несравненно большее и глубочайшее практическое действие, нежели тысячи явлений, по привычке называемых практическими... Замечательно, что все великие поэты суть вместе и глубокие практические умы, то есть умы, верно понимающие людей и вещи»159. Усилия Боткина направлены на то, чтобы доказать, что «практическое направление» века не представляет никакой угрозы искусству.
Другая мысль Карлейля, использованная Боткиным, заключается в том, что поэт призван проникать в тайну мира: «Он исполнен неодолимого стремления знать ее, и даже бессознательно, даже не задавая самому себе никаких о том вопросов; он чувствует себя живущим в ней, бессознательно принужден жить в ней... Пусть все живут в призраках вещей, для него просто естественная, врожденная потребность жить в истине вещей, в действительной их сущности. Даже более: этот человек в самых серьезных отношениях ко вселенной, тогда как другие только веселятся и забавляются ею»160. Говоря дальше о Шекспире, Карлейль утверждает, что особая его черта — «бессознательность ума», «ум, не подозревающий своей силы»161. Следуя за Карлейлем и за романтической эстетикой, Боткин утверждает, что в поэтическом творчестве есть всегда нечто бессознательное: «В начале нашего столетия, когда философия впервые только ступила на ту высоту, с которой стало доступно ей значение искусства, и изучение поэтических произведений сделалось живейшею потребностью глубоких умов того времени, вопрос о бессознательности творчества был одним из самых живых и спорных вопросов. Романтическая школа довела его до смешных крайностей, представляя поэтов и художников какими-то фантастическими, взрослыми младенцами, праздными гуляками, которые без всякого изучения, ума и труда, сами не зная как, производят гениальные вещи... Много в то время, да и после, было жарких споров о бессознательности творчества, но вопрос все-таки остался нерешимым»162. Казалось бы, Боткин должен отрицать эту «бессознательность» — тем более на фоне новой цивилизации, на фоне капитализма, индустрии, развития естествознания, отказа от «пустых слов и фраз», на фоне практической, деловой, буржуазной культуры. На самом деле он сочувственно цитирует Шеллинга о «бессознательной силе» творчества и рассуждает дальше так: «Как бы велики и безмерны ни были познавательные человеческие способности, и как бы ни велика была масса сведений современного нам человека, — но сознательно и действительно может он знать из этой массы лишь весьма небольшую часть. Совершенно и вполне может он знать одно только механическое и мелкое. Все великое, все исполненное жизненной силы — в сущности своей всегда таинственно, и понимать в нем можем мы лишь одну поверхность и внешность... Везде, и в сфере поэзии, и во всякой другой — истинная сила бессознательна. Всякий творческий гений — тайна для себя самого: старая мысль, но тем не менее верная»163. Боткин утверждает, что даже в самой мелкой «прозе жизни» есть «высшее содержание»: «Существенное стремление искусства в том и состоит, чтобы открывать, обнаруживать это высшее содержание, скрывающееся под мелкою прозою жизни, давать чувствовать мысль, движущую этою прозою»164.
Вся эта часть статьи производит впечатление полемики двух людей, стоящих на разных позициях, — настолько в ней не сведены концы с концами, настолько видно, как, с одной стороны, Боткин не хочет отстать от самой новейшей современности с ее «практическим направлением» и как, с другой, он не хочет и не может проститься с традициями романтической эстетики — с понятиями, выработанными немецкой идеалистической философией. Естественно, что статья Боткина должна была произвести на Толстого странное, двойственное впечатление. Он всегда шел прямо, не боясь даже дойти до тупика. Новая буржуазная действительность, со всей резкостью определившаяся для него после войны, была ему противна; смотреть на нее с точки зрения нучного социализма он, конечно, не мог: из этих учений, доходивших до него от того же Боткина и Анненкова, он мог понять и принять только воззрение на пролетариат (и притом преимущественно сельский) как на «основу возрождения мира к миру и свободе». Отсюда, конечно, вовсе не следовало признание капитализма как «разумного пути», на который наконец вступило общество. Статья Боткина при первом чтении (в декабре 1856 г., еще до появления в печати) не понравилась Толстому — надо полагать, именно потому, что она была построена на внутреннем противоречии не логического, а психологического происхождения. Толстой понимал, что Боткин боится тех выводов, которые, в сущности говоря, следуют из его преклонения перед «меркантильностью» и английской «цивилизацией». 17 декабря 1856 г. в дневнике записано: «У Боткина обедал, не похвалил его статью, он злился» (47, 105). Через месяц (20 января 1857 г.) он в письме к Боткину отозвался об этой статье уже иначе — потому что в это время ему оказали помощь рассуждения Боткина о сущности искусства и о «бессознательности» творчества. Он пишет: «Вашу статью я перечел здесь. — Ежели вы не приметесь серьезно за критику, то вы не любите литературы. — Есть тут некоторые господа читатели, которые говорили мне, что это не критика, а теория поэзии, в которой им говорят в первый раз то, что они давно чувствовали, не умея выразить. Действительно, это поэтический катехизис поэзии, и вам в этом смысле сказать еще очень много. И именно вам» (60, 153). Это письмо было написано уже после того, как был задуман и начат рассказ о скрипаче Кизеветтере, получивший в законченном виде заглавие «Альберт».
В конце 1856 г. Толстой много думает об искусстве и о своем будущем. «Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве, ужасно высоко и чисто» (47, 101), — записано в дневнике от 23 ноября 1856 г. Он «с наслаждением» читает биографию Пушкина (П. В. Анненкова); из произведений Пушкина он особенно восторгается «Каменным гостем»: «Восхитительно. Правда и сила, мною никогда не предвиденная в Пушкине» (47, 78). Эта запись скрывает в себе возражение Дружинину; его программные статьи против Белинского и Чернышевского не нравятся Толстому: «Его слабость, что он никогда не усумнится, не вздор ли это все» (47, 104), т. е. не вздор ли отстаиваемая Дружининым «артистическая» теория. Дружинин давно рекомендовал Толстому изучить «теории Белинского», но только для того, чтобы лучше понять литературное направление «Библиотеки для чтения» и ее борьбу с развившим эти теории Чернышевским. Результат получился неожиданный — Толстой увлекся Белинским. Еще в октябре 1856 г. записана интересная деталь, явившаяся, вероятно, результатом не только чтения статей Белинского, но и споров о нем в «Современнике»: «Видел во сне, что я открыл, что мнение Белинского заключалось главное в том, что социальные мысли справедливы только тогда, когда их пусируют до конца» (47, 198). Это значит, что социальные идеи требуют их осуществления и доведения до конца — мысль, направленная, по-видимому, против либеральных толков о социализме. Как видно из знаменитого письма Толстого к Некрасову о «злости» (от 2 июля 1856 г.), он уже тогда готов был принять Белинского за его «горячность» и «искренность». Теперь Белинский открылся Толстому с совершенно новых и неожиданных для него сторон — как истолкователь Пушкина. В дневнике Толстого 2 января 1857 г. записано: «Утром читал Белинского, и он начинает мне нравиться». 4 января: «Статья о Пушкине — чудо. Я только теперь понял Пушкина» (47, 108). Приведенные выше слова Толстого о никогда не предвиденной им в Пушкине силе подготовлены, вероятно, чтением Белинского, который настаивал именно на моральной силе Пушкина; в статье Белинского о стихотворениях Пушкина Толстой мог прочитать замечательные строки на эту тему: «Пушкин не дает судьбе победы над собою; он вырывает у ней хоть часть отнятой у него отрады. Как истинный художник, он владел этим инстинктом истины, этим тактом действительности... И, право, в этой силе, опирающейся на внутреннем богатстве своей натуры, более веры в Промысел и оправдания путей его, чем во всех заоблачных порываниях мечтательного романтизма»165. «Инстинкт истины» — это выражение должно было поразить Толстого как очень близкое и дорогое ему: это было именно то понятие, которое он противопоставлял «теориям» и «убеждениям» как принцип жизненного поведения и источник художественного творчества.
В письме от 15 января 1857 г. Е. Я. Колбасин, с любопытством следивший за Толстым, сообщает Тургеневу: «Кстати о Толстом... Перед ним — лежат статьи Белинского о Пушкине. По поводу этого завязался между нами разговор и, боже! какая славная перемена. Самолюбивый и упрямый оригинал растаял, говоря о Белинском, торжественно сознался, что он армейский офицер, дикарь, что вы задели его страшно своею — по его выражению — "непростительною для литератора громадностью сведений"»166. Такого рода сообщение было для Тургенева очень важным и приятным167: считая себя «старой нянькой» Толстого, он не только не сочувствовал его дружбе с Дружининым, но и завидовал ей. Стоит, кстати, указать на то, что в той же записи от 4 января 1857 г., где статья Белинского о Пушкине названа «чудом», Толстой говорит дальше: «Обедал у Боткина с одним Панаевым, он читал мне Пушкина, я пошел в комнату Боткина и там написал письмо Тургеневу, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными, поэтическими слезами» (47,108-109). Боткин недаром написал накануне Тургеневу о «великом нравственном процессе» у Толстого и о его «необыкновенном внутреннем стремлении». Толстой находился действительно в состоянии огромного умственного и нравственного возбуждения, которое должно было привести его к каким-то новым решениям и поступкам.
Можно точно доказать, что «чудом» Толстой назвал именно пятую статью Белинского, содержащую не только общую характеристику Пушкина (пафос поэзии Пушкина вообще»), но и ряд общих размышлений об искусстве. Одновременно с приведенной выше записью в дневнике от 4 января в записной книжке написано следующее: «Истина в движеньи — только. Чтобы истинно понять поэта, надо понять его так, чтобы, кроме его, ничего не видеть, и поэтому только тот, кто способен истинно понимать поэзию, может быть несправедлив к другим поэтам» (47, 201). В этих словах Толстой изложил одно из главных положений Белинского, развитое в пятой статье о Пушкине. Вывод Белинского («Нельзя понять поэта не будучи некоторое время под его исключительным влиянием, не полюбив смотреть его глазами, слышать его слухом, говорить его языком... И потому нельзя в одно время изучить более одного поэта, нельзя на это время не считать его выше всех других поэтов, нельзя не утратить своей способности понимать произведения других поэтов и восхищаться ими»168) должен был поразить Толстого и близостью к одной из заветных его мыслей, высказанной еще в обращении к читателям «Детства», когда статья Белинского была ему неизвестна. Вопрос о читателе, который понимал бы произведение прежде, чем критиковать его, давно беспокоил Толстого; в письме к Боткину от 9 июля 1857 г. (из-за границы) он говорит: «Вы знаете мое убеждение в необходимости воображаемого читателя. Вы мой любимый воображаемый читатель. Писать вам мне так же легко, как думать; я знаю, что всякая моя мысль, всякое мое впечатление воспринимается вами чище, яснее и выше, чем оно выражено мною» (60, 214). Надо прибавить, что первая фраза приведенной записи Толстого («Истина в движеньи — только») представляет собою, по-видимому, своего рода резюме статей Белинского, изображающих процесс развития и роста русской литературы, которым была подготовлена возможность появления Пушкина.
Впечатление, произведенное на Толстого пятой статьей Белинского, не исчерпывается приведенным материалом. Если статью Боткина о Фете Толстой воспринял как «поэтический катехизис поэзии», то статья Белинского, лишенная рассуждений о «практическом направлении» и прославления буржуазной цивилизации, должна была в несравненно большей степени пригодиться ему и взволновать. Это касается в особенности тех страниц, где Белинский противопоставляет «поэтические идеи» идеям философским и рассудочным, поэтический «пафос» — не только разуму и рассудку, но даже «страсти». Белинский пишет: «В пафосе поэт является влюбленным в идею, как в прекрасное, живое существо, страстно проникнутым ею, — и он созерцает ее не разумом, не рассудком, не чувством и не какою-либо одною способностью своей души, но всею полнотою и целостью своего нравственного бытия, и потому идея является, в его произведении, не отвлеченною мыслью, не мертвою формою, а живым созданием, в котором живая красота формы свидетельствует о пребывании в ней божественной идеи... Идеи истекают из разума; но живое творит и рождает не разум, а любовь. Отсюда ясно видна разница между идеею отвлеченною и поэтическою: первая — плод ума, вторая — плод любви как страсти»169. Можно себе представить, с каким волнением и восторгом читал Толстой эти строки о «любви» — он, который весь год твердил о том, что в окружающей его писательской среде нет любви, а только «злость» и разговоры об «убеждениях».
Статьи Белинского о Пушкине поддержали то «ужасно высокое» понимание искусства, которое охватило Толстого в 1856 г. Еще не искушенный в романтических теориях, но раздраженный буржузными веяниями эпохи, он не склонен был идти тем соглашательским путем примирения противоречий, каким пошел Боткин в статье о Фете. При свойственной ему в таких случаях прямолинейности он готов был отступить от современности не только к 40-м годам (к Белинскому), но и дальше. В письме к Боткину от 1 ноября 1857 г., содержащем резко сатирическую картину состояния литературы, Толстой смеется над Анненковым, который «все так же умен, уклончив и еще с большим жаром, чем прежде, ловит современность во всем, боясь отстать от нее. Действительно плохо ему будет, ежели он отстанет от нее. Это одно, в непогрешимость чего он верует» (47, 233). В известной степени эта характеристика может быть отнесена и к Боткину. Толстой менее всего способен был «ловить современность»; он никогда не терял ее из виду — но только для того, чтобы преследовать ее и вступать с ней в борьбу. Так случилось и на этот раз с вопросом об искусстве в условиях «практического направления» современности.
4
«Альберт» и «Люцерн»
Итак, одним из очередных и для эпохи и для Толстого оказался вопрос о роли искусства и художника. Тем самым Толстому предстояло вступить в область традиционных споров и представлений об «артисте» и «толпе», о «мечте» и «действительности», о пользе искусства и пр. Как и в других темах (Кавказ, любовь), он неизбежно должен был встретиться с накопленным романтизмом грузом традиций. В данном случае дело осложнялось тем, что вопрос об искусстве приобрел общественно-политическую остроту: Толстой оказался под перекрестным огнем различных взглядов (Чернышевский, Дружинин, Боткин, Анненков, Тургенев), непосредственно связанных с вопросами жизни и поведения. Вопрос об искусстве и художнике определился как вопрос об отношении к действительности вообще — как вопрос морали и деятельности. Статья Боткина о Фете достаточно показательна в этом отношении. Решить вопрос об искусстве значило решить проблему отношения человека к миру, к истории, к современности. Две записи в дневнике 1856 г. свидетельствуют о том, что этот вопрос серьезно волнует Толстого и что он колеблется в решении; одна — от 14 октября: «Никакая художническая струя не увольняет от участья в общественной жизни» (47, 95) — против Тургенева; другая (уже приведенная выше) — от 23 ноября, говорящая о том, что Толстой начал думать об искусстве «ужасно высоко и чисто» и хочет «поскорее отделаться с журналами» (47, 101).
Характерно, что именно к этому времени относится его увлечение музыкой, носившее программный, теоретический характер. Недаром главными героями романтических повестей об искусстве были музыканты: проблема искусства и художника всегда приводила к проблеме музыки — именно как «ужасно высокого и чистого» искусства. Толстой вступает в петербургский музыкальный круг: посещает музыкальные вечера у А. Д. Столыпина, собирает музыкантов у себя, ездит на концерты, бывает у Ф. М. Толстого (музыкального критика и композитора), знакомится с А. Д. Улыбышевым — автором книг о Моцарте и Бетховене (1856 г.). В. Боткин сообщает Тургеневу 3 января 1857 г.: «Мы таки здесь занимаемся и музыкой: у Арк. Столыпина устроились музыкальные вечера, где играют трио Бетховена и очень хорошо... Толстой просто упивается им»170. Один из таких «музыкальных» дней был 5 января 1857 г.: «Пошел к Ф. Толстому, познакомился с Улыбышевым, сдуру отказался от знакомства с Бозио. Обедал у Толстого. Мне легко с ними. Дома пропасть народа, Писемского «Барыня» не произвела эффекта, и музыка мне не слишком». В этот день произошла встреча со скрипачом Г. Кизеветтером: «Грустное впечатление. Скрыпач». 7 января: «У Столыпина, не расположен был слушать музыку, нервы тупы. — История Кизеветтера подмывает меня». 8 января Толстой забрал Кизеветтера к себе и привез от музыканта К. Ф. Альбрехта скрипку: «Пришел Кизеветтер. Он умен, гениален и здрав. Он гениальный юродивый. Играл прелестно» (47, 109, 110).
Толстой — в вихре разнообразных впечатлений, мыслей, встреч и проектов. Чтение Белинского, музыкальные вечера с А. Д. Столыпиным и Боткиным, письма Тургенева и к нему, встречи с Чернышевским; среди всего этого — опустившийся «пропащий» музыкант Кизеветтер. Толстой, захваченный массой людей и впечатлений, хочет бежать. Из письма Тургенева к нему от 3 января видно, что у него был проект опять ехать на Кавказ («Что у Вас за мысль ехать на Кавказ?»171). Возможно, что мысль эта возникла в связи с решением вернуться к «Казакам». Литературных планов у него много — одно находит на другое: «Писать, не останавливаясь, каждый день: 1) Отъезжее Поле, 2) Юность, 2-ю половину, 3) Беглеца, 4) Казаки, 5) Пропащего, 6) Роман женщины... 7) Комедия» (47, 111). Однако больше всего захватил его «Пропащий» — история Кизеветтера. 12 января сделана заготовка для повести: «Три поэта. 1) Жемчужников есть сила выражения, искра мала, пьет из других. 2) Кизеветтер, огонь и нет силы. 3) Художник ценит и того и другого, и говорит, что сгорел» (47, 110). Это уже набросок сюжета, который разрастается в дальнейших записях дневника. Уже в дороге за границу Толстой записывает: «Кажется, что Пропащий совсем готов» (47,113). Он ошибся: повесть была закончена только в ноябре 1857 г., а в начале 1858 г. (февраль — март) переделывалась.
От рассуждений и споров об искусстве Толстой обратился к повести, которая должна была показать его позицию в этом вопросе. Первоначальную опору для себя Толстой нашел в Белинском, в его пятой статье о Пушкине. В этом была своего рода пикантность положения: ответить на все разговоры об искусстве в «Современнике» и в «Библиотеке для чтения» — при помощи Белинского: и против Чернышевского и против Дружинина. Противоречивость решения — с одной стороны, «он умен, гениален и здрав», а с другой — «он гениальный юродивый» (47, 110). Силою вещей и логики Толстой оказался в романтической традиции — шагнул назад, к 30-м годам. Он как бы подхватил слова Боткина о «фантастических взрослых младенцах, праздных гуляках», изображаемых романтиками; поскольку ход Боткина («разумный путь») оказался для Толстого неприемлем, он должен был очутиться именно в этой традиции. «Праздный гуляка» — намек на Пушкина: так Сальери говорит о Моцарте. Толстой идет к Пушкину: «Моцарт и Сальери» — один из толчков к «Альберту», тем более что у Белинского Толстой прочитал об этом произведении: «В лице Моцарта Пушкин представил тип непосредственной гениальности, которая проявляет себя без усилия, без расчета на успех, нисколько не подозревая своего величия... Как ум, как сознание, Сальери гораздо выше Моцарта, но как сила, как непосредственная творческая сила, он ничто перед ним»172. Толстой возвращается к теме Моцарта и Сальери — к теме гения и ума, гения и таланта. Моцарт в русской жизни 50-х годов — «пропащий», «гениальный юродивый». Толстой дает ему первоначально имя Вольфганг — имя Моцарта. Вся повесть идет на фоне моцартовского «Дон Жуана», прошедшего через Гофмана.
Первая редакция «Альберта» написана за границей (в Дижоне), куда Толстой выехал 29 января 1857 г. Под первым автографом стоит: «28 февраля 1857. Дижон» (5, 294). Он прожил здесь пять дней в одной комнате с Тургеневым. Работа шла над «Пропащим». Тургенев пишет из Дижона Анненкову 26 февраля: «Со мной поехал Толстой, который обрадовался случаю уединиться, чтобы привести к окончанию начатую им большую повесть. Несмотря на жесточайший холод, царствующий в комнате гостиницы, в которой мы остановились, холод, заставляющий нас сидеть не близ камина, но в самом камине, на самом пылу огня, — он работает усердно, и страницы исписываются за страницами. Я радуюсь, глядя на его деятельность»173. Из бумаг Тургенева видно, что он в это время начал работать над статьей «Гамлет и Дон-Кихот»174. Толстой записал: «Тургенев прочел конспект Г. и Ф. (описка? — Б. Э.) — хороший материал, не бесполезно и умно очень» (47, 117). В этой статье — не без Толстого: «Он скептик — и вечно возится и носится с самим собою»175, он не может любить (про Гамлета) — об этом у них был разговор. И Толстой запомнил: в письме Тургеневу от 28 марта 1857 г. он пишет о своих чувствах к кн. Львовой — доказал бы, что тоже может любить: «Вы улыбаетесь иронически, безнадежно, печально. По-своему — но могу, это я чувствую» (60, 170). И он просит не подводить его под «общее составленное... понятие о моей персоне» (60, 170). 28 февраля Толстой «кончил набрасыванье "Пропащего"», а 1 марта, перед отъездом из Дижона, прочитал Тургеневу: «Он остался холоден. Чуть ссорились» (47, 117). Однако Некрасову Тургенев скоро после этого похвалил повесть Толстого: «Тургенев мне писал, что вы окончили новую повесть. Он ее очень хвалит»176.
Печатный текст «Альберта», получившийся в результате длительных и значительных переделок, сильно сглажен по сравнению с тем, что было написано сначала, за границей. В раннем тексте позиция Толстого подчеркнута гораздо резче. Повесть открывалась эпиграфом из Пушкина («Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв»; 5, 294), явно направленным против утилитарных взглядов на искусство. Поведение Альберта у Делесова прокомментировано самим автором. У Альберта есть свой, «внутренний благоустроенный мир», которого лишен Делесов, живущий в мире «ужасной действительности» (5, 151). Толстой пишет: «Мечты, невозможные мечты с ясностью и силой действительности, всегда тревожно радуя его, толпились в воображении. Вся жизнь с ее трезвой неуступчивой действительностью была закрыта от него, только радость, восторг, любовь и веселье вечно окружали его. И вдруг насильно, желая будто бы добра ему, его вырвали из его мира, где он велик и счастлив, и перенесли в тот, где он сам чувствует себя дурным и ничтожным». Прямо сказано: «Выйти из этого положения по дороге действительности, как ему предлагал Делесов, опять служить, работать, платить, брать деньги, считать, покупать, ездить в гости, — он не мог этого сделать, деньги, начальники, товарищи — это было для него пучина, непонятная пучина действительности» (5, 151). В мире этой действительности живет Делесов. При изображении его Толстой пользуется деталями своей жизни: «Делесов выхлопотал себе пашпортза границу и с первым пароходом сбирался ехать...177 Дела его устроились хорошо, денег было достаточно, желудок в исправности, аппетит хороший, солнце светило ярко, платье, сапоги и чистая рубашка ловко, легко, приятно сидели на теле, все хорошие воспоминания и счастливые планы сами собой лезли в голову. — Он испытывал холодное самодовольство человека, удобно и изящно устроившего свою жизнь» (5, 154). Вся настоящая суть замысла—в такого рода строках, с ненавистью изображающих буржуазное самодовольство («желудок в исправности»).
В окончательном тексте нет музыкального вечера у Делесова, на который приглашены гости: сын министра, известный знаток музыки Аленин178, художник Би- рюзовский — «чудак, умная пылкая голова, энтузиаст и большой спорщик» (5,156). Гости вступают в спор: Бирюзовский с Алениным. Тут высказано то, что в окончательной редакции говорит художник Петров в грезах Альберта. Аргументы Аленина очень сильны — в них явно отражаются петербургские споры: «Ну уж это я не знаю, что туг хорошего в этих пожарах поэтических... Не могу понять, почему тот артист, который воняет, лучше того, который не воняет». Бирюзовский определяет искусство как «высочайшее проявление могущества в человеке», которое дается «избранным»; искусство — «борьба с богом» (в окончательном тексте этого нет, вероятно, по цензурным причинам). Бирюзовский бросает Аленину: «Вы не сопьетесь, небось, вы книжку об искусстве напишете и камергером будете» (5, 160-162).
Получив рукопись «Альберта», Некрасов написал Толстому 16 декабря 1857 г., что повесть неудачна — почти словами Аленина: «Как вы там себе ни смотрите на Вашего героя, а читателю поминутно кажется, что вашему герою с его любовью и хорошо устроенным внутренним миром нужен доктор, а искусству с ним делать нечего»179. Аленин говорит: «Таких господ надо в исправительные дома сажать или заставлять улицы мести» (5, 60). Некрасов прибавил к своему жестокому отзыву интересное замечание: «Все, что на втором плане, очень, впрочем, хорошо, то есть Делесов, важный старик и пр., но все главное вышло как-то дико и ненужно»180. Некрасов верно заметил, что повесть оказалась полемической: не Альберт, а Делесов оказался ее героем. Анненков еще до этого написал Тургеневу о том же: «Старая и ложная песня!»181 и т. д. Итак, Толстой со своим «Альбертом» шагнул так назад, что против него оказались все. В июне 1857 г. Толстой попробовал прочитать свою повесть Боткину — не понравилось: «Действительно, это плохо», — записал Толстой в дневнике (47, 137).
Все дело было, в сущности, не в самом Альберте: понятно, что романтическое понимание искусства было чуждо Толстому — и гофманский музыкант не мог у него выйти художественно убедительным хотя бы в той степени, как Лемм в «Дворянском гнезде». Убедительно вышло то, что на втором плане. Когда Делесов, решивший поселить Альберта у себя, переживает «приятное чувство самодовольства» («право, я не совсем дурной человек; даже совсем недурной человек, — подумал он. — Даже очень хороший человек, как сравню себя с другими...»; 5, 37), — это пересиливает все остальное. Очень убедительна одна черточка: когда Захар говорит, что на дворе мороз (Альберт ушел), и прибавляет, что надо дров еще купить, Делесов, только что думавший об Альберте, говорит: «А как же ты говорил, что останутся?» (5, 48). Этим заканчивается глава, в которой описана бурная сцена с Альбертом: такова действительность. Толстой бросил думать о повести — кругом были новые впечатления заграничной жизни.
Массу впечатлений дал Толстому Париж. Е. М. Феоктистов вспоминает: «Зиму 1857-1858 г. провел я в Париже. Осуществилось наконец заветное мое желание побывать за границей, о чем в последние годы царствования Николая не только мне, но и вообще никому, за крайне редкими исключениями, нечего было и мечтать. Русских нахлынула в Париж целая толпа... Счастливое было время! Все возбуждало в нас живейший интерес, с любопытством присматривались мы к чуждым для нас порядкам, посещали лекции в College de France и в Сорбонне»182. Среди этой толпы русских бродит по Парижу и Толстой: ходит по театрам, ездит в Сорбонну слушать лекции, в College de France, ходит в Лувр, Hotel des invalides, смотрит Notre Dame («Дижонская лучше»; 47, 118). К вечеру он так устает, что едва успевает записать в дневнике — не фразы, а отдельные слова. И при этом — тоска. Из русских Толстой постоянно бывает в доме Н. И. Трубецкого; по словам Е. М. Феоктистова, это была «сумасбродная семья», в которой уживались «и неистовый клерикализм, и атеизм, и славянофильство, и аристократические замашки, и демократические тенденции»183. Рядом с отчаянными клерикалами в этом доме постоянно бывали немецкие эмигранты — участники революции 1848 г. Учителем дочери Трубецкого, очень нравившейся Толстому, был Мориц Гартман — известный поэт и публицист, бывший корреспондентом на Крымской войне, эмигрант: «Hartmann — весьма милый человек», — записано в дневнике (47, 120). Другим учителем был Генрих-Бернгард Оппенгейм — тот самый, который участвовал в революции 1848 г., эмигрировал, редактировал «Deutsche Jahrbucher», а затем был бисмарковцем: «Oppenheim противен» (47, 120). Понравился Толстому поэт Пьер Дюпон — в духе Беранже: «Р. Dupont, красный и славная натура» (47, 115). Кончилось тем, что Толстой, увидев смертную казнь, бежал из Парижа в Женеву. Эта резкая перемена зафиксирована в письме к Боткину. Первая часть письма написана 5 апреля (н. ст.); в ней Толстой говорит, что два месяца живет в Париже и не предвидит «того времени, когда этот город потеряет для него интерес и эта жизнь свою прелесть»: «Я круглая невежда; нигде я не почувствовал этого так сильно, как здесь184. Стало быть, уж за одно это я могу быть доволен и счастлив моей жизнью тут; тем более, что здесь тоже я чувствую, что это невежество не безнадежно. Потом наслаждения искусствами, Лувр, Versailles, консерватория, квартеты, театры, лекции в College de France и Сорбон, а главное социальной свободой, о которой я в России не имел даже понятия» (60, 167). Но вот наступило 6 апреля; Толстой пошел смотреть «экзекуцию» — казнь уголовного преступника: «Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица!» (47, 121). День был испорчен, Париж стал противен. Вторая часть письма (после казни) начинается словами: «Это я написал вчера, меня оторвали и нынче пишу совсем в другом настроении». Толстой бунтует: «Закон человеческий — вздор! Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатации, но главное для развращения граждан. А все-таки государства существуют и еще в таком несовершенном виде. — И из этого порядка в социализм перейти они не могут» (курсив мой. — Б. Э.). Прорвалось то, о чем Толстой умалчивал в дневнике и письмах. Это прямое возражение утопическим социалистам (Фурье), но это же обнаруживает, что Толстой приехал с этой мыслью, с этим вопросом. Если принять во внимание позицию Боткина («разумный путь» капитализма), то эта фраза тем многозначительнее. Толстой дальше пишет Боткину: «Я... во всей этой отвратительной лжи вижу одну мерзость, зло и не хочу и не могу разбирать, где ее больше, где меньше. Я понимаю законы нравственные, законы морали и религии, необязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность, я чувствую законы искусства, дающие счастье всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего. Это я почувствовал, понял и сознал нынче» (60, 167, 168). Толстой убежал от «социальной свободы» в Женеву. Тургенев описывает Анненкову: «Толстой внезапно уехал в Женеву и уже написал мне оттуда презамечатель- ное письмо, где он называет Париж Содомом и Гоморрой, а себя сравнивает с камнем на дне реки, которого заносит понемногу илом и которому непременно нужно вдруг сорваться с места и поискать другую реку, где, быть может, меньше илу. Действительно, Париж вовсе не приходится в лад его духовному строю; странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича — что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо — высоконравственное и в то же время несимпатическое»185.
В Швейцарии Толстой почувствовал себя спокойнее и взялся за работу над «Казаками» («выходит страшно неморально»; 47, 123). Однако пережитое и передуманное в Париже беспокоит его — подготовляется новая буря, уже не в письме, а в печати. Прежде всего — в записной книжке от 11 апреля: «Есть два ума. По одному, логическому, маленькому — цивилизация ведет вперед — благо (это Боткин! — Б. Э.), по другому, глядя свыше, есть равная компенсация в отсутствии цивилизации (Руссо? — Б. Э.). По-третьему еще свыше, в область которого я только на минуту могу заглядывать — оба вместе справедливы» (47, 203-204). Это важно потому, что обнаруживает характерное понимание противоположностей — их «справедливости». Это состояние очень ярко отражено в наброске путешествия по Швейцарии: «Неужели такой закон природы, что полезное противоречит прекрасному, цивилизация поэзии? — пришло мне в голову. — Зачем же эта путаница? Зачем несогласуемые противоречия во всех стремлениях человека?.. И в себе я чувствовал противоречие... В молодости я решал и выбирал между двумя противоречиями; теперь довольствуюсь гармоническим колебанием. Это единственное справедливое жизненное чувство» (5, 198-199). К этому — замечательные записи в мае 1857 г.: «Готовые понятия масс всегда имеют долю правды» (47, 207). Или в особенности: «Читая логического, матерьяльного Прудона, мне ясны были его ошибки, как и ему ошибки идеалистов. Сколько раз видишь свою бессилыюсть ума — всегда выражающуюся односторонностью, а еще лучше видишь эту односторонность в прошедших мыслителях и деятелях, особенно когда они дополняют друг друга. От этого любовь, соединяющая в одно все эти взгляды, и есть единственный непогрешительный закон человечества» (47, 208-209). И еще — запись от 7 июля, т. е. в тот день, когда произошло событие, породившее «Люцерн»: «Ум, который я имею и который люблю в других, — тот, когда человек не верит ни одной теории; проводя их дальше, разрушает каждую и, недоканчивая, строит новые». Дальше, в качестве примера, явная полемика с Белинским: «Теория объективного и субъективного творчества в искусстве — гиль. Вот подразделение, находящееся совсем в другой плоскости. Дело искусства отыскивать фокусы и выставлять их в очевидность. Фокусы эти, по старому разделению, — характеры людей; но фокусы эти могут быть характеры сцен, народов, природы...» (47,212-213). «Фокусы» —это сущности; таким образом, психологическое подразделение («объективные» и «субъективные») Толстой отвергает, поскольку «субъективным» искусство для него быть не может («гиль»). Искусство делится в зависимости оттого, какие «фокусы» отыскиваются в действительности: человек, природа, народы и пр. Это подготовка к тому, чтобы попробовать в искусстве отойти от старого — от героев, фабулы и пр. Достаточно дать сцену, но отыскать в ней «фокус» действительности. Характерно, что в это же время записан эстетических вывод, сделанный на основании собственного опыта (т. е. опыта 1856 г.): «Моя старая метода писанья, когда я писал "Детство" — лучшая, надо каждое поэтическое чувство эпюизировать, в лиризме ли, в сцене ли, в преображении ли лица, характера или природы. План второстепенное дело, т. е. подробности плана» (47, 203). Это уже подготовка «методы», которой написана «Война и мир».
Кроме философских и литературных записей есть в швейцарский период и другие, показывающие напряженность социальных и политических беспокойств Толстого. «Будущность России казачество — свобода, равенство и обязательная военная служба каждого» (47, 204). Вряд ли это собственная мысль Толстого — скорее запись чужой мысли, с которой он не согласен. Возможно, что так говорил Львов, который отнял в тот день три часа у Толстого. Интересна другая запись: «Ежели бы Россия кроме религиозного и народного знамени выставила бы республиканское, или хоть конституционное, мир бы был ее» (47,209). И дальше: «Русский народ способен к республиканской жизни. Правительство в его понятиях не есть потребность, а случайность. Он допускает царя преимущественно по своей терпимости» (47, 212). Наконец — еще одна запись, очень многозначительная: «Социализм ясен, логичен и кажется невозможен, как казались пары. Надо прибавить силы, встретив препятствие, а не идти назад» (47, 214). В этой атмосфере был написан рассказ, озаглавленный «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн».
Толстой как будто забыл о том, что его Нехлюдов покончил самоубийством («Записки маркёра»). Он продолжает жить, а из одной фразы можно понять, что он был в Севастополе: «Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею» (5, 19). Нехлюдов в «Люцерне» — бунтарь и утопист, хорошо знающий и Фурье, и Прудона. Самая затея — подхватить маленькое событие и превратить его в исторический факт громадного значения — фурьеристская. Так начинается новая полоса — констатирование неблагополучия на малых, микроскопических фактах — принципиально на малых. Весь рассказ написан с ненавистью к англичанам — точно в пику и англоману Дружинину и поклоннику английского «меркантилизма» Боткину. Толстой обрушивается на тех самых англичан, которых Боткин берет под защиту («разумный путь»). Англичан он систематически преследует в 1857 г.: «Англичане все читали Шекспира, Байрона, Диккенса, все поют, играют, в церковь ходят, семьяне, но все это удобства жизни, а не потребность внутреннего мира — он спит» (2 мая, записная книжка; 47,205); «англичане морально голые люди и ходят так без стыда» (5 мая, дневник; 47, 126). Люцерн, бывший некогда романтическим городом, испорчен: «Теперь, благодаря огромному наезду англичан, их потребностям, их вкусу и их деньгам, старый мост сломали и на его месте сделали цокольную, прямую, как палка, набережную; на набережной построили прямые четвероугольные пятиэтажные дома; а перед домами в два ряда посадили липки, поставили подпорки, а между липками, как водится, зеленые лавочки. Это — гулянье; и тут взад и вперед ходят англичанки в швейцарских соломенных шляпах и англичане в прочных и удобных одеждах и радуются своему произведению» (5, 3). Дальше — описание обеда, который тоже испорчен присутствием англичан, в поведении которых видно «одинокое довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей» (5, 5). Нехлюдов негодует: «И ведь все эти люди не глупые же и не бесчувственные, а наверное у многих этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни, наслаждения друг другом, наслаждения человеком?» (5, 6).
Все событие состоит в том, что англичане не дали ни копейки странствующему тирольскому певцу: «Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами». Толстой считает это событие гораздо более значительным, чем всем известные (взятые из газет) факты капиталистической борьбы и конкуренции: то, что «англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китайцы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую монету, что французы убили еще тысячу кабилов за то, что хлеб хорошо родится в Африке и что постоянная война полезна для формирования войск» и пр. Это событие Толстой считает особенно достойным внимания потому, что оно «относится не к вечным дурным сторонам человеческой природы, но к известной эпохе развития общества» (здесь и далее курсив мой. — Б. Э.), т. е. к эпохе капитализма. «Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации». Толстой говорит прямо терминами утопистов: «Отчего этот бесчеловечный факт, невозможный ни в какой деревне немецкой, французской или итальянской, возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство доведены до высшей степени, где собираются путешествующие, самые цивилизованные люди самых цивилизованных наций?» (5,23). Слово «цивилизация» получает отрицательный смысл (против Боткина) — как у Фурье: «Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной ассоциации? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступлений? Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним звуком слова равенство?» (5,24). В черновой редакции — еще резче: «Да, вот она, цивилизация. Не смешной вздор говорил Руссо в своей речи о вреде цивилизации на нравы» (5,283). Естественное, первобытное чувство человека к человеку «исчезает по мере распространения цивилизации, т. е. корыстной, разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией и которая диаметрально противоположна ассоциации инстинктивной, любовной» (5, 283). Дальше — разоблачение республиканского «равенства» и республиканской «свободы».
Итак, «Люцерн» — бунт против «цивилизации». Начат он был в виде письма к Боткину от 9 июля (60, 214-216). Толстой написал его в течение трех дней: «Дописал до обеда Люцерн. Хорошо. Надо быть смелым, а то ничего не скажешь, кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного» (47, 142). В «Люцерне» — необыкновенная спутанность мыслей, особенно в конце, где вдруг выступает «Всемирный Дух». В черновом варианте рассказ кончается так: «И этот голос говорит мне, что тиролец прав, а что вы виноваты, и доказывать этого нельзя и не нужно. Тот не человек, кому это нужно доказывать. Этот голос слышится яснее в положении того, что вы называете варварством, чем в положении того, что вы называете цивилизацией» (J, 284). Возможно, что религиозно-примирительный финал появился после того, как Толстой познакомил со своим рассказом А. А. Толстую (18 июля). В марте 1857 г. Анненков рекомендовал Толстому помнить, что всякий «акт покорности данному явлению принесет и понимание его и верную его оценку»186. «Люцерн» не понравился ни Тургеневу, ни Анненкову. В письме к Боткину Тургенев назвал его «смешением Руссо, Теккерея и краткого православного катехизиса», в письме к самому Толстому — «люцернской морально-политической проповедью»187. Анненков писал Тургеневу: «Повесть его, ребячески восторженная, мне не понравилась. Она походит на булавочку, головке которой даны размеры воздушного шара в 3 сажени диаметра»188. Боткина «православный катехизис» Толстого «очень сильно озадачил»: «Не могу себе объяснить, как он так глубоко уселся в нем». И дальше: «Сжатость и ограниченность воззрения смущает меня, — пишет он Тургеневу, — между тем как с другой стороны пытливость его и анализ идут до нелепых даже крайностей»189. Боткин, оказывается, рекомендовал Толстому книгу Бюхнера «Stoff und Kraft» («Материя и энергия») — «весьма отрезвляющую книгу в его несколько опьяненном состоянии»190.
Из «Альберта» Толстой шагнул в «Люцерн», обрывая нити, связывавшие его с романтической темой «юродивого» артиста. Ему очень трудно разобраться в собственном хаосе противоречий. Он недоволен «цивилизацией», он видит счастье в любви («самозабвение»), в искусстве, он действительно «ребячески» возмущается и восторгается, отвергая силу разума, сознания.
НАСЛЕДИЕ БЕЛИНСКОГО И ЛЕВ ТОЛСТОЙ
(1857-1858)
1
Толстой появился в редакции «Современника» в тот момент, когда вопрос о наследии Белинского стал очередным. Чернышевский начал печатать свои «Очерки гоголевского периода русской литературы», в которых заявил о важности и необходимости «обратиться к изучению высоких стремлений, одушевлявших критику прежнего времени», то есть критику Белинского: «Наше время не выказывает себя способным держаться на ногах собственными силами», утверждал Чернышевский, надо оглянуться назад и спросить: «Не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми?»191. Это было направлено против Дружинина и его «Библиотеки для чтения»: Дружинин называл статьи Чернышевского бледными копиями худших писаний Белинского и протестовал против того «фетишизма», с каким Чернышевский относился к этому «устарелому» критику. Борьба с Чернышевским привела Дружинина к борьбе с идеями Белинского 40-х годов. Летом 1856 г. Григорович жил у Дружинина в деревне; 31 августа Д. Колбасин писал Тургеневу (из Петербурга): «Григорович здесь, не мог выжить с Дружининым до конца лета, говорит, не знаю правда ли, что сей благодушный господин заморил его своим дидактическим тоном и нападками на Белинского и вообще на все направление литературное, собираясь опровергать все это печатно в своем журнале»192. Это была правда. 29 сентября 1856 г. Е. Колбасин сообщал Тургеневу уже со слов самого Дружинина: «Дружинин хочет ратовать о свободном творчестве, предполагает открыть ряд статей о Белинском и Гоголе, сам привез из деревни столько статей, что может, право, легко обойтись без всякого сотрудничества»,93.
Особенно сильное впечатление произвела шестая статья Чернышевского (в сентябрьской книге «Современника»), целиком посвященная Белинскому и его кругу; она, по словам Е. Колбасина, «произвела остервенелое бешенство» среди врагов Чернышевского. Сложность положения заключалась в том, что нынешние друзья Дружинина (П. Анненков, В. Боткин) были некогда друзьями Белинского. Это их прошлое могло им повредить — и Е. Колбасин не без иронии пишет Тургеневу: «Трухнули очень; Анненков упирает на то, что будто бы все переврано Чернышевским»194. Тургенев занял в этом вопросе самостоятельную позицию — против Дружинина. «Статья Чернышевского меня искренно порадовала», — писал он И. Панаеву 10 ноября н. ст. 1856 г.195. Этот отзыв тем более интересен, что он имеет несколько демонстративный характер, являясь своего рода ответом на слова
Дружинина, обращенные к Тургеневу и содержавшие нечто вроде угрозы: «Поло- жа руку на сердце, признайтесь, — неужели вы довольны Чернышевским и видите в нем критика, и не обоняете запаха отжившей мертвечины в его рапсодиях, неловких и в ценсурном отношении? С будущего г. ответственность за это безобразие падет на вас, и станут говорить, что Тургенев и Толстой, наиболее поэтические из наших писателей, и поэт Некрасов терпят в своем журнале отрицание поэзии»196. Тургенев ответил на это несогласием: «Он плохо понимает поэзию; знаете ли, это еще не великая беда... но он понимает — как это выразить? — потребности действительной современной жизни»197.
Имя Толстого было упомянуто Дружининым недаром: Толстой был в это время под его сильнейшим влиянием. Дружинин имел все основания думать, что в вопросе о Чернышевском и Белинском Толстой будет на его стороне. Об этом свидетельствовали письма Толстого 1856 г. — в особенности письмо к Некрасову от 2 июля. Интересно, что Дружинин рекомендовал Толстому читать Белинского, но именно с тем, чтобы быть тверже и сознательнее в борьбе с Чернышевским. 6 октября 1856 г. он писал Толстому: «Спешите же ознакомиться с ходом журналистики, изучить теории Белинского, потому что на этом пункте будет у вас огромное разногласие». В конце письма Дружинин давал практический совет — быть осторожным: «Не принимайтесь задело круто и до времени терпите безобразие Чернышевского, хотя теперь вы все некоторым образом за него отвечаете»198. Толстой получил это письмо 15 октября (в Ясной Поляне), а 17 октября в его записной книжке появилась интересная запись, свидетельствующая о том, что вопрос о Белинском серьезно беспокоил его — и не только с узко литературной точки зрения: «Видел во сне, что я открыл, что мнение Белинского заключалось, главное, в том, что социальные мысли справедливы только тогда, когда их пуси- руют до конца» (47, 198). Это значит, что социальные идеи и идеалы нельзя строить на компромиссах. Запись сделана с явным сочувствием к Белинскому и к идеям утопического социализма — против либералов и, надо полагать, против Дружинина. Это подтверждается другой записью, сделанной через несколько месяцев (23 июля 1857 г.) и направленной явно против либеральной критики социалистических учений: «Социализм ясен, логичен и кажется невозможен, как казались пары. Надо прибавить силы, встретив препятствие, а не идти назад» (47,214). Прибавить силы — это и значит «пусировать (pousser) до конца». Итак, вопрос о Белинском для Толстого — вопрос не только литературы и критики. Анненков и Боткин могли, конечно, ввести Толстого в круг социальных идей и стремлений Белинского, как и в круг социалистических идей и учений вообще. Недаром в письме к Некрасову от 2 июля 1856 г. Толстой, нападая на Чернышевского, пишет в то же время о Белинском: «Я убежден, хладнокровно рассуждая, что он был, как человек, прелестный и, как писатель, замечательно полезный; но именно оттого, что он выступал из ряду обыкновенных людей, он породил подражателей, которые отвратительны» (50, 75).
С чтением Белинского Толстой, однако, медлил. Дружинин рекомендовал ему взяться за это еще в октябре, а 26 декабря 1856 г. тот же Дружинин, гордясь своим влиянием на Толстого, сообщает Тургеневу; «Уже он понимает Лира и пил за здоровье Шекспира, читает "Илиаду", а для того, чтоб понять все наше литературное движение, собирается перечитать все статьи Белинского»199. Слово «перечитать» означает здесь, конечно, прочитать впервые. В литературе утвердилось мнение, что Толстой начал читать Белинского именно и только под воздействием Дружинина, исполняя его предписание. К. И. Чуковский решительно говорит, что «именно Дружинин усадил Толстого за книги Белинского» и что Толстой поступал в этом случае (как и во многих других) «по указке своего старшего друга»200. На самом деле это не так. Не так легко было заставить Толстого делать то, в важности чего он не был убежден сам. Что же касается Дружинина, то в важности его советов и указаний Толстой далеко не всегда был убежден; об этом свидетельствует хотя бы его запись в дневнике от 7 декабря 1856 г., то есть в разгар его «ученичества»: «Прочел 2-ю статью Дружинина. Его слабость, что он никогда не усумнится, не вздор ли это все» (47, 104). К. И. Чуковский не учел того, что осенью и зимой 1856 г. Толстой деятельно переписывается с Тургеневым, некоторые мнения которого значили для него гораздо больше, чем мнения и советы Дружинина. Сильное впечатление должно было произвести на него письмо Тургенева от 16/28 ноября, в котором Тургенев, отвечая на его письмо от 15 октября, писал: «Теперь о статьях Чернышевского. Мне в них не нравится их бесцеремонный и сухой тон, выражение черствой души; но я радуюсь возможности их появления, радуюсь воспоминаниям о Белинском — выпискам из его статей, радуюсь тому, что наконец произносится с уважением его имя. Впрочем, Вы этой моей радости сочувствовать не можете. Анненков пишет мне, что на меня это потому действует, что я за границей — а что у них это, мол, теперь дело отсталое; им уже теперь не того нужно. Может быть; ему на месте виднее; а мне все-таки приятно»201. Толстой получил это письмо 1 декабря — и сейчас же ответил; судя по следующему письму Тургенева (письмо Толстого неизвестно), Толстой писал ему о своих отношениях с Дружининым и о статьях Дружинина против Чернышевского. Тургенев отвечал ему: «Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым — и находитесь под его влиянием. Дело хорошее — только, смотрите, не объешьтесь и его... С нетерпением ожидаю присылки "Библиотеки для чтения" — мне хочется прочесть статью о Белинском, — хотя, вероятно, она меня порадует мало»202.
1 января 1857 г. Толстой записал в дневнике: «Проснулся в 12-м часу, получил сухое, но милое письмо от Тургенева» (47,108). Это письмо было почти целиком посвящено вопросу о Белинском. «Сухим» Толстой назвал его потому, что оно написано тоном учителя. В ответ на сердитые слова Толстого о Чернышевском и направлении, взятом им в «Современнике», Тургенев писал: «Больше всех Вам не по нутру Чернышевский; но тут Вы немного преувеличиваете. Положим, Вам его "фетишизм" противен — и Вы негодуете на него за выкапывание старины, которую, по-Вашему, не следовало бы трогать, но вспомните, дело идет об имени человека, который всю жизнь был не скажу мучеником (Вы громких слов не любите), но тружеником, работником спекулятора, который его руками загребал деньги и часто себе приписывал его заслуги. (Я сам был не раз этому свидетелем); вспомните, что бедный Белинский всю жизнь свою не знал не только счастья или покоя — но даже самых обыкновенных удовлетворений и удобств; что в него за высказывание тех самых мыслей, которые стали теперь общими местами, со всех сторон бросали грязью, камнями, эпиграммами, доносами; что он смертью избег судьбы, может быть, очень горькой — неужели Вы после всего этого находите, что две-три статьи в пользу его, написанные, может быть, несколько дифирамбически — уже слишком великая награда, что этого уже сносить нельзя — что это — "тухлые яйца"?». Такая моральная постановка вопроса должна была произвести на Толстого сильнейшее впечатление: позиция Дружинина оказывалась неблагодарной и несправедливой. Но еще более сильное впечатление должна была произвести на него, неосведомленного в истории русской критики 30-х и 40-х годов, вторая часть письма. Тургенев, недовольный статьей Дружинина (в № 11 «Библиотеки для чтения»), писал: «Дружинин, между прочим, говорит, что если бы тогдашняя критика не была так беспощадно резка в отношении к Марлинскому, он бы мог поправиться — и не пропал бы. Что за детское — или, пожалуй, старческое воззрение! Как будто дело шло о том, чтобы уцелел талант Марлинского! Дело шло о ниспровержении целого направления, ложного и пустого, дело шло об разрушении авторитета, мнимой силы и величавости. Пока этот авторитет признавался — нельзя было ожидать правильного и здравого развития нашей словесности — и благодаря той статье Б(елинского) о Марлинском — да еще двум-трем таким же — о Бенедиктове и др. — мы пошли вперед. Коли бить быка, так обухом — а Вы бы хотели ударить его палкой, да еще гуляровой водой примочить, чтобы не больно было». Прямо намекая на позицию Дружинина, Тургенев пишет: «...я еще не теряю надежды увидеть Вас разочарованным насчет элегантной и джентельменской воздержности, которая, пожалуй, очень у места в "Revue des 2 mondes" или в "Revue britannique" — но к нам не пристало, как говорится, ни к коже, ни к роже». Итак, Тургенев явно советовал Толстому отойти от Дружинина, хотя в то же время он далеко не был на стороне «Современника» и Чернышевского. В данный момент ему важно было только одно: сохранить в вопросе о Белинском позицию его ученика и последователя, не принимать участия в «ревизии» его взглядов и теорий, подчеркнуть свою верность идеям и традициям 40-х годов.
Интересны и дальнейшие слова письма, заставившие Толстого, вероятно, сильно задуматься над своим отношением к вопросу о наследии Белинского: «Кстати, знаете ли Вы, что я целовал имя Марлинского на обертке журнала — плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова — и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку? Вы, стало быть, видите, что сказанное им тогда казалось новизною неслыханною. Вы всего этого не застали — будучи 10-ю г.ми моложе нас; Вас уже встретил Гоголь, а Марлинского и tutti quanti203 на свете в помине уже не было — потому Вы и не судья заслугам Белинского». В конце Тургенев пишет: «Это вышло как-то очень полемично»204. Для Толстого это «сухое» письмо было не столько полемикой, сколько уроком и нравоучением. Он должен был признать свою позицию не только в отношении к Белинскому, но и в отношении к Чернышевскому неправильной — тем более что именно в это время Чернышевский напечатал свою статью о повестях Толстого, в которых обнаружил далеко не «черствый вкус» и глубокое понимание художественной литературы. Письмо Тургенева надо рассматривать как событие чрезвычайного значения; оно имело серьезные последствия в творчестве Толстого 1857-1858 годов.
2
2 января 1857 г. Толстой записал в дневнике: «Утром читал Белинского, и он начинает мне нравиться». Итак, не Дружинин «усадил» Толстого за чтение Белинского, а Тургенев, письмо которого о Белинском он получил 1 января. Далее следуют замечательные записи: 3 января — «Прочел прелестную статью о Пушкине», 4 января — «Статья о Пушкине — чудо. Я только теперь понял Пушкина», Что это увлечение было результатом письма Тургенева, доказывается рядом фактов. 4 января в дневнике после приведенных слов записано: «Обедая у Боткина с одним
Панаевым, он читал мне Пушкина, я пошел в комнату Боткина и там написал письмо Тургеневу, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными, поэтическими слезами. Я решительно счастлив все это время. Упиваюсь быстротой морального движенья вперед и вперед». Правда, вечером он побывал и у Дружинина, но вряд ли это можно использовать в качестве возражения — тем более что в записи от 8 января сказано: «Застал Дружинина в дыму, больше никто не пришел обедать. Удивительно, что мне с ним тяжело с глазу на глаз» (47,108-110). Дружинин, конечно, не стал врагом, но отношения их явно осложнились.
Письмо Толстого к Тургеневу от 4 января 1857 г. неизвестно (нет и ответа Тургенева); если оно не сохранилось, то это одна из самых досадных и грустных потерь. Можно себе представить, сколько значительного было сказано в нем и о Белинском, и о Пушкине, и о себе! Его отсутствие можно до некоторой степени заполнить только двумя письмами к Тургеневу: В. Боткина от 3 января и Е. Колбасина от 15 января. Оба они свидетельствуют о происшедшей в Толстом перемене и о том, что перемена эта связана с отходом от Дружинина. Это заметил Тургенев уже по письму Толстого от 21 декабря 1856 г. (оно тоже неизвестно): «В Вас, очевидно, происходит перемена — весьма хорошая... Вы утихаете, светлеете, и — главное — Вы становитесь свободны, свободны от собственных воззрений и предубеждений»205. В. Боткин писал Тургеневу (3 января): «Толстой все это время здесь — ты бы не узнал его, если б увидел. Это во всех отношениях редкая натура; много сил и необыкновенное внутреннее стремление... Великий нравственный процесс происходит в нем, и все более возвращается к основным началам своей природы, которые в прошлом г. так затемнены были разными житейскими дрязгами прежнего кружка и прежней колеи жизни»206. Е. Колбасин писал ему же (15 января): «Кстати о Толстом, имея к нему сочувствия, как к личности довольно нелепой и сумасбродной, я вовсе к нему не ходил и нарочно избегал его, несмотря на то, что он три раза был у меня и постоянно приглашал к себе. Наконец, дней десять тому назад, я таки пошел. И что же? Перед ним — лежат статьи Белинского о Пушкине. По поводу этого завязался между нами разговор, и, боже! какая славная перемена. Самолюбивый и упрямый оригинал растаял, говоря о Белинском торжественно сознался, что он армейский офицер, дикарь, что Вы задели его страшно своею — по его выражению — "непростительною для литератора громадностью сведений" и т. д. и т. д. Поклонник Дружинина сознался, что ему тяжело оставаться с Дружининым с глазу на глаз, хотя он и хороший человек, но он "не может ему прямо смотреть в глаза" Словом, он восхитил меня и порадовал, я подивился этой крепкой натуре, которая ничего не хочет принять на слово и все добывает посредством собственной критики. В добрый час, благословите этого сильного и развивающегося человека. Вы скоро его увидите, он уехал в деревню и скоро отправится за границу». Далее Колбасин рекомендует Тургеневу не хвалить Толстого в глаза: «Равнодушно-спокойный вид и невнимание к дикостям, которые он говорит, действуют на него самым отличным образом... Анненков... тоже держался этого метода, и результаты, говорит, блистательные! он вырван наконец из когтей... и кого же? прибавляет он: из когтей чернокнижника (то есть Дружинина. — Б. Э.)... Чернокнижник-редактор мрачен как гроза»207.
Записями в дневнике 1857 г. и приведенными цитатами из переписки 1856-1857 годов фактический материал об отношении Толстого к наследию Белинского в 50-х г.х как будто и исчерпывается. Есть, правда, еще одна курьезная запись, характеризующая увлечение Толстого Белинским в январе 1857 г.: «Я сказал про
Белинского дуре Вяземской» (47, 109), Очевидно, эта Вяземская не разделяла восторгов Толстого. Этот разговор произошел в одну из «учено-литературных» пятниц у попечителя Петербургского учебного округа и председателя цензурного комитета Г. А. Щербатова — место, для беседы о Белинском мало подходящее.
Есть, однако, иной материал, до сих пор не замеченный. В тот же день, когда Толстой читал статью Белинского о Пушкине («Статья о Пушкине — чудо» и пр.), а потом плакал «поэтическими слезами» (4 января), в записной книжке записано следующее: «Истина в движении — только. Чтобы истинно понять поэта, надо понять его так, чтобы, кроме его, ничего не видеть, и поэтому только тот, кто способен истинно понимать поэзию, может быть несправедлив к другим поэтам» (47, 201). Эта запись — явный след чтения Белинского. В первой фразе резюмированы, по-видимому, первые страницы начальной статьи о Пушкине — в частности, то место, где Белинский противопоставляет историю, философию и искусство математике с ее «неподвижными истинами»: «Движение математики как науки состоит не в движении ее истин, а в открытии новых и кратчайших путей к достижению неизменных результатов. В царстве математики нет случайности и произвола, зато нет и жизни; но история, философия и искусство живут, как природа, как дух человеческий, выражаемые ими, живут, вечно изменяясь и обновляясь... Кто хочет уловлять своим сознанием законы их развития, тот сам, подобно им, должен развиваться и доходить до результатов истины не в легком наслаждении апатического свойства, а в болезнях и муках рождения»208. Эта мысль была издавна близка Толстому как одна из основных «моральных истин», открытием которых он увлекался еще в студенческие годы. Характерно, что в этот же день он записал в дневнике о своем «моральном движеньи вперед и вперед» (47,109). Что касается второй фразы (о понимании поэзии), то она представляет собой сжатое резюме одной из мыслей Белинского, составляющей центр его пятой статьи о Пушкине.
Белинский приводит слова Гёте: «Какого читателя желаю я? — такого, какой бы меня, себя и целый мир забыл и жил бы только в книге моей». Белинский говорит: «Некоторые немецкие аристархи оперлись на это выражение великого поэта как на основный краеугольный камень эстетической критики. И однако ж односторонность Гётевой мысли очевидна... При немецкой апатической терпимости ко всему, что бывает и делается на белом свете, при немецкой безличной универсальности, которая, признавая всё, сама не может сделаться ничем, — мысль, высказанная Гёте, поставляет искусство целью самому себе и через это самое освобождает его от всякого соотношения с жизнью, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно из бесчисленных проявлений жизни». Белинский решительно отмежевывается от этой немецкой критики, которая «всегда опирается на само искусство и на дух художника и потому исключительно вращается в тесной сфере эстетики», а «на историю, общество, словом, на жизнь — не обращает никакого внимания». Однако дальше Белинский приходит к выводу, что мысль Гёте сама по себе «имеет глубокий смысл, если ее принимать не безусловно, но как первый, необходимый акт в процессе критики». Белинский утверждает, что в качестве такого первого акта мысль Гёте имеет важное принципиальное значение для исследования поэта: «Всякое исследование непременно требует хладнокровия и беспристрастия, которые возможны человеку только при условии полного отрицания своей личности на время исследования. Поэтому, чтоб произнести суждение о каком-нибудь поэте, тем более о великом, должно сперва изучить его, а для этого должно войти в мир его творчества не иначе, как забыв его, себя и все на свете».
Подробно развив эту мысль, Белинский еще раз формулирует: «Нельзя понять поэта, не будучи некоторое время под его исключительным влиянием, не полюбив смотреть его глазами, слышать его слухом, говорить его языком... Это увлечение поэтом есть первый и необходимый момент в процессе его изучения. И потому нельзя в одно время изучить более одного поэта, нельзя на это время не считать его выше всех других поэтов, нельзя не утратить своей способности понимать произведения других поэтов и восхищаться ими».
Совершенно ясно, что запись Толстого — краткое резюме этой мысли Белинского; она понравилась Толстому не только сама по себе, но и в связи с дальнейшим ее развитием — с теми страницами статьи, где Белинский противопоставляет «поэтические идеи» идеям рассудочным, поэтический «пафос» — не только разуму и рассудку, но даже «страсти»: «Идеи истекают из разума; но живое творит и рождает не разум, а любовь. Отсюда ясно видна разница между идеею отвлеченною и поэтическою: первая — плод ума, вторая — плод любви, как страсти. Но отчего же, скажут, называть это пафосом, а не страстью? Оттого, что слово "страсть" заключает в себе понятие более чувственное, тогда как слово "пафос" заключает в себе понятие более нравственное»209. В этих строках Толстой увидел разительное совпадение со своими взглядами, развитыми в письмах 1856 г. (к Некрасову и к Е. П. Ковалевскому) — о любви и об искусстве. Не менее сильное впечатление должны были произвести на Толстого слова Белинского о том, что Пушкин «как истинный художник... владел этим инстинктом истины, этим тактом действительности, который на "здесь" указывал ему как на источник и горя и утешения и заставлял его искать целения в той же существенности, где постигла его болезнь»210. При чтении статей Белинского Толстой, конечно, не задавался теми целями, которые ставил перед ним Дружинин. Толстого меньше всего интересовал вопрос о системе взглядов Белинского и об их эволюции; как и в других случаях, он читал Белинского с тем, чтобы найти у него подтверждение своим мыслям или «заразиться» некоторыми его идеями для развития своих собственных замыслов. Именно поэтому так понравилась ему мысль Гёте в трактовке Белинского: «Нельзя в одно время изучить более одного поэта, нельзя на это время по считать его выше всех других поэтов, нельзя не утратить своей способности понимать произведения других поэтов и восхищаться ими». Для Толстого это было не «первым, необходимым актом в процессе критики», а поддержкой его представлений об искусстве и художнике, как они складывались в 50-х годах. В пятой статье Белинского Толстой нашел ту высокую трактовку искусства и художника, которой он не находил у современников — в том числе и у Дружинина. Пушкин предстал перед Толстым как человек, владевший «инстинктом истины» и поэтому не зависевший ни от какого учения, ни от какой «доктрины» — как образ художника, творчество которого определяется только внутренним «пафосом», порожденным не разумом и не страстью, а «любовью». Так прочитал Толстой пятую статью Белинского о Пушкине, которую и назвал поэтому «чудом».
К. И. Чуковский утверждал, что увлечение Толстого статьями Белинского о Пушкине соответствовало указаниям Дружинина; доказательством служит то, что в письме к В. Боткину от 20 января 1857 г. (из Москвы) Толстой писал: «Дружи- нинские критики здесь очень, очень нравятся; Аксаковым чрезвычайно. Его вступление и критику Писемского прекрасно» (60, 153). К. И. Чуковский пишет: «Это "вступление в критику" заострено именно против Белинского... Заявив свою солидарность с этой статьей Дружинина, Толстой тем самым признал, наперекор увещаниям Тургенева, что он тоже считает дорогу Белинского "ложной" и что "Современник", ближайшим сотрудником которого он сделался именно с этого г., ему органически чужд»21Если бы это было так, все было бы очень просто: Толстой был бы обыкновенным и довольно ограниченным последователем Дружинина. В действительности дело обстоит иначе уже по одному тому, что Толстой не обладал той последовательностью, которую предполагает в нем К. И. Чуковский, — ни в отношении к Дружинину, ни в отношении к «Современнику», в особенности, когда речь идет о г.х 1856-1857. Это были годы метаний, годы неустойчивости и разнообразных поисков; роль Дружинина вовсе не была при этом во всех отношениях решающей. Достаточно вспомнить, что втом же январе 1857 г. Толстой после беседы с Чернышевским записал: «Пришел Чернышевский, умен и горяч» (47,110). Что касается «вступления в критику Писемского», вызвавшего похвалу Толстого, то к тому были некоторые причины и основания. Во-первых, Дружинин нападал в этой статье (как и в других) не на Белинского в целом, а на его взгляды и теории последних лет. Восхваляя молодых писателей (Островского, Писемского и Толстого) за их «независимость», Дружинин пишет: «Из уважения к блестящей стороне эстетических теорий Белинского мы всегда извинили бы новым литераторам, так много читавшим Белинского, некоторое пристрастие даже к слабейшим его теориям... Разве ее (молодую литературу) не сбивали на дорогу, чуждую для искусства, разве ей не внушали того, что цель ее — служение интересам временным и случайным, разве в ней не гасили ту любовь, без которой нет поэзии истинной, разве ее не пытались обратить в какой-то свод мизантропических умствований?»212. Другое дело, что Дружинин искажал систему Белинского и, говоря о нем, всегда имел в виду Чернышевского; эти «дрязги» (как выразился Боткин) в конце концов перестали интересовать Толстого. Во-вторых, письмо, в котором Толстой хвалит статью Дружинина, послано из Москвы: оно написано под впечатлением бесед с Аксаковыми, которым должна была понравиться начальная часть дружининского «вступления в критику Писемского», где речь идет не о Белинском, а о самобытности русской литературы. Дружинин говорит: «Пока мы не доверяли себе самим и считали себя слабыми школьниками перед остальной Европою, русская словесность шла вперед и все вперед своею неуклонною, широкой дорогою... Она доказала свое коренное русское происхождение, действуя в чисто русском духе, с тихостью, правдивостью и медленной энергией, характеризующими истинно русского человека»213. Такого рода суждения должны были, конечно, найти у Аксаковых полное одобрение; вполне возможно поэтому, что и Толстой называет «прекрасной» именно эту часть вступления, не связанную с вопросом о Белинском. Существенно, наконец, и то, что Дружинин ставит в этом вступлении имя Толстого рядом с именами Островского и Писемского, видя в этих трех писателях представителей «молодой литературы», свободной от «сухой дидактики». Такая оценка не могла не подействовать на Толстого: в это время он был очень чувствителен к отзывам о себе.
Итак, слова Толстого о «вступлении в критику Писемского» вовсе не свидетельствуют о его «солидарности» с Дружининым по вопросу о Белинском. Можно только сказать, что Толстого заинтересовали не поздние статьи Белинского (связанные с организацией «натуральной школы»), а его статьи о Пушкине 1843 г. — и больше всего пятая статья, в которой он нашел близкое ему освещение вопросов о сущности художественного творчества. Совсем не это имел в виду Дружинин, когда рекомендовал Толстому «ознакомиться с ходом журналистики» и «изучить теории Белинского». Характерно, что в том же письме к В. Боткину (от 20 января 1857 г.) Толстой очень хвалит его статью о Фете: «Вашу статью я перечел здесь. Ежели вы не приметесь серьезно за критику, то вы не любите литературы. Есть тут (то есть в Москве. — Б. Э.) некоторые господа читатели, которые говорили мне, что это не критика, а теория поэзии, в которой им говорят в первый раз то, что они давно чувствовали, не умея выразить. Действительно, это поэтической катехизис поэзии, и вам в этом смысле сказать еще очень много. И именно вам» (60, 153). Этот отзыв имеет особый интерес потому, что месяц назад (17 декабря 1856 г.) Толстой записал в дневнике: «У Боткина обедал, не похвалил его статью, он злился» (47, 105). Статья Боткина состоит из двух частей, как будто написанных двумя людьми, стоящими на разных позициях, — настолько противоречиво их соотношение. Первая часть статьи — гимн «практическому направлению» века, гимн Англии с ее капитализмом и индустрией. Боткин пишет: «Очевидно, что так называемые меркантильные свойства, которые недавно еще ставили в упрек Англии, более и более делаются преобладающими свойствами народов, вступающих на высоту современной цивилизации». И дальше: «Практическое направление нашего века должно радовать всякого, кому лежат к сердцу судьбы европейского общества. Это направление показывает разумный путь, на который наконец вступило это общество, показывает возмужалый, окрепший ум его. Господство пустых слов и фраз проходит, а с ними сколько вольных и невольных уз спадет с души!». При такой позиции, опирающейся на хорошую и давнишнюю осведомленность в экономической литературе, Боткин должен был бы смотреть на искусство как на пережиток или искать для него нового, прямо «практического» применения; поэзия Фета, во всяком случае, не должна была бы найти у него признание. Нечто подобное и было с ним в 1846 г., когда он, увлеченный успехами естествознания и исторической науки, напал на Белинского за его приверженность к «художественности»214. После революции 1848 г. он отошел от такого рода увлечении и выбрал путь эклектизма.
Когда-то Боткин, уже осведомленный об учении Маркса, утверждал, что первое место в общественной жизни занимают «промышленные интересы» и что «двигают массами не идеи, а интересы, но просвещают их идеи»215; теперь он утверждает нечто иное, опираясь уже не на Маркса, а на Карлейля: «Полагать, что наше время, потому только, что оно имеет практическое направление, должно изменить коренные свойства человеческой природы, — значит совершенно односторонне понимать ее. При всех временных преобладаниях различных стремлений, которыми исполнена история народов, — основные свойства человеческой природы постоянно одинаковы во все времена. Практический характер нашего времени есть только результат экономических условий нашего европейского общества, — а могут ли экономические отношения изменить основные свойства человеческой души?» Так Боткин 1856 г. полемизирует с материализмом, с Чернышевским и с собственным прошлым. Дальше уже оказывается, что художественное творчество «бессознательно» и что в этом его главная сила: «Всякий творческий гений — тайна для себя самого: старая мысль, но тем не менее верная»216. В письме к Тургеневу Боткин говорит об этой своей статье: «Тебе, верно, не понравится восторженный тон ее, — да и мне самому противен он, — но я решительно не могу, говоря о поэзии и искусстве, не выйти из обыденного тона. Говоря откровенно, мне самому хотелось дать себе посильный отчет о том, что такое искусство, что такое поэзия? Ответов на это я не находил ни у кого или находил их в таких сложных построениях, в таких отвлеченностях, что невозможно было схватить предмет в его общечеловеческом виде»217.
При первом чтении этой статьи (в декабре 1856 г.) Толстой, вероятно, обратил главное внимание на первую ее часть (о «практическом направлении» века и об Англии), с которой он, конечно, не мог согласиться и которая даже должна была возмутить его (это скажется в очерке «Из записок кн. Нехлюдова. Люцерн»). В январе 1857 г., после статей Белинского о Пушкине, он перечитал статью Боткина с иной точки зрения — как «поэтический катехизис поэзии», в общем (независимо от первой части) соответствующий его собственным настроениям и мыслям. Об этом свидетельствует один художественный замысел, увлекший Толстого в январе 1857 г. и стоящий в несомненной связи с чтением Белинского. Вопрос о воздействии Белинского на Толстого оказывается, таким образом, еще не вполне исчерпанным.
з
Вопрос о сущности и значении искусства, а тем самым и об общественном положении и поведении художника, получил к середине 50-х годов чрезвычайное значение. Об этом с достаточной ясностью свидетельствуют появление диссертации Чернышевского («Эстетические отношения искусства к действительности») и возникшая вокруг нее полемика. Статья Боткина о Фете, статьи Дружинина и Анненкова, переписка этих лет и даже биографические факты говорят о том же. Толстой относится к этим вопросам со всей серьезностью — как к вопросам жизненного значения. Это видно и по его дневникам и по произведениям; именно на этой основе возникло его увлечение статьями Белинского о Пушкине и самим Пушкиным. Еще в ноябре 1856 г. в дневнике появилась характерная запись, подготовляющая отход от журнальной деятельности: «Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве, ужасно высоко и чисто» (47, 101). На той же основе возникает в 1856 г. увлечение музыкой, которой Толстой занимался еще в юности и о которой много и часто думал. Это и естественно: вопрос о музыке и особый интерес к ней неизменно появляются в моменты обострения эстетических проблем и исканий.
Толстой вступает в петербургский музыкальный мир: посещает вечера у А. Д. Столыпина, ездит на концерты, бывает у Ф. М. Толстого (музыкального критика и композитора), знакомится с автором книг о Моцарте и Бетховене А. Д. Улыбыше- вым, собирает музыкантов у себя. 3 января 1857 г. В. Боткин сообщил Тургеневу: «Мы таки здесь занимаемся и музыкой: у Арк. Столыпина устроились музыкальные вечера, где играют трио Бетховена и очень хорошо... Толстой просто упивается им»218. В один из таких музыкальных дней Толстой познакомился со скрипачом- оркестрантом Георгом Клзеветтером, опустившимся и игравшим в публичных домах. В дневнике записано (5 января 1857 г.): «Грустное впечатление. Скрыпач» (47, 109). Дальше следует несколько записей о встречах с этим скрипачом, среди которых особенно интересна одна (от 8 января): «Пришел Кизеветтер. Он умен, гениален и здрав. Он гениальный юродивый» (47, 110). Как видно по другим записям, эти слова имеют полемический смысл: они обращены против тех, кто не видел в этом скрипаче ничего, кроме жалкого пьяницы. Характерно противоречивое сочетание таких слов, как «здрав» и «юродивый». Встреча с Кизеветтером совпала с теми днями, когда Толстой, читая Белинского ж Пушкина, был в особенно приподнятом состоянии — плакал «блаженными, поэтическими слезами». Кизеветтер интересует его как образ художника, противостоящий «трезвым» рассуждениям Боткина о благоприятных перспективах, которые открывает искусству новая «меркантильная» цивилизация — капитализм: «умный, гениальный и здравый» художник превращается в этих условиях в «юродивого» и гибнет. Так возникает замысел рассказа «Пропащий», прототипом для которого послужил Кизеветтер. 3 февраля 1857 г. записано: «Кажется, что "Пропащий" совсем готов» (47,113). На самом деле работа над этим рассказом затянулась до 1858 г., когда он вышел в печати под заглавием «Альберт».
В записи от 12 января 1857 г. имеется первоначальная идейная заготовка к этому рассказу: «Три поэта. 1) Жемчужников есть сила выражения, искра мала, пьет из других. 2) Кизеветтер, огонь и нет силы. 3) Художник ценит и того и другого и говорит, что сгорел» (47,110). Последние слова «художника» относятся, очевидно, к гибели Кизеветтера. Язык этой записи («огонь», «сила») носит на себе следы чтения Белинского. Пятая статья о Пушкине была воспринята Толстым как апология гения («инстинкт истины») против рассудочных представящий о художественном творчестве. В статье о Фете Боткин с иронией говорит о «фантастических взрослых младенцах, праздных гуляках»219, изображаемых романтиками; это явный намек на пушкинского Моцарта: так говорит о нем Сальери. Толстой изображает именно такого «фантастического взрослого младенца», «праздного гуляку», возвращаясь, таким образом, к Пушкину и пользуясь трактовкой Белинского, который говорит по поводу «Моцарта и Сальери»: «В лице Моцарта Пушкин представил тип непосредственной гениальности, которая проявляет себя без усилия, без расчета на успех, нисколько не подозревая своего величия... Как ум, как сознание, Сальери гораздо выше Моцарта; но как сила, как непосредственная творческая сила, он ничто перед ним»220. Толстой берет тему Пушкина в новом варианте: его «гениальный юродивый» — Моцарт в новых общественно-исторических условиях. Его губит не Сальери, а окружающая буржуазная среда, которая не может понять и оценить подлинного гения. Связь с пушкинским Моцартом сказывается как в том, что весь рассказ идет на фоне оперы «Дон-Жуан» (в ранних редакциях подробнее, чем в окончательной), так и в том, что в первых редакциях рассказ был снабжен эпиграфом из Пушкина: «Не для корысти, не для битв» и т. д.; именно эти строки Пушкина Белинский выделяет курсивом и сопровождает следующими словами, наверно обратившими на себя внимание Толстого: «Действительно, смешны и жалки те глупцы, которые смотрят на поэзию как на искусство втискивать в размеренные строчки с рифмами разные право-учительные мысли и требуют от поэта непременно, чтоб он воспевал им всё любовь да дружбу и пр., и которые неспособны увидеть поэзию в самом вдохновенном произведении, если в нем нет общих нравоучительных мест»221.
Итак, в споре об искусстве и художнике Толстой предпочел вернуться к романтическим представлениям о гении, найдя себе опору в статьях Белинского о Пушкине и поняв их, конечно, по-своему — вне целой системы и ее эволюции. Некрасов имел все основания упрекнуть его в том, что он выбрал «избитый» сюжет222. Толстой ответил ему, что повесть эта — не описательная и что она «по своему смыслу вся должна стоять на психологических и лирических местах»; этим он давал понять, что основа повести о музыканте — теоретическая, принципиальная. Важно отметить, что написанный одновременно с «Альбертом» очерк «Люцерн» (направленный против восхваления Боткиным капиталистической Англии) ставит вопрос об искусстве в прямую связь с развитием современной «цивилизации» в целом. Весь очерк пронизан ненавистью к англичанам — точно в пику и англоману Дружинину и поклоннику английского «меркантилизма» Боткину. Здесь видна близость Толстого к идеям утопического социализма — особенно в черновой редакции, где очерк заканчивается ссылкой на речь Руссо о вреде цивилизации и словами в духе Фурье: «А где же первобытное, prime sautier, чувство человека? — Его нет и оно исчезает по мере распространения цивилизации, т. е. корыстной, разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией и которая диаметрально противоположна ассоциации инстинктивной, любовной» (5, 283). Именно в это время Толстой, увидев в Париже казнь, написал В. Боткину: «А все- таки государства существуют и еще в таком несовершенном виде. — И из этого порядка в социализм перейти они не могут. Так что же делать?» (60, 168). Через тридцать лет Толстой напишет социальный трактат, сделав заглавием именно этот вопрос.
Естественно ожидать, что увлечение Белинским, подготовленное перепиской с Тургеневым, послужит основанием для более тесного сближения Толстого с ним. Так и вышло. 21 февраля 1857 г. Толстой приехал в Париж, а 9 марта они уехали в Дижон, где прожили неделю в одной комнате. «Со мной поехал Толстой, — писал Тургенев П. В.Анненкову, — который обрадовался случаю уединиться, чтобы привести к окончанию начатую им большую повесть. Несмотря на жесточайший холод, царствующий в комнате гостиницы, в которой мы остановились, холод, заставляющий нас сидеть не близ камина, но в самом камине, на самом пылу огня, — он работает усердно, и страницы исписываются за страницами. Я радуюсь, глядя на его деятельность»223. В приписке к этому письму Толстой сообщал, что он пишет свою повесть (очевидно — «Альберт») «с удовольствием и надеждой» (60, 164). Тургенев был занят в это время начатой еще в 1856 г. статьей «Гамлет и ДонКихот». Само собой разумеется, что в период этого дижонского уединения у Толстого с Тургеневым были беседы на все волновавшие их тогда темы — и об искусстве, и о Белинском, и о Чернышевском, и о «Современнике», и о современности. 27 февраля Тургенев прочитал Толстому конспект своей статьи о Гамлете и ДонКихоте: «Хороший матерьял, не бесполезно и умно очень», — записал Толстой в дневнике (47, 117)224. 1 марта записано: «Тургенев скучен. Хочется в Париж, он один не может быть. Увы! он никого никогда не любил. Прочел ему Пропащего. Он остался холоден. Чуть ссорились» (47, 117). Подтвердилось то, о чем Тургенев писал сестре Толстого (М. Н. Толстой) еще в 1856 г.: «Он великий чудак; нам суждено любить друг друга издали, — а вблизи — чувствовать взаимное стеснение»225. 15 апреля 1857 г. Тургенев в письме к Анненкову подвел итог своим впечатлениям от Толстого: «Странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича — что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо — высоконравственное и в то же время несимпатическое существо»226. Этот итог был, очевидно, результатом длительных и серьезных бесед, в которых Тургенев играл роль учителя и воспитателя. В некоторой степени это ему удалось: попрощавшись с ним накануне своего отъезда в Швейцарию (27 марта), Толстой записал: «Я его очень люблю. Он сделал и делает из меня другого человека» (47, 112). Это очень многозначительные слова в устах Толстого; беседы с Тургеневым, при всем различии взглядов, имели для него, очевидно, громадное значение. Тургенев на время занял место Дружинина. Это сказалось не столько в поведении, сколько в творчестве. Статья Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» была программной.
В форме противопоставления двух «вечных» начал в человеке — скепсиса и фанатизма — Тургенев на самом деле говорил об исторической борьбе двух поколений: «людей сороковых годов» и так называемых «новых людей», то есть людей типа Чернышевского. Социальные корни этой борьбы (то есть борьбы между либералами-дворянами и революционными демократами) не казались ему решающими: он ставил вопрос в иную, внеисторическую плоскость — в плоскость психологии («характеры»), потому что исторический процесс он считал не зависящим от сознания и воли людей и даже не соответствующим их целям и идеалам. Тем самым моральное осуждение Гамлетов, как «эгоистов» и «скептиков», было в статье Тургенева только кажущимся — на самом деле «гамлетизм» оправдывался, как более высокая интеллектуальная ступень, чем «наивная» вера безумных и неистовых Дон-Кихотов. Это противопоставление, по еще не до конца осознанное, было заложено в основу «Рудина»; теперь оно было сформулировано и послужило почвой для создания «Отцов и детей» — для возвышенного, но вместе с тем трагического (притом не без иронии) изображения революционера Базарова. Весь этот ход мысли был связан с вопросом о Белинском и Чернышевском — недаром «Отцы и дети» были посвящены памяти Белинского. Себя самого Тургенев считал, конечно, обреченным на роль Гамлета; Белинский был для него человеком, который стал родоначальником русского «донкихотства», то есть русских революционеров, — духовным отцом Чернышевского. Эту сторону дела Тургенев (в противоположность Дружинину) прекрасно понимал — и надо думать, что именно на эту тему он много говорил с Толстым в период их дижонского уединения. Недаром статья Тургенева показалась Толстому «не бесполезной и умной очень» и надолго запомнилась ему, как одно из самых важных его произведений. После смерти Тургенева он написал письмо А. Н. Пыпину, в котором говорит о вере Тургенева «в добро — любовь и самоотвержение, выраженной всеми его типами самоотверженных, и ярче, и прелестней всего в Дон-Кихоте, где парадоксальность и особенность формы освобождала его от стыдливости перед ролью проповедника добра» (63,150)227. Это было написано в 1884 г., когда Толстой уже открыто взял на себя именно эту роль. В его словах о статье Тургенева надо видеть след от дижонских впечатлений. Толстой понял эту статью как проповедь донкихотства. Любопытно, что вопрос о русских Гамлетах стоял и перед Толстым; еще до встречи с Тургеневым за границей Толстой в числе других замыслов записал в дневнике (от 12 января 1857 г.); «Комедия. Практический человек, Жорж-Зандовская женщина и гамлет нашего века, вопиющий больной протест против всего; но безличие» (47, 11 1)228. Возможно, что здесь содержатся намеки на Некрасова, А. Я. Панаеву и Тургенева.
Статью о Гамлете и Дон-Кихоте Тургенев задумал еще в 1856 г., вслед за «Ру- диным» и «Фаустом». Около этого времени Тургенев написал Толстому большое письмо, посвященное вопросу об их отношениях — о «неловкости», которую они оба чувствовали при встречах; Тургенев намекал при этом на разницу поколений (об этом он писал подробнее в том письме, где говорил о Белинском): «Кроме собственно так называемых литературных интересов я в этом убедился — у нас мало точек соприкосновения; вся Ваша жизнь стремится в будущее, моя вся построена на прошедшем... Идти мне за Вами — невозможно; Вам за мною — также нельзя; Вы слишком от меня отдалены, да и кроме того, Вы слишком сами крепки на своих ногах, чтобы сделаться чьим-нибудь последователем»229. Прошло три месяца — и положение изменилось: Толстой оказался (по крайней мере по мнению окружавших его) «последователем» Дружинина. Это вызвало у Тургенева досаду и ревность: он имел все основания считать себя первым и естественным кандидатом на пост «учителя», если таковой Толстому потребуется. Это ясно сквозило в письме от 8 (20) декабря 1856 г. (речь идет о влиянии Дружинина): «Когда я был Ваших лет, на меня действовали только энтузиастические натуры; но Вы другой человек, чем я, — да, может быть, и время теперь настало другое»230. Под «энтузиастическими натурами» (Дон-Кихот) Тургенев разумел, очевидно, Белинского и Герцена. В дальнейшем усилия Тургенева были направлены на то, чтобы вырвать Толстого «из когтей чернокнижника»; важную роль в этом деле сыграла, как мы видели, его защита Белинского (и отчасти Чернышевского) от нападений Дружинина.
Итак, в дижонский период Тургенев был занят вопросом о роли Гамлетов и Дон-Кихотов — скептиков и стоиков-энтузиастов («честный скептик всегда уважает стоика», — говорит он в статье)231. Имя Гамлета было при этом его псевдонимом, имя Дон-Кихота — псевдонимом Белинского и его учеников. В своей статье Тургенев говорит: «Мы сказали, что одновременное появление "Дон-Кихота" и "Гамлета" нам показалось знаменательным. Нам показалось, что в этих двух типах воплощены две коренные противоположные особенности человеческой природы — оба конца той оси, на которой она вертится. Нам показалось, что все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов; что почти каждый из нас сбивается либо на Дон-Кихота, либо на Гамлета. Правда, в наше время Гамлетов стало гораздо более, чем Дон-Кихотов; но и Дон-Кихоты не перевелись»232. На кого же из этих двух типов «сбивался», по мнению Тургенева, Толстой? Или, вернее, в каком из этих двух направлений старался он воспитать Толстого? Что элемент «воспитания» был в его отношении к Толстому этих лет, доказывается не только письмами 1856—1857 годов, но и приведенными выше словами самого Толстого: «Он сделал и делает из меня другого человека». Какого же человека старался «сделать» Тургенев из Толстого: Гамлета или Дон-Кихота?
4
Тургенев видел в Толстом некоторые черты, характерные для Гамлета. Гамлет «вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением... Гамлет сам наносит себе раны, сам себя терзает; в его руках тоже меч: обоюдоострый меч анализа». И еще одно: «Дон-Кихот любит Дульцинею, несуществующую женщину... А Гамлет, неужели он любит?., внимательному читателю не стоит большого труда, чтобы убедиться в том, что Гамлет, человек чувственный и даже втайне сластолюбивый... не любит, но только притворяется, и то небрежно, что любит»233. В Толстом были эти черты: Тургенев недаром ставил ему в пример Белинского и говорил об «энтузиастических натурах». Он сам стал Гамлетом не сразу — в юности он пробовал стать Дон-Кихотом. Став «скептиком», он не утратил уважения к «стоикам», как это произошло с Дружининым, намеком на которого кажутся слова: «Когда распадался древний мир — и в каждую эпоху, подобную той эпохе234, — лучшие люди спасались в стоицизм, как в единственное убежище, где еще могло сохраниться человеческое достоинство. Скептики, если не имели силы умереть — «отправиться в ту страну, откуда ни один еще путник не возвращался», — делались эпикурейцами. Явление понятное, печальное и слишком знакомое нам!»235. Из письма Толстого к Тургеневу, написанного из Женевы 9 апреля 1857 г. (сейчас же после выезда из Парижа), видно, что
Тургенев причислил его к людям, которые не умеют любить, то есть в этом смысле к Гамлетам. Толстой пишет Тургеневу о своих чувствах к кн. А. В. Львовой и просит сказать, «может ли случиться, чтобы такая девушка, как она, полюбила меня, т. е. под этим я разумею только то, что ей бы не противно и не смешно бы было думать, что я желаю жениться на ней. Я так уверен в невозможности такой странности, что смешно писать». Это сложное поручение сопровождается комментарием, по которому видно; какова точка зрения Тургенева на возможность любви для Толстого: «А ежели бы я только верил в эту возможность (то есть в любовь Львовой к нему. — Б. Э.), я бы вам доказал, что я тоже могу любить. Вы улыбаетесь иронически, безнадежно, печально. По-своему — но могу, это я чувствую». Характерно и продолжение: «Прощайте, любезный друг, но пожалуйста не старайтесь того, что я пишу теперь, подводить под общее составленное вами понятие о моей персоне. Тем-то и хорош человек, что иногда никак не ожидаешь того, что от него бывает» (60, 170).
Тургенев занимался «подведением» Толстого под общее понятие, то есть под те самые два «типа», о которых он писал в статье, а Толстой, видимо, протестовал против этой схемы, доказывая наличие в каждом человеке всякого рода противоречий и «неожиданностей». Тургенев видел в нем много черт «гамлетизма»: так он воспринимал и его увлечение самоанализом и психологическим анализом вообще и его отвращение к «фразе». В записке о Н. В. Станкевиче, написанной для П. В. Анненкова еще в 1856 г., Тургенев говорит: «Станкевич оттого так действовал на других, что сам о себе не думал, истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его вслед за собою в область Идеала. Никто так гуманно, так прекрасно не спорил, как он. Фразы в нем и следа не было — даже Толстой (Л. Н.) не нашел бы ее в нем»236. Станкевича, вместе с Белинским, Тургенев причислял, очевидно, к Дон-Кихотам — к «энтузиастическим», или «центральным», натурам, а Толстого склонен был противопоставлять им. Однако многое в Толстом решительно противоречило «гамлетизму» — и Тургенев колебался в определении его «натуры» или «типа». Ведь писал же ему П. В. Анненков (в январе 1857 г.), что Толстой «способен к героизму внутренней честности или по крайней мере понимает ее в героических размерах»237; такого рода героизм никак не может быть присущ, с точки зрения Тургенева, Гамлету — наоборот, эта черта, характерная скорее для Дон-Кихота. Надо думать, что воспитательные усилия Тургенева были направлены на то, чтобы развить в Толстом именно эти черты — черты ДонКихота, скрыто присутствовавшие и в нем самом. Недаром Толстой говорил о свойственной Тургеневу «стыдливости перед ролью проповедника добра»; Тургенев, оставляя за собой трагическую роль Гамлета, старался, по-видимому, внушить Толстому высокое общественное значение «донкихотства» для новой эпохи — «сделать» из него человека, способного противостоять революционным демократам не в качестве «скептика» (и, значит, «эпикурейца», как Дружинин), а в качестве «стоика», проповедника добра. Образцами для этого в прошлом были Белинский и Станкевич. Однако рекомендовать Толстому совсем переродиться в Дон-Кихота, стать наивным фанатиком и энтузиастом Тургенев, конечно, не мог и не считал нужным уже по одному тому, что на историю он смотрел все-таки как на трагическую для человека мистификацию. Дело было в том, чтобы убедить Толстого в бесплодности «скептицизма» («вечно возиться и носиться с самим собою», быть постоянно занятым «не своей обязанностью, а своим положением»). Тургенев понимал, что на этом пути никакой победы над революционной демократией не могло быть. Значит, надо было быть отчасти Гамлетом и отчасти Дон-Кихотом — характерное для Тургенева половинчатое, «либеральное» решение вопроса. Для такой роли Толстой был, конечно, мало приспособлен; у него был свой исторический путь. В 50-х г.х он был еще в самом его начале, когда далеко не все было ему ясно и когда было еще необходимо останавливаться и оглядываться назад, чтобы но заблудиться.
На вопросе о Станкевиче следует остановиться, поскольку он имеет прямое отношение к вопросу об увлечении Толстого Белинским.
В декабре 1856 г. П. В. Анненков сообщил Тургеневу, что он написал «довольно пространную» биографию Станкевича и отдал ее в «Русский вестник»238. Из письма Тургенева к Анненкову от 9 марта 1857 г. (то есть сразу после «дижонско- го уединения») видно, что он беседовал с Толстым о Станкевиче — очевидно, в связи с вопросом о Белинском; он торопит Анненкова издать письма Станкевича: «Я уже их обещал Толстому — который будет упиваться ими, за это я ручаюсь». 3 апреля 1857 г. Тургенев, прочитав биографию Станкевича, написал Анненкову: «Вы воскресили мне его светлое лицо, Вы перенесли меня во времена моей молодости, весь смысл его жизни угадан, верно, тонко передан»239. Вряд ли успел Толстой в это время познакомиться с биографией и письмами Станкевича; 9 апреля он уехал в Швейцарию. Отдельное издание биографии Станкевича и его писем вышло в январе 1858 г., когда Толстой был очень занят работой над своими вещами («Три смерти», «Альберт», «Казаки»). Летом он опять встречался с Тургеневым — в Ясной Поляне и в Спасском. Надо полагать, что разговоры на прежние, «дижонские» темы возобновились — и Толстой прочитал биографию Станкевича и его письма. Впечатление было потрясающим, 23 августа он пишет Б. Н. Чичерину: «Читал ли ты переписку Станкевича? Боже мой! что это за прелесть. Вот человек, которого я любил бы, как себя. Веришь ли, у меня теперь слезы на глазах. — Я нынче только кончил его и ни о чем другом не могу думать. Больно читать его — слишком правда, убийственно грустная правда. Вот где ешь его кровь и тело. И зачем? за что? мучалось, радовалось и тщетно желало такое милое, чудное существо. Зачем? ты скажешь: "затем, чтобы ты плакал, его читая" Да это я знаю и согласен, но этот ответ не мешает мне все-таки совсем из другого, более ценного, более человеческого источника спросить: зачем? и с каким-то болезненным удовольствием знать, что ничем кроме грустью и ужасом нельзя ответить на этот зачем?Тот же зачем звучит и в моей душе на всё лучшее, что в ней есть, и это лучшее мне тем не скажу дороже, а больнее. Понимаешь ли ты меня, мой друг?»240 (60, 272—273). Толстой, как видно, заразился даже стилем Станкевича; письмо написано в необычном для него размашисто-лирическом и несколько туманном стиле: «Хочется опять умственных волнений и восторгов... хочется слушать тебя, разгадывать, даром, мгновенно ловить трудом выработанную мысль, усвоивать их, цеплять одну за другую и строить миры новые, громадные, с одной целью: любоваться на их величавость. — Ты, верно, понимаешь, что я хочу сказать». Так писали «люди сороковых годов». Через Тургенева, Анненкова и Боткина, через чтение Белинского и писем Станкевича, через «Былое и думы» Герцена241 Толстой вошел в атмосферу «замечательного десятилетия», которое в свое время (когда он учился в Казанском университете) коснулось его сознания только некоторыми сторонами. Вопрос «зачем?» поставлен по-тургеневски: Толстой реагировал на письма Станкевича все-таки скорее как Гамлет («с грустью и ужасом»), чем как Дон-Кихот.
Пересмотр людей и традиций 40-х годов стал после Крымской войны одной из очередных задач — предметом споров, сближений, полемики и ссор. Статья Тургенева была в своей сущности трактатом на эту тему; с другой стороны, на этой же проблеме были построены «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевского. Это был не теоретический, а практический, жизненный разговор, имевший прямое отношение к злободневным и самым важным вопросам русской действительности. Я уже приводил слова Чернышевского о том, что надо оглянуться назад и спросить: «не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми?». Говоря о «покойниках», Чернышевский имел в виду прежде и больше всего Белинского, революционные традиции и заветы которого он противопоставлял либеральному «эпикуреизму» Дружинина и прочих. Но историческая сложность и парадоксальность положения заключалась в том, что дворяне-либералы вели свое происхождение тоже от 40-х годов; они были в свое время личными друзьями Белинского и считали себя прирожденными хранителями его традиций и заветов. Ревизия, предпринятая Дружининым по отношению к наследию Белинского, была им не по душе; тем самым они оказались в этом споре на стороне Чернышевского (хотя, конечно, с целым рядом оговорок). Тургенев, еще недавно проклинавший Чернышевского, радуется «воспоминаниям о Белинском, выпискам из его статей242; он пишет Боткину (25 октября 1856 г.): «Чернышевского я бы, пожалуй, побранил за его нецеремонное обращение с живыми людьми... но дорогое имя Белинского меня подкупает — и я с сердечным умилением читал иные страницы»243. Анненков дает Чернышевскому сведения о Белинском и пишет Тургеневу: «Я часто навещаю Чернышевского, с которым познакомился короче». Дальнейшие слова обнаруживают деловой, тактический характер этого неожиданного сближения: «Последние его статьи произвели много говора. Он идет непреклонно по одному пути. Для него не имеет никакого значения истина — литературная, экономическая, историческая и проч. Главная цель — пособить нужде, отвечать потребности, поддержать стремление, а все остальное для него не существует... Статьи его волнуют, когда читаешь их. Это не море, а пруд Вифезда, куда этот новый ангел слетает каждый месяц, чтоб возмутить воды. Молодежь туда бросается очень охотно»244. Под «истиной», которая будто бы не имеет значения для Чернышевского, Анненков разумеет то, что Тургенев назвал «скептицизмом Гамлета». С точки зрения Тургенева, Чернышевский, как Дон-Кихот, именно верил в «истину, находящуюся вне отдельного человека, не легко ему дающуюся, требующую служения и жертв». Не только к Белинскому, но и к Чернышевскому относились его слова: «Дон-Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнию; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле»245. Не был бы Тургенев исторически обречен на роль Гамлета (а эту роль он, как истый хранитель дворянских культурных традиций, считал возвышенной и ценной), он должен был бы целиком перейти на сторону Чернышевского.
Белинский был истолкован в статьях Чернышевского как явление живое, которое хорошо приходится к потребностям настоящего времени»246. Тем самым знамя Белинского было вырвано из рук дворянской интеллигенции («скептиков» и «эпикурейцев») и водружено над лагерем революционной демократии — над «Современником». Попытки Дружинина изменить положение не могли иметь успеха даже в либерально-дворянском лагере, поскольку они служили не к возвышению памяти Белинского, а к ее унижению. Это было не только неубедительно и неблагородно, но и тактически неправильно. В этом смысле эволюция, которая произошла у Толстого в отношении к Белинскому, очень показательна. Тургенев одержал победу над Дружининым именно при помощи Белинского. Толстой должен был признать, что в вопросе о Белинском (а значит, и в вопросе об искусстве и в вопросе о Чернышевском) Дружинин был неправ. Но удовлетвориться этим пассивным признанием было, конечно, невозможно — ни Толстому, ни Тургеневу, ни всему дворянскому лагерю. Вопрос о Белинском был в значительной степени решен — борьба вступала в новую фазу. Очередной проблемой стала фигура Станкевича247. О нем заговорили сразу и Тургенев (записка 1856 г.), и Анненков, и Герцен (в «Былом и думах»), и Чернышевский (в «Очерках»). Особенно значительным фактом было появление биографии Станкевича, написанной Анненковым, и отрывков из его писем. Герцен изображал Станкевича как «поэта и мечтателя», который, естественно, «должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические»248. Анненков, как бы полемизируя с ним, утверждает, что «на высокой степени нравственного развития личность и характер человека равняются положительному труду и последствиями своими ему нисколько не уступают». Развивая эту мысль, Анненков старается доказать, что деятельность Станкевича определила «воззрение и духовную деятельность целого ряда производителей» и образовала их «нравственный характер». Дальше Анненков пишет: «Но как подступить к подобному лицу, стоящему совершенно уединенно, без заметки в книжных росписях, без заслуг в формулярном своем списке, без критического или даже без всякого другого аттестата? Разумеется, легче пройти мимо такого лица, благо есть предлог во всеобщем молчании, чем вникнуть в его значение и угадать род его деятельности... Никогда формализм, еще недавно опутывавший всю деятельность современную, никогда также псевдореализм, составлявший цвет нашей литературы, не решились бы говорить о подобном лице, отличенном только даром упорной мысли, отыскивающей истину без отдыха, и даром любви, которая все открытия мысли спешит уделить близким людям». Это значило, что (по классификации Тургенева) Станкевич принадлежал к породе Дон-Кихотов; недаром Анненков вставил в свою статью слова Тургенева (из мемуара о Станкевиче, без всякой ссылки), характеризовавшие Станкевича именно как Дон-Кихота: «Причина полного, неотразимого влияния Станкевича заключалась в возвышенной его природе, в способности нисколько не думать о себе и без малейшего признака хвастовства или гордости невольно увлекать всех за собой в область идеала».
Получалось, что значение Станкевича чуть ли не выше значения Белинского—по крайней мере в том смысле, что Станкевич во многом определил и направил деятельность Белинского. Такова действительно одна из главных тенденций статьи Анненкова. Он говорит: «Деятельность человека, подобного Белинскому, конечно, ценима была Станкевичем по достоинству, но он не любил слишком резкого слова, которое, по его мнению, не вполне передает и ту часть истины, какая вызвала ее на свет. Станкевич противодействовал шуткой и советом врожденной горячности Белинского из желания открыть ему по возможности обширнейшее поприще действовавши, чему излишняя энергия, по его мнению, полагала препятствия». Станкевич получался, таким образом, отчасти похожим на самого Анненкова в его отношениях, например, к Чернышевскому. С особенной ясностью это проглядывает в дальнейших словах: «Станкевич не любил вообще всего, что порывисто, что носит печать одной воли человека, хотя бы и энергически настроенной к истине и добру. Так же точно Станкевич не понимал гнева в борьбе с ложным: невольное раздражение, которое он обыкновенно производит в человеке, разрешалось для него все без остатка обсуждением предмета... Станкевич был служителем истины в чистой, отвлеченной мысли, в примере своей жизни, и никогда не мог бы служить ей на буйной ярмарке современности». Эти слова не оставляют никакого сомнения: образ Дон-Кихота был, по мнению Анненкова, представлен Станкевичем в более высоком и чистом воплощении, чем Белинским. Тем самым борьба с Чернышевским и с революционной демократией при помощи Станкевича могла привести к более существенным результатам, чем борьба (явно неудавшаяся) при помощи Белинского.
Приведенные выше слова Анненкова о «формализме» и «псевдореализме», будто бы повинных в умолчании о Станкевиче, показывают, что он писал свою статью в полном сознании ее актуального смысла и значения; с полной ясностью это раскрывается в конце статьи: «Мы не можем сказать, — пишет Анненков, — в каком отношении находился бы Станкевич ко всем предметам нынешнего умственного и научного движения, но имеем право думать, что широта понимания — следствия того строгого предуготовительного труда, которому он подверг себя — не осталась бы праздною и бесполезною в виду их. Спешим прибавить, что нам нет и никакой нужды прибегать к догадкам, потому что и без них мы имеем в Станкевиче типическое лицо, превосходно выражающее молодость того самого поколения, которое подняло все вопросы, занимающие ныне литературу и науку, которое по мере возможности трудилось над ними и теперь начинает сходить понемногу с поприща, уступая место другим деятелям... Четверть столетия протекла уже с тех пор, как одно поколение посреди нашего общества начало сознавать важность строгого, добросовестного служения науке, необходимость нравственных требований от себя и от других, общественное значение чистоты действий и побуждений. В преддверии этой замечательной четверти столетия является светлый образ Станкевича как представитель всего поколения»249. Итак, образу «нового ангела», возмущающего воды пруда Вифезды (в который молодежь бросается очень охотно), противопоставлен образ другого, светлого ангела, который «но понимал гнева» и не мог бы служить истине «на буйной ярмарке современности». Намек на Чернышевского ясен, как ясен он и в другом месте статьи, предшествующем приведенному: «Станкевич не дожил еще до многого. Прежде всего, он не дожил до заявления своих начал в обществе, а стало быть, и до встречи с тупою ограниченности», со страстию объяснить мелкими причинами все духовные стремления человека, с невежественным скептицизмом и подозрительностию. Мы не знаем, как эта неизбежная, житейская борьба, изменившая и подорвавшая силы стольких людей, отразилась бы на его душе»250. Статья Анненкова (особенно ее конец) была своего рода элегией, написанной от имени «поколения сороковых годов», которое «сходит понемногу с поприща», но гордится тем, что «все вопросы, занимающие ныне литературу и науку», были подняты им. В этих словах есть упрек по адресу новых деятелей: мы, мол, подняли все эти вопросы, а нас оттесняют и обижают. Так был выдвинут Станкевич, истолкованный Тургеневым и Анненковым в качестве основного представителя их «молодости». Последствия этой статьи и изданной вместе с ней переписки оказались для них неожиданными. Против такого рода трактовки Станкевича и вообще против него выступила «Библиотека для чтения» Дружинина. В мартовской книге 1858 г. появилась статья (И. И. Льховского), в которой жизнь Станкевича характеризуется не как «служение человечеству», а только как стремление к «всестороннему и полному наслаждению», как исключительный эпикуреизм: «Образ юноши, который приобретает и сохраняет постоянно способность поднимать и наслаждаться самыми трудными вопросами науки, выспренними идеями человечности, целомудренными и несбыточными мечтами и вместе с тем сладострастьем звуков, красотой пластических образов, прелестию женских ножек и застольных излияний, — этот блестящий, обольстительный образ не есть тип нравственного или общественного деятеля. Это — образ самой жизни во всей полноте ее возвышенных, но «эгоистических удовольствий», образ праздничной стороны цивилизованной жизни, существование потребляющее, а не производительное»251. Статью эту надо понимать как ответ на обвинение в эпикуреизме, адресованное Дружинину и Чернышевским и Тургеневым; И. Льховский был в данном случае лицом подставным — своего рода псевдонимом самого Дружинина. Это было неожиданно, но еще более неожиданной была появившаяся в «Современнике» (1858. № 4) статья Добролюбова, написанная с позиции «разумного эгоизма» — не только против моральных рассуждений И. Льховского о «пользе», но и против тургеневской проповеди «долга» и «отречения» («Фауст» и «Ася»).
Жизнь Станкевича была истолкована Добролюбовым не как проявление эпикуреизма и не как аскетическое «служение человечеству», а как осуществление принципов «разумного эгоизма», ничего порочного или противообщественного в себе не заключающего. Соглашаясь с Анненковым в том, что «простая забота о развитии в себе чувства и мысли есть уже деятельность законная и небесполезная», Добролюбов вместе с тем решительно возражает против истолкования Станкевича как мученика, проникнутого «строгим духом» борьбы за идеал: «Нас пленяет в Станкевиче именно это постоянное согласие с самим собою, это спокойствие и простота всех его действий». Дальнейшие рассуждения направлены прямо против Тургенева: «Вообще, нам кажется, что взгляд на жизнь как на тяжелый, исполненный горестей, насильственный подвиг, — взгляд этот весьма высоко ценит формальную, внешнюю сторону дела... Кажется, не того можно назвать человеком истинно нравственным, кто только терпит над собою веления долга, как какое-то тяжелое иго, как «нравственные вериги», а именно того, кто... старается переработать их в свою плоть и кровь внутренним процессом самосознания и саморазвития так, чтобы они не только сделались инстинктивно необходимыми, но и доставляли внутреннее наслаждение». И дальше: «Пора нам убедиться в том, что искать страданий и лишений — дело неестественное для человека и поэтому не может быть идеальным, верховным назначением человечества... Романтические фразы об отречении от себя, о труде для самого труда или "для такой цели, которая с нашей личностью ничего общего не имеет", — к лицу были средневековому рыцарю печального образа; но они очень забавны в устах образованного человека нашего времени»252. Это было не в бровь, а в глаз: Тургенев еще не опубликовал своей статьи о Гамлете и Дон-Кихоте, а ее основные тезисы подверглись уже иронической критике. Сомнительный (с точки зрения Чернышевского и Добролюбова) ореол «донкихотства» был снят не только с Белинского, но и со Станкевича.
5
Так завязался сложный узел отношений между либеральной дворянской интеллигенцией и революционной демократией. История втянула Толстого в этот узел: он должен был пройти через эту идеологическую «школу», чтобы выйти затем на собственный путь — стать идеологом патриархального крестьянства. Увлечение Белинским, сближение с Тургеневым, Анненковым и Боткиным, восторг перед Станкевичем (в истолковании Тургенева и Анненкова) — таков был краткий курс обучения, пройденный Толстым в 1857-1858 гг. Перед ним раскрылась вся историческая картина формирования русской дворянской интеллигенции — весь первый (дворянский) период русского освободительного движения. К указанным именам необходимо прибавить имя Герцена, интерес к которому возникает у Толстого в это время (запись в дневнике 1856 г.) и растет на протяжении следующих лет. Было бы странно, если бы эта «школа» никак не отразилась на художественном творчестве Толстого. Мы видели, что «Альберт» и «Люцерн» носят на себе следы чтения Белинского и споров об искусстве, цивилизации и пр. Дело этим не ограничилось. Именно в 1857-1858 гг.Толстой возвращается к давно заброшенной работе над «Казаками» — с тем, чтобы совершенно изменить сюжет и придать герою новые черты.
В редакции 1858 г. «Казаки» приобретают характер культурно-исторического романа тургеневского типа, с героем, который находится в явном идейном родстве с Рудиным. Эта редакция даже начинается по-тургеневски — с точного указания даты: «В 1850 году 28 февраля была выдана подорожная» и т. д. (б, 245). Далее следуют две главы о прошлом Оленина — о его родителях, учении в университете, жизни в Москве и Петербурге — с широким использованием автобиографического материала. Оленин оказывается типичным молодым человеком 40-х годов — со всеми достоинствами и недостатками этой исторической породы, изученной Толстым не столько на собственном опыте (он был очень ограниченным), сколько в «школе» под руководством Тургенева. Следы чтения Белинского, Станкевича, Герцена, Тургенева, Анненкова и Чернышевского ясно видны в этих главах об Оленине. Толстой говорит: «Странно подделывалась русская молодежь к жизни в последнее царствование. Весь порыв сил, сдержанный в жизненной внешней деятельности, переходил в другую область внутренней деятельности и в ней развивался с тем большей свободой и силой. Хорошие натуры русской молодежи сороковых годов все приняли на себя этот отпечаток несоразмерности внутреннего развития с способностью деятельности, праздного умствования, ничем не сдержанной свободы мысли, космополитизма и праздной, но горячей любви без цели и предмета» (б, 246). Это итог чтения «Рудина», «Былого и дум» (в «Полярной звезде»), «Очерков гоголевского периода русской литературы», биографии и писем Станкевича — как по мысли, так и по языку; это, конечно, и результат бесед с Тургеневым в Дижоне, встреч с Анненковым и Боткиным; это, наконец, след и собственного юношеского опыта, накопленного в казанский период и после него (1848-1851). С еще большей точностью и выразительностью (напоминающей язык Герцена) сформулирована трагедия русской молодежи 40-х годов в конспекте к этой редакции «Казаков»: «Отъезд из Москвы, его положение в свете, его странное Николаевское развитие, отрицать тяжело, соглашаться нельзя, жить хочется» (б, 259. Курсив мой. — Б. Э.). В духе Герцена написаны строки о молодости Оленина, от которых в окончательном тексте осталось немногое: «Пускай рассудители-мудре- цы осуждают прошедшее молодое поколение за праздность; я люблю эту праздность людей, оглядывающихся вокруг себя и не сразу решающихся положить куда-нибудь всю ту силу, которую они вынесли из юности. Плохой юноша, выйдя на свет, не задумывался, куда положить всю эту силу, только раз бывающую в человеке. Не силу ума, сердца, образования, а тот не повторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть молодости сделать из себя все, что он хочет, и, как ему кажется, сделать из всего мира все, что он хочет» (б, 248)253. По конспекту второй и третьей частя видно, что Толстой собирался перенести дальнейшее действие романа в Тифлис и сделать Оленина любовником княгини Воронцовой: «Ищет в храбрости, в княгине Воронцовой, в игре и нет» (б, 260).
Вопрос о «Казаках» (и в частности, о соотношении редакции 1858 г. с чтением писем Станкевича) требует особого исследования за пределами этой статьи. Здесь важно только установить связь этой редакции и самого факта возвращения к давно прерванной работе с той умственной «школой», которую прошел Толстой в 18571858 г.х. Под влиянием всего пережитого и передуманного за эти годы в его сознании чрезвычайно обострилась и стала первоочередной проблема соотношения «временного» (исторического) и «вечного» — проблема, которая составляла трагический центр мировоззрения и поведения Тургенева. Отсюда — и колебания и трудности в писании «Казаков»: Толстой склонялся то к эпосу (с установкой на «вечное», неизменное — на природу, на любовь, на «естественного» человека), то к общественно-историческому роману, изображающему «странное николаевское развитие» молодого человека 40-х годов. Характерны в этом смысле его записи в дневнике 1858 г., связанные с Чичериным. 20 марта: «Много я обязан Чичерину. Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его место в вечном и бесконечном, в истории»; 30 апреля: «Нет, история холодна для меня» (48, 10, 14). В промежутке между этими записями — усиленная работа над «Казаками». Вслед за этим наступил момент, когда Толстой почувствовал необходимость для себя новых жизненных решений, независимых от Тургенева, Анненкова и Боткина.
О приближении этого момента свидетельствовал, в сущности, уже рассказ «Люцерн». Он не понравился никому из «учителей» Толстого. Тургенев писал ему: «Вы хотите во всем полноту и ясность — и хотите все это тотчас... идите своей дорогой и пишите — только, разумеется, не Люцернскую морально-политическую проповедь. — Боткин мне очень хвалил начало Вашего Кавказского романа. Вы пишете, что очень довольны, что не послушались моего совета — не сделались только литератором. Не спорю, может быть Вы и правы, только я, грешный человек, как ни ломаю себе голову, никак не могу придумать, что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец? Пожалуйста, выведите меня из затруднения и скажите, какое из этих предположений справедливо. Я шучу — а в самом деле мне бы ужасно хотелось, чтобы Вы поплыли, наконец, на полных парусах»254. Письмо это написано не только с иронией, но и обидой на «ученика». Еще раньше Тургенев писал Боткину: «Я прочел небольшую его вещь, написанную в Швейцарии, — не понравилась она мне: смешение Руссо, Теккерея и краткого православного катехизиса. Он, как Геркулес, находится на перепутье; дай бог ему пойти по хорошей дороге»255. Под «православным катехизисом» Тургенев разумел, очевидно, напряженный характер моральных исканий Толстого, принимавший религиозный оттенок. Недаром в числе «шутливых» вопросов, обращенных к Толстому в письме, был вопрос: «основатель нового религиозного учения?». Зоркий глаз Тургенева увидел уже в «Люцерне» зародыши будущего. Боткин отвечал Тургеневу: «Православный катехизис Толстого меня тоже очень сильно озадачивает, и я не могу себе объяснить, как он так глубоко уселся в нем. Сжатость и ограниченность воззрения смущает меня, между тем как с другой стороны пытливость его и анализ идут до нелепых даже крайностей»256.
В том-то и дело, что Толстой всегда доходил до «крайностей» — в противоположность своим либеральным учителям. Хотя он сам признал потом свой рассказ «мерзостью», но, конечно, не по тем причинам, о которых писали Тургенев и Боткин. Интересны признания И. И. Панаева в письме к Боткину: «Толстой жил у нас на даче три дня. Хороший он и умный человек, но в жизни барчонок и помещик: я бы с ним два дня не прожил. Его рассказ "Люцерн" на публику подействовал неблагоприятно. — Когда я слышал его из уст автора, читавшего с раздражением внутренним и со слезами в конце, — рассказ этот подействовал на меня сильно, но потом, когда я перечел его сам, он произвел на меня совсем другое впечатление... Нет, философствовать ему еще рано, — надо пожить и поучиться»257 И все же «Люцерн» был вещью очень значительной и симптоматичной, подготовлявшей выход Толстого из «школы» Тургенева: об этом говорят как самый рассказ, написанный не столько в «православном», сколько в социально-утопическом духе, так и то «раздражение» и те «слезы в конце», о которых сообщает Панаев. Без «Люцерна» Толстой не мог бы «поплыть на полных парусах», а для него и в самом деле пришло это время.
«Все переворотилось» в это время не только в личной жизни Толстого, но и в России. Годы промежутка между Крымской войной и крестьянской реформой шли к концу. Наступала новая эпоха — второй период освободительного движения, в котором главная историческая роль принадлежала уже не революционному дворянству (декабристы и Герцен), а революционной демократии. Либеральное дворянство 40-х годов оказалось вовсе не удел: «Гамлеты» должны были уступить свое место «Дон-Кихотам». Что было делать Толстому? Он не принадлежал ни к тем, ни к другим. Одно стало ему ясно: учиться у Тургенева, Анненкова и Боткина было больше нечему. 12 апреля 1859 г. Тургенев пишет Боткину: «Я с Толстым покончил все свои счеты... Мы созданы противуположными полюсами»258. Толстой уходит из литературы в Ясную Поляну — как помещик и сельский учитель. Это был поступок «шестидесятника», хотя и особого толку, — поступок, совершенно невозможный для тех «людей сороковых годов», у которых он учился в 1857-1858 гг. Толстой ставит крест на всех «трагических» проблемах жизни и истории, которыми мучил себя и его Тургенев: «Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы знать, что нужно делать, а в том, — чтобы знать, что делать прежде, а что после», — пишет он в 1860 г. Е. П. Ковалевскому (60, 328). Это программа деятеля, враждебная позиции созерцания и «отречения». Революционные демократы не могли, конечно, быть для него опорой и заменить «школу» Тургенева, но своего рода моральным примером для него они были.
Бросая школу Тургенева, Толстой отошел от всей тактической борьбы, которую вели его учителя с Чернышевским и с «Современником». Вопрос о Белинском, вопрос о Станкевиче — все это осталось позади вместе со всем вопросом об отношении к «поколению» 40-х годов. В сознании Толстого возникала мысль о своем историческом родстве с другим «поколением», с другой эпохой. Это родство сказалось еще в повести «Два гусара» (1856) и в возникшем тогда же замысле повести о декабристе, возвратившемся из Сибири. Там, в 20-х г.х, были исторические корни его моральных исканий, его социального самосознания. И среди «людей сороковых годов» был один человек, который мог быть ему опорой, потому что, в отличие от всех прочих, был кровно связан с дворянской революцией — с «декабризмом». Таким человеком был Герцен259. Он знал, что делать прежде и что после; он занимался настоящим делом, а не тактической борьбой за место в истории; он был дворянин — и демократ. Еще в 1857 г. Толстой собирался ехать к нему в Лондон, но не попал. Интересно, что в светском кругу уже тогда ходили разговоры о сходстве взглядов Толстого и Герцена; А. А. Толстая писала ему 7 октября 1857 г.: «На днях зашел разговор об вас; кто-то сказал, что вы, вероятно, со временем сделаетесь вторым изданием Искандера. Ох, как это меня задело за живое... Как же могут уподоблять этого тигра моему добронравному Льву. Докажите же, милый друг, что ваша цель и пряма, и свята, и чиста, а мне скажите успокоительное слово насчет Искандера. Надеюсь, что вы ему не сочувствуете»260. Толстой не стал ничего «доказывать»: в 1860 г. он написал три главы романа «Декабристы», в 1861 г. поехал к Герцену, а затем приступил к писанию «Войны и мира».
Примечания
Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (Юбилейное издание). М.: Гослитиздат, 1952. Т. 34. С. 356-357. В дальнейшем ссылки на это издание по всем главам даются в тексте с указанном тома и страницы.
В 1908 г. в Ясную Поляну приехал Н. Г. Молоствов, писавший биографию Толстого. В комментарии к дневнику Толстого за этот год Н. Н. Гусев сообщает: «Тогда же он (Н. Г. Молоствов. — В. Э.) прочел вслух составленную им характеристику отца Толстого, Николая Ильича, по поводу которой Лев Николаевич заметил Н. Н. Гусеву: «Я думаю, что отец не был таким, каким он его изображает» (36,499). Неизвестно, что сказал Толстой самому Молоствову, но надо полагать, что в печатном тексте этой в общем пустословной характеристики отразились некоторые замечания и соображения Толстого. Характеристика заканчивается следующими словами: «Всегда учтивый, добрый, ласковый, безоблачно веселый, беззлобно насмешливый и, по-видимому, остроумный, Николай Ильич напоминает чем-то отдаленно Пушкина, но без его южной, пламенной страстности, а своими аристократическими манерами, выхоленными белыми руками и особенно своими "всегда грустными" глазами, — лучшие, благороднейшие черты старого русского барства, того мыслящего и уже раздвоенного в своей психологии барства, из среды которого вышли автор "Записок охотника" и первый гигант идейной русской революции — Герцен» (Молоствов Н. Г., Сергеенко П. А. Лев Толстой. Критико-биографи- ческое исследование. СПб., [1909]. С. 28). Весьма вероятно, что эта мысль была высказана Толстым: как раз в те дни, когда Молоствов был в Ясной Поляне, Толстой увлекался чтением книги В. Е. Чешихина-Ветринского о Герцене, в которой, между прочим, говорится об идейной близости Толстого и Герцена (Гусев Н. Н. Два года с Толстым. 1907-1908 г. 2-е изд. // Изд. Толстовского музея. М., 1928. С. 181).
Известно, что прототип отца в «Детстве» и «Отрочестве» — А. М. Исленьев, а Сонечка Валахина — дочь П. И. Колошина, Софья Павловна, первая детская любовь Толстого. Сыновья П. И. Колошина Сергей, Дмитрий и Валентин были близкими друзьями Толстого в 50-х годах. С. А. Толстая (Берс) была внучкой А. М. Ислень- ева.
Записки графа Дмитрия Николаевича Толстого // Русский архив. 1885. Кн. 2. С. 19.
Чернов С. Из работ над «Зеленою книгой» //Декабристы и их время. М.: Изд- во Всесоюз. об-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1932. Т. 2. С. 54.
С. Панчулидзеву, составившему «Сборник биографии кавалергардов. 1801— 1826 г.» (СПб., 1906), пришлось исключить 22 биографии декабристов, осужденных в 1826 г.; среди включенных многие были так или иначе связаны с декабристами, но избежали наказаний.
Чулков Н. Москва и декабристы //Декабристы и их время. Т. 2. С. 303.
Чернов С. Из работ над «Зеленою книгой» // Декабристы и их время. Т. 2. С. 74.
В этой сцене отразились, вероятно, воспоминания о подслушанных в детстве разговорах взрослых. Толстому на всю жизнь запомнился рассказ старшего брата, Николая, о «зеленой палочке», которая зарыта у дороги и на которой будто бы написана тайна о том, как сделать, чтобы все люди были счастливы и стали «мура- вейными братьями». Сам Толстой говорит: «Как теперь я думаю, Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приема в их орден, вероятно слышал о Моравских братьях и соединил все это в одно в своем живом воображении и любви к людям, к доброте» (34, 387). Надо думать, что легенда о «зеленой палочке» — детский, сказочный вариант подслушанных бесед о «Зеленой книге» (устав Союза благоденствия) и о зарытой в землю «Русской правде» Пестеля; что же касается «муравейных братьев», то естественнее и правдоподобнее связать этот мотив детской легенды не с Моравскими братьями (этой религиозной сектой Толстой заинтересовался в старости), а с братьями Муравьевыми — декабристами, о которых, конечно, часто говорили взрослые. В таком случае сказка Николая о «зеленой палочке» и «муравейных братьях» может служить косвенным подтверждением связи отца Толстого с декабризмом.
Молоствов Н. Г., Сергеенко П. А. Лев Толстой. Критико-биографическое исследование. СПб., [1909]. С. 28.
Turnerelli Edward P. Kazan et ses habitants. Esquisses historiques, pittoresques et descriptives. St-Petersbourg, 1841. Vol. 1.189 p. («Казань и ее обитатели. Исторические, живописные и описательные очерки»). Э. П. Турнерелли, великобританский подданный, был в 1837-1844 гг. лектором английского языка в Казани. А. И. Михайловский сообщает: «В Казани Э. П. пробыл недолго: вследствие неудовольствий с представителями местного общества из-за своей сенсационной книги "Kazan et ses habitants" он 13 сентября 1844 года был, по прошению, уволен от службы при университете, с перемещением на должность учителя английского языка при Морском кадетском корпусе в С.-Петербурге» (Биографический словарь профессоров и преподавателей Казанского университета: В 2 ч. 1804-1904. Ч. 1. Казань, 1904. С. 253). Книга о Казани вышла в новом, расширенном издании на английском языке: Russia on the Borders of Asia. Kazan, the Ancient Capital of the Tartar Khans. Vol. 1-2. London, 1854 («Россия на границах с Азией. Казань, древняя столица татарских ханов»). Кроме того, Турнерелли издал в Лондоне в 1855 г. книжку: «What I know of the late Emperor Nicolas and his Family» («Что я знаю о покойном императоре Николае и его семье») — сплошной панегирик Николаю I. Здесь Турнерелли рассказывает, между прочим, о буре, которую вызвала в высших административных кругах Казани его первая книга и которая прекратилась благодаря письму из Петербурга с хвалебным отзывом наследника (будущего Александра II) об этой книге: «В одно мгновенье буря утихла; вместо свирепого, режущего северного ветра, который бушевал с такой силой, подул нежный, мягкий ветерок, несущий ласковые извинения и нежные оправдания» (с. 56).
Левенфельд Р. Разговоры с Толстым и о Толстом //Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. 2-е изд. М.: Гослитиздат, 1960. Т. 1. С. 66.
Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1959. С. 148.
Говоря о статье Н. П. Загоскина, П. И. Бирюков назвал ее ошибочно «воспоминаниями о студенческой жизни Л. Н.Толстого» (Исторический вестник.
1894. № 1. С. 78-124). Н. П. Загоскин учился в Казанском университете в 70-х годах (род. в 1851 г.) и потому никак не мог «вспоминать» о студенческих годах Толстого.
В дневнике Толстого от 13 июня 1904 г. записано: «Вчера поправлял Пошину биографию. Кое-что вписывал. Плохо» (55, 50). «Поша» — П. И. Бирюков.
См. статью Н. Н. Фирсова «JI. Н. Толстой в Казанском университете» (Голос минувшего. 1915. № 12. С. 5-34) и гл. VII («В Казани») книги Н. Н. Гусева «Толстой в молодости» (М.: Изд. Толстовского музея, 1927. С. 113-146).
Биографический словарь профессоров и преподавателей Казанского университета. 1804-1904: В 2 ч. Ч. 2. С. 47.
П. П. Пекарский (будущий историк и академик) — товарищ Толстого по университету (поступил в 1843 г.). Д. И. Мейер (1819-1856) после окончания Главного педагогического института (1841 г.) был командирован в Германию, где в это время процветала «историческая школа» права (Савиньи, Пухта, Рудорф, Гомейер). Мейер основательно познакомился с трудами этой школы, но не стал ее безусловным последователем и сохранил в вопросах гражданского права независимую позицию. Вернувшись в Петербург (1844 г.), он прочитал в институте пробную лекцию — «О гражданских отношениях обязанных крестьян». Лекция эта заслужила всеобщее одобрение, но, по-видимому, не понравилась начальству, потому что была слишком явно проникнута антикрепостническим духом. «Можно было думать, — писал Г. Ф. Шершеневич, — что здесь, в институте, Мейер, его питомец, и устроится преподавателем, — но 15 февраля того же (1845 г. — Б. Э.) года Д. И. назначается исправляющим должность адъюнкта в Казанский университет» (Биографический словарь профессоров и преподавателей Казанского университета. Ч. 2. С. 45). Видимо, назначение в Казань было подсказано желанием «убрать» Мейера из Петербурга. В 1855 г. он был переведен в Петербургский университет, но в январе 1856 г. умер. Н. В. Шелгунов рассказывает в своих воспоминаниях, как он познакомился в Самаре в 1849 г. с П. П. Пекарским. Чиновники Самарской удельной конторы были проникнуты «новым общественным чувством, первым выражением тех стремлений, которые в шестидесятых годах превратились в общественный энтузиазм. А источником этих новых стремлений были тогдашние университеты: Московский, с Грановским во главе, и Казанский, где кумиром студентов был профессор Мейер... В удельной же конторе служил и Пекарский... с которым я сошелся и сблизился. Пекарский (оренбургский уроженец), казанский студент, был восторженным поклонником Мейера» (Шелгунов Н. В. Воспоминания. М.; Пг.: ГИЗ, 1923. С. 62). В другом месте Шелгунов вспоминает, как он встречался с Пекарским в Петербурге в 1851 г.: «Раз Пекарский с своим обыкновенным таинственным видом говорит мне вполголоса, что познакомился с Чернышевским. Пекарский говорил о нем еще с большим восторгом, чем он говорил о профессоре Мейере... Мейер — это Грановский Казанского университета и тоже рано умерший» (Там же. С. 27). Надо полагать, что Чернышевский сначала узнал о Мейере тоже от Пекарского, но весьма вероятно, что потом он и лично познакомился с Мейером в 1855 г. в Петербурге; вряд ли без такого знакомства Чернышевский написал бы о нем своего рода некролог, проникнутый чрезвычайным уважением к его взглядам и деятельности. Этот некролог вставлен в статью о «Губернских очерках» Щедрина (Современник. 1857. № 6). Чернышевский говорит о Мейере как о человеке, «все силы которого были посвящены благу его родины»: «Дмитрий Иванович Мейер, скончавшийся в Петербурге в начале прошлого года, профессор здешнего университета, около десяти лет занимал кафедру гражданских законов в Казанском университете. Постоянно мыслию его было улучшение нашего юридического быта силою знания и чести. Здесь не место говорить о его трудах по званию профессора, о его чрезвычайно сильном и благотворном влиянии на слушателей, которые все на всю жизнь сохранили благоговение к его памяти. Цель нашего рассказа требует только заметить, что задушевным его стремлением было соединение юридической науки с юридической практикой. Он устроил при своих лекциях в университете консультацию и сам занимался ведением судебных дел, разумеется, без всякого вознаграждения (это был человек героического самоотвержения), с целью показать своим воспитанникам на практике, как надобно вести судебные дела» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 286). Следует рассказ о деле одного казанского купца, объявившего себя банкротом: несмотря на все старания купца, Мейер остался неподкупным и доказал злостность объявленного купцом банкротства. Этот некролог заканчивается словами: «Такие люди, как Мейер, составляют редкое исключение во всяком обществе в каждое время. Их пример, конечно, самым благотворным образом действует на каждого, кто вступает в близкие отношения с ними. Сила их личности такова, что для человека, вовлеченного в сферу ее действия, уравновешивается, часто даже превозмогается влиянием ее влияния всех других обстоятельств, действующих в противном направлении» (Там же. С. 288). В «Современнике» 50-х годов имя Мейера упоминается несколько раз в связи с разными вопросами. В «Современнике» 1860 г. напечатана рецензия Н. А. Добролюбова на сборник «Братчина». Добролюбов пишет: «В воспоминаниях о Мейере занимает нас эта достойная личность, заслужившая такую безграничную любовь и уважение всех своих учеников. Несмотря на краткость и неполноту воспоминаний г. Пекарского, они служат любопытным материалом для изучения этой личности, особенно по тем подлинным заметкам и мыслям самого Мейера, которые в них приведены» (Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1963. Т. 6. С. 67).
Лекции Д. И. Мейера по русскому гражданскому праву, записанные его казанскими слушателями (сам Мейер читал лекции без всяких рукописей и даже без конспектов), были изданы после его смерти в обработке А. И. Вицына («Русское гражданское право». Казань, 1858) и не раз переиздавались, продолжая служить университетским пособием; последнее (10-е) издание вышло в 1915 г. в обработке А. X. Гольмстена. В архиве П. Пекарского (Гос. публ. библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) есть небольшое собрание бумаг Д. И. Мейера (несколько лекций и статей и письма к нему разных лиц). Мейер умер 19января 1856 г.;Толстой был в это время в Москве.
Пекарский П. Студенческие воспоминания о Д. И. Мейере // Братчина. СПб., 1859. Ч. 1.С. 215, 217.
В «Биографическом словаре профессоров и преподавателей Казанского университета» (Ч. 2. С. 83) о Г. Л. Фогеле сказано: «В начале 1846 г., по его инициативе, введено на четвертом курсе изготовление и обсуждение студентами, по два раза в неделю, рефератов». В 1834 г. было издано его сочинение: «Uber sittliche und burgerliche Besserung der Verbrecher, als das sicherste Mittel den Zweck der Strafgesetzgebung zu erreichen» («О нравственном и гражданском исправлении преступника как надежнейшем средстве достижения цели уголовного законодательства»).
Толстой получил следующие отметки:
Догматическое богословие — нет отметки
Энциклопедия законоведения — 4
Уголовное право — 2
История русского права — 2
Европейское гос. право — 2
Русское гос. право — 4
Римское право — нет отметки
Всеобщая история —
Русская история —
Толкование институций — Немецкий яз. — „ „
(Экзаменационная ведомость, хранящаяся в делах юридического факультета. Центральный гос. архив Татарской АССР. Ф. № 977.)
Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России. Казань, 1893. С. 34.
Венгеров С. А. Критико-биографнческий словарь русских писателей и ученых. СПб., 1897-1904. Т. 6. С. 126.
Там же.
Молоствов Н. Г., Сергеенко П. А. Лев Толстой... С. 113.
В Центральном гос. архиве Татарской АССР (Казань) хранятся дела Казанского университета за старые годы (ф. № 977). Среди них есть много документов, относящихся к студентам-полякам, высланным в 1839 и 1840 гг. из Киева и Вильно в Казань. Хронологически первым из них является дело правления университета от 6 мая 1839 г. «О назначении по высочайшему повелению в Казанский университет студентов Киевского университета и Виленской медико-хирургической академии». 5 апреля 1839 года в Казанский университет назначены: из Киева — 8 студентов: 1) Ахиллес Россоловский, 2) Антон Станиславский, 3) Гейнрих Волоткович, 4) Иосиф Бржозовекий, 5) Эдуард Цилли, 6) Иосиф Варавский, 7) Дионисий Ячевский, 8) Станислав Стройновский; из Вильно — Станислав Станиславский. Распоряжение министра гласит: «По выпуске из университета назначить их на службу в великороссийские губернии с тем, чтобы выслужили в оных не менее 10 лет, не дозволяя им приезда в западные губернии во все время нахождения в университете и на службе». Из дальнейших бумаг видно, что в том же 1839 г. (в связи с указом Николая I сенату от 9 января «О приостановлении в университете св. Владимира чтения лекций на один год») министр народного просвещения предложил попечителю Киевского учебного округа отправить из Киева в Казань 12 казеннокоштных воспитанников для окончания курса наук: Флорпана Жилевича, Клеотыльда Тхоржевского, Александра Гейс- мана, Стефана Черного, Венедикта Гутовского, Виктора Гаевского, Луку Рынц- кого, Франца Залеского, Ксаверия Микульского, Станислава Левандовского, Викентия Монюшко и Юлиана Озембловского. Осенью 1840 г. в Казань было переведено 13 студентов Виленской медико-хирургической академии: Станислав Печиский, Александр Вейшторд, Валериан Лапушевский, Людвиг Дейчман, Протасий Лисицкий, Иван Жиркевич, Антон Кленовский, Лев Сучковский, Иван Багрицевич, Стефан Верцинский, Михаил Собестьянский, Генрих Не- жицкий, Болеслав Тринковский; через месяц — еще 13: Венцеслав Виткевич, Фридрих Ланггагель, Сигизмунд Роговский, Эдуард Новкунский, Франц Немя- товский, Александр Синкевич, Эразм Селлява, Эдуард Шульц, Константин
Янушкевич, Викентий Афрамович, Андрей Черневский, ИванДовгирд, Николай Олехнович.
Судьба этих студентов была различной. И. Бржозовский окончил юридический факультет кандидатом в 1840 г., в 1842 г. защитил магистерскую диссертацию «О почтах» и был назначен («в виде опыта») преподавателем финансового права, но в 1843 г. получил разрешение вернуться на родину. А. Россоловский по окончании университета служил в нем «хранителем музеев», а в 1844 г. был отпущен на родину. Д. Ячевский окончил университет в 1842 г., а в 1844 г. был определен «с высочайшего соизволения» в Драгунский вел. кн. Михаила Павловича полк, квартировавший в Курске. И. Варавский в 1840 г. был отдан в военную службу (вероятно, в виде наказания); то же самое произошло еще в 1839 г. с С. Стройновским. Студенты, присланные из Киева, частью вернулись потом в Киев, частью разъехались (в должности учителей) по разным городам — за исключением К. Тхоржев- ского и Ф. Залеского, которые сделались преподавателями Казанского университета. Судьба виленских студентов (поднадзорных) была хуже: их рассылали в качестве лекарей в отдаленные места — в Сибирь, на Кавказ и т. д. Кроме университетского архива, многие дола которого, к сожалению, уничтожены, сведения о пребывании студентов-поляков в Казанском университете можно получить из издания: «К столетней годовщине Казанского университета. Преподаватели, учившиеся и служившие в Казанском университете (1804-1904). Материалы для истории университета». Ч. 1. Вып. 1 (1805-1854 гг.). Собрал А. И. Михайловский. Казань, 1904. В Центральном гос. архиве Татарской АССР хранится любопытный дневник Ф. Залеского 1841-1846 гг. на польском языке, с зарисовками студентов- поляков (среди них Бржозовский и Россоловский) и некоторых профессоров. Толстой встречался с тремя названными им поляками, очевидно, еще до поступления в университет, у братьев.
27 В Центральном гос. архиве Татарской АССР имеется программа курса («Вопросы из энциклопедии законоведения»), прочитанного А. Станиславским в 1846/47 учебном году (ф. № 977). Приводим ее здесь:
«Вопросы из энциклопедии законоведения
1. Определение энциклопедии права. Предметы ее, деление и история литературы. 2. Понятие о законах вообще. Отличительные свойства природы человека, из которых может быть выведено понятие о законе человеческом. 3. Воля в идее и в действительности; отсюда переход к понятию закона человеческого вообще и разделение его на законы внешний, нравственный и религиозный. 4. Право, мораль и религия — их взаимное отношение, различие и высшее единство. 5. Сфера развития права. 6. Развитие права в различных ступенях человеческого общения. 7. Форма развития права — обычаи, законы и учение законоведов. Виды положительного права, или законодательства. Действие законов. 8. О субъекте права вообще и по римскому праву в особенности. 9. Об объекте права вообще и по учению римского права в особенности. 10. О пользовании правами, или об осуществлении права субъективного. 11. О применении законов, или об осуществлении права объективного. 12. О системе права; развитие отдельных частей ее. 13. О законоведении, — Определение его, цель его изучения. Содержание наук, входящих в состав законоведения. 14. Связь наук законоведения с науками других отраслей человеческого знания и о науках вспомогательных в особенности. 15. Методы и способы изучения права. 16. Назначение истории философии права. Характер древних исследований права до Сократа и учение Сократа. 17. Изложение учения Платона о праве и государстве. 18. Изложение учения Аристотеля о праве, государстве и долге. 19. Переход от греческих философов к римским. Учение Цицерона о праве и законе. 20. Состояние философии вообще и философского права, в особенности в XVI столетии, и учения Гуго Гроция. 21. Учение Баккона, Гоббеса и Локка. 22. Учение Пуффендорфа. Мнение о нем Лейбница. 23. Учение Спинозы, Лейбница, Томазия. 24. Учение Вольфа. 25. Философия права во Франции в XVIII столетии, в особенности о Montesquieu и J. J. Rousseau. 26. Учение о праве Конта. 27. Учение о праве Фихте. 28. Учение о праве Шеллинга. 29. Учение о праве Гегеля. 30. Система римского права. 31. Система канонического права. 32. Система немецкого частного нрава и права ленного. 33. Система новейших европейских законодательств и система Сводов законов Российской Империи.
14 апреля 1847года. А. Станиславский».
В 1853 г. А. Станиславский был переведен в Харьковский университет. В «Журнале министерства народного просвещения» (1853. Ч. 80. Отд. II. С. 1-31, 37—71) напечатана речь, произнесенная Станиславским в торжественном собрании Казанского университета 8 июня 1853 г.: «О ходе законоведения в России и о результатах современного его направления». В этой речи Станиславский говорил: «Ни одно общество, ни одно государство не является на всемирно-историческом поприще с готовым уже законодательством, с полною системою правил, определяющих его общественные и частные отношения и устанавливающих меры для их охранения. Допустить подобное явление значило бы допустить, что человек может рождаться в том самом внешнем виде и с теми внутренними свойствами, какие мы замечаем в нем в периоде окончательного его развития — в возмужалом возрасте. Если бы это и было возможно, то во всяком случае мы сочли бы это странною аномалиею, непонятным отступлением от общефизиологического и общеисторического закона — закона преемственного развития в пространство и времени каждого во внешности данного, живого организма» (с. 4). Далее Станиславский делает обзор развития юридической науки в России, отмечая ее особенный рост в последние двадцать лет, когда господствующим сделалось «историческое направление». Среди литературных работ Станиславского надо отметить его перевод «Божественной комедии» Данте на польский язык (Poznan, 1870).
Назарьев В. Н. Жизнь и люди былого времени // Исторический вестник. 1890. № 11. С. 441, 438.
Николай Алексеевич Иванов (1811-1869) женился перед самым переездом Толстых в Казань. В университетском архиве сохранилось его прошение от 29 июля 1841 г. в правление Казанского университета: «Желая вступить в брак с дочерью статского советника графа Сергея Толстого, покорнейше прошу правление университета выдать мне свидетельство, требуемое в подобных случаях от чиновников, состоящих на службе» (Центральный гос. архив Татарской АССР. Ф. № 977). Н. П. Загоскин пишет: «Свадьба сопровождалась инцидентом, про который обязательно сообщил мне знаток местной старины Н. Я. Агафонов, записавший его со слов казанского студента того времени... Студенчество сильно недолюбливало профессора Иванова. Первоначально свадьба с графинею Толстою предполагалась в университетской церкви, но предположение это было оставлено из опасения скандала со стороны студентов. Решено было совершить венчание в Воздвиженской церкви, что при первой гимназии. Несмотря на то что публика в церковь не впускалась и невзирая на жандармскую и полицейскую охрану, свадьба без скандала все-таки не обошлась; большая толпа студентов собралась у церковной ограды и, при выходе молодых из церкви, проводила их до кареты погребальным пением: "Святый боже..." С новобрачного сделалась истерика» (Исторический вестник. 1894. № 1.С. 116).
У школьного товарища JI. Н. Толстого // Петербургская газета. 1898. N° 303.
В протоколе заседания совета историко-филологического факультета от 26 апреля 1845 г. говорится: «Слушано: предложение г. исправляющего должность ректора орд. проф. Фойгта, от 24 апреля текущего года за № 115, о том, чтобы отделение доставило в Совет сведения, кого оно полагает из студентов и слушателей своих не допускать по малоуспеваемости к годичным экзаменам, имеющим начаться с 30 числа сего апреля. Определено: согласно с отзывами гг. орд. проф. Фишера и Иванова, донести Совету, что отделение полагает не допускать к предстоящим экзаменам: ...в отделении арабско-турецкой словесности, в первом курсе Льва Толстого... по весьма редкому посещению лекций и совершенной безуспешности в истории. К сему присовокупить, 1) что г. проф. Иванов своевременно доводил об этом до сведения бывшего г. попечителя и давал знать инспектору студентов, но никакие меры не оказались действительными, особенно студенты Лев Толстой и Александр Граф упорно отказывались от посещения лекций...» (Центральный гос. архив Татарской АССР. Ф. № 977. Архив N° 37). Ср. заметку в газете «Красная Татария» (1946. 7 дек.) о докладе Е. Г. Бушканца «Новые документы о пребывании Л. Н. Толстого в Казанском университете».
Любопытно, что студенту Александру Графу был сделан строгий выговор «за его дерзкий поступок пред г. ординарным проф. Ивановым, не исключая его, впрочем, из числа студентов университета». «Дерзкий поступок» заключался в том, что студент А. Граф «позволил себе» явиться на квартиру профессора Иванова с просьбой допустить его к экзаменам (там же, архив № 8747). В январе 1846 г. Толстой был посажен в карцер за непосещение лекций того же профессора Иванова, а на экзамене по общей истории получил двойку (на экзамен по русской истории не явился). На переходных экзаменах (в мае 1846 г.) он несколько поправил свои дела, получив тройки по общей и по русской истории (документы см. в статье Н. П. Загоскина), но на следующих полугодичных испытаниях (в январе 1847 г.) дело приняло совсем дурной оборот: в ведомости по русской истории отмечено, что Толстой на экзамене не был и что он «весьма ленив»; то же и по общей истории. Приведу кстати список студентов, учившихся вместе с Толстым на юридическом факультете: казеннокоштные — Семенов Григорий и Фелицын Владимир; своекоштные — Аристов Владимир, Блосфельд Карл, Берви Вильгельм (будущий народник Н. Флеровский, автор известной книги «Положение рабочего класса в России», 1869), Болговской Николай, Кротков Степан, Курт Вильгельм, Соколов Александр, Тяпкин Петр, Федорчуков Дмитрий. Из этих одиннадцати студентов только двое получили у Иванова четверки, остальные — двойки и единицы. В воспоминаниях М. П. Веселовского есть описание Н. А. Иванова: «Наиболее выдающуюся роль играл профессор Иванов. Это был высокого роста желчный блондин, с редкими волосами, впалой грудью и надтреснутым, но очень громким голосом. Он был человек довольно многосторонний, с прекрасным даром слова, но с некоторыми замашками властолюбия и мстительности. Его уважали и боялись и высоко ставили его лекции» (рукопись, хранящаяся в Гос. публ. библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: FIV, № 861). В воспоминаниях сына Н. И. Лобачевского (Н. Н. Лобачевского) описан характерный эпизод: «В Казани был знаменитый профессор истории Н. А. Иванов; прекрасно зная свой предмет, читая увлекательно, он был деспот и донельзя несправедлив. Недовольство на него было ужасное. Даже тогда, в то время, когда всесильная рука императора Николая I держала все в ежовых рукавицах, студенты выразили свое недовольство тем, что бросили в него чернильницей... Придирчивый к студентам, строптивый в домашнем быту, Н. А. если начинал кого преследовать, то гонимый может быть уверен, что будет исключен». Далее Н. Н. Лобачевский рассказывает, как один студент I курса юридического факультета пожаловался на преследования Иванова ректору Н. И. Лобачевскому; ректор пришел на экзамен в тот момент, когда профессор экзаменовал этого студента. Иванов закидал его множеством трудных вопросов, и студент в конце концов сбился, Иванов поставил ему 1; когда студент вышел, Лобачевский сказал Иванову: «Так как я присутствовал при экзамене, то попрошу вас из 1 сделать 4 + , так как 5 сделать неудобно». Иванову пришлось исполнить требование ректора (рукопись, хранящаяся в Центральном гос. архиве Татарской АССР).
Казанская старина (Из воспоминаний Ив. Ив. Михайлова) // Русская старина. 1899. Кн. 11. С. 410. Перепечатано в «Литературном сборнике к 100-летию Казанского университета». Казань, 1904. С. 56-57.
Корбут М. К. Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова- Ленина за 125 лет. 1804/05— 1929/30 гг. Казань, Изд-во Казанского гос. ун-та, 1930. Т. 1.С. 68-69.
Назарьев В. Я. Жизнь и люди былого времени. С. 440.
Листок с началом этой лекции хранится вместе с рукописью лекций И. А. Иванова «Русские древности» в Гос. публ. библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (QIV, N° 459). В этой рукописи восемь лекций, содержащих интересный историографический обзор и изложение первобытной истории славян (обряды, верования, песни и пр.). В первой лекции Иванов, на основе обширной эрудиции, критикует имеющиеся труды по «древностям» и говорит: «Еще недавно, именно в 1847 г., известный филолог Бернгарди жаловался, что именно таким же бесцельным и беспланным образом преподают греческие и римские древности в университетах Германии».
Научная деятельность Н. А. Иванова заслуживает внимания: в «Русском биографическом словаре» (СПб., 1897. С. 25-30) помещена большая и очень интересная статья Д. А. Корсакова о нем (в сжатом виде повторена в «Биографическом словаре профессоров и преподавателей Казанского университета», 1904). Сын канцелярского служителя, Н. А. Иванов окончил в 1833 г. Казанский университет и тогда же был отправлен для усовершенствования в Дерптский профессорский институт («учреждение весьма почтенное, давшее русской науке немало выдающихся ученых деятелей», как говорит Корсаков), где прошел «строгую философскую и историко-критическую школу». В Дерпте он получил ученую степень доктора философии за диссертацию (на латинском языке) «Cultus popularis in Rossia origines ас progressus adumbratio» («Очерк происхождения и развития просвещения в России»). С 1839 по 1855 г. Иванов был профессором Казанского университета, с 1856 по 1859 г. — профессором Дерптского университета. Корсаков пишет: «Десять лет профессорства в Казани, с 1839 по 1850 г., составляют лучшую пору в ученой деятельности Иванова... С 1850 г. Иванов теряет то видное положение, какое доселе занимал в Казанском университете. Причины этого лежат как в его личных свойствах, так и в условиях окружавшей его среды... Гордый своим научным превосходством перед многими из сотоварищей по службе, он вследствие невоспитанности выражал свой ученый авторитет в резких и грубых формах, чем весьма естественно создавал себе массу врагов и среди профессоров и среди студентов, которые буквально трепетали перед ним. Условия казанской провинциальной жизни 40-х годов мало благоприятствовали умственной самодеятельности, и Иванов, уставший от усиленного научного труда, не мог уже должным образом следить за дальнейшим развитием русской исторической науки. Его лекции уже ничем не напоминали прежних вдохновенных импровизаций, являясь жалкой компиляцией из книг нередко весьма сомнительного научного достоинства. Энергия его слабела, и он, по несчастному свойству, присущему многим даровитым русским людям, стал искать забвения в крепких напитках. Это окончательно его сгубило. Он все более и более падал нравственно и в начале 1856 г. покинул Казань. Он перешел на службу в Дерпт, также профессором русской истории, но через три года должен был оставить службу и там. Пробывши несколько лет в отставке, Иванов поступил учителем русской истории и русского языка в Митавскую гимназию» (Русский биографический словарь. С. 27, 29). В 1869 г. Дерптский университет снова пригласил его (доцентом русского языка), но в том же году он умер. Научная биография Иванова сложилась, таким образом, довольно трагично. Что касается его воззрений, то Корсаков причисляет его к правым гегельянцам. Булич вспоминает: «В университете я больше всего обязан профессору русской истории Иванову... Он умел заставить заниматься, и я был близок с ним. Под его влиянием я стал заниматься философией и при окончании курса, в 1845 году, за написанную на заданную тему диссертацию "О философии Шеллинга" получил золотую медаль и по окончании курса, не поступая никуда на службу, стал готовиться к экзамену на степень магистра философских наук. Готовился, между прочим, путем весьма усиленного изучения Гегеля (профессор Иванов был гегелианец...)» (Венгеров С. А. Критико-био- графический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1897-1904. Т. 6. С. 126). Следует, однако, отметить, что Иванов не был слепым последователем Гегеля в целом; в первой лекции по «русским древностям», говоря о трудностях изучения этого предмета и истории вообще, Иванов пишет: «Возьмем, например, Гегеля лекции "Философия истории". Это с первого взгляда озадачивает, как будто схема Гегеля всеобъемлющая. Конечно, много у него гениальных, новых мыслей об отношении природы к человеку, о влиянии природы на жизнь народную, характеристика греков и римлян, характеристика восточного образования, средних веков, нового времени. Но весь ли материал, собранный историею, подходит под эту схему? Как скоро сопоставим ее с материалами, то видим, что она произвольна. Она вытекла из головы гениального мыслителя: он заранее начертал, ее и потом подводил под нее. Итак, сколько ни делалось попыток и в прошлом и в настоящем столетии, чтобы начертать теорию истории, сколько ни делалось попыток даже людьми беспристрастными, неувлекающимися, цель до сих пор не достигнута». По этим лекциям (интересным и для историков и для филологов, особенно фольклористов) можно видеть, как разнообразна и широка была эрудиция (в частности, философско-историческая) Иванова. Из печатных работ Иванова заслуживают внимания: «Краткий обзор русских временников, находящихся в библиотеках С.-Петербургских и московских» и «Общее понятие о хронографах и описание некоторых списков их, хранящихся в библиотеках С.-Петербургских и московских» (Ученые записки, издаваемые Казанским университетом. 1843. Кн. 2, 3). В этих работах Иванов страстно защищает Татищева от Шлёцера, критикует Байера и дает подробный критический «обзор главнейших изысканий касательно развития отечественного дееписания», в центре которого вопрос «о начале отечественных летописей». Интересные сведения сообщает лично знавший Иванова историк А. А. Котляревский. В 1835 г. у Иванова «возникла мысль написать сочинение, которое представило бы полную картину России в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях; но мысль, конечно, и осталась бы мыслью — за недостатком средств к приведению се в исполнение, если б г. Булга- рину не вздумалось обратить ее в свое прославление: он принял на себя доставить Иванову все средства к исполнению задуманного труда, с обязательством, однако, чтобы сочинение вышло в свет не под именем настоящего автора, а под псевдонимом издателя. Молодой ученый был настолько чужд литературного самолюбия, что принял это условие, и в 1837 г. появилась таким образом "Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях", 4 части истории и 2 части статистики. Об Иванове упомянуто только как о сотруднике статистической части, а настоящим автором объявлен Булгарин» («Некролог проф. Иванова» — См.: Котляревский А. А. Соч. СПб., 1889. Т. 2. С. 129). Д. А. Корсаков пишет: «В исторической части... книги замечательна попытка предпослать обзору русской истории обзор древнейшей исторической судьбы всего славянского мира и поставить изучение истории России в связь с изучением истории всеобщей — мысль широкая, доселе еще часто не понимаемая должным образом» («Русский биографический словарь». С. 26). В 1843 г. Иванов произнес на годичном акте очень интересную и во многих отношениях знаменательную речь — «О необходимости содействия философии успехам отечественного просвещения» (Казань, 1843). Речи предпослан эпиграф из И.-Ф. Гербарта, утверждающий необходимость философии для любой науки. В начале речи Иванов говорит о важном для России «сознании духовной самостоятельности»; сказав о Петре и о том, как быстро Россия «уже подносит Европе результаты заимствованных у нее познаний в непререкаемое доказательство, что Россия была ученицею понятливою и прилежною», Иванов дальше говорит: «Но такое мнение о ней, утвердившееся повсеместно, приобретено нами ценою дорогих пожертвований. Весьма много выиграв от сближения с иностранцами, мы потерпели и ощутительный вред от безусловного подражания им. Нас радовало выученное, привлекала насущная польза, неразлучная с просвещением, обольщали поощрения, щедро дарованные сведения, пленяли значительные преимущества, повсюду открытые образованности — почести на службе, уважение общественное, довольство в частной жизни, и мы, обаянные искушениями вещественных выгод, ослепленные блестящею быстротою самых успехов, не чувствовали, как часто гнело нас чуждое влияние, не заметили разлада между наследственными отеческими уставами и современным направлением умственной деятельности, разъединяли область мышления от быта гражданственного, опрометчиво брались за решение вопросов, лежащих вне круга нашей народности; а родное, кровное равнодушно забывали, мало-помалу утрачивали свою индивидуальность; собственный образ воззрений и незаменимое домогались заменить прививными идеями, поддельными чувствованиями, мечтательными началами». Далее следует краткий обзор главных направлений европейской философии (Руссо, Вольтер, Кант, Фихте, Шеллинг) — с тем, чтобы показать вред того «необдуманного пристрастия к иноземщине», которое «служило основою притязаний на особенное внимание сограждан»: «Быть отголоском чужих убеждений — значило для них идти за веком, составляло высшую цель их честолюбия». Охарактеризовав учение Фихте как «науку о человеческом ведении», Иванов затем говорит: «В то время, когда Фихте пытался разработать сокровища, до него лежавшие неприкосновенно во глубине нашего духа, когда всеобъемлющий его гений насильственно производил многообразные предметы видимого мира из идеи самосознания, террористически втесняя действительно существующее в категорию ограниченного не я, когда заоблачная его диалектика, его внезапные тезисы, антитезисы и синте- зисы, крутой его разрыв с вещественностью обдавали ужасом кантианцев, не могших соразмерить мелкие шаги свои с шествием исполина, — в Иене вышел на арену юный Шеллинг... После счастливой годины Платона и Аристотеля любомудрие никогда не представлялось в таком блеске, с такою лучезарностию, как во дни славы Шеллинга... Напрасно ратовали эмпирики против мужественного атлета; им ли опровергнуть его теорию, ослабить его влияние? Обычною чредою оно отразилось и на нас, с тою лишь разницею, что мы не подметили мучительной тревожности Шеллинга, не усмотрели непрестанной его борьбы с самим собою, не отгадали его томительного желания чего-то беспрерывно ускользающего от поисков, не постигли, что эта недовольность, это беспокойство суть неотвратимые последствия неопределенности начал его философствования. Не скрою, что она-то и привлекла к нему ревностных почитателей: не обуздывая ничьей фантазии, система Шеллинга давала каждому средства прикрывать свои грезы полупрозрачною дымкою конструирования, схематизирования, параллелизма, потенций, факторов и умственного созерцания». Замечательно, что о Гегеле в речи Иванова нет ни слова; только в примечании к последним слогам о Шеллинге приведена цитата из Гегеля: «Der Gebrauch jener Formen ist darum weiter nichts, als ein bequemes Mittel, es zu ersparen, die Begriffsbestimmungen zu fassen, anzugeben und zu rechtfertigen» («Употребление той или иной формы есть не что иное, как удобнейший способ ее сохранить, постичь употребление понятия и оправдать его»).
Далее речь идет о западной литературе и о ее влиянии на русскую; описав борьбу романтиков с классиками и победу романтизма во Франции, Иванов говорит: «За сию-то скудную, поверхностную теорию с жадностию ухватились наши писатели во втором десятилетии нашего века. Вслед за "Globe", "Revue encyclopedique", "Revue de Paris", "Revue litteraire", "Revue de deux mondes" и на основании мнений, высказанных Гюго в предисловии к "Кромвелю", они пустились рассуждать об отношении поэзии к народности, о связи искусства с жизнию, о поэтических красотах мировых и национальных, об идеалах эллинском и христианском, о необходимости прекратить подражательность мертвой вещественной природе, о вникании в дух человеческий, о творчестве самобытном. Журналисты неутомимо переводили критические и теоретические статьи романтических преобразователей, неумолчно разглагольствовали о севере и юге, о западе и востоке, о проявлении Гердером неслыханной идеи человечества, об отыскании Крейцером элементов мифологии восточной, о раскрытии Фоссом классической древности в ее истинном свете, о воссоздании Нибуром подлинной летописи Рима, о ниспровержении Савиньи устарелых положений юриспруденции, о блистательных в области философии именах Аста и Штуцмана, о мечтательности Шиллера, всеобъемлемости Гёте, безнадежности Байрона, о жильце средних веков — Вальтере Скотте и на мерку сих суждений прикидывали произведения отечественной словесности. Смело утверждали они, что Жуковский дал в русской литературе только простор романтизму, но что действительным поборником ого надлежит признать Пушкина». Пользуясь лермонтовским сравнением, Иванов говорит: «Прихотливые гости на роскошном пиру идей, мы рано пресыщались ими, в лучшей поре жизни грустили об увядших впечатлениях». Итогом всей этой речи является призыв к «духовной самостоятельности», самый верный путь к которой идет через науку и прежде всего — через философию: «Пусть осуждают ее — одни по близорукому пристрастию к своей пауке, которой преимущественно посвятили труды, другие — по жалкой рутине, сдружающей с обыденностью, с затверженными понятиями, с ремеслен- ностию, с насущною, трепещущею пользою. Как быть? Те не хотят идей, а эти неспособны к ним. Оставим в покое и тех, которые, по нечистым побуждениям, умаляют достоинства философии, глумятся ее верховной цели, великому ее назначению». Обширная и страстная защита философии от всевозможных нападений заканчивается обращением к студентам: «Вас хотелось бы мне уверить, что действительность и истина соединены друг с другом неразрывно, что напрасно домогаются расторгнуть связь опыта с мышлением, что бессмысленный опыт не ведет ни к чему, а безопытное мышление есть обманчивая мечта, порожденная воображением. Вам особенно надлежит убедиться, что истинная философия всегда соответствует требованиям гражданского быта, что не она, но собственное наше заблуждение прокладывает враждебную грань между теориею и практикою и что знания тогда лишь существенны, когда в них дружно совокуплены ведение и действие». На торжественном акте 1845 г. Иванов произнес новую речь — «О необходимости иметь нам национальное воззрение на историю человечества». Речь эта должна была появиться в очередном «Обозрении преподавания» на 1845/46 г., но, по-видимому, выпуск этот не появился — и именно из-за речи Иванова. Как выясняется из переписки 1849 г., сохранившейся в архиве, Иванов во время печатания выпуска взял свою рукопись обратно. Возможно, что это было связано с тем официальным походом против философии, который закончился уничтожением этого предмета в системе университетского преподавания. Н. Булич пишет: «В 1849 году, после экзамена, я защитил магистерскую диссертацию, содержание которой было сравнение формальной логики (Аристотеля) с метафизической (Гегеля). Она не была напечатана, потому что год-то был тяжелый, да и Гегель находился в опале» (Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 6. С. 126-127). Именное этого времени начинается «опала» и падение Иванова — надо думать, но без связи с его философской позицией. Очень интересна приведенная Д. Корсаковым «Программа исторической пропедевтики», составленная Ивановым в 1849/50 г. Главные тезисы этой программы следующие: «1) Каждый народ созидает и закон, и науку, и искусство из своей собственной жизни; 2) каждый народ обязан свято сохранять свою личность; 3) принимать чье-либо учение за народное верование, думать, что не родные, а противные природе народа элементы могут превратиться в его плоть и кровь, значит навсегда отказаться от самостоятельности; 4) каждый народ, как член человечества, выполняет свое призвание; 5) западные историки увлекаются национальными, еще более религиозными, в особенности же политическими предубеждениями, и 6) западные историки или не имеют никакого понятия, или слишком превратно рассуждают о значении славянского элемента в истории» (Русский биографический словарь. С. 27).
Из всего приведенного здесь следует, что Н. А. Иванова никак нельзя считать бездарным ученым и педагогом; он был незаурядным историком и философом, примыкавшим к славянофильскому направлению, но сохранявшим и в этом отношении некоторую независимость мысли. Так, в «Программе публичных лекций об истории Петра Великого...» (Казань, 1844. С. 5, 6) он говорит: «Можно утвердительно сказать, что правильное уразумение событий, происходящих перед нашими глазами, неизбежно зависит от того, поймем ли мы дух преобразований, произведенных Петром Великим, постигнем ли их влияние на главнейшие элементы нашей национальности... Действительно ли так внезапно, так круто и резко древняя Россия отделена от России Петрова века, как полагают некоторые?»
Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 6. С. 126.
По сохранившимся в библиотеке Казанского университета абонементным записям видно, какое колоссальное количество книг брал, например, Н. А. Иванов (в частности, по философии). В списке книг, затребованных им в 1845 г., есть такие, как Rosenkranz — «Das Verdienst der Deutschen um die Philosophic der Geschichte», его же «Kritische Erlauterungen des Hegelschen Systems», Cieszkowski — «Prolegomena zur Historiosophie», Cousin — «Introduction a l'Histoire de Philosophic», Schlegel — «Vorlesungen uber die Philosophic der Geschichte» (Розенкранц — «Заслуга немцев перед философией истории», его же «Критическое объяснение системы Гегеля», Чешковский — «Введение в изучение историософии», Кузен — «Введение в историю философии», Шлегель — «Чтения о философии истории») и пр. В библиотеке Н. Булича (пожертвованной им в 1896 г. Казанскому университету) много философской литературы — в том числе сочинения Гегеля, Шеллинга, книга Фрауен- штедта «Schelling's Vorlesungen» («Чтения Шеллинга», 1842 г.), книги Розенкранца о Гегеле и Шеллинге и пр.
Письмо Н. Булича к Н. Гроту (Варшавские университетские известия. 1912. Т. 9. С. 67-68). Это воспоминание, очевидно, очень точное. Толстой рассказывает: «Жили мы тогда на углу Арского поля, в доме Киселевского, наверху. Верх разделялся хорами над залом: в первой части верха, до хор, жил Митенька, в комнате за хорами жил Сережа и я» (34, 381). Ср. очерк В. Егерева «Толстовские дома в Казани» (Великой памяти Л. Н. Толстого Казанский университет. 1828-1928. Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та им. В. И. Ленина, 1928. С. 130.
«Отрывок без заглавия» (два варианта), «О цели философии» и «Отрывок без заглавия» («Ежели бы человек не желал...»). Источники этих набросков не установлены.
Иртеньев подробно рассказывает, как он вел свои записи в двух тетрадях, «сшитых в четвертушку из 12 листов серой бумаги»: «Одна тетрадь была тетрадь правил, в которой сделалось много новых подразделений, другая тетрадь была без заглавия, это была новая философия. Одна была приложение к жизни, другая — отвлечение. Помню, что основание новой философии состояло в том, что человек состоит из тела, чувств, разума и воли, но что сущность души человека есть воля, а не разум, что Декарт, которого я не читал тогда, напрасно сказал cogito, ergo sum, ибо он думал потому, что хотел думать, следовательно, надо было сказать: volo, ergo sum. На этом основании способности человека разделялись на волю умственную, волю чувственную и волю телесную. Из этого вытекали целые системы. И помню радость, когда я в согласии выводов находил подтверждение гипотезы. Правила на том же основании подразделялись на правила: 1) для развития воли умственной, 2) воли чувственной и 3) воли телесной. Каждое из этих разделений подразделялось еще на а) правила в отношении к богу, Ь) к самому себе и с) к ближнему. Пересматривая теперь эту серую криво исписанную тетрадь правил, я нахожу в ней забавно- наивные и глупые вещи для 16-летнего мальчика» (2, 344). Все это соответствует фактам. Возможно, что работа над «Юностью» была прервана отчасти потому, что повесть стала превращаться в чистейшую автобиографию.
В наброске комедии «Дворянское семейство» (1856) отец (князь Зацепин) говорит о сыне Валерьяне, которого считает «самым пустяшным человеком»: «"Bestimmung des Menschen" читает. Как же — философ!.. Коли бы хотел учиться, так учился бы, пока был в университете, а не проваливался бы на экзаменах» (7, 156,157). «Bestimmung des Menschen» — «Назначение человека», сочинение Фихте. В Валерьяне собраны некоторые автобиографические черты.
О Шеллинге Толстой упомянул в «Отрочестве» (гл. XIX); Иртеньев рассказывает о своем увлечении «скептицизмом»: «Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним» (2,57). Любопытно, что в сознании Толстого идеализм оказался равносильным солипсизму.
Это напоминает слова Печорина о «мечтательстве» (в «Фаталисте»): «В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни».
Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1929. С. 217.
См. в статье Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер» (Литературное наследство. М., 1934. Кн. 16-18. С. 332-338 и 362-365). Ср. в книге В. И. Семевско- го «Политические и общественные идеи декабристов» (Пб., 1909. С. 223, 226-229, 678). В статье «В. К. Кюхельбекер» Тынянов говорит: «Вейс был популярен среди декабристов и несомненно оказывал на них революционизирующее влияние. Руссо и Вейс становятся главными философскими и политическими авторитетами Кюхельбекера» (см.: Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы. Т. 1. Л.: Советский писатель, 1939. С. XII).
Русская литература в 1847 году// Отечественные записки. 1848. № 1. Отд. V. С. 7.
В плане романа «Четыре эпохи развития» (в форме «автобиографии младшего брата») намечено:«1) Выказать интересную сторону отношений между братьями... 4) Провести во всем сочинении различие братьев: одного наклонного к анализу и наблюдательности, другого к наслаждениям жизни» (2, 243).
Назарьев В. Н. Жизнь и люди былого времени. С. 437.
Полубояринов Алексей Иванович поступил в Казанский университете 1843 г., а в 1845 г. уволен по прошению (Преподаватели, учившиеся и служившие в Казанском университете. 1804-1804 гг. Ч. 1. Вып. 2. С. 288; см.: 2, 379).
«Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя вышли в свет в январе 1847 г. Д. Н. Толстой мог читать их, значит, не раньше февраля 1847 г., т. е. незадолго до окончания университета (летом того же года) и перед отъездом из Казани. В архиве Толстого хранятся разные записи и соображения Дмитрия о ведении хозяйства.
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 8. С. 108.
[В. В. Берви]. На жизнь и смерть. Изображение идеалистов. Женева, 1877. С. 42-43.
Дело. 1868. № 6. Отд. XII. С. 25.
Там же. С. 9.
В «Юности» Толстой много говорит об увлечении Иртеньева французскими романами Сю, Дюма и Поль-де-Кока: «Нравились мне в этих романах и хитрые мысли, и пылкие чувства, и волшебные события, и цельные характеры: — добрый, так уж совсем добрый; злой, так уж совсем злой, — именно так, как я воображал себе людей в первой молодости» (2, 171). В черновой редакции есть любопытная подробность — о том, как Иртеньев стал делать «критические открытия» и сообщать их всем знакомым: «Я, например, открыл вдруг, что только тот роман хорош, в котором есть мысль, открыл тоже, что Монте Кристо не натурально, не могло быть, и потому невероятно, вследствие чего самая мысль романа не может принести пользу, и всем несколько дней рассказывал это открытие, что мне не мешало однако проглатывать по 5 томов таких романов в сутки» (2, 336).
56 Ср. историю любви Дмитрия Нехлюдова к «рыженькой» Любови Сергеевне с такой же любовью брата Дмитрия, рассказанной в «Воспоминаниях».
"Толстой получил по разделу 1470 десятин земли и 330 крестьян мужского пола (см.: Гусев Н. Я. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828— 1890. М.: Гослитиздат, 1958. С. 31).
14 апреля 1847 г. в «Журнале ежедневных занятий» записано: «Пробыл в деревне не по своей вине» (46, 256).
2 февраля 1847 г. Толстой вместо намеченных занятий русской историей читал Гоголя (46, 246); надо думать, что это были только что появившиеся «Выбранные места из переписки с друзьями».
Ср. в «Демоне»: «Всегда жалеть и не желать».
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 2. С. 74, 77.
Дело петрашевцев. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. Т. 2. С. 293.
Там же.
Там же. С. 350-351,352.
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М.: Гослитиздат, 1947. Т. 3. С. 426.
Дело петрашевцев. Т. 2. С. 291, 294.
Петрашевцы: Сб. материалов. М.; Л.: ГИЗ, 1927. Т. 2. С. 205.
Милютин В. А. Избр. произведения. М.: Госполитиздат, 1946. С. 69.
LerouxP. De l'Humanite. Paris, 1845. Т. 1. Р. 112.
Милютин В. А. Избр. произведения. С. 70.
Блюмин И. Г. Очерки экономической мысли в России в первой половине XIX века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 272.
Милютин В. А. Избр. произведения. С. 354.
Леонид Райский. Социальные воззрения петрашевцев. «Прибой». Л., 1927. С. 5.
Leroux P. De l'Humanite. Т. 1. Р. 69.
Бельников Н. Ф.Достоевский в процессе петрашевцев. М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 142.
Жорж Санд. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л.: ИХЛ, 1972. Т. 4. С. 533.
Там же. С. 528-529.
Козлов А. А. Религия графа Л. Н. Толстого. СПб., 1888. С. 81, 84.
Там же. С. 94.
Там же. С. 107.
Там же. С. 111, 115.
Люксембург Р. Толстой как социальный мыслитель» // Люксембург Р. О литературе. М.: Гослитиздат, 1961. С. 108-109.
Некрасов Н.Л. Поли. собр. соч. и писем. Т. 10. М.: Гослитиздат, 1952. С. 179.
Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем! В 28 т. Письма. М.; Л.! Изд-во АН СССР, 1961. Т. 2. С. 80, 86.
В окончательном тексте было предисловие, которого Некрасов не напечатал и которое не сохранилось. Толстой был очень огорчен: он писал Некрасову, что «несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения» (59, 211).
«Записки об Аварской экспедиции на Кавказе 1837 года». Соч. Якова Косте- нецкого, в трех частях. СПб., 1851 (Современник. 1851. № 2. Отд. V. С. 68-69).
«Набег» пострадал от цензуры очень сильно. Получив номер «Современника» с «Набегом», Толстой записал в дневнике: «Получил книгу с своим рассказом, приведенным в самое жалкое положение» (45,160). Брату Сергею и Т. А. Ергольской он писал: «Детство было испорчено, а Набег так и пропал от цензуры. Все, что было хорошего, все выкинуто или изуродовано» (59, 236). Текст, посланный Толстым, восстановить невозможно за отсутствием рукописи, но некоторые исправления можно сделать на основании сохранившегося материала. Проблема основного текста «Набега» в Юбилейном издании (т. 3) кажется нам поэтому решенной неправильно.
Это явный намек на литературу о «бедном чиновнике» («Бедные люди» Достоевского).
Ср. в указанном выше сочинении А. П. Беклемишева: «Труд есть настоящее назначение человека; только посредством труда он делается истинно царем и владыкой природы» (Дело петрашевцев. Т. 2. С. 358).
Кашкин Н. Н. Родословные разведки. СПб., 1913. Т. 2. С. 572.
Леонид Райский. Социальные воззрения петрашевцев. С. 83.
Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. Т. 1. С. 88 (ср. 46, 193-194).
Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. 7. С. 172.
Там же. С. 249.
Там же. Т. 7. С. 59
Там же. С. 214.
Летописи Государственного литературного музея. Кн. 9/Изд. Гос. литературного музея. М., 1948. С. 41.
Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 10. С. 259.
"Тамже. С. 264.
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 2. С. 337. В дальнейшем: Тургенев. Соч. или Тургенев. Письма.
Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 10. С. 272.
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 52.
Это стало ясно после письма Толстого к Некрасову от 2 июля 1856 г. из Ясной Поляны, направленного против Чернышевского.
Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 10. С. 308.
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 328.
Там же. С. 330.
Там же. С. 329-330.
Амфитеатров А. В. Собр. соч. СПб., 1896. Т. 16:1812 год. Очерки из истории русского патриотизма. С. 293.
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 427, 428.
1,0 Там же. С. 428.
Труды Гос. публичной библиотеки СССР им. В И. Ленина. 1934. Вып. 3. С. 65.
В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. 1851-1869. М.; Л.: Academia, 1930. С. Ill, 112.
Труды Государственной публичной библиотеки СССР им. В. И.Ленина. 1934. Вып. 3. С. 65.
Ср. в изложении системы Фурье у Н. Я. Данилевского: «Но в такое состояние гармонического равновесия каждый разряд существ не может прийти разом, а только, так сказать, после известного числа колебаний» (Дело петрашевцев. Т. 2. С. 211).
115 В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. С. 153.
1,6 Герцен А. И. Собр. соч. Т. 26. С. 77.
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 94.
Толстовский музей. Т. 1: Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, 18571903. СПб., 1911. С. 90.
1,9 Тургенев. Письма. Т. 3. С. 130.
Русское обозрение. 1894. Т. 30. С. 583.
Отечественные записки. 1856. №11. Отд. III. С. 17.
Там же. С. 18.
В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. С. 112.
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 429-431.
Тургенев. Соч. Т. 6. С. 296-298.
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 29.
Дружинин А. В. Собр. соч. Т. 7. С. 193.
Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 10. С. 308.
Фет А. Мои воспоминания. 1848-1889. М., 1890. Ч. 1. С. 106.
Там же. С. 132.
Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. Т. 1. С. 131.
А. Д. Блудова напечатала впоследствии свои интересные воспоминания в «Заре» и в «Русском архиве».
Дружинин А. В. Собр. соч. Т. 7. С. 173, 183, 184, 186, 183.
Голос милувшего. 1916. № 10. С. 94-95.
Дружинин А. В. Собр. соч. Т. 5. С. 239, 240, 247.
Там же. Т. 7. С. 176.
Блюмин И. Г. Очерки экономической мысли... С. 220.
Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951: Изд-во АН СССР. С. 29.
Блюмин И. Г. Очерки экономической мысли... С. 198.
Это множественное число нельзя, конечно, понимать как относящееся к Наполеону I и Наполеону III; оно имеет смысл общего понятия — выдвигаемых революцией вождей («Мы метим все в Наполеоны») и является отражением традиционных (декабристских) взглядов на Наполеона I как на человека, порожденного революцией.
Кавелин К. Д Собр. соч. СПб., 1898. Т. 2. С. 42, 45.
Попельницкий А. Секретный комитет о деле освобождения крестьян от крепостной зависимости // Вестник Европы. 1911. № 2. С. 59.
Блюмин И. Г. Очерки экономической мысли... С. 223-224.
Там же. С. 224-225.
Блюмин И. Г. Очерки экономической мысли... С. 227.
Там же.
Там же. С. 226.
Там же. С. 227.
В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. С. 112.
В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. С. 110-111, 112.
Амфитеатров А. В. Собр. соч. Т. 16. С. 293-294.
Боткин В П. Соч. СПб., 1891. Т. 2. С. 354.
Там же. С. 353.
П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 18351885 годов. СПб., 1892. С. 521.
Боткин В. П. Соч. Т. 2. С. 354.
Там же. С. 355, 356.
В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. С. 110.
Боткин В. П. Соч. Т. 2. С. 30.
Там же. С. 355.
Там же. С. 32.
Там же. С. 57.
Там же. С. 363, 364.
Там же. С. 364, 365.
Там же. С. 365.
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 7. С. 329.
Тургенев и круг «Современника». М.; Л.: Academia, 1929. С. 314-315.
1 января 1857 г. Толстой получил «сухое, но милое письмо» от Тургенева (датированное 16-23 декабря ст. ст. — 47, 108), почти целиком посвященное защите Белинского и от Толстого и от Дружинина. Вспоминая статьи Белинского против Марлинского и Бенедиктова (от которых он в свое время пришел в ужасное негодование), Тургенев пишет: «Вы всего этого не застали — будучи 10-ю годами моложе нас... потому Вы и не судья заслугам Белинского» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 3. С. 62).
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 310, 311.
Там же. С. 312.
В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. С. 112.
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 76.
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 559.
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 98.
MazonA. Manuscrits parisiens d'lvan Tourguenev. Paris, 1930. P. 58.
Тургенев. Соч. Т. 8. С. 176.
Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 10. С. 331.
Ср. в дневнике от 10 января 1857 г.: «Получил паспорт и решился ехать» (47, 110).
В. И. Срезневский думает, что Аленин — А. Д. Улыбышев, который слыл остроумцем и пр. Я думаю, что здесь и Ф. М. Толстой (Оленин — Аленин). Фамилия Делесов, вероятно, от «делец», Бирюзовский — Лев Жемчужников (жемчуг — бирюза).
Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 10. С. 372.
Там же.
Труды Государственной публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 3. С. 72.
Феоктистов Е. М. Воспоминания. Л.: Прибой, 1929. С. 45.
Там же. С. 57.
27 марта: «Поехал в Версаль. Чувствую недостаток знаний». (47, 119).
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 117.
Труды Государственной публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 3. С. 68.
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 138, 170.
Труды Государственной публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 3. С. 72.
В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. С. 123, 124.
Там же. С. 124.
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 9.
Тургенев и круг «Современника». М.; Л.: Academia, 1930. С. 261.
Там же. С. 261.
Там же. С. 284.
Тургенев. Письма. Т. 3. 1961. С. 27.
Тургенев и круг «Современника». С. 194.
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 29,
Чуковский К. Люди и книги шестидесятых годов. Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. С. 258.
Тургенев и круг «Современника». С. 202.
Чуковский К. И. Молодой Толстой // Звезда. 1930. № 3. С. 165. Повторено в книге К. И. Чуковского «Люди и книги шестидесятых годов». С. 55. Заметим кстати, что за «книги Белинского» Дружинин никак не мог усадить Толстого, потому что таких книг в 1857 году не существовало; Толстой читал статьи Белинского, очевидно, по «Отечественным запискам». К. Чуковский говорит в своем предисловии: «Статья "Как это началось" была напечатана в мало распространенной литературной газете "Читатель и писатель", выходившей когда-то в Москве (1928, № 33). То была первая статья, посвященная интересующему нас эпизоду. Через несколько времени появилась обширная работа Б. Эйхенбаума "Толстой в кругу 'Современника'"» (Звезда. 1928. VIII), где был изложен тот же эпизод» (Чуковский А'.Люди и книги шестидесятых годов. С. 9). Моя статья в «Звезде» («Л. Толстой в "Современнике"») представляла собой не отдельную «обширную работу» (?), а главу из книги «Лев Толстой. Книга 1. 50-е годы», что ж отмечено в сноске.
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 43.
Там же. С. 54.
Ему подобных (итал.).
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 60-62.
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 75.
В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. 1851—1869. М.; Л.: изд-во «Academia», 1930. С. 111-112.
Тургенев и круг «Современника». С. 314—315.
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 106.
Там же. С. 305-306, 310-312.
Там же. С. 329. Курсив мой. - Б. Э.
Чуковский К. И. Молодой Толстой. С. 165-166. Повторено в книге «Люди и книги шестидесятых годов». С. 55-56.
Библиотека для чтения. 1857. № 1; Дружинин А. В. Собр. соч. Т. 7. С. 263— 265.
Дружинин А. В. Собр. соч. Т. 7. С. 259.
214 См. письмо В. П. Боткина к П. В. Анненкову от 20, 26 ноября 1847 г. в кн.: П. В. Анненков и его друзья. СПб.: Изд-во А. С. Суворина, 1892. С. 521, 527.
Там же. С. 521.
Современник. 1857. № 1; Боткин В. 77. Соч. Т. 2. С. 353, 354, 365.
В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. С. 110.
В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. С. 112.
Боткин В. П. Соч. Т. 2. С. 363.
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 559. Курсив мой. — Б. Э.
Там же. С. 345.
Письмо от 16 декабря 1857 г. (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 10. С. 372.0 том же по поводу «Альберта» писал Анненков Тургеневу (16 ноября 1857 г.): «Старая и ложная песня! Если он не от мира сего, то надо, чтоб имел свой полный, разумный мир, отвечающий за самого себя» (Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 3. С. 72).
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 98.
В «Юбилейном издании» (47, 117) эта запись напечатана так: «Т(ургенев) прочел конспект Г. и Ф. — хороший матерьял, не бесполезно и умно очень». В комментарии сказано (автор — В. Ф. Саводник): «Заметка эта относится к какой-то но дошедшей до нас статье Тургенева... В качестве догадки решаемся высказать предположение, что приведенные Толстым инициалы следует расшифровать: Гамлет и Фауст. Эти два произведения мировой литературы издавна интересовали Тургенева, и весьма возможно, что он решил посвятить им особую статью, в которой изложил результаты своих размышлений над ними. Впоследствии подобную параллельную характеристику литературных типов он дал в своей известной речи "Гамлет и Дон-Кихот"» (47,425). С этой догадкой нельзя согласиться: никакой статьи на тему «Гамлет и Фауст» у Тургенева не было (и не могло быть), а над статьей «Гамлет и Дон-Кихот» он работал именно в 1856-1857 годах. В бумагах Тургенева (парижский архив) есть тетрадь, в которой имеется конспект этой статьи с начальной датой «11-го марта/27 февраля 1857 в Дижоне, в середу» (Тургенев. Соч. Т. 12. С. 534). Это и есть тот самый конспект, который 11 марта был прочитан Толстому. Буквы в его записи надо читать, очевидно, не «Г. и Ф», а «Г. и Q» (Quichotte).
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 11.
Там же. С. 117
В этих замечательных словах скрывается намек на то, что сам Толстой считал себя свободным от этой «стыдливости» и именно в этом видел свое главное отличие от Тургенева, которого, как он говорит здесь не, всегда любил, «но после его смерти только оценил его как следует».
Возможно — «бессилие».
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 13.
Там же. С. 54.
Тургенев. Соч. Т. 8. С. 191.
Там же. С. 172.
Там же. С. 176, 181-182.
Тургенев явно считал свою современность «подобной» эпохе распадения древнего мира и тем самым — эпохой трагической.
Тургенев. Сочинения. Т. 8. С. 191.
Там же. Т. 6. С. 394
Труды Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 3. С. 65.
Там же. С. 63.
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 104, 109, 118,
О том же — в письме к А. А. Толстой (август 1858 г.): «Никогда никакая книга не производила на меня такого впечатления. Никогда никого я так не любил, как этого человека, которого никогда не видал» (60, 274).
В дневнике от 4 ноября 1856 г. записано: «Дочел "Полярную звезду" Очень хорошо» (47, 98). В «Полярной звезде» печатались главы «Былого и дум».
Письмо к Л. Н. Толстому от 16 ноября 1856 г. — Тургенев. Письма. Т. 3. С. 43.
Там же. С. 23.
Труды Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 3. С. 72.
Тургенев. Соч. Т. 8. С. 173.
Белинский В. Г. Плон. собр .соч. Т. 3. С. 9.
В «Былом и думах» (ч. 4, гл. 25) Герцен писал: «Переписка Станкевича прошла незаметно. Она появилась некстати. В конце 1857 г. Россия еще не приходила в себя после похорон Николая, ждала и надеялась; это худшее настроение для воспоминаний» (Герцен А. И. Собр. соч. Т. 9. С. 35). Так казалось Герцену потому, что вопрос о Станкевиче, выдвинутый Тургеневым и Анненковым в связи со спором о Белинском, быстро потерял свою актуальность.
Герцен А. И. Собр. соч. Т. 9. С. 18.
В этих словах есть скрытая полемика с Чернышевским, который в шестой статье «Очерков» назвал Белинского «представителем» круга Станкевича и прибавил: «Мы вовсе не имеем охоты возвышать Белинского на счет кого бы то ни было — он в том вовсе не нуждается, — а только излагаем его литературную деятельность» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 219, 222).
Николай Владимирович Станкевич, переписка его и биография, написанная П. В.Анненковым. М., 1857. С. 5-7, 128-129, 235-237.
Библиотека для чтения. 1858. № 3. С. 39-40.
Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. Т. 3. М.: Гослитиздат, 1936. С. 67 и след.; см. также с. 599-602 (коммент. Н. И. Мордовченко). Неизвестно, читал ли эту статью Толстой; во всяком случае, он, вероятно, не знал еще, кто ее автор (подпись « — бов»).
Ср. в гл. 25 «Былого и дум»: «Я никогда толком не мог понять, как это обвиняют людей вроде Огарева в праздности, Точка зрения фабрик и рабочих домов вряд ли идет сюда... Меня никто не упрекал в праздности, кое-что из сделанного мною нравилось многим; а знают ли, сколько во всем, сделанном мною, отразились наши беседы, наши споры, ночи, которые мы праздно бродили по улицам и полям или еще более праздно проводили за бокалом вина?». Дальше Герцен говорит с иронией: «Станкевич, тоже один из праздных людей» и пр. (Герцен А. И. Собр. соч. Т. 9. С. 10-11, 17).
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 169-170.
255. Там же. С. 138.
В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. С. 123-124.
Тургенев и круг «Современника». С. 427-428.
Тургенев. Письма. Т. 3. С. 293.
259 Отрицательное отношение либералов к Герцену (и в частности, к его оценке декабристов) особенно ярко выражено в мемуаре П. В. Анненкова «Две зимы в провинции и деревне», написанном в 70-х годах. Анненков говорит здесь очень злобно по поводу брошюры Герцена «О развитии революционных идей в России» (1850). По его словам, только Герцену («блестящему и вместе фальшивому уму») можно было принять партию Белинского, Грановского и других за революционеров в смысле европейском: «Раздувая так скромные русские, благородные и глубоко симпатичные кружки, Герцен раздувал, естественно, самого себя, но он повредил тем, кого прославлял. С него в самой публике, а не в одних только официальных сферах, стали думать, что все лепечущее, так сказать, первые склады публичной жизни, все отвергающее только мрак, неистовства, распутства и грабежи сложившейся администрации есть революция, катаклизм и анархия. Добро бы Герцен ограничился декабристами, — тех раздувать можно во все стороны, потому что они сами не знали, куда идут, откуда вышли и чего хотели, да никто и теперь этого не знает. Они желали переворота — ну и все тут. Думайте об этом что хотите, думайте очень много и думайте очень мало: это будет дело темперамента вашего, а сами декабристы тут ни при чем» (Анненков 77. В. Литературные воспоминания. С. 541— 542).
262 Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. СПб.: Изд. Общества Толстовского музея, 1911. С. 90.
КОММЕНТАРИИ
Сокращения
CJI — Эйхенбаум Б. Л/. Сквозь литературу. JI.: Academia, 1924.
Лтр — Эйхенбаум Б. М. Литература. Теория. Критика. Полемика. Л.: Прибой, 1927.
MB — Эйхенбаум Б. М. Мой временник. Словесность. Наука. Критика. Смесь. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1929.
ОП — Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л.: Советский писатель, 1969.
ОПр — Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л.: Художественная литература, 1969.
ОЛ — Эйхенбаум Б. М. О литературе: Работы разных лет. М.: Советский писатель, 1987.
ПИЛК — Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
ПСС — Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1928-1958. — Ссылки на это издание даются в скобках с указанием тома и страницы.
Контекст-1981 — Работа над Толстым. Б. М. Эйхенбаум: Из дневников 19261959 гг. / Публ. С. А. Митрохиной // Контекст-1981. М., 1982. С. 263-302.
ВТЧ — Чудакова М. О. Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова //Тыняновский сборник. Вторые тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 103-131.
ВЛ — журнал «Вопросы литературы»
В цитатах полужирным шрифтом обозначается выделенное автором цитируемого текста.
Лев Толстой
Впервые: Эйхенбаум Б. Творчество Л. Н. Толстого. Очерк //Толстой Л. Н. Детство. Отрочество. Юность. Пб., 1922. С. 1-43.
Печатается по: Эйхенбаум Б. Лев Толстой // Эйхенбаум Б. Лтр. С. 19-76. Цитаты из дневников Толстого приводятся по: Дневник Л. Толстого. 2-е изд. / Под. ред. В. Г. Черткова. Т. I: 1895-1899. М., 1916.
Ст. «Творчество Л. Н. Толстого», которая в несколько переработанном виде под заглавием «Лев Толстой» была напечатана в Лтр, занимает особое место в исследовательской деятельности Э. Уникальность этой небольшой по объему статьи состоит в том, что она охватывает все творчество Толстого, от ранних дневников до поздних произведений, романа «Воскресение» и повести «Хаджи-Мурат». Первая статья Э. осталась единственной его работой, осмысляющей весь творческий путь писателя.
В дневниках Э. за июль-август 1918 г. мы находим подробные свидетельства его интенсивной работы. Очень быстро Э. почувствовал, что материал и общий замысел статьи значительно превышают рамки традиционного предисловия. 11 августа 1918 г. он записывает: «Вероятно, придется все-таки сократить цитаты, хотя в период 1847-52 это ужасно трудно: так много интересного в дневниках и письмах...» (Б. Эйхенбаум: «Мучительно работаю над статьей о Толстом...» / публ. О. Б. Эйхенбаум; сост., вступ. заметка и примеч. Татьяны Бек // BJI. 1978. № 3. С. 311).
После чтения ст. вместе с JI. Я. Гуревич в дневнике Э. от 23 августа 1818 г. появляется запись: «Заметна в середине разница стиля — когда перехожу от мысли о вступительной статье к мысли о книжке и перестаю сдерживать себя» (Там же. С. 314).
В первой же статье о Толстом Э. нашел принципиально новый подход к ранним дневникам писателя. Дневник Толстого, по мысли Э., стал писательской лабораторией, где вырабатывался новый стиль. Размышляя об этом, Э. отмечал: «Кажется, было бы хорошо в конце первой главы о Толстом сказать о том, что дневники тоже не простое отражение душевной жизни, а всегда некоторая ее стилизация, причем фиксируется определенная сторона. У Толстого фиксируется регламентация и т. д.» (Там же. С. 312); «Главу о дневниках надо строго выдержать в тоне душевной стилизации (зародыши творчества), причем об этом сказать в начале, а не в конце — подробно: психологу приходится по дневникам восстанавливать реальный душевный тип, а для историка литературы — это материал стиля» (Там же. С. 314). Вскоре эти задачи более широко и развернуто будут решаться в книге «Молодой Толстой».
Молодой Толстой
Впервые: Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Пб.; Берлин, 1922. — 156 с. Тираж 2100 экз.
Печатается по: Эйхенбаум Б. OJI. С. 34-138. — В наст. изд. учтены коммент. и примеч. А. П. Чудакова (OJI. С. 460-468).
Появлению книги предшествовал ряд работ Э. о Толстом: «Творчество JI. Н. Толстого», «О Льве Толстом» (Жизнь искусства. 1919. 22-23 нояб. С. 1), «Лабиринт сцеплений» (Жизнь искусства. 1919.10-11 дек. С. 1), «О кризисах Толстого» (Жизнь искусства. 1920. 23-25 нояб. С. 2-3).
В ст. «О Льве Толстом» Э. фиксирует утвердившийся взгляд на жизнь и творчество Толстого: «Мы до сих пор... судим о Толстом по его собственной "Исповеди". Сделали из Толстого икону — так уж привыкли». В своих самых ранних работах Э. старается преодолеть образ «иконописного Толстого». В дневнике 12 августа 1918 г. он отмечает: «Как бы избавиться от иконописания в статье о Толстом!» (Б. Эйхенбаум: «Мучительно работаю над статьей о Толстом...» / Публ. О. Б. Эйхенбаум; сост., вступ. заметка и примеч. Татьяны Бек // ВЛ. 1978. № 3. С. 311) (см. также вступ. ст. к наст, изд., с. 7).
Определяя принципы работы над литературным материалом, Э. скажет в предисловии к кн. СЛ: «Между статьями 1916—1917 гг. и последующими есть разница — как в методе, так и в стиле. В первых методологической опорой для анализа и для построения общих выводов служит философия: основное их устремление направлено в сторону гносеологически обоснованной эстетики. В последующих центром становятся проблемы поэтики самой по себе — проблемы конкретные, если и опирающиеся на эстетику, то на формальную, морфологическую» (СЛ. С. 3). Именно в таком развитии исследовательской мысли, в «уяснении основных вопросов поэтики» Э. видит «органическое движение современной филологии» (СЛ. С. 4). Об этом см.: Чудакова Л/., Тоддес Е. Страницы научной биографии Б. М. Эйхенбаума// ВЛ. 1987. № 1. С. 128-162
Книга «Молодой Толстой» писалась в годы Гражданской войны. В. Б. Шкловский вспоминал, как в квартирах, где топили печи книгами и карнизами, они читали доклады «о законах искусства и законах прозы», в это же время Э. редактировал классиков и «писал книгу о молодом Толстом» (Шкловский В. Б. Тетива. О несходстве сходного // Шкловский В. Б. Собр. соч.: В 3 Т. Т. 3. М., 1974. С. 473). В письмах к Шкловскому, вспоминая это время, Э. говорит: «Какой у тебя хороший возраст! Я в этом возрасте писал книгу Молодой Толстой, в холоде, в голоде, в темноте. Работай и пиши» (4 мая 1928 г.); «Мое счастье, что в ваши годы я попал в разгар революции и при светильне писал "Молодого Толстого"; а вы попали в похмелье» (28 апреля 1929 г.) (цит. по: Устинов Д. Формализм и младоформалисты// НЛО. М., 2001. № 50. С. 309, 310).
Книга была закончена в июне 1921 г., вышла в апреле 1922 г. По словам Л. Я. Гинзбург, «Молодой Толстой» — «зерно будущих исследований» Э. (Гинзбург JI. Я. Проблемы поведения (Б. М. Эйхенбаум) // Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 443.)
Одной из первых задач Э. считает освобождение Толстого «от историков литературы». Только одна книга о Толстом «говорит о самом нужном и говорит сильно, ярко», — это работа К. Леонтьева «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого». Э. назовет ее «необычайно смелой», «предвосхитившей многое из того, что теперь только начинает входить в сознание» (Эйхенбаум Б. О Льве Толстом). Леонтьев, «предвосхищая» работы формальной школы, замечает: «Для меня... тут важно не то, о чем теперь пишет граф Толстой, а как он пишет. Важно то, что самому гениальному из наших реалистов, еще в полной силе его дарования, наскучили и опротивели многие привычные приемы той самой школы, которой он так долго был главным представителем» (Леонтьев К. Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Толстого // Русский вестник. 1890. № 6. С. 250).
В работе Леонтьева для Э. определяющим оказывается обращение к поэтике художественных текстов Толстого. Леонтьев уже пользуется термином «прием» (который станет ключевым в работах формалистов), но без теоретического осмысления: «Существует нечто почти бессознательное, или вовсе бессознательное и глубокое, которое с поразительной ясностью выражается именно во внешних приемах, в общем течении речи, в ее ритме, в выборе самых слов» (Леонтьев К. Анализ, стиль и веяние// Русский вестник. 1890. № 8. С. 216-217).
Обращаясь к статье Леонтьева, Э. говорит: «Тут скрыта страшно смелая мысль — что переход Толстого к народным рассказам и к проповеди не есть кризис его художественного творчества вообще, а давно подготовленный переход от одних "приемов", до конца им использованных, к другим» (Эйхенбаум Б. М. О Льве Толстом).
Отклики на книгу Э. «Молодой Толстой», прежде всего, были связаны с критикой «формального» направления в литературоведении. В журнале «Печать и революция» (1924. № 5) развернулась полемика вокруг тезиса, сформулированного Э.: «Наука о литературе, поскольку она не является только частью истории культуры, должна быть наукой самостоятельной и специфической, имеющей свою область конкретных проблем» (Эйхенбаум Б. М. Вокруг вопроса о «формалистах» // Печать и революция. 1924. № 5. С. 2).
Сторонники социологического и историко-литературного подхода возражали Э. Многие высказывания превращались в обвинительную речь: «Социологический метод в истории литературы не только возможен, но и необходим» (с. 15), «Хочет
ли Эйхенбаум сказать этим, что возможно существование теории литературы вне ее истории» (с. 28), «Эйхенбаум сводит всякое литературное произведение к словесному фокусу» (с. 31), «Тот, кто... верит, что можно изучать форму, стиль, конструкцию и пр. вне социальных отношений, — тот, несомненно, является представителем определенного миросозерцания, но миросозерцания отжитого...» (с. 34).
Прямой упрек научному подходу Э. к творчеству Толстого прозвучал в ст. А. В. Луначарского: «Вы думаете, что Толстой перешел от своих романов к христи- анско-народническим притчам в силу потрясения своей совести, которая сама была производным от необъятного огромного столкновения культур в России... ведь теперь "ясно стало", что Толстой просто переменил манеру рассказывать за исчерпанием старой. Вероятно, и сюртук на блузу он переменил, чтобы освежить несколько моду» (Луначарский А. В. Формализм в науке об искусстве // Печать и революция. 1924. № 5. С. 32).
Откликом на эти ст. является запись в дневнике Э. от 17 октября 1924 г.: «Получил пятую книгу «Печати и революции]» с моей статьей о формальном методе и с ответными статьями Сакулина, Боброва, Луначарского, Когана и В. Полянского. Ответы, действительно, хамхамские, как писал Витя. Лай, брань, злоба, окрики. На мои 11 страниц — 27 страниц ответных! Ладно. Пусть кричат» (Эйхенбаум Б. М. Дневник / Предисл., публ. и примеч. А. С. Крюкова // Филологические записки. Воронеж, 1998. Вып. 11. С. 216).
В рецензиях на книгу автора упрекали в том, что «от всей... работы веет некоторой хаотичностью, и целый ряд ценных и тонких замечаний не спаивается единым связующим цементом» (Дегтеревский И. Последние поиски в области методологии литературной критики. //Жизнь. 1922. № 3. С. 177).
Г. О. Винокур говорил о противоречии, возникающем при обращении Э. к дневникам Толстого: «Эйхенбаум, явно увлекшись дневниками Толстого, придает им значение не только литературного произведения, произведения словесного, но и психологическое, ибо если и не ставит дневников в прямую связь с личными переживаниями Толстого, связь эту даже отрицая, то все же считается с дневниками как с показателем художественных намерений и планов Толстого. Психологизм <...> просачивается сквозь научный подход к делу в разных местах книги и в конечном счете не может не сказаться на основных выводах автора. А истинно научная поэтика возможна лишь на почве окончательной ликвидации психологизма» (Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Пб.; Берлин, 1922 // Накануне. Лит. прил. 1922. № 11. 30 июля. С. 9. Подпись Л. Кириллов).
Позже в обзоре современных литературоведческих исследований Г. О. Винокур высоко оценит значение книги: «Книга Эйхенбаума "Молодой Толстой" представляет интерес совершенно исключительный. Думаю, что не преувеличу, если скажу, что она получит в будущем значение поворотного пункта в изучении толстовского литературного наследия. Вдвигая Толстого в верную историческую перспективу, Эйхенбаум уже на анализе дневников юноши-писателя вскрывает его связь с французской рационалистической литературой XVIII века и широкими мазками рисует в дальнейшем творчество Толстого как отталкивание от романтизма и его преодоление. Чрезвычайно продуктивным оказывается сопоставление Толстого со Стерном, а позднее — со Стендалем, сопоставление, во многом уясняющее типичный для Толстого метод "генерализации" и "остранения", подмеченный Виктором Шкловским и богато иллюстрированный в свое время К. Ле- онтьевным...» (Винокур Г. О. Новая литература по поэтике (обзор) // Винокур Г. О.
Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М., 1990. С. 60; впервые: Леф. 1923. № 1. С. 239—243). Об этом отзыве Винокура есть запись в дневнике Э. от 19 апреля 1923 г.: «В № 1 "Лефа" — статья Г. Винокура, в которой очень хвалят мои работы — особенно книгу о Толстом...» (Эйхенбаум Б. М. Дневник. С. 244).
Значение этой ранней книги Э. для изучения творчества Толстого трудно переоценить. Крайности, объяснимые полемическими условиями, в которых она появилась, стираются, и остается внимание к структуре художественного произведения, очищенное от психологического и социологического толкования. По мысли Ю. М. Лотмана, «формальная школа поставила в центр внимания само литературное произведение, его текст», ученые и исследователи подчинились требованию времени, «обращение к секретам мастерства было веяньем времени» (Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 136).
В 1958 г. В. Б. Шкловский писал Э.: «У меня новость: я и Сима прочли "Молодого Толстого", работа Б. М. Эйхенбаума. Это прекрасная, могучая, большая, совсем не кузнечиковая вещь <...>. Книгу "Молодой Толстой", отбросив предисловие и сократив некоторые декларативные места, надо печатать в сборнике о Толстом. Такая книга не может пропадать, она учит не только познанию, но и искусству конструкции <...>. Книга "Молодой Толстой" превосходная» (Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вступ. заметка, публ. и коммент. О. Пан- ченко // ВЛ. 1984. № 12. С. 216).
Продолжая работу над изучением творчества Толстого и ощущая потребность по-новому подойти к биографии и личности писателя, Э. в 1928 г. запишет: «В книге "Молодой Толстой" одно сказано робко, другое чересчур смело, а третье вовсе не сказано...» (Контекст-1981. С. 266).
С. 73. В центре — вопросы о художественных традициях Толстого и о системе его стилистических и композиционных приемов. — Термин «прием» в изучении поэтики художественного текста связан с представлениями формалистов о произведении искусства как совокупности приемов, восходит к работе В. Б. Шкловского «Искусство как прием» (1917).
С. 75. Толстой начинает вести дневник в 1846—1847годах, во время пребывания в Казанском университете. — На самом деле дневники Толстой начинает вести с 1847 г. В ПСС, в разделе описания рукописей: «Тетрадь А, Дневник за март 1847. <...> к тетради приклеен ярлычок с надписью 1860-ых годов, неизвестной рукой: "№ 12. Дневники от 1846 до 1856 г. ". Тетрадь вложена в обложку с надписью той же рукою: "№ 12-й. Дневники от 1846 до 1855 [переделано из "1856"] года" Без заглавия. Начинается: «17 Map...» (46, 308). В. Чертков указывает: «Дневники начинаются... с 1847 года, с 19-летнего возраста Толстого...» (46, X).
С. 76. Он погружен в размышление и в самосозерцание. — В ст. «О противоречиях Льва Толстого» Э. назовет этот период «университетом на дому», так как дневники этих лет представляют собой собрание записей по «диалектике души».
С. 77. В этом смысле показателен самый выбор «Наказа» Екатерины для университетских занятий. <...> внимание его направлено не на самую философию, а на метод логизирования. — В ст. «Из студенческих лет Л. Н. Толстого» Э. говорит о проф.
Д. И. Мейере, который сыграл «очень большую роль в истории умственного развития юного Толстого» (ОПр. С. 97). Именно проф. Мейер предложил Толстому работу над «Наказом» Екатерины. В поздней статье Э. подчеркивает именно содержательную сторону работы Толстого над «Наказом»: «Толстой явно сочувствует республиканским идеям и упрекает Екатерину в том, что, заимствовав эти идеи у Монтескье... она употребила их для оправдания деспотизма» (Там же. С. 106-107). Об этом также см. в незаконченной монографии Э. о Толстом (гл. «Толстой-студент». С. 766-768 наст. изд.).
С. 78. Руссо и Стерн, духовные вожди эпохи Карамзина и Жуковского, оказываются его любимыми писателями. — О влиянии Стерна на Толстого см.: Попов П. Стиль ранних повестей Толстого («Детство» и «Отрочество») //Лит. наследство. М., 1939. Т. 35-36. С. 78-116. Об идейных связях Толстого и Руссо см ..Андреевич [Соловьев Е. А.] Борьба с развратом культуры. Руссо и Толстой //Андреевич. Л. Н. Толстой. Монография. СПб., 1905. С. 111-168. — Напротив, в ст. М. М. Ковалевского (Можно ли считать Толстого продолжателем Руссо?) // Вестник Европы. 1913. № 6. С. 343-352) автор приходит в выводу о том, что нельзя считать Толстого последователем Руссо. Э. говорит о «художественном воздействии» Руссо и Стерна не на мировоззрение Толстого, а на поэтику. В. Б. Шкловский в статье об Э. и его книге «Молодой Толстой» отмечал, что «вопрос об отношении Толстого к мировой литературе понимался не точно: влияние понималось как сходство» (Шкловский В. Б. Тетива. О несходстве сходного // Шкловский В. Б. Собр. соч.: В 3 т. М., 1974. Т. 3. С. 479). О терминах «влияние» и «усвоение» в дневнике Э. от 20 августа 1918 г., после встречи с В. М. Жирмунским: «Говорили о том, как, по его мнению, надо ставить вопрос о влиянии в литературном исследовании. Очень близко к тому, как я говорю об этом в статье о Толстом. Не "миросозерцание", не человек, а поэтика, и не "влияние", а усвоение» (Б. Эйхенбаум: «Мучительно работаю над статьей о Толстом...». С. 314). В ст. «Творчество Л. Н. Толстого»: «Дело здесь не в подражании (не создающем ничего нового) и не в заимствовании, а именно в усвоении» (Эйхенбаум Б. М. Творчество Л. Н. Толстого // Л. Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Пб., 1922. С. 10). Подробнее о терминах «влияние» и «усвоение» см. с. 914915 наст. изд.
С. 78-79. «Яне исполняю того, что себе предписываю... 3) Никогда не справляйся в книге, что забыл, а старайся сам припомнить. 4) Заставляй постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою. 5) Читай и думай всегда громко. 6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели они не понимают (что они мешают), то извинись и скажи им это. Сообразно со вторым правилом, я хочу непременно кончить комментировать весь наказ Екатерины». — В ПСС читается иначе: вместо «что забыл» — «ежели что забыл»; вместо «заставляй» — «заставь»; вместо «они не понимают» — «он не понимает»; вместо «скажи им» — «скажи ему» (46, 15).
С. 79. «Какая будет цель моей жизни в деревне в продолжение двух лет? <... > 8) Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи. — В ПСС читается иначе: вместо «высшей степени совершенства в музыке и живописи» — «средней степени совершенства в музыке и живописи» (46,31).
С. 79. Дневник прерывается на три года. — В статье «90-томное собрание сочинений Л. Н. Толстого (Критические заметки)» Э. делает уточнение о дневниках Толстого 1848-1849 гг.: «Принято считать, что их и не было, а между тем позволительно в этом усомниться... Дневники 1848-1849 годов, по-видимому, недошли до нас» (ОПр. С. 122).
С. 79—80.«Хотелось бы привыкнуть <... > столько дней буду задавать себе вперед. Под определениями этими я разумею не моральные правила, не зависящие ни от времени, ни от места, правила, которые никогда не переменяются и которые я составляю особенно, а именно определения временные и местные: где и сколько пробыть; когда и чем заниматься». — В ПСС читается иначе: вместо «столько дней» — «на столько дней»; вместо «никогда не переменяются» — «никогда не изменяются» (46,34).
С. 81. ...его герои (Пьер, Вронский, Левин) периодически переживают такого рода «остановки», во время которых все прошлое подвергается критике и вырабатывается новый план действий. — В ст. «О противоречиях Льва Толстого» Э. отмечает, что «остановки» в жизни Толстого — особенность не только его сознания, но отражение противоречий самой жизни: «Противоречия Толстого — это противоречия русской действительности...» (с. 714 наст. изд.).
«... Играть только с людьми состоятельными, у которыхбольше моего...». — В ПСС прочитано иначе: вместо «Играть только с людьми состоятельными, у которых больше моего...» — «играть только с людьми, состояние которых больше моего» (46, 39).
С. 83. ...Франклин с его «журналом для слабостей». — См. примеч. в ПСС: «Толстой называет эти, по-видимому не дошедшие до нас записи, то "журналом слабостей", то "Франклиновским журналом", то "Франклиновской книгой", "Франк- линовской таблицей", по имени американского ученого и государственного деятеля Вениамина Франклина (1706-1790), у которого он заимствовал этот обычай» (46, 338).
С. 84. ...Загоскин говорит. — Упоминание о Загоскине Э. вносит вслед за П. Бирюковым; см.: Бирюков П. Биография Л. Н. Толстого. М., 2000. Кн. 1. С. 72-73. В гл. незавершенной монографии «Толстой — студент» Э. делает уточнение: «Говоря о статье Н. П. Загоскина, П. И. Бирюков назвал ее ошибочно "воспоминаниями о студенческой жизни Л. Н. Толстого". Н. П. Загоскин учился в Казанском университете в 70-х годах (род. в 1851 году) и потому никак не мог "вспоминать" о студенческих годах Толстого» (с. 864-865 наст. изд.).
С. 88. «...но к этой натянутости, несмотря на все мои разговоры — не могу». — В ПСС читается иначе: вместо «несмотря на все мои разговоры» — «несмотря на все мои усилия, [привыкнуть] не могу» (46, 81).
С. 89. В Диккенсе...Толстой чувствует традицию английского «семейного» романа и, по-видимому, усваивает именно ее, а не другие элементы диккенсовского творчества. — В ст. Н. Н. Апостолова о влиянии творчества Диккенса на Толстого отмечено: «Автор "Домби и сына" волновал Л. Толстого не только как писателя — своей художественно-идиллической прозой, — он затрагивал и JI. Толстого- мыслителя — своими нравственно-образовательными и общественно-сатирическими мотивами» (Апостолов Н. Я. Толстой и Диккенс // Толстой и о Толстом. Новые материалы. М., 1924. С. 108).
С. 90. «...увлекался сначала в генерализации, потом в мелочности» — В ПСС читается иначе: «увлекался сначала в генерализацию, потом в мелочность» (46, 121).
С. 91. «Хотя в "Детстве"будут огромные ошибки, оно еще будет сносно». — В ПСС читается иначе: вместо «огромные ошибки» — «орфографические) ошибки» (46, 120).
Остранение — термин введен В. Б. Шкловским в работе «Искусство как прием»: «Прием остранения у JI. Н. Толстого состоит в том, что он не называет вещь своим именем, а описывает ее, как в первый раз виденную» (Шкловский В. Б. О теории прозы. М., 1983. С. 15). Э. оспаривал термин, предлагал «опрощение». В дневнике Эйхенбаума от 12 августа 1918г.: «Нужно хорошо сказать о приеме упрощения души и остранения вещей...» (Б. Эйхенбаум: «Мучительно работаю над статьей о Толстом...». С. 311). В ст. «О Льве Толстом»: «...разложением душевной жизни, ее сложным упрощением, пришедшим на смену уже упрощенной тогда сложности романтического стиля, Толстой спасал искусство. Началось это еще в ранней молодости — когда в юношеских дневниках своих разлагал каждое свое душевное движение на части...» (Жизнь искусства. 1919. 22-23 нояб.); в ст. «Лев Толстой»: «Через все эти очерки проходит метод опрощения и анализа ("диалектика души") с характерными приемами "мелочности"» (с. 44 наст. изд.).
С. 92. Не только сюжетология, но и типология Толстого не интересует. — «Типология» — изображение типов. По мысли Э., герои Толстого индивидуальны, лишены типических черт. Эта точка зрения восходит к А. В. Дружинину. В статье о «Двух гусарах» критик писал: «...граф Толстой, рисуя два типические лица, вовсе не представляет их образцами целого данного сословия...» (Дружинин А. В. «Метель». — «Два гусара». Повести графа Л. Н. Толстого//Дружинин А. В. Литературная критика. М., 1983.С. 116). Эту же мысль Э. развивает в ст. «Пушкин и Толстой»: герои Толстого «не типы, ограниченные узкими пределами своей общественной среды или профессии, и даже не характеры... а очень свободно переходящие от одних чувств и мыслей к другим индивидуальности, не отгороженные друг от друга никакими сложными перегородками, — "текучие", как любил говорить Толстой о людях» (с. 708 наст. изд.).
«...пахнет дубовыми и чинарными листьями, из которых сложен балаган. Я сижу на барабане, в балагане, который с каждой стороны примыкает к палатке, одна закрытая, в которой спит К. (неприятный офицер), другая открытая, и совершенно мрачная, исключая одной полосы света, падающей на конец постели брата; передо мною ярко освещенная сторона балагана, на которой висят пистолеты, шашки, кинжал и [нрзб.]. Тихо; слышно, дует ветер, пролетит букашка, пожужжит около меня, и кашлянет и охнет около солдат». — В ПСС читается иначе: вместо «дубовыми и чинарными листьями» — «дубовыми и чинаровыми плетьми», вместо «на которой висят пистолеты, шашки, кинжал и [нрзб. ]» — «на которой висит пистолет, шашки, кинжал и подштан[ники]», вместо «пролетит букашка, пожужжит около меня, и кашлянет и охнет около солдат» — «пролетит букашка, покружит около огня, и всхлипнет и охнет около солдат» (46, 61).
С. 94-95. Эти опыты служат своего рода этюдами к будущим монологам про себя, которыми так отличаются художественные произведения Толстого. Мы настолько привыкли к этому, что уже не ощущаем всей оригинальности и новизны этого приема. — Н. Г. Чернышевский один из первых отметил формы «внутреннего монолога» при изображении «диалектики души» (Чернышевский Н. Г. ПСС: В 15 т. М., 1947. Т. 3. С. 424-425); К. Леонтьев указывал на «оригинальную манеру автора», который мог «раскрывать внезапно перед читателем как бы настежь двери души человеческой» (Леонтьев К. Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого. 1890// Русский вестник. № 6. С. 258); В. В. Стасов переносит вопрос о «внутренних монологах» Толстого в сферу истории литературного языка. О Толстом В. В. Стасов писал, что «он один дает в романах и драмах настоящие монологи именно со всей неправильностью, случайностью, недоговоренностью и прыжками» (Лев Толстой и В. Стасов. Переписка 1878-1906 гг. М., 1928. С. 265). Особенности внутренней речи в творчестве Толстого рассмотрены в работе
В. Виноградова «О языке Л. Толстого» (Лит. наследство. М., 1939. Т. 35-36.
179-189).
С. 98. ...завершающий собою процесс разложения художественных форм. — К. Леонтьев писал о стиле Толстого: «Не отслуживши до пресыщения одному стилю, трудно, а быть может и невозможно, художнику вступить на новый путь» (Леонтьев К. Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого. С. 254). — К. Леонтьев говорит именно о смене стилей в искусстве.
С. 99. Искусство... всегда более или менее приемыш. — М. О. Чудакова и Е. А. Тод- дес указывают, что этот тезис Э. будет развит Тыняновым и Я. Мукаржовским (Чудакова М., Тоддес Е. Страницы научной биографии Б. М. Эйхенбаума // ВЛ. 1987. № 1.С. 144-145).
Приведем в заключение этой главы портрет молодого Толстого, сделанный им самим, — образец такого искажения очень сходный с монологами «про себя» будущих его героев. — В кн. «Лев Толстой. Книга первая. 50-е годы» эта же запись Толстого осмыслена иначе (с. 224-225 наст. изд.).
С. 102. Сцепления — в ст. «Лабиринт сцеплений» (Жизнь искусства. 1919. 10 дек.; 11 дек.). Э. возвращается к словам Толстого из письма к Страхову (23 и 26 апреля 1876 г.): искусство — «бесконечный лабиринт сцеплений». Э. анализирует работу «сцепления» на примере рассказа «Фальшивый купон». К вопросу о «сцеплениях» Э. вновь обращается в кн. «Лев Толстой. Семидесятые годы». В письме Толстого: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется из того сцепления, в котором она находится. <...> Для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений» (62, 269).
С. 112. ...диалектике души», по выражению одного критика... — Ст. Н. Г. Чернышевского по поводу вышедших «Детства и Отрочества» и «Военных рассказов». (Современник. 1856. Т. 60. № 12. С. 53-64. Отд. «Критика»).
С. 115. «После описи имения, неудачной службы в столице, полуувлечений зверско- стью желания найти подругу и разочарования в выборах»... — В ПСС этот текст читается иначе: вместо «полуувлечений зверскостью желания найти подругу и разочарования в выборах» — «полуувлечения светскостью, желания найти подругу и разочарования в выборах» (46, 143).
С. 119. Канонизированный — см. объяснение Э.: «В каждую литературную эпоху существует не одна, а несколько литературных школ... причем одна из них представляет ее канонизированный гребень. Другие существуют неканонизиро- ванно <...> в момент канонизации старшего искусства в нижнем слое создаются новые формы — "младшая линия"» (Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода»//ОЛ. С. 404).
С. 120. Влияние это особенно интересно тем, что оно основано не на случайном увлечении какой-нибудь частностью, а на сознании родства методов. — Мысль о родстве методов Стендаля и Толстого оспаривает А. П. Скафтымов: «В типологической характеристике литературных стилей они в отношении психологического рисунка едва ли могут быть поставлены в общие скобки». (Скафтымов А. П. О психологизме Стендаля и Л. Толстого // Скафтымов А. П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958. С. 282; впервые: Литературные беседы. Саратов, 1930. Вып. 2).
Анализ стиля Стендаля и Толстого приводит А. П. Скафтымова к следующим выводам: «Стендаль не прост. Он декламирует. Его риторика не имеет свободного блеска и яркого размаха, бледна и бессодержательна...
И фразы персонажа и все ремарки автора о сопровождающих жестах и поступках одинаково строятся в тоне откровенной риторической приподнятости. <...>
Простота в стиле Толстого — в постоянной конкретности его рисунка. Эмоция у него говорит языком вещей и движений.
Стендаль далек от бытовой конкретности и его выражение душевных состояний устремляется всегда на проторенные пути риторической декламации.
Толстой по-новому подошел к реальному идейному и душевному наполнению жизни, открыл сложность и пестроту душевных состояний. Мысли и чувства изображаемых лиц стали в его творчестве впервые раскрываться в обычной бытовой распределенности среди множества всяких привходящих и сопутствующих впечатлений.
В этом состоит то основное, что резко отделяет художественный метод Толстого от той прежней литературно-исторической традиции, к которой принадлежит Стендаль» (Там же. С. 293-294).
С. 122. Приемы внутреннего монолога и «диалектика души», столь характерные для Толстого, составляют особенность и стендалевского метода. — О внутренних монологах у Стендаля в ст. А. П. Скафтымова: «Такой способ обнаружения персонажа настолько был распростанен в литературе XVIII и первой половины XIX века, что нет надобности в этом случае Толстого связывать непременно со Стендалем. Это одинаково свойственно и Руссо, и Мериво, и Прево, Бенжамену Констану, и Мюссе, и др. А главное, монолог у Толстого имеет совсем иной вид. Ни логически упорядоченного сочетания условных или альтернативных суждений, ни фразеологическая стройность декламации не могли удовлетворить его художественных требований. Его монолог стремится приблизиться к наибольшей иллюзии живого процесса эмоционально-мыслительного акта как сложного клубка сталкивающихся мыслей, чувств и разнообразных пробуждений» (Скафтымов А. П. О психологизме Стендаля и JI. Толстого... С. 293).
С. 123. Мотивировка — Э. вводит термин «мотивировка» вслед за Шкловским: «В статье Шкловского... есть еще одно понятие, сыгравшее большую роль в дальнейшем изучении романа, — понятие "мотивировки"» (Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода»... С. 390-391).
С. 133. Эпоха Толстого и Достоевского есть кризис повествовательной прозы. — Этот же вопрос Э. освещает в ст. «Литературная карьера Л. Толстого», но говорит о смене исторических эпох (см. с. 690 наст. изд.).
С. 134. Тут, между прочим, с совершенной ясностью различается форма (о «содержании» нет и речи) и простая техника как навык — понятия, которые с таким рутинным упорством до сих пор смешиваются в сознании большинства людей, толкующих и пишущих о литературе. — В ст. Л. Я. Гуревич был фрагмент фразы Толстого, опущенный Э.: «Тогда форма была неотделима от содержания именно потому, что ее нужно было создавать известной напряженной внутренней работой, в которой содержание пробивалось наружу» (Гуревич JI. Я. Художественные заветы Толстого // Гуревич Л. Я. Литература и эстетика. М., 1912. С. 230-231).
С. 137. Процесс умирания — К. Леонтьев, анализируя эпизоды смерти Праскухина, Ивана Ильича и князя Андрея, говорит о психологической точности в изображении процесса умирания:« В этих трех изображениях смерти превосходно и со всей возможной, доступной человеческому уму, точностью соблюдены все те оттенки и различия, из которых они зависят от рода болезни или вообще поражения организма, а другие от характера самого умирающего и от идеалов, которыми он жил», из чего критик заключает: «Изобразить смену чувств и мыслей у раненого или контуженного человека — есть художественная смелость» (Леонтьев К. Анализ, стиль и веяние. О романах графа Л. Н. Толстого // Русский вестник. 1890. № 7. С. 234-235).
С. 138. Толстой — не зачинатель, а завершитель. — В кн. «Молодой Толстой» Э. рассматривает творчество Толстого как завершение определенного художественного этапа литературы, в ст. «О противоречиях Льва Толстого» исследователь говорит о Толстом как о человеке, завершающем целый исторический период.
С. 144. Главным руководителем и советчиком Толстого на время становится Дружинин. — В ст. «Наследие Белинского и Лев Толстой» (с. 841 наст, изд.) Э. опровергает мнение об абсолютном влиянии Дружинина на Толстого в этот период: «Что же касается Дружинина, то в важности его советов и указаний Толстой далеко не всегда был убежден». — О влиянии Дружинина на Толстого см.: «Лев Толстой. Кн. первая. 50-е годы» (с. 263 наст. изд.).
Впервые: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. 1:50-е годы. Л.: Прибой, 1928. — 416 с. Тираж 3000 экз.
3, 4 гл. из II ч. книги были опубликованы до выхода в свет отдельного изд.: Эйхенбаум Б. М. Толстой в «Современнике» // Звезда. 1928. № 8. С. 110-142.
Печатается по первому изд.
Научное изучение творчества Толстого Э. начал в 1918-1919 гг., работая над предисловием к тому, включающему «Детство. Отрочество. Юность». В 1922 г. одновременно с этим томом вышла небольшая книга Э. «Молодой Толстой», которая до сих пор является одной из наиболее глубоких работ в толстоведении (см. с. 886-897 наст. изд.).
В 1924 г. у Э. появился замысел трехтомного труда о творчестве писателя: в первый том предполагалось включить материалы до 1862—1863 гг., второй том должен был заканчиваться «Исповедью». В это же время Э. была задумана книга «Литературный труд. Материалы по истории литературного труда и быта в России». Работа над этими замыслами шла одновременно и в сложном взаимодействии. 11 марта 1926 г. Э. отметил в дневнике: «Нужно написать работу о Толстом, а параллельно — разрабатывать материал литературного быта, биографии, журналы и проч. Но как теперь писать монографию о Толстом? Над этим надо сильно подумать. Прежний тип — как я написал "Молодого Толстого" или "Лермонтова" как-то сейчас уже устарел для меня. Хочется черпнуть иначе, а как?» (Контекст-1981. С. 265). Эта запись свидетельствует об отходе Э. от прежнего научного принципа.
В середине 1920-х гг. формальная школа переживала кризис. В черновых «Заметках для книги» Э. сформулировал основное противоречие формализма, выход из которого он искал: «Формальный метод привел к технологической точке зрения (Шкловский — «как сделано») и отрицанию нужности истории. С другой стороны, он же привел к тому, что каждое литературное произведение должно изучаться в соотнесении с другими, со своей эпохой. Получился новый тупик — стало неясно, "как изучать"» (Цит. по: Чудакова М. О. Комментарии//ОЛ. С. 522). В ст. этих лет: «Вокруг вопроса о "формалистах"» (Печать и революция. 1924. № 5. С. 1-11), «Теория формального метода» (1925 — Лтр. С. 116-148) Э. осмыслял достижения формальной школы и сложившуюся в современном литературоведении ситуацию. В «Теории формального метода» Э. писал о необходимости и закономерности «перехода к истории литературы». Однако историю литературы он мыслил здесь еще «вне личности» и тем более вне биографии писателя: «Центральной проблемой истории литературы является для нас проблема эволюции вне личности — изучение литературы как своеобразного социального явления» (Лтр. С. 146). Позже биографический элемент в работах Э. станет одним из важнейших. В этой же статье со ссылкой на работу Тынянова «Литературный факт» указана новая актуальная проблема литературоведения — «вопрос о характере отношений между бытом и литературой» (о различии в концепциях «литературного быта» Тынянова и Э. см. с. 11-13 наст, изд.; о переходе Э. от принципов формальной школы к теории литературного быта см.: Чудакова М. О. Комментарии. С. 521-522).
В середине 1920-х гг. Э. переживал личный кризис: в новую историческую эпоху Э. чувствовал необходимость согласовать свою жизнь с Историей. Чудакова отмечает связь этого личного кризиса и направления научных интересов Э.: «Размышления об историческом облике поколения, впервые развернутые в "Миге сознания", в 1925 г. пробивают себе второе, параллельное, прямо вторгающееся в профессиональные занятия русло: "тоска по биографии" — и замысел "книги о биографиях", желание "строить свою жизнь" — и писать "о людях, строивших культуру и свою жизнь"» (ВТЧ. С. 113). В дневниковой записи 5 апреля 1926 г. Э. раскрыл масштабный замысел еще одной книги, оставшийся нереализованным, но явно связанный с первым томом «Льва Толстого»: «В голове все сидит какой-то неопределенный план книги о людях. <...> Нужно было бы начать с Карамзина и идти группами и поколениями через девятнадцатый век, заканчивая Толстым, Розановым, Блоком» (Контекст-1981. С. 226). Этот подход к материалу — «группами и поколениями» — был отчасти воплощен в первой книге о Толстом.
Пришедшая на смену формалистским взглядам концепция «литературного быта» была выражена в двух программных статьях Э.: «Литература и писатель» (Звезда. 1927. № 5. С. 121-140) и «Литература и литературный быт» (На литературном посту. 1927. № 9. С 47-52) — обе статьи позднее вошли в «Мой временник». По мысли Э., в современной литературной ситуации важнейшей является «проблема самой литературной профессии, самого "дела литературы"», «как быть писателем», отсюда — «новая теоретическая проблема — «соотношения фактов литературной эволюции с фактами литературного быта» (ОЛ. С. 430—431).
Еще до выхода в свет статей о литературном быте Э. попробовал применить новую теорию к анализу творчества Гоголя (Гоголь и «дело литературы»; Красная газета. Веч. вып. 1927. 4 марта; позже включена в «Мой временник»). Однако уже в статье «Литература и писатель» для рассмотрения выбран другой материал: «...выбираю два исторические момента, наиболее богатые аналогиями и потому особенно актуальные для нас: переход от 20-х годов к 30-м и начало 60-х годов. В центре первого стоит Пушкин, в центре второго — Толстой» (Звезда. 1927. № 5. С. 123). Толстой оказался больше других писателей связан с «литбытовой» проблематикой Э.
Непосредственная работа над книгой о Толстом началась в 1928 г. В письме к Шкловскому от 30 декабря 1927 г. Э. упоминает оба замысла: «С января сажусь за книги — о Толстом и о литературном быте» (Цит. по: ВТЧ. С. 114). Однако работа над книгой о литературном быте не была продолжена, Э. вплотную занялся первым томом «Льва Толстого». Дневниковые записи ученого февраля-марта 1928 г. свидетельствуют о поиске автором стержневой, связующей проблемы: «Считаю, что с сегодня начал работать над книгой, но надо несколько дней, чтобы въехать и сжиться с мыслью, что я пишу книгу о Толстом. Еще совсем не вижу ее. Думаю, что надо основной темой сделать проблему самого движения Толстого через разные поколения... <...> Надо попробовать, как выйдет с литер, бытом на Толстом» (15 февраля 1928 г. — Контекст-1981. С. 267); «Все мучаюсь над вопросом о том, как написать мне книгу о Толстом, чтобы она для меня имела значение. <...> Построить всю книгу на одной проблеме, которую проследить на Толстом. И проблему эту я чувствую — это, конечно, вопрос об эволюции, о поколениях, об историческом Толстом (с литературным бытом и пр.)» (1 марта 1928 г. — Там же. С. 267) Такой магистральной проблемой стала в итоге проблема «исторического поведения».
В процессе работы над книгой, обдумывая разные варианты ее структуры, Э. оставлял неизменным деление по десятилетиям: «будет 5 частей — примерно по 3 печ. листа в каждой — почти по десятилетиям» (6 марта 1928 г. — Там же. С. 268), «выйдет, примерно, по десятилетиям: 1846-1855,1856-1865» (4 июня 1928 г. — Там же. С. 271). Уже в ранней ст. о Толстом Э. говорил о первом десятилетии его творчества — 1852-1862 гг. — «периоде ранних рассказов, очерков и повестей» (см. с. 38 наст. изд.). Такое распределение материала по десятилетиям обнаруживает особое ощущение времени у Эйхенбаума. И исторический процесс, и время собственной жизни он мерил «поколениями»: «Каждому поколению отведен свой участок времени. Играет оно, потом учится, держит экзамены, проводит ночи в спорах или в беспечном веселье, потом влюбляется, женится, трудится, творит... И вот на пути этом вдруг (и всегда с жуткой внезапностью!) наступает момент, когда видит оно, что и экзамены выдержало, и влюблялось, и творило — "недаром" Что за все оно ответственно, что все было закономерно. Это точка зрелости и ужаса. <...> Миг сознания и возмездия» (Эйхенбаум Б. М. Миг сознания // Эйхенбаум Б. М. «Мой временник»... Художественная проза и избр. статьи 20-30-х гг. СПб., 2001. С. 533. Впервые: Книжный угол. 1921. № 7). По Э., «участок времени» каждого поколения — десятилетие: «Десять лет — цифра сакральная: именно столько дарит история каждому поколению. Потом приходит "племя младое" — и начинается сложная, иногда трагическая борьба двух соседних поколений» (Эйхенбаум Б. М. Анна Ахматова. Опыт анализа (1923) // ОП. С. 75). В соответствии с «законом десятилетий» (выражение Э. из предисл. к сб. «Литература. Теория. Критика. Полемика», написанного в 1926 г. 40-летним ученым) Э. осмыслял и толстовский творческий путь.
В процессе работы над книгой Э. ощущал новизну и необычность выбранного им подхода к материалу: книга будет «принципиальной и на тему», «только трудно как-то при таком характере книги говорить о самих вещах, как говорил раньше, п. ч. теперь для этого надо было бы гораздо больше материала и места. Теперь очень важно говорить об источниках и пр. — отвлеченно о построении и пр. совсем невозможно и ненужно» (6 марта 1928 г. — Контекст-1981. С. 268), — новизну стиля: «Пишу странно — совсем не так, как раньше: в стиле полубеллетристики или мемуара» (7 марта 1928г. — Там же. С. 269), «Пишу в стиле не то мемуара, не то романа. Меньше всего похоже на исследование» (15 апреля 1928 г. — цит. по: ВТЧ. С. 116)
20 марта 1928 г. Э. прочитал две первые главы в Институте истории искусств. В этот же день он записал в дневнике: «Публика, по-видимому, изумилась новой манере — особенно первой главы. Это и надо. Огорчил меня очень Юрий (Тынянов. — Л. К.) и заставил задуматься о наших с ним отношениях в последнее время. Он слушал с мрачным, неподвижным (сделанным) и сухим лицом, что-то чертя в блокноте, не глядя на меня. Потом говорил — сухо, жестко, придираясь к мелочам, неприязненно — как чужой» (Цит. по: ВТЧ. С. 115). О том же говорится и в письме к Шкловскому от 20 марта 1928 г.: «Вчера в Институте читал две первые главы (Толстой до "Детства"). Меня поразило и огорчило отношение Юрия. Он слушал с мрачным и жестким лицом, а говорил сухо, не понимая, придираясь, как чужой» (Из писем к В. Б. Шкловскому / Публ. О. Б. Эйхенбаум; вступ. заметка и коммент. М. О. Чудаковой // Нева. 1987. № 5. С. 157). Шкловскому же пишет об этом чтении и Тынянов: «Боря читал своего "Толстого" Как был "молодым", так и остался. Впрочем, еще начало. Есть кокетство с биографией и незнание что с ней делать. Незнание естественно, кокетство излишне» (не позже конца марта 1928 — ВТЧ. С. 115).
После первого представления нового сочинения работа над книгой пошла еще быстрее, наступил период наиболее активного творчества: «Писал с огромным увлечением — как никогда. <...> Получается, по-моему, значительно — так, как ни в одной прежней работе. Главное — полная свобода и размах. Я чувствую себя прямо счастливым» (дневник, 30 марта 1928 г. — Цит. по: ВТЧ. С. 116). Э. все больше убеждался в важности «биографического» элемента в книге, хотя именно он вызвал неодобрение первых слушателей в «Институте истории Искусств»: «Неожиданно вышла целая глава (5-я) об отношениях Толстого к людям и к брату Николаю — совсем "биографическая" и очень дерзкая» (дневник, 23 марта 1928 г. — Кон- текст-1981. С. 269).
Дневниковые записи апреля 1928 г. говорят о постепенном прояснении концептуальной основы книги: 29 апреля 1928 г. Э. писал — «Самое основное, с чем в руках надо просмотреть все написанное, — это, что для Толстого литература все время меняет свои функции, никогда не превращаясь в профессиональное дело. Он ищет "независимости" обратным Пушкину ходом — уходом в "дело", которое меняется» (Контекст-1981. С. 270); в тот же день «вечером»: «В первой главе надо показать, как Толстой вырастает в обстановке напряженной патриархальности, кончающейся катастрофой. Он остается дворянином-архаистом, враждебным всему новому строю. Его искусство является именно из этого противоположения — не столько как идеология, сколько как "мемуар". <...> Литература для него все время сцепляется с какой-нибудь другой профессией и ею осмысляется. Он все время ищет дела, не желая быть просто литератором, как Тургенев. В этом весь смысл его эволюции» (Там же. С. 270).
В апреле 1928 г. Э. ездил в Москву к Шкловскому. По наблюдениям Чудаковой, после этой поездки работать над Толстым стало труднее (ВТЧ. С. 117). Написанное после возвращения Э. письмо Тынянова к Шкловскому обнаруживает, что наибольшее неприятие у Тынянова вызвала попытка Э. показать процесс смены поколений в литературе: «Он теперь сидит и все перестраивает. Москва его расшевелила, и он знает, кажется, что делать. Слава Богу, ты выбил из него немецкую книжку о поколениях и возрастах. Эти штуки для домашнего стола и то надоедают» (начало мая 1928 г. — Цит. по: ВТЧ. С. 116). Чудакова приводит интересный эпизод, рассказанный Л. Н. Тыняновой, который проясняет мнение Тынянова относительно «проблемы поколений»: «Как-то N в разговоре с Ю. Н. все повторял: "ваше поколение... наше поколение..." И вдруг Ю. Н. сказал: "Нет никакого "нашего" и "вашего" поколения. Мы — околение, а вы — по колено"» (ВТЧ. С. 117).
На завершающем этапе работы над книгой, как свидетельствуют дневники Э., на первом плане оказалась неожиданно для самого автора глава, посвященная Толстому-помещику и его отношению к вопросу об освобождении крестьян: «Крестьянский экскурс так разросся и так увлек меня, что получается, по-видимому, особая глава, очень важная, почти центральная по выводам» (4 июня 1928 г. — Кон- текст-1981. С. 271). В записи от 7 июня Э. говорил об этом более уверенно: «Крестьянскую главу кончил: вышла, кажется, удачно. Это основная во всей книге» (Там же. С. 271). Один из выводов этой главы, видимо, важнейший для Э. — мысль, которая уже звучала в статье «Литература и писатель» (1927), конспективно изложенная в дневниковой записи 29 апреля 1928 г.: «Он (Толстой. —JI. К.) ищет "независимости" обратным Пушкину ходом — уходом в "дело", которое меняется» (Там же. С. 270): «Помещичье дело для него... это опора не только в материальном, но и в моральном смысле: единственная деятельность, которая делает его положение независимым, а это для него — главное, как это некогда было главным для Пушкина, искавшего, в других исторических условиях, независимости от "вельмож" и от "публики". Говоря о Толстом, надо помнить, что он — не просто помещик, а помещик, который хочет быть писателем, но не "литератором"» (с. 290 наст. изд.).
Отталкиваясь от этой мысли, Э. вышел к размышлениям о нигилистической основе произведений Толстого (отрицание «убеждений»), об архаистическом пафосе творчества, о позиции Толстого — защитника традиций дворянской культуры от «натиска современности».
Работа над книгой была закончена 10 июля 1928 г. (ВТЧ. С. 117) После ее выхода в свет, 30 ноября 1928 г. Э. написал Шкловскому: «Говорят, что моя книга о Толстом вышла очень злободневной — много аналогий. У нас здесь вся литература занялась изображением писателей. Лавренев описал С. Третьякова... <...> Беллетристы уже ориентируются на мемуар — вот до чего дошло» (Цит. по: ВТЧ. С. 126). Исследование Э. было «злободневным» прежде всего по своей форме — «книга о писателе». В 1920-е гг. вышла книга-хроника В. В. Вересаева «Пушкин в жизни» (1925—1926), романы: Ю. Н. Тынянова«Юохля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1929), О. Д. Форш Современники» (1926), Б. А. Лавренева «Гравюра на дереве» (1929), К. Большакова «Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова» (1928) и др. (См.: Берковский Н. Я. Советский исторический роман // Берковский Н. Я. Мир, создаваемый литературой. М., 1989. С. 249. Впервые: Красная газета. Веч. вып. 1927. 21 окт.; Немеровская О. Н. К проблеме исторического романа// Звезда. 1927. № 10. С. 121—129).
Но важно и другое: Э в своей книге о 1850-х гг. рассматривает многие проблемы, которые приобрели актуальность в литературе современной ему эпохи: соотношение прозы и поэзии, кризис романа, тенденция к бесфабульности, «мозаичности», «импрессионистичности» прозы и др. (о процессах в литературе 1920-х гг. и их осмыслении в литературоведении того времени см.: ПИЛК. С. 458, 463-469). За «злободневностью» книги стоит свойственное Э. чувство истории, внимание к современности, понимание истории литературы как «уяснения современности через прошлое» (Э. Шкловскому 25—29 июня 1925 г. Цит. по: ВТЧ. С. 125). Еще в феврале 1914 г. Э. писал А. С. Долинину: «От долгого вдумывания в современность я совершенно естественно иду к прошлому...», цель — «в постоянном вскрывании ценностей, с которыми современность может быть связана», «современность для меня... основной импульс моей работы, основной смысл научного творчества» (Письма Б. М. Эйхенбаума к А. С. Долинину / Подгот. текста, вступ. заметка и примеч. А. А. Долининой // Звезда. 1996. № 5. С. 182) Этим принципам он был верен и в дальнейшем.
Книга Э. «Лев Толстой. 50-е годы», как и концепция «литературного быта», лежащая в ее основе, многими — и друзьями, и учениками, и оппозиционно настроенными литературоведами-марксистами — была воспринята негативно.
Ни Шкловский, ни Тынянов, с которыми Э. связывала многолетняя дружба, эту книгу не приняли. Шкловский возражал прежде всего против метода ее написания: «...книга хорошая, самое интересное в ней не о Толстом, а вокруг него. Удачей книги является то, что это вокруг переходит в Толстого без толчка, что он правильно показан точкой пересечения силовых линий. В общем построении книга очень интересна, кровь времени показана. Возражение у меня — метод написания книги, т. е. не преодоленная биография» (Шкловский Э. 27 нояб. 1928 г. — Из писем к В. Б. Шкловскому. С. 156). Под «методом» Шкловский понимал и «метод исследования», как в процитированном письме Эйхенбауму, и стиль написания книги, которым он также остался недоволен: «Книга не плохая, но недожаренная, красноречивая...» (письмо Тынянову от 27 нояб. 1928 г. // Цит. по: ВТЧ. С. 120). Усиление беллетристического начала Шкловский отмечал и в высказываниях по поводу других статей Э. 1928 г. По словам Шкловского, статья Э. «Литературная карьера Толстого» написана «с тургеневской легкостью»: «Так хорошо писать не умеет у нас никто, но в этой статье не видны следы инструмента, она не проверяема, в ней нет сопротивления материала и она значит то, что значит, не давая вращения мысли» (письмо от 10 сент. 1928 г. — Цит. по: ВТЧ. С. 118). В письме от 27 ноября Шкловский советовал Э.: «Тот метод полубеллетристического повествования, который ты берешь, при твоей талантливости, при умении найти слова, дает ошибки красноречивые и непоправимые. Нужно или писать роман, или оставлять следы инструмента в работе...» (цит. по: ВТЧ. С. 119; о статье Э. «Павел Васильевич Анненков (1813—1887)» см.: Анненков Я. В. Литературные воспоминания / Предисл. Н. К. Пиксанова, вст. ст., ред и примеч. Б. М. Эйхенбаума. Л., 1928. С. XIII-XXIII). Во вступительной ст. к книге В. Тренина и Н. Харджиева Шкловский рассуждал о «романе исследования» в связи с новыми взаимоотношениями литературы, науки и истории: «Мы ведем спор о пересмотре истории русской литературы в связи с пересмотром истории России. <...> Важен переход от анекдотической истории к истории сознательной, а в нашем беллетристическом деле — переход к роману исследования. Нужна такая работа над историческим материалом, когда человек может предвидеть факты» (Тренин В, Харджиев Я. Повесть о механикусе Ползунове. М., 1931. С. 4).
Частным пунктом расхождения Э. и Шкловского был вопрос о сочинении Прудона «Война и мир», которое, по мнению Э., является одним из источников романа-эпопеи Толстого. В ноябре 1928 г. Шкловский сообщал Тынянову: «Боря выпустил книгу, местами очень интересную. С Прудоном положительно не выходит, и все устройство книги идет по солнцу, т. е. смена глав мотивирована "и когда настал следующий день"» (Цит. по: ВТЧ. С. 119). В этом Шкловский пытался убедить и Э.: «Дорогой Боря, умоляю тебя всеми антилопами и лесными ланями, занимайся влиянием Поль де Кока на Толстого, а не Прудона на Толстого. <...> Философское сочинение источником романа быть не может. Доказательства твои на Прудона пока что чрезвычайно слабы» (11 дек. 1928 г. — Из писем к
Б. Шкловскому. С. 157. Подробнее см. с. 927-928 наст. изд.).
В диалоге с Эйхенбаумом и Тыняновым Шкловский довольно сдержан, в письмах же к Р. Якобсону его оценки значительно более резки: «книга о Толстом его мне не нравится» (5 дек. 1928 г. Цит. по: ВТЧ. С. 120), концепция литературного быта — «вульгарнейший марксизм» (16 февр. 1929 г. — там же. См.: ПИЛК. С. 533; с. 19 наст, изд.)
Тынянов прочитал книгу Э. в начале 1929 г. по возвращении из Праги; по предположению Чудаковой, она послужила поводом для рассуждений Тынянова в письме Шкловскому от 5 марта 1929 г.: «Необходимо осознать биографию, чтобы она впряглась в историю литературы, а не бежала, как жеребенок, рядом» (цит. по: ВТЧ. С. 123). «Путь, открываемый блестящей книгой Эйхенбаума о Толстом, был для Тынянова давно пройден и известен — это и был путь романа о писателе, но только неправомерно... заключенный в рамку исследования. "Непреодоленная биография" — это биография, годная для романа, но не отпрепарированная для истории литературы» (ВТЧ. С. 123).
Пражские тезисы Тынянова — Якобсона 1928 г. Чудакова рассматривает как «акт полемики (необъявленной) со статьями Эйхенбаума 1927-1928 гг.» (ВТЧ.
121). В своих воспоминаниях Якобсон писал: «Мы с Тыняновым, как я писал Трубецкому, "решили во что бы то ни стало восстановить Опояз и вообще начать борьбу против уклонов вроде эйхенбаумовского"...» (Цит. по: ВТЧ. С. 121).
Ученики Э., принимавшие участие в его семинаре, действовавшем с 1924 г., теорию литературного быта также не приняли. По воспоминаниям JI. Я. Гинзбург, «последним толчком к распаду послужило обсуждение в семинаре эйхенбаумов- ской теории литературного быта. Теорию мы встретили с неодобрением» (Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л., 1989. С. 357). Летом 1927 г. семинар прекратил свою работу. Один из его участников Ц. Вольпе, критикуя теорию литературного быта, отрицательно отозвался и о книге «Лев Толстой. 50-е годы»: «Богатая по материалу, написанная прекрасным языком, методологически она вызывает целый ряд нареканий. Построена она как биография писателя. Все упреки, обычно адресуемые биографическому методу, вплоть до упрека в использовании текстов художественных произведений как автовысказываний, могут быть ей сделаны» (Вольпе Ц. Теория литературного быта // За марксистское литературоведение // Под ред. Г. Е. Горбачева. Л., 1930. С. 166-167).
Книга Э. подверглась критике во многих работах, написанных с марксистских позиций: Эльсберг Ж. Рецензия на книгу Б. М. Эйхенбаума «Лев Толстой...» // На литературном посту. 1929. N° 13. Июль. С. 74-77; Григорьев М. С. Литература и идеология. Предмет и границы литературного исследования. М., 1929. С. 68; Мустангова Е. Формалисты на новом этапе // За марксистское литературоведение. С. 130-142; Горбачев Г. «Мы еще не начинали драться» (из дневника критика) // Звезда. 1930. N° 5. С. 123-127; Друзин В. Эйхенбаум и Чернышевский // На литературном посту. 1929. № 1. Январь. С. 16—19 (рец. на ст. Э. «Толстой и Чернышевский», опубл. в «Красной газете» — Вечерний выпуск. 1928. 29 нояб. N° 329 (1999), — по содержанию очень близкую главам книги «Лев. Толстой. 50-е годы», посвященным взаимоотношениям Толстого и Чернышевского). Авторы статей осуждали «методологический эклектизм» Э., находя в его книге «соединение старого ("опоязовского") формализма с вульгарным социологизмом и беспринципным биографизмом» (Е. Мустангова, с. 141), «плохой биографизм» (М. С. Григорьев), попытку «подменить марксистское понятие общественного бытия профессионально-литераторским и по существу глубоко идеалистическим понятием литературного быта» (Г. Горбачев, с. 124). При этом рецензенты признавали наличие в книге «отдельных, очень интересных наблюдений и критических эпизодов, построенных на новом или малоизвестном материале» (Эльсберг Ж. Рец. на кн. Б. М. Эйхенбаума «Лев Толстой...». С. 7)
Отдельного внимания заслуживают отклики на книгу Г. А. Гуковского. В ст. «Шкловский как историк литературы» (Звезда. 1930. № 1. С. 191—216) он возражал против эйхенбаумовской теории литературного быта и основанного на ней метода исследования, говоря о двух книгах: Гриц Г\ Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция (Книжная лавка Смирдина) / Под ред. В. Б. Шкловского. М., 1929; Аронсон Л/., Рейсер С. Литературные кружки и салоны / Под ред. Эйхенбаума. Л., 1929. Позже прозвучала и прямая критика книги Э. о Толстом. В «Заметках историка литературы» (Лит. газ. 1945 г. 15 сент.) Гуковский указал на отсутствие обобщающих работ о творчестве писателей: «Книга Эйхенбаума о Льве Толстом — крупное явление науки, но это — биография, а не книга о творчестве писателя» (Цит. по: ОЛ. С. 536. Подробнее см.: ОЛ. С. 535-537). Такое отношение к работе Э. долгие годы сохранялось у Гуковского, в методической книге «Изучение литературного произведения в школе» он вновь назвал исследование Э. «биографией» и «почти романом» (см. с. 19 наст. изд.).
В конце 1920-х гг. высокую оценку достижения Э. получили, как это ни странно, в работах М. М. Бахтина, по многим вопросам полемизировавшего с формалистами. В ст. «Толстой-драматург» (предисл. к XI т. Полн. собр. художественных произведений / Под ред. К. Халабаева, Б. Эйхенбаума (М; Л, 1930)) Бахтин писал о том, что Э. вскрыл «глубокую связь всех произведений Толстого с задачами эпохи и даже со злободневнейшими вопросами современности, связь главным образом полемическую» (Бахтин М. М. Собр. соч. М., 2000. Т. 2. С. 178) На книгу Э. Бахтин опирался и в своих теоретических рассуждениях в работе «Слово в романе» (1935). (См. коммент. С. Г. Бочарова к ст. Бахтина о Толстом: Там же. С. 556-557).
С. 147. Ища литературных источников этого романа (помимо того материала военных записок и мемуаров, сопоставлению которых с «Войной и миром» посвящена книга В. Б. Шкловского), я сделал своего рода «открытия», о которых предварительно сообщаю в последней главе. — Имеется в виду книга В. Б. Шкловского «Матерьял и стиль в романе Л. Толстого "Война и мир"» (М.: Федерация, 1928), которую Э. читал еще в рукописи. Первая реакция Э.: «... я прочитал. Правильно» (22 февр. 1928 г. — ВТЧ. С. 114). В сент. 1928 г. Э. писал Шкловскому: «Книгу получил и читаю, есть беспорядок, есть места усталые, но есть и много замечательного — такого, что не может быть нигде и ни у кого, кроме тебя. Главное — показать во всей остроте генезис и разницу между ним и историей — удалось очень и должно поразить в самое сердце»; «Мы с тобой очень интересно перекликаемся в книгах...» (Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вст. заметка, публикация и коммент. О. Панченко // BJI. 1984. № 12. С. 190-191. О различии между генезисом и эволюцией см.: ПИЛК С. 526). «Переклички» между книгами Э. и Шкловского касаются прежде всего вопроса о роли Толстого в литературной жизни в 1850—1860-е гг.: в исследовании Э. этот вопрос — один из центральных, ему же посвящена первая глава монографии Шкловского «Лев Николаевич Толстой в эпоху написания "Войны и мира"». По мнению Шкловского, «Лев Николаевич Толстой — самый помещичий писатель», «вообще, он проходил в русской литературе стороною, но к шестидесятым годам этот писатель, которого всегда, упоминая, оговаривали как явление забытое, или как явление, не отмеченное критикой, этот писатель был забыт на самом деле» (Шкловский В. Б. Матерьял и стиль в романе Л. Толстого "Война и мир"». С. 13), «это был человек отдельный от своей эпохи, правда, живущий в ней, но отдельно, со своей отсталой группой» (с. 16). С выводами Шкловского Э. был в корне не согласен: «...книга замечательная отдельными главами и местами, но замечательная Шкловским, борьбой Шкловского и Толстого, радостью Шкловского, который входит в дом Толстого без всякого страха и хлопает его по плечу. Толстой очень много думал, конечно, больше, чем читал. Что значит "человек стержневой своего времени"? Чернышевский, Тургенев были очень "стержневые" и знали и читали очень много. Толстой был сложнее, хитрее, крупнее по натуре, готовил себе 60 лет работы. В 50-х и 60-х гг. он, конечно, "боковой", но не просто. Он ищет власти, а не литературы. Нет, он — не "дворянчик"» (28 апреля 1929 г. — Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. С. 201).
По-разному Э. и Шкловский решали проблему источников романа-эпопеи Толстого, главный пункт их расхождений — сочинение Прудона «Война и мир». Интересно, что в одной из рецензий на книгу «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого "Война и мир"» позиция Шкловского критикуется с опорой на мнение Э.: «...тезис Шкловского о сущности источников "Войны и мира" уже в значительной мере опровергнут работой Б. Эйхенбаума, давшего крайне любопытные и правдоподобные указания (они будут, по-видимому, развернуты во втором, еще не вышедшем томе "Л. Н. Толстого") на значение для романа книги "Война и мир" Прудона... и ряда работ о Наполеоне» (Николаев Я. Рец. на кн. В. Б. Шкловского «Матерьял и стиль...» // На литературном посту. 1929. N° 7. Апрель. С. 73).
С. 148. «Литературный быт» частично привел меня к изучению биографического материала, но под знаком не «жизни» вообще («жизнь и творчество»), а исторической судьбы, исторического поведения. Таким образом, биографический «уклон» явился как борьба с беспринципным и безразличным биографизмом, не разрешающим исторических проблем. — Вопрос о биографии писателя как предмете литературоведческого изучения в 1920-е гг. был очень актуальным, широко обсуждавшимся в печати (см.: Томашеский Б. Литература и биография // Книга и революция. 1923. № 4 (28). С. 6-9; Коган П. Пролог. Мысли о литературе и жизни. М.; Пг., 1923; Переверзев В. Социальный генезис обломовщины // Печать и революция. 1925. № 2; Луначарский А. Предисл. // Критические этюды. Западноевропейская литература. М.; JL, 1925; Лелевич Г. Марксистское литературоведение и биография художника // Звезда. 1926. № 3. С. 181-188; Фохт У. Биография в литературоведении // Печать и революция. 1928. Кн. 8. С. 15-27; Кубиков И. Вопросы марксистского литературоведения // Родной язык и литература в трудовой школе. 1928. № 1; Полянский В. Основные вопросы современного литературоведения // Научное слово. 1928. № 2; Переверзев В. Необходимые предпосылки марксистского литературоведения // Литературоведение / Под ред. В. Переверзева. М., 1928; Гроссман-Рощин И. Тезисы о биографическом элементе в марксистском литературоведении // На литературном посту. 1928. N° 17).
В марксистской науке о литературе сложились две противостоящие друг другу «партии»: «биографистов» и «антибиографистов». К «биографистам» можно отнести Луначарского, Лелевича, Кубикова, Полянского. Лелевич писал: необходимо «привлекать биографические материалы для понимания индивидуальной окраски тех или иных литературных фактов, при последовательно-классовом изучении "главных" и "особенных" причин и при классовом же анализе биографии». С этих позиций он осуждал «антибиографистов», а также работы М. Гершензона и В. Ходасевича — «совершенно не научные попытки рассматривать художественное творчество писателя как сплошное отражение его личной жизни» (Лелевич Г. Марксистское литературоведение и биография художника. С. 185). С «биографистами» в некотором отношении сближались «социологи литературы» (П. Сакулин, Н. Ефимов). К «антибиографистам» относились Переверзев, Коган, Гроссман-Рощин, Фохт. Как сформулировал в своей ст. Фохт, «литературоведению с биографией делать нечего» (Фохт У. Биография в литературоведении. С. 25).
С совершенно иных позиций подходили к проблеме биографии Б. Томашевский и Ю. Тынянов. По мысли Томашевского, «вопрос о биографии в истории литературы не может быть решен однозначно для всей литературы»: «Если есть писатели с биографией, то есть писатели и без биографии. <...> Для писателя с биографией учет фактов его жизни необходим, поскольку в его произведениях конструктивную роль играло сопоставление текстов с биографией автора и игра на потенциальной реальности его субъективных излияний и признаний. Но эта нужная историку литературы биография — не послужной список и не следственное дело, а та творимая автором легенда его жизни, которая единственно и является литературным фактом» (Томашевский Б. Литература и биография. С. 9). В тесной связи с концепцией Томашевского находится идея «литературной личности», выдвинутая Тыняновым (статьи: О литературном факте // Леф. 1924. С. 101-116, вошла в кн. «Архаисты и новаторы»; О литературной эволюции // На литературном посту. 1927. № 10. С. 42-48). Для Тынянова «литературная личность» — «условная биография... которая воссоздается читателем по стихам поэта, — однако лишь в том случае, если есть авторская установка на эту личность, неважно, намеренная или непреднамеренная» (ПИЛК. С. 512).
Глубокое осмысление проблема биографии писателя получила в конце 1920-х гг. в оригинальной, стоящей особняком работе Г. О. Винокура «Биография и культура» (1927).
С. 150. Толстой — воинствующий архаист, отстаивавший в середине XIX века принципы и традиции уходящей и частью ушедшей культуры XVIII века. Это — глубоко-историческое и знаменательное явление. «Ясная Поляна» — не только поместье, но и место хранения традиций, противопоставляемых новой петербургской «цивилизации», опытное поле для культивирования этих традиций и навыков, идеологическая крепость, за стенами которой живет особо организованный на соединении самых разнообразных принципов, причудливый в своей противоречивости, архаистический в своей основе мир, созданный отчасти воображением, отчасти упорством Льва Толстого. — Сходные мысли позднее высказывал И. Берлин в эссе «Толстой и Просвещение», рассуждая о работе Толстого в Яснополянской школе и его педагогических статьях: «он (Толстой. — Л. К.) вел себя как просвещенный, энергичный, упрямый помещик XVIII века, чудак и оригинал, который увлекся доктринами Руссо и аббата Мабли»; «Есть что-то неуловимо напоминающее XVIII век, сразу и Вольтера, и Бентама, в отчаянных злых толстовских очерках российских университетских нравов своего времени...» (Берлин И. История свободы. Россия. М., 2001. С. 279-280).
С. 152. В 1836г. вся семья перебралась из Ясной Поляны в Москву... — Отъезд Толстого из Ясной Поляны П. Бирюков датирует осенью 1836 г. (Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого: В 2 кн. М., 2000. Кн. 1. С. 55) Н. Н. Гусев, опираясь на записные книжки Т. А. Ергольской, называет другую дату — 10 января 1837 г. (Гусев Н. Н. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 г. М., 1954. С. 98).
С. 154. «Помню, — пишет Назарьев, — что, заметив у меня Лермонтова, Толстой иронически отнесся к стихам вообще, а потом, обратившись к лежавшей возле меня истории Карамзина, напустился на историю, как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет». (Примеч. Э.: Назарьев В. Люди былого времени // Истор. вестник. 1890. № 11). — Э. цитирует сочинение В. Назарьева «Жизнь и люди былого времени» (Исторический вестник. 1890. № 11. Т. 42. С. 440). В источнике вместо слов «у меня» стоит «Демона».
С. 156. «Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там нужного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо!Невыносимо глупо!.. Надо мне было поплатиться за свою свободу (некому было сечь. Это главное несчастие) и философию, вот я и поплатился». — В ПСС последнее предложение дано в несколько измененном варианте: «Надо было мне поплатиться за свою свободу и философию, вот я и поплатился (некому было сечь. Это главное несчастие)» (59, 44-45).
С. 157. «Главное же, и самое благоприятное для меня убеждение...» — В ПСС вместо «для меня убеждение» — «для этой перемены убеждений» (46, 38).
С. 160. ...«играть только с людьми состоятельными, у которых больше моего»... — В ПСС цитата звучит иначе: «играть только с людьми, состояние которых больше моего» (46, 34)
С. 163. Характерна и другая запись — 1 июня 1852 г. — В ПСС дневниковая запись датирована 1 июля 1852 г. (46, 130).
С. 164. «<...> Надо не выдумать, но найти такую, которая бы была сообразна с наклонностями человека, которая бы и прежде существовала, но которую я только бы сознал». — В ПСС вместо слова «выдумать» — «выдумывать ее» (1, 289)
«Но неужели только одни те мелочи, ошибки, которые ты пишешь в журнале, мешают тебе быть добродетельным?Нет ли больших страстей? <...> Это заметил опять, заметил критически. <... >» — В ПСС вместо слова «ошибки» — «слабости». Предложение «Это заметил опять, заметил критически» читается по-другому: «Это заметила опять частица, занимающаяся критикой» (1, 290)
Остранение — см. с. 893 наст. изд.
«<...>Т. е. не весь я, а одна какая-то частица во мне... зато найдется такая, которая скажет и в пользу: "что за беда, что ты ляжешь после 12?а знаешь ли ты, что будет у тебя другой такой приятный вечер?" <... >» — В ПСС вместо «во мне» — «меня», вместо «приятный» — «удачный» (1, 282)
С. 165. Получается какая-то дантовская витиеватость, напоминающая «Vita nuova», которая тоже построена на принципе самонаблюдения и остранения. — Речь идет о сочинении Данте «Новая жизнь» (начало 90-х гг. XIII в.). Сонеты этой книги связаны со старым тосканским стилем, стилем Гвиттоне д'Ареццо, отличающимся монотонностью и чрезмерной усложненностью, вместе с тем по ходу книги Данте преодолевает этот стиль, усовершенствуя новый «сладостный стиль», восходящий к поэзии Гвидо Гвиницелли, для которой характерна яркость образов, точность и ясность выражений. См.: Голенищев-Кутузов И. Н. Поэтика Данте //Данте Алигь- ери Малые произведения. М., 1968. С. 448-473 (Сер. «Лит. памятники»).
С. 166. Еще раньше, в апреле 1851 г., он пишет из Казани Т. А. Ергольской... — В ПСС письмо датировано 8 мая (59, 94).
Особенно важен для Толстого процесс засыпания, превращающий душевную жизнь в пеструю мозаику разнообразных мыслей, ассоциативно цепляющихся друг за друга. <...> Итак, «История вчерашнего дня» — это еще совершенно импрессионистический, но тем более яркий и смелый, написанный еще без оглядки на «литературу»... — Э. называет «Историю вчерашнего дня» «импрессионистическим этюдом», имея в виду «мозаичную» композицию произведения. В понимании эстетической сущности импрессионизма Э. идет здесь, вероятно, за Б. Христиансеном, книгу которого «Философия искусства» (пер. Г. П. Федотова; под ред. Е. В. Аничкова. СПб., 1911) он высоко ценил (о влиянии книги Христиансена на русскую эстетическую мысль и литературоведение 1910-1920-х гг. см. коммент. Н. И. Николаева в кн.: Бахтин М. М. Собр. соч. М., 2003. Т. 1. С. 718-719). Б. Христиансен пишет: «...современную своеобразную ноту импрессионизма мы нашли в радикальной декомпозиции непрерывности. В импрессионистическом повествовании отдельные ситуации должны все-таки быть собраны снова в одно целое... здесь ставятся высшие требования к синтезу, основанному на памяти: нужно удерживать связи, несмотря на разорванность изложения» (Христиансен Б. Философия искусства. С. 258)
С. 170. <... > этот роман в наше время почти невозможен: он отжил свой век, он несовременен... Остаются еще два рода романов более близких между собой, чем кажется с первого взгляда <...>— После многоточия пропущен фрагмент: «У нас, может быть, еще пора не пришла, — во всяком случае он к нам не привился — даже под пером Лажечникова. Романы la Dumas" с количеством томов ad libitum у нас существуют, точно; но читатель нам позволит перейти их молчанием. Они, пожалуй, факт, но не все факты что-нибудь значат» (Тургенев И. С. Племянница: Роман, соч. Е. Тур. 4 ч. М., 1851 // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. М.;Л., 1963. Т. 5. С. 373)
С. 170—171. ...Неожиданный успех и вес приобретают такие явления литературы, которые в другое время прошли бы незамеченными — вроде «Записок ружейного охотника» С. Т. Аксакова. — Ср. замечание в дн. Э. 27 янв. 1928 г.: «А как интересно, что в 50-х годах приобретает значение (и среди писателей) старик Аксаков — когда ему 65 лет!» (Контекст-1981. С. 266).
С. 172. Особое и очень характерное место в этих ранних литературных экзерсисах Толстого занимают его французские письма к «тетеньке» Ергольской. — Подробнее см. об этом: Лазарчук Р. М. Переписка Толстого с Т. А. Ергольской и А. А. Толстой и эпистолярная культура концаXVIII — I третиXIX века//Л. Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979. С. 85-98.
С. 173. Другая важная для Толстого этого периода проблема — проблема описания и монтажа. — Монтаж (от фр. montage — сборка) — термин, вошедший в активное употребление в искусствоведении в 1910-1920-е гг. (см., напр., работы С. Эйзенштейна «Монтаж аттракционов» (1923), «За кадром», «Четвертое измерение в кино» (1929) // Эйзенштейн С. М. Монтаж. М., 1998), первоначально относившийся к области кинематографии, а затем получивший более широкое распространение. Проблем киноискусства касались в своих исследованиях и Шкловский (Шкловский В. Б. 1) Литература и кинематограф. Берлин, 1923; 2) Поэзия и проза в кинематографии//Поэтика кино/Под ред. Б. М. ЭйхенбаумаМ.; Л, 1927. С. 137-143; 3) Жили-были: воспоминания, мемуарн. записи, повести о времени: с кон. XIX в. по 1962 г. М., 1964. С. 408-413 и др.), и Тынянов (ТыняновЮ. 1) Об основах кино // Поэтика кино. С. 53-87; 2) Кино — слово — музыка // Жизнь искусства. 1924. № 1. 1 янв. С. 26-27, ряд газетных статей - см.: ПИЛК С. 323-325, 346-349, 550-552, 557), и Э. (Эйхенбаум Б.М. 1) Внутренняя речь кинозрителя // Кино (Москва). 1926. № 46. С. 3 (в несколько переработанном вид вошла в статью: Проблемы киностилистики // Поэтика кино. С. 11-57); 2) Литература и кино (1926) //Лтр. С. 296-301). По мнению Э., в киноискусстве роль монтажа решающая: именно он «превращает фото-гению в киноязык» (Эйхенбаум Б. М. Литература и кино. С. 298). Э. возражал против рассмотрения монтажа как явления сюжетосложения: монтаж — «система кадроведения или кадросцепления», «синтаксис фильмы» (Эйхенбаум Б. М. Проблемы киностилистики. С. 33). «Как перейти от одного места к другому, от одной параллели к другой — вот основная проблема монтажа при перемене места, требуемой сюжетным движением фильмы, — пишет Э. — Это проблемы стилистики (логики) и мотивировки» (Там же. С. 34).
С. 179. Вопрос стоял именно так — кто возьмет власть. (Борьба Некрасова с Краевским.) — Подробнее об этом см.: Евгеньев-Максимов В. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. М.; Л, 1950. Т. 2. С. 82-92.
С. 202. Через несколько дней он, после чтения нравоучительной переводной книги «Часы благоговения», записывает... — «Часы благоговения» — книга швейцарского поэта, историка, журналиста, общественного деятеля, масона Цшокке (Johann Heinrich Daniel Zschokke, 1771-1848 под названием «Stunden der Andacht zur Be- forderung wahren Christentums und hauslicher Gottesverehrung», Aarau, 1807-1813. Рус. пер. в 7 т. — СПб, 1834-1845 гг.).
С. 207. Об этом Толстой сам пишет Ергольской 16 сентября 1851 г.... — Письмо опубликовано у П. И. Бирюкова (Л. Н. Толстой. Биография. М., 1906. Т. 1. С. 183184) и П. А. Сергеенко (Письма Л. Н. Толстого, собр. и ред. П. А. Сергеенко. М., 1910. Т. 1.С. 11-12) с ошибочной датой 16 сент. В ПСС внесено уточнение: «Письмо датируется почтовым штемпелем: "Кизляр 17 авг. 1851". На конверте рукою Т. А. Ергольской: "Получено 16 сентября 1851 года"» (59, 116).
С. 210. «С Митенькой были связаны воспоминания детства и родственное чувство только: а это был положительно человек для меня, которого мы любили и уважали положительно больше всех на свете». — В ПСС предложение звучит несколько иначе: «С Митенькой были связаны воспоминания детства и родственное чувство и только, а это был положительно человек для тебя и для меня, которого мы любили и уважали больше всех на свете» (60, 353).
С. 211. «Мне дают 50руб. сер. за лист, и я хочу не отлагая писать рассказ, о котор. начал сегодня. — В ПСС вместо «рассказ, о котор.» — «рассказы о К[авказе]» (46, 150).
С. 218. Вопрос о тоне, о «характере автора» — один из главных вопросов, над которыми задумывается Толстой в эти первые годы и пробует решать по-разному. — Ср. в дневнике Э. 27 янв. 1928 г.: «"Семейное счастие" и "Три смерти". Ясно, что в эти годы Толстой ищет тона... Толстой ясно пробует разные тоны — то как в "Записках маркера", то как в "Севастополе", то совсем по-особому и близко к "Войне и миру" — В "Двух гусарах". Потом приходит тон проповедничества — важный выход — как в "Воскресении" или народных рассказах» (Контекст-1981. С. 266).
«Читая сочинение, в особенности чисто-литературное — главный интерес составляет характер автора, выражающийся в сочинении. Но бывают и такие сочинения, в которых автор аффектирует свой взгляд, или несколько раз изменяет его. Самые приятные суть те, в которых автор как будто старается скрыть свой личный взгляд и вместе с тем остается постоянно верен ему везде, где он обнаруживается». — Единство и неизменность авторского взгляда на вещи, по Толстому, — важнейшая особенность настоящего произведения искусства. Эта мысль занимала центральное положение в его эстетической системе на протяжении всего творческого пути. В известной поздней теоретической ст. «Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» (1894) Толстой высказывал похожую мысль, однако здесь на первый план вышло отсутствовавшее в Дневнике 1853 г. слово «нравственный»: «...цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету» (JI. Н. Толстой о литературе. М., 1955. С. 286).
С. 219. Друг его наводит его на мысль, что счастие состоит не в идеале, а в постоянном жизненном труде, имеющем целью — счастие других». — В ПСС после слов «друг его» уточнение: «друг его, она, наводит его на мысль...» (46, 146).
С. 221. Любопытно, что в записи того же дня Толстой... «Отрочеству» выносит суровый приговор: «Отрочество из рук вон слабо — мало единства и язык дурен». — В ПСС эта запись об Отрочестве» датирована следующим днем — 21 дек. 1853 г. (46, 215).
«Прежде придумывая богатство содержания и красоту мысли, я писал наудачу». — В ПСС не «придумывая», а «предугадывая» (46, 212).
С. 222. «...Я живо припомнил все случаи в моей жизни, в которой я не следовал ему, например в ближайшем ко мне по времени случае в моей службе...» — После «следовал ему» пропущен фрагмент: «и очень удивительно показалось, что я не следовал ему» (46, 181).
С. 223. «На мне всегда несколько отражается тон человека, с которым я говорю...» — В ПСС вместо «несколько» — «невольно» (46, 204).
С. 228. От этого плана кружок переходит к другому — к плану журнала «Солдатский Вестник». — О статье Толстого для несостоявшегося военного журнала см.: Эйхенбаум Б. М. Ранний публицистический набросок Толстого // Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена. Л., 1948. Т. 67. С. 135-137. См. также: ПСС 4,408-412.
С. 234. Эта интродукция, ярко окрашенная ораторскими приемами, нужна Толстому для того, чтобы следующее затем сообщение фактов, лишенное всякой лирики и всякой торжественности, звучало не само по себе, а на фоне предыдущего.
В 1920-е — нач. 1930-х гг. в науке проявился интерес к риторике, ораторским речам, риторическому началу в художественном произведении; работы, так или иначе касающиеся этих тем, многочисленны: Виноградов В. В. 1) О художественной прозе. М., Л., 1930; 2) О теории художественной речи. М., 1971 (включает работы 1920-30-х гг.); Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. М.; Л., 1927; Тынянов Ю. Н. Ода как ораторский жанр // Поэтика. Временник Отд. словесных искусств
ГИИИ. 1927. Вып. II—III, с незначительными изменениями вошло веб. «Архаисты и новаторы» (см.: ПИЛК. С. 227-252). В 1924 г. в журнале Леф (№ 1 (5)) были напечатаны статьи о риторике Ленина (Шкловский В. Ленин как деканонизатор (С. 53-56), Эйхенбаум Б. Основные стилевые тенденции в речи Ленина (С. 57—70), Якубинский Jl. О снижении высокого у Ленина (С. 71-80), Тынянов Ю. Словарь Ленина-полемиста (С. 81—110), Казанский Б. Речь Ленина (Опыт риторического анализа) (С. 111-139), Томашевский Б. Конструкция тезисов (С. 140-148)). Во второй половине 1920-х гг. в ГИИИ был подготовлен сб. по ораторской речи под ред. В. В. Виноградова и Б. В. Казанского, опубликован он не был.
Как отмечают комментаторы работ В. В. Виноградова, «мнение о необходимости изучения ораторской речи, о возвращении к риторике как особой дисциплине и новой разработке ее было широко распространено в филологии 20-х гг.» (Тоддес Е. А., Чудаков А. П. Комментарии // Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М., 1980. С. 337). Э. считал обращение к риторике одним из достижений формальной школы: «От первоначального суммарного противопоставления поэтического языка практическому мы пришли к дифференцированию понятия практического языка по разным его функциям (Л. Якубинский) и к разграничению методов поэтического и эмоционального языка (Р. Якобсон). В связи с этой эволюцией мы заинтересовались изучением именно ораторской речи, как наиболее близкой из области практической, но отличающейся по функциям, и заговорили о необходимости возрождения рядом с поэтикой риторики» (Эйхенбаум Б. М. Теория формального метода // ОЛ. С. 407). В комментариях к работам Тынянова Е. А. Тоддес рассматривает увлечение формалистов риторикой с другой стороны: «У Эйхенбаума и Тынянова интерес к современной ораторской практике стоял в связи с осмыслением некоторых явлений поэзии футуризма как возрождения оды... жанра, расцвет которого в русской литературе происходил в эпоху, когда по традиции, восходящей к античным истокам европейской филологии, риторика была полноправной дисциплиной» (ПИЛК. С. 492).
С. 241. ...Дружинин готовится к организации своей партии и к переходу в «Библиотеку для чтения»; Боткин примыкает к нему... — В процессе работы над книгой особое внимание Э. привлекла фигура В. Боткина. 27 января 1928 г. Э. отметил в дневнике: «Подумываю еще написать потом книжку о В. Боткине — даже, может быть, полубеллетристическую. <...> Это очень важная фигура в этом поколении» (Контекст-1981. С. 266).
С. 246. Все дело оказывается, собственно, не в Гоголе, а в «угрозе со стороны молодого поколения», вождем которого становится Чернышевский... — П. Рейфман, и вслед за ним И. Паперно, подчеркивали, что в конце 1850 — 1860-е гг. «молодое поколение» — это символический термин, а не указание на возраст (Рейфман П. С. Борьба в 1860-х годах вокруг романа Тургенева «Отцы и дети» // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1963. № 6. С. 82-94; Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996. С. 10-20).
С. 253. Кто бы мог думать, не зная писем Чернышевского, что «Губернские очерки» Салтыкова, на самом деле, ему не по душе? — Вопрос о Толстом и Чернышевском имел особую актуальность в 1928 г. — в год юбилейный для обоих писателей. Материал о взаимоотношениях Толстого и Чернышевского Э. опубликовал отдельной статьей «Толстой и Чернышевский» (Красная газета. Вечерний выпуск. 1928. № 329. 29 нояб.). В рецензии на нее В. Друзин возражал против сближения Толстого и Чернышевского, критикуя вывод Э.: «Они — враги, но из тех врагов, которые втайне любуются друг другом». Критик писал: «Борца-революционера превращают в эстета антиобщественника с двойной ("для себя" и "для других") системой взглядов» (Друзин В. Эйхенбаум и Чернышевский // На литературном посту. 1929. № 1. С. 16-17).
С. 254. «Военная карьера не моя, и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне отдаться литературной, тем будет лучше». — В ПСС не «отдаться», а «предаться» (47, 38).
С. 255. «В Севастополе пальба ужасная меня мучит». — В ПСС вместо «мучит» — «мутит» (47, 52).
С. 261. «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружин, из нашего союза. <... > Его так и слышишь тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более от того, что говорить не умеет и голос скверный. <... > Я убежден, хладнокровно рассуждая, что он был, как человек, прелестный и, как писатель, замечательно полезный; но именно от того, что он выступил из ряду обыкновенных людей, он породил подражателей, которые отвратительны». — В ПСС вместо «нашего» — «вашего». Перед словом «говорить» стоит местоимение «он». Не «выступил», а «выступал» (60, 74-75).
С. 267. Толстовский нигилизм... — В книге Э. понятие «нигилизм» многоаспектно. В это понятие Э. включает и толстовскую «беспощадность» по отношению к своей личной интимной жизни, которая становится материалом для его произведений, — «цинизм» Толстого, и отрицание писателем литературных шаблонов, в первую очередь романтических, и отрицание всякого рода «убеждений», противопоставление «убеждениям» — «инстинкта» жизни.
В работе «Творческие стимулы Толстого» (1935) Э. раскрывает еще один аспект толстовского «нигилизма». Рассуждая о толстовском отрицании цивилизации, прогресса, истории, он ссылается на «Письмо» Горького (впервые опубл. в газете: Борисоглебское эхо. 1915. № 95.29 нояб.), который пишет о «злейшем нигилизме» Толстого: Горький видит в Толстом «непомерно разросшуюся личность — явление чудовищное, почти уродливое» поясняя эту мысль, он пишет: «Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, — даже и в дневнике своем — молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это "нечто" лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и J1. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде "отрицания всех утверждений" — глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем неустранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо — в глубине души своей — равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их — смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в самое главное — в смерть» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.; J1., 1951. Т. 14. С. 280).
С. 269. «Первое условие популярности автора, то есть средства заставить себя любить, есть любовь, с которой он обращается со всеми своими лицами. От этого Диккенсовские лица — общие друзья всего мира; они служат связью между человеком Америки и Петербурга; Теккерей и Гоголь верны, злы, художественны, но нелюбезны... Теккерей до того объективен, что его лица с страшно умной иронией защищают свои ложные, друг другу противоположные взгляды... Хорошо, когда автор только чуть- чуть стоит вне предмета, так что беспрестанно сомневаешься, субъективно или объективно». — Многоточиями разделены три разных фрагмента записной книжки Толстого. В ПСС только первая из них датирована маем 1856 г. (47, 178), вторая относится к июню этого года (47, 184), третья — к июлю (47, 191).
«...Есть два-три человека, которые только возмущены, и сотни, которые притворяются возмущенными и потому считают себя в праве не принимать деятельного участия в жизни. Разумеется, я говорю не про вас и про Блудовых, но из литературного кружка есть много таких наших общих знакомых. Но даже ежели человек искренно возмущен, так был несчастлив, что все наталкивался на возмутительные вещи, то одно из двух: или, ежели душа не слаба, действуй и исправь, что тебя возмущает, или, что гораздо легче и чему я намерен держаться, умышленно ищи всего хорошего, доброго отворачиванием от дурного, а право, не притворяясь, можно ужасно многое любить и горячо любить не только в России, но у самоедов» — В ПСС вместо «которые только возмущены» — «точно возмущенные», не «Блудовых», а «Блудову». Последнее предложение читается иначе: «Но даже ежели человек искренно возмущён, так был несчастлив, что все наталкивался на возмутительные вещи, то одно из двух: или, ежели душа не слаба, действуй и исправь, что тебя возмущает, или сам разбейся, или, что гораздо легче и чему я намерен держаться, умышленно ищи всего хорошего, доброго отворачивайся от дурного, а право, не притворяясь, можно ужасно многое любить не только в России, но у Самоедов» (60, 90).
С. 287. «Унас главная беда не только дворяне, привыкшие с закрытыми дверями и по-французски говорить об освобождении, но правительство уже так секретничает, что народ ожидает освобождения, но на данных, которые он сам придумал. <...> И это убеждение выросло сильно, и ежели будет резня с нашим кротким народом, то только вследствие этого незнания своих настоящих отношений к земле и помещику; а правительство секретничает изо всех сил и воображает, что это внутренняя политика, и ставит помещиков в положение людей заслоняющих, интериентирующих от народа милости свыше». — В ПСС иная конструкция первого предложения: «У нас главная беда: не столько дворяне, привыкли с закрытыми дверями и по-французски говорить об освобождении...». Далее вместо слова «выросло» стоит «вросло». В конце фрагмента не «интериентирующих», а «интеромпирующих» (60, 89).
С. 288. Через два года, когда первоначальный испуг прошел, Толстой делает запись в дневнике (19 июня 1858г.)... — В ПСС запись датирована 19 июля 1858 г. (48, 16).
С. 295. И это вовсе не «влияние», а гораздо более значительный факт родства. — Понятие «литературное влияние» встречается во многих работах Э., написанных в разные годы. В статьях Э. 1910-1920-х гг. «ключевым» является понятие «усвоение»: «Художественный образ есть столько же результат лично пережитых автором впечатлений, сколько — последнее слово литературной традиции, последняя комбинация ее элементов. Момент творчества есть слияние этих двух процессов. Вот почему одна биография в такой же мере не может выяснить корни творчества, как и обратная работа — исследование литературы вне личности. <...>. И потому — не о влиянии должна быть речь, но о характере усвоения определенной традиции, о линии этого усвоения, которое есть столь же творческий процесс, как и всякое познавание» (К вопросу о "западном" влиянии в творчестве Лермонтова //Северные записки. 1914. № 10-11. С. 221).
В ранней статье о Толстом (1919) Э. писал об усвоении писателем творчества Руссо, Стерна, Тёпфера. Эту статью Э. обсуждал в разговорах с В. М. Жирмунским: «Он рассказал мне подробно содержание и построение будущей своей книги о Байроне. Между прочим говорил о том, как, по его мнению, надо ставить вопрос о влиянии <...> Очень близко к тому, как я говорю об этом в статье о Толстом. Не "миросозерцание"», не человек, а поэтика, и не "влияние", а усвоение — поэтому очень важны отличия (я посоветовал ему посмотреть у Христиансена о "дифференциальных качествах")» (дневник Э., 20 сент. 1918 г., цит. по: Переписка Б. М. Эйхенбаума и В. М. Жирмунского / Публ. Н. А. Жирмунской и О. Б. Эйхенбаум; вступ. ст. Е. А. Тодцес // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 264). В письме Жирмунскому от 9 июля 1916 г. сохранился отзыв Э. о книге Христиансена: «Прочитал книгу Христиансена "Философия искусства". Хорошая работа — она мне много дала и многое подтвердила» (Там же. С. 284). Идея Христиансена о «дифференциальных ощущениях», «ощущениях различий», «когда мы испытываем что-нибудь как отклонение от обычного, от нормального, от какого- нибудь действующего канона» (Христиансен Б. Философия искусства. С. 104), близка идеям Тынянова о литературной эволюции. По Христиансену, дифференциальные качества относительны, так как изменчив «канон», фон, на котором воспринимается новизна произведения. Опираясь на эту концепцию, Э. изучает проблему традиций в толстовском творчестве: «Все новое в искусстве выступает, как таковое, не на фоне жизни, а на фоне действующего в данное время художественного канона и, отступая от него, опирается на что-нибудь в прошлом. Поэтому, когда речь идет о влиянии или, вернее, об усвоении, отличия манеры так же существенны, как и сходства, и не противоречат, а наоборот — подтверждают» (Лтр. С. 28-29).
Жирмунский разрабатывал проблему литературного влияния на материале творчества Пушкина, в его работе акцент сделан на существовании «встречного течения» (термин Веселовского), на подготовленности усвоения традиции: «...влияние на личность уже предполагает личность, готовую воспринять это влияние, развившуюся самостоятельно навстречу этому влиянию...» (Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин Л., 1924. С. 15). В этом же аспекте Э. рассмотрел проблему в 1924 г. в книге о Лермонтове, подчеркнув подготовленность «усвоения» «местным литературным движением» (Эйхенбаум Б. М. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки//ОЛ. С. 162).
В более поздней работе «Толстой и Поль де-Кок» (1937) Э. по-новому развернул проблему влияния, введя понятие «контекста»: влияние — «частный случай более обширного и сложного явления. Литература любой эпохи представляет собой не простое собрание единичных, разрозненных или только частично связанных между собой произведений, а некое сложное соотношение, некий исторический контекст» (Толстой и Поль де-Кок // Западный сборник. 1 / Под ред. В. М. Жирмунского. М.; Л., 1937. С. 293).
С. 296....Лесков, работающий уже по принципу архаистической стилизации, делающий свою речь витиеватой, играющий стилистическими пластами. — О стилизации в прозе Лескова подробнее см. в работе Э. «Лесков и современная проза» (ОЛ С. 409-423).
С. 297. Это писалось незадолго до того, когда началась историческая схватка Толстого с «Решетниковыми», кончившаяся противопоставлением «Власти тьмы» — «Власти земли», схватка в которой Толстой вел себя уже не как Дон Кихот, а как Наполеон. — Эту мысль проясняет высказывание Э. из «Моего временника»: «Сначала Толстой растерялся и уже был готов отречься от своей власти. Но сообразив положение и изучив силы врагов, он решил вступить в новую борьбу... Явились "народные рассказы" Оставаясь тем же архаистом, Толстой вступил в единоборство с Глебом Успенским и всей школой беллетристов-народников. В ответ на материалистическую "Власть земли" явилась религиозно-нравственная «Власть тьмы». Это была борьба за литературную власть» (MB. С. 114). В цикле очерков «Власть земли» (1882) Г. И. Успенский утверждает, что русский народ «до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность ослушания ее повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование» (Успенский Г. И. Полн. собр. соч: В 14 т. [М. ], 1949. Т. 8. С. 25). Как пишет Бахтин в статье «Толстой-драматург», Толстой во «Власти тьмы» «нарочито противопоставляет... свою деревню деревне народнической литературы... народническому примату социально-этического — свой примат индивидуально-этического, идеям земли и общины — идею бога и индивидуальной совести» (Бахтин М. М. Толстой-драматург. Предисловие//Толстой Л. Н. Полн. собр. художественных произведений / Под ред. К. Халабаева, Б. Эйхенбаума. М.; Л., 1929. Т. XI. С. 181).
Окончив «Юность», он пишет 6ноября 1856г. Панаеву... — В ПСС письмо датировано 6 октября 1856 г (60, 91).
С. 299. Отношения изменились к худшему после 13марта, когда записано: «Тургенев скучен. Хочется в П.[ариж\, он один не может быть. Увы! он никого никогда не любил. Прочел ему Пропащего, он остался холоден, гуляя ссорились». — В ПСС иное окончание этой дневниковой записи: «Он остался холоден. Чуть ссорились» (47, 117).
С. 301. «Люцерн», который можно считать вариантом и поправкой к неудающе- муся «Альберту», в значительной степени поглотившей в себе всю полемику и злободневность и притом гораздо более смелой. — В ст. «О противоречиях Толстого» (1939) повести «Альберт» и «Люцерн» рассмотрены Э. с другой точки зрения. В них ученый увидел «зародыши юродства», которые прорастут потом в образе «русского деревенского юродивца» Платона Каратаева. В толстовской «философии юродства» Э. видел «протест против буржуазного уклада жизни, правительственной политики и поведения интеллигенции». В одной из последних статей Э. «90-томное собрание сочинений Л. Н. Толстого (Критические заметки)» рассказ «Люцерн» представлен в еще одном новом ракурсе: «Рассказ Толстого и по теме, и по терминологии, и даже по жанру (маленький случай, возведенный в степень мирового события) кажется написанным под влиянием знаменитого трактата Фурье "Новый хозяйственный и социентарный мир", точнее под впечатлением "Послесловия" к этой книге, в котором Фурье возмущается "упростительством" в суждениях о жизни и тем, что философы осуждают человеческую душу "безвозвратно прозябать в разрушительном состоянии, в хаосе строя, цивилизации и варварства"» (Русская литература. 1959. № 4. С. 218). О «русском фурьеризме» см. с. 939 наст. изд.
С. 309. 23 июля, по окончании «Люцерна», Толстой решает сосредоточиться на двух вещах — «Казаки» и «Отъезжее поле», и формулирует: «Совсем другое — казак — свеж как библейское предание... — В дневниковой записи пропущено слово «дик»: «Совсем другое казак — дик, свеж, как библейское предание...» (47, 146).
С. 310. 18 августа записывает: «Не могу писать без мысли. А мысль, что добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо — недостаточны. Еще хорошо, ежели бы проникнуться последним — один выход». — В ПСС: «Не могу писать без мысли. А мысль, что добро — добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо — недостаточны. Еще хорошо бы, ежели бы я проникнулся последним — один выход» (47, 152).
С. 324—325. Во второй половине пятидесятых годов вопрос о женщине стал выдвигаться рядом с другими общественными вопросами и приобрел характерную социальную окраску — как вопрос не столько о любви, сколько о браке, о семье, о правах женщины и т. д. <...> Как и во многом другом, личная жизнь Толстого совпадает здесь с жизнью эпохи — и тем острее, чем сложнее его отношение к современности, его борьба с ней на ее же территории. — О проблемах брака, семьи, отношения к женщине в 1860-е гг., в. т. ч. сопоставления Толстого и Чернышевского см.: Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996. С. 77-135.
С. 326. «В Дрездене еще совершенно неожиданно встретил К. Львову. Я был в наилучшем настроении духа для того, чтобы влюбиться. ~ К. Львова — красивая, умная, честная и милая натура...». — В ПСС не «наилучшем», а «наиудобнейшем». Слово «милая» в характеристике Львовой отсутствует (60, 221).
С. 337. Толстой ругает Тургенева (особенно «Дворянское гнездо») и Островского: «Гроза Островского есть плачевное сочинение, а будет иметь успех. Не Островский и не Тургенев виноваты, а время; теперь долго не родится тот человек, который бы сделал в поэтическом мире то, что сделал Пушкин», (см. также примеч. Э.) — По поводу этого высказывания Толстого Шкловский писал Э. 27 ноября 1928 г.: «...Я не согласен с тем, что ты цитируешь место, где написано "Булгарин" и пишешь "Пушкин", отодвигая Булгарина в примечания». «"Мои воспоминания" Фета, где Булгарин был напечатан Булгариным, а не Пушкиным, были напечатаны в Москве в 1890 году, то есть за двадцать лет до смерти Толстого, то есть они были Толстому известны, и Булгарин остался Булгариным, не измененным на Пушкина, хотя Фет мог спросить у Толстого. Для Фета, для Толстого Булгарин в этом месте не колол глаза» (Из писем к В. Б. Шкловскому. С. 158). Как уточняет комментатор писем Шкловского Чудакова, Э. цитировал письмо Толстого по «Моим воспоминаниям» Фета. В письме Шкловскому от 24 декабря 1928 г. Э. прояснил свою позицию: «Я до сих пор не верю Цявловскому — когда буду в Москве, пойду смотреть собственными глазами... Контекст письма заставляет вспомнить не о Булгарине, а о недавней борьбе толстовской группы (Анненков, Боткин, Дружинин, Фет) за Пушкина, за высокую литературу, за чистое художество» (Там же. С. 159).
С. 340. Этот шаг обнаруживает в Толстом замечательное чувство истории, которое и провело его через ряд эпох. Он пишет Ковалевскому: «Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы узнать, что делать прежде, а что после». — Проблема «Толстой и История» многостороннее рассматривалась в трудах Э. В кн. «Лев Толстой. 50-е годы», в ст. «Творческие стимулы Толстого» (1935), говоря о поведении Толстого, Э. отмечает присущее ему «чувство истории». В ст. «Пушкин и Толстой» (1936), исследуя мироощущение писателя, Э. писал в другом ключе: «...у Пушкина было органическое и совершенно реальное ощущение исторического процесса и его законов — была вера в историю, тогда как у Толстого именно этого, самого важного, самого плодотворного для творчества ощущения не было» (с. 709 наст. изд.). С отсутствием «веры в историю» Э. связывает принципиальный «антиисторизм» толстовского творчества (см. с. 711—733 наст. изд.).
Лев Толстой, Книга 2. Шестидесятые годы
Впервые: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. 2.60-е годы. М.; Л.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1931. — 424 с. Тираж 5000 экз.
Печатается по первому изд.
Книга является продолжением большого исследования, начатого монографией ученого «Лев Толстой. Кн. 1. Пятидесятые годы». Во второй книге важнейшей остается проблема «исторического поведения», сохраняется и установка Э. на изучение «литературного быта». Однако уменьшен «вес» биографического элемента, она по-новому организована. Начиная работать над второй книгой, Э. писал Шкловскому 7 мая 1929 г.: «Второй том, я думаю, будет лучше первого, п. ч. хронология мне уже не будет нужна» (Из писем к В. Б. Шкловскому / Публ. О. Б. Эйхенбаум; Вступ. заметка и коммент. М. О. Чудаковой // Нева. 1987. № 5. С. 160). В центре второго тома — роман-эпопея «Война и мир» и путь Толстого к ней.
Путь Толстого к эпопее раскрывают две первые части книги: «Толстой вне литературы» и «Возвращение в литературу». Такое распределение материала («литература» и «вне литературы») принципиально важно: по Э., и литературные произведения Толстого, написанные им перед «Войной и миром», и толстовская деятельность вне литературы равно подготавливают создание эпопеи, ведут к ней. В построении книги сказывается важнейшая для Э. мысль, которую он многократно повторял, впервые прозвучавшая в ст. 1919 г. «Лев Толстой»: «Толстой всегда был художником и никогда не переставал им быть...»; «...все "остановки" Толстого, не просто душевное явление, обусловленное натурой или обстоятельствами жизни, а определенный творческий акт, момент освобождения, эволюции. "Двойственность" Толстого... есть для нас не пассивное проявление его натуры, но акт сознания, выработанного в поисках нового творческого начала» (с. 31 наст. изд.). См. также: Эйхенбаум Б. М. 1) О кризисах Толстого// СЛ. С. 67-72; 2) О Льве Толстом // Там же. С. 62-66).
О процессе создания «Войны и мира» — от ранних редакций до прижизненных изданий романа — рассказывается в третьей и четвертой частях монографии. Разделение текста на третью («Все хорошо, что хорошо кончается») и четвертую («Война и мир») части обусловлено взглядом Э. на творческую историю романа. Для Э. 1-я редакция книги «Все хорошо, что хорошо кончается» и ее последний вариант «Война и мир» — это два разных произведения: и по жанру, и по масштабу, и по поэтике, и по содержанию. Первое — семейный роман, второе — эпопея.
Каждая из четырех частей книги разделена на несколько глав. Центром, вокруг которого строится материал главы, у Э. зачастую является художественное произведение (во второй части: гл. 3 — «Казаки», гл. 4 — «Холстомер»; в третьей части: гл. 1 — «Декабристы», гл. 2. — «Зараженное семейство») или имя (в первой части: гл. 2 — Чичерин, гл. 3 — Ауэрбах, гл. 4 — Риль; в четвертой части гл. 4 — Урусов). О принципе движения «по именам» пишет сам Э., подчеркивая проблему монтажа фрагментов, объединенных каким-либо именем: «Таким образом переход от Бокля к Погодину, а от Погодина к Урусову монтируется сам собой — без всяких усилий с моей стороны. Загадочные источники, а вместе с ними и смыслы фило- софско-исторических глав "Войны и мира", вплоть до их стилистической и терминологической стороны, начинают выясняться» (с. 528 наст. изд.). На смену хронологии, играющей существенную роль в монографии «Лев Толстой. 50-е годы», в книге о 1860-х г. пришел «монтаж» фрагментов по логике художественной мысли Толстого, по логике мысли изучаемой эпохи.
Первая и вторая книги Э. о Толстом, по-разному построенные, связаны единым авторским стилем. Монографию Э. «Лев Толстой. 50-е годы» первые читатели упрекали в излишней беллетристичности стиля, Шкловский назвал ее «недожаренной», «красноречивой» и посоветовал Э. написать роман (см. с. 897—904 наст, изд.). Беллетристичность, проглядывающая за анализом самого разного материала, сохранилась и во второй книге Э. В первом и втором томе встречаются очень похожие по тону почти художественные фрагменты, расположенные, как правило, «на стыке» глав или частей. К примеру, в работе о 1850-х годах Э. писал по поводу прихода Толстого в «Современник»: «Литераторы встретили Толстого... как несомненный "новый талант". Они принялись наперерыв ухаживать за ним, и боясь и ревнуя. У них как будто появилась мысль, что с приездом этого артиллериста положение в "Современнике" должно измениться — явилась новая сила, не только талант, но и граф. <...> Их ожидало однако разочарование — и с совершенно неожиданной стороны: Толстой оказался офицером, и "аристократом" в такой степени, что они, интеллигенты, склонные к либерализму, ахнули» (с. 258 наст. изд.). В том же мягко ироническом тоне Э. рассказывает во втором томе о взаимоотношениях Тургенева и Толстого: «Тургенев опять начинает надеяться, что "чудачества" Толстого подходят к концу... Узнав, что Толстой в Брюсселе пишет повесть ("Поликушку"), Тургенев решает возобновить свой прежний тон учителя и советчика... Менторский и даже несколько злорадный тон этого письма (в смысле — "давно бы так") нисколько не лучше того, каким в это же время писал Толстому Чичерин; каждое слово приведенной цитаты должно было возмущать Толстого — в том числе и снисходительное разрешение заниматься на досуге «первобытной» педагогией. Это сказалось очень скоро — Тургенев слишком рано обрадовался: в мае 1861 г., сейчас же по возвращении Толстого из-за границы, они поссорились и разошлись почти на всю жизнь, (с. 399 наст. изд.). «Беллетристическим» фрагментом начинается и глава о «Войне и мире»: «Тургенев уже в 1866 г. заметил, что Толстой заразился "рассудительством", но находил сначала, что это не опасно: "этой беды бояться нечего". Смысл этих слов, по-видимому, иронический: нечего бояться не потому, что он с этим легко и удачно справится, а потому, что это — не его область, и поэтому из этих попыток все равно ничего выйти не может. Но дело складывалось несколько иначе — и тот же Тургенев через три года завопит о том, что с Толстым случилась беда. "Беда" началась уже в 1867 г. — когда Толстой подошел к 1812 г.» (с. 501 наст. изд.).
В отличие от первого тома, книга Э. «Лев Толстой. 60-е годы» после выхода в свет в 1931 г. большого количества читательских откликов не вызвала. А. А. Сабуров отметил интересную особенность читательской рецепции: о книге Э. «Лев Толстой. 60-е годы» «много говорили, но очень мало писали, хотя она того более чем заслуживает» (Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика. М., 1959. С. 20-21). Как указала комментатор писем Шкловского О. Панченко, 22 декабря 1931 г. Э. сообщил Шкловскому, что выход в свет второго тома «Льва Толстого» «раздражил непишущих писателей и вызвал отрицательные отклики в ленинградских газетах» («Я иду с туза»: Из переписки Виктора Шкловского с Борисом Эйхенбаумом / Вступ. заметка, публ. и примеч. О. Панченко // Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 244). Через несколько лет после выхода книги появилась статья М. Корнева «Ранний Толстой и социология Эйхенбаума» (Литературный критик. 1934. № 5. С. 58-75), ее автор обвинял Э. в попытке «затушевать свой формализм "социологическими" отступлениями» (Корпев М. Ранний Толстой и социология Эйхенбаума. С. 63), подменить биографией социологию творчества Толстого, в игнорировании «диалектики классовой борьбы» (Там же. С. 67). В опубликованных письмах Шкловского 1930-х гг. нет конкретных суждений о втором томе работы Э. Упоминание этой книги Э. есть в поздней монографии Шкловского «Лев Толстой». Полемика Шкловского и Э., начатая в их переписке 1920-х гг.икнигах 1928 г. «Матерьял и стиль в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"» и «Лев Толстой. 50-е гг.» по вопросу об источниках толстовского романа, была продолжена Шкловским и в его поздней работе. «Борис Михайлович Эйхенбаум во 2 томе своего исследования "Лев Толстой" утверждал, что "Война и мир" родилась из мемуарной литературы. Это домашняя литература, поэтому он скреплял своей подписью мнение Поливанова, Татьяны Кузьминской, Софьи Андреевны.
Я не соглашаюсь с Борисом Михайловичем и не соглашался и раньше; я думаю, что Лев Николаевич залез в комнату под сводами и запер дверь в нее, спасаясь от прототипов». Шкловский подчеркивал значение традиции романного жанра: «Детские годы Багрова-внука» «родилось в результате уже существующего семейного романа», «и за "Исповедью" стоит опыт английского романа» (Шкловский В. Б. Лев Толстой. М., 1963. С. 396).
В 1940-е гг. книгу Э. «Лев Толстой. 60-е годы» высоко оценил историк Е. В. Тар- ле. В дневнике Э. 29 октября 1946 г. сделана запись: «Вчера на ученом совете Унив- та... ко мне подошел Е. В. Тарле и громко сказал, что он с огромным интересом читает мою книгу о Толстом: "Благодарю вас за то, что вы ее написали", — прибавил он и пожал мне руку» (Контекст-1981. С. 275). С Тарле Э. советовался в процессе работы еще над первым томом «Льва Толстого» (см. дневник Э., 23 мая 1928 г//Там же. С. 271).
В 1949-1950 гг. в центральных журналах вышло сразу несколько статей с резкой критикой Э.: Абрамов Ф., Лебедев Н. В борьбе за чистоту марксистско-ленинского литературоведения//Звезда. 1949. № 7. С. 165-171 \ Иванов В. За советский патриотизм в литературе и литературной критике // Октябрь. 1949. № 8. С. 171-181; Караваева А. Оруженосцы космополитизма. Заметки писателя // Новый мир. 1949. № 9. С. 218-234; Папковский Б. Формализм и эклектика профессора Эйхенбаума //
Звезда. 1949. № 9. С. 169-181; Ревякин А. За советский патриотизм в критике и литературоведении//Вопросы теории литературы. М., 1950. С. 30-65. — Э. обвиняли в методологическом эклектизме, в космополитизме, низкопоклонстве перед Западом. Книги Э. были признаны «нагромождением вреднейшей путаницы» (Б. Пап- ковский), так как Толстой изображен в них как «подражатель третьесортной французской и английской литературы» (В. Иванов), «дюжинный беллетрист, которому художественно помогают такие писатели, как Брэддон и Троллоп» (А. Ревякин).
Книга Э. «Лев Толстой. 60-е годы» только через несколько десятилетий после ее первого издания была востребована в науке, она стала основой для серьезных как отечественных, так и зарубежных исследований по русской литературе (И. Берлин, А. В. Чичерин, И. Паперно, Я. С. Лурье и др.).
С. 355. Толстой, оказывается, ближайшим образом связан с кружком «чудаков»- архаистов 60-х годов, продолжающих развивать взгляды и традиции старших славянофилов. Источники и смыслы философско-исторических и военно-теоретических глав «Войны и мира» таким образом проясняются. — В поздней работе «Очередные задачи изучения Л. Толстого» (Труды юбилейной науч. сессии ЛГУ. Секция филол. наук. Л., 1946. С. 279—294). Э. установил еще один источник «Войны и мира» — сочинение Н. Я. Данилевского «Россия и Европа».
С. 358. Противопоставление Москвы Петербургу стало заново злободневной темой. — Тема противопоставления Москвы и Петербурга связана с теорией литературного быта Э. В семинаре по проблемам литературного быта, который работал под руководством Э. с января 1928 по апрель 1930 г., среди других был прочитан доклад Е. Боронинойо о литературной борьбе двух городов, Москвы и Петербурга, в 1820—1850-е гг., который получил высокую оценку Э. (См.: Чудакова М. О. Комментарий//ОЛ. С. 524).
М. Погодин издал сборник «Утро» (1859), о котором писал П. Вяземскому. «Альманах намеревается заговорить о литературе, стоящей теперь на заднем плане, и начать реставрацию, ревизию и инспекторский смотр». (Примеч. Э. : Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. XVI. С. 368. Ср. статью Н. Добролюбова об этом сб.) — См.: Утро. Литературный сборник // Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 113-135. Впервые: Современник. 1859. № 1. Отд. III. С. 31-54, без подписи.
С. 361. При желании любая система может найти у Толстого, как находил Михайловский, подходящие «шуйцу» и «десницу». — Речь идет о статье Н. К. Михайловского «Десница и шуйца Льва Толстого» (первая редакция: Отечественные записки. 1875. Май, июнь, июль. В составе цикла «Записки профана», затем в переработанном виде опубликована отдельной статьей: Михайловский Н. К. Критические опыты. СПб., 1887. Вып. 1). Подробнее об этой ст. см. с. 586-602 наст. изд.
Архаистичность толстовской позиции выражается в противопоставлении конкретным историческим оценкам и принципам... В этом разница между системой архаистической и архаической (отсталой). Архаистическая система — не просто элемент, оставшийся от уже преодоленного и доживающего свой век явления, а наоборот — заново восстающая и имеющая основания для нового успеха, хотя и коренящаяся в прошлом, сила. — Как замечено Чудаковой, в ранних ст. 1918-1920 гг., в кн. «Молодой Толстой» идея о Толстом-архаисте высказывалась Э. «применительно к чисто литературным пристрастиям писателя», позднее она «будет восприниматься исследователем более широко, как особое положение Толстого в русской общественной и литературной жизни на протяжении почти шестидесяти лет» (Чудакова М. О. Комментарий//OJ1. С. 462). О разграничении «архаического» и «архаистического» писал Тынянов в статье «Архаисты и Пушкин» (1926), рассматривая творчество Катенина: «.. во второй своей полемической статье Катенин детализировал и общий вопрос об архаистическом направлении: архаистическое направление не есть архаическое, архаисты — не архаики» (Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. СЛ.], 1929. С. 126). Э. высоко оценил эту работу Тынянова (см.: Эйхенбаум Б. М. Творчество Ю. Тынянова// Звезда. 1941. № 1. С. 130-143) и, несомненно, имел ее в виду, когда писал об архаической линии в литературе.
С. 363. Так, к концу 1856 г. он заинтересовывается Герценом и читает «Полярную звезду» (запись от 4 ноября — «Очень хорошо»), сходится с Б. Н. Чичериным, а о славянофилах пишет В. Боткину (28января 1857г.).» — В ПСС письмо датировано 29 января 1857 г. (60, 156).
С. 363-364. «Тип профессора-западника, взявшего себе усидчивой работой в молодости диплом на умственную праздность и глупость, с разных сторон приходит мне в противоположность человеку, до зрелости удержавшему в себе смелость мысли, чувства и дела». — В цитате пропущено несколько слов, в ПСС: «... смелость мысли, и нераздельность мысли, чувства и дела» (48, 50).
С. 367. Еще недавно статьи Чичерина не нравились Толстому; теперь, 20марта 1858г., в дневнике записано: «Читал Чичерина статью о промышленности в Англии. Страшно интересно. С некоторого времени всякий вопрос для меня принимает громадные размеры. Много я обязан Чичерину. Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве невольно ишу его место в вечном и бесконечном, в истории». — В ПСС в первом предложении нет предлога «в», последнее предложение выглядит несколько иначе: «Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его место в вечном и бесконечном, в истории» (48,10).
С. 380. ...Вильгельм Риль (Riehl) — фигура интересная в истории не только немецкой науки и культуры, но и русской. — К сочинениям Риля Э., вероятно, обратился еще в процессе работы над первым томом «Льва Толстого», в письме Шкловскому от 30 ноября 1928 г. он сообщал: «У меня еще другая забота — Риль. Этот материал, имеющий большое значение и вне Толстого (один из основных источников русской дворянской, а именно помещичьей, идеологии), многое разъясняет» (Из писем к В. Б. Шкловскому. С. 159). Исследование темы «Риль и русская культура» было продолжено В. А. Китаевым (см.: Китаев В. А. Вильгельм Риль в «Русском вестнике» (1857-1862) // Уч. зап. Горьковского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Сер. «Философия». Вып. 96. Горький, 1969. С. 227-214).
С. 401. Самый быт школы подробно описан в письме к той же А. А. Толстой (июль 1861 г.): «Есть и у меня поэтическое, прелестное дело, от которого нельзя оторваться — это школа. <...>— В ПСС письмо датировано началом августа 1861 г. (60, 404).
С. 417. Возможно, что, при своем интересе к вопросу о народной литературе и восторженном отношении к Ауербаху, Толстой читал его книгу и обратил внимание на мнение Ауербаха относительно имитации устной речи. <... > Если это так, то переход от «Идиллии» к «Тихону и Маланье» был переходом от сказовой имитации, внушенной Толстому Ауербахом, но вообще для Толстого не характерной, к обыкновенному повествованию. — Проблеме сказа посвящено несколько работ Э.: «Как сделана "Шинель" Гоголя (Поэтика. Пг., 1919. С. 151-195); Иллюзия сказа (1918) // СЛ. Л, 1924. С. 152-156); «Лесков и современная проза», авторская датировка — 1925, опубл.: Лтр.). Исследователь понимает сказ как «форму повествовательной прозы, которая в своей лексике, синтаксисе и подборе интонаций обнаруживает установку на устную речь рассказчика» (ОЛ. С. 413).
Ст. Э. «Как сделана "Шинель" Гоголя» повлияла на ранние работы Виноградова по проблеме сказа: «Стиль петербургской поэмы "Двойник" Опыт лингвистического анализа» (июль 1921, позднейшее название «К морфологии натурального стиля. Опыт лингвистического анализа петербургской поэмы "Двойник"»), «О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума» (1923), «Этюды о стиле Гоголя» (1923), Гоголь и натуральная школа (1924), «О теории литературных стилей» (1927), «Проблема сказа в стилистике» (1925). (См. об этом: Чудаков А. П. Ранние работы В. В. Виноградова по поэтике русской литературы // Виноградов В. В. Избр. труды. Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 467-468). Сам Э. писал в дневнике 29 ноября 1925 г.: «Странно, но выходит так, что из моей Мелодики возник Серг[ей] Игн[атьевич] Бернштейн, а из статьи о "Шинели" — Виноградов» (Цит по: Чудаков А. П. Ранние работы В. В. Виноградова по поэтике русской литературы. С. 467).
В ст. о «Шинели» Гоголя Э. изучает фонетическую сторону сказа, «мимико- произносительную силу» произведения (об интересе к звуковой стороне произведения в науке 1920-х гг. в связи с идеями «слуховой филологии» Э. Сиверса см.: ПИЛ К. С. 492). По Виноградову, определение сказа, которое дал Э., недостаточно. С точки зрения Виноградова, сказ предполагает не просто установку на устную речь, сказ — это «своеобразная литературно-художественная ориентация на устный монолог повествующего типа», «художественная имитация монологической речи, которая, воплощая в себе повествовательную фабулу, как будто строится в порядке ее непосредственного говорения» (Виноградов В. В. Проблема сказа в стилистике // Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М., 1980. С. 49).
С. 439. «Приходится вам опять перепрягать свою колесницу, а "юхванство"перепрягать из оглобель на пристяжку; а мысль и художество уж давно у вас переезжено в корень. Я уж перепрег и гораздо спокойнее поехал». — В ПСС союз «и» вместо «а», слово «перепречь» вместо «перепрягать», «переезжены» вместо «переезжено» (61, 83).
С. 441. Сатира Фета направлена... отчасти и против Толстого — против его повести о Холстомере, в которой есть следы увлечения Прудоном. В. Соллогуб, прочитав эту повесть, писал Толстому (в 1864 г.): «рассуждение о собственности холодно, прудонно и не ново». — В письме Шкловскому 24 декабря 1928 г. Э. советовал: «Посмотри в московском томе "Письма Толстого и к Толстому" очень интересные письма Чичерина. Из ящика с книгами, о котором пишет Чичерин, пришлось вынуть Прудона. Толстой жил в Брюсселе целый месяц и виделся с Прудоном, вероятно, не раз. Посмотри еще там же письмо Соллогуба о "Холстомере" (1863 г.). Он шутит, что "прудонно". Это характерно» (Из писем к В. Б. Шкловскому. С. 159).
С. 444. «Дерзость воров, уведших у меня лошадей, коров, овец, укравших весы с амбара, дошла до того, что прошлой осенью почти перед домом выкопали молодые яблони и увезли. Садовник мой нашел яблони у соседнего мужика, представил явные доказательства срезки ветвей и прошлогодней, а не осенней пересадки по положению корней. <...> Посредник мой отвечал бумагой, что яблони немой и что я имею купить другие...» — В ПСС после слова «овец» — союз «и», вместо «представил» — «представивши», вместо «мой» — «мне» (48, 51).
24 марта 1863 г. (т. е. на другой день после письма о фарфоровой кукле) Толстой записывает: «Я ее все больше и больше люблю. Нынче 6-й месяц, а я испытываю давно не испытанное чувство уничтожения перед ней. <...> Я не владею ею, потому что не смею, чувствую себя недостойным». — В ПСС: «Нынче 7-й месяц, и я испытываю давно не испытанное сначала чувство уничтожения пред ней», в последнем предложении: «... не чувствую себя достойным» (48, 53).
С. 449. Так... Толстой доживает до осени 1863 г. Последняя запись этого года (от 6 октября) намечает некоторый исход из мучительного состояния: семейная травма кое-как преодолена — остается преодолеть или пересилить травму социальную, историческую: «<... > Я качусь, качусь под гору смерти, а хочу и люблю бессмертие. Выбирать незачем. <... >». — В книге Э. в цитате пропущен фрагмент, в ПСС: «Я качусь, качусь под гору смерти и едва чувствую в себе силы остановиться. А я не хочу смерти, а хочу и люблю бессмертие» (48, 57).
С. 464. ...Толстойрастит тот «домашний» стиль, которым потом наполнятся страницы «Войны и мира». Здесь прихотливая, пародийная игра стилей, столкновение разнообразных языковых слоев, веселая эквилибристика, словесные фокусы... — О языке «Войны и мира» см.: Виноградов В. В. О языке Толстого (50-60-е гг.) //Литературное наследство. Т. 35-36. М., 1939. С. 117-220.
С. 479. П. Вяземский был по-своему прав, когда отнес роман Толстого, даже в его окончательной редакции, к разряду исторической нетовщины, а автора зачислил в состав представителей «нравственно-литературного материализма». — Э. имеет в виду ст.: Вяземский П. А. Воспоминания о 1812 годе // Русский архив. 1869. № 1. Стлб. 181—216. См.: Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 262-270.
С. 480.1 октября 1864 г. Толстой пишет ему: «Очень благодарен вам, уважаемый Михаил Петрович, за присылку книг и писем...» — В ПСС письмо датировано 8 октября 1864 г. (61, 55).
С. 486—487. В. Шкловский был совершенно прав, когда заявил, что количество прочтенных Толстым для романа источников было совсем не так велико, как принято об этом говорить. — См.: Шкловский В. Б. Матерьял и стиль в романе JI. Толстого «Война и мир». М., 1928. С. 30.
С. 488. Ни одно лицо не было явным портретом — процесс узнавания был затруднен обычным для Толстого методом слияния в одном персонаже нескольких прототипов. Так, старик Болконский, который до сих пор считается списанным с деда Толстого (Николая Сергеевича Волконского), списан не только с него, а в гораздо большей степени с фельдмаршала М. Ф. Каменского (старшего)... — Проблема прототипов — еще один пункт расхождения Э. и Шкловского. В поздней монографии «Лев Толстой» Шкловский критиковал позицию Э.: «Сейчас уже принято думать, что озлобленный и гордый неудачник генерал Волконский, строитель старого дома, не может быть прототипом старого князя: у него было другое общественное положение, другая биография»; «Фельдмаршал Каменский, которого выдвинул в качестве прототипа Э, тоже не годится: Каменский происходил из нечиновных дворян — это самолюбивый военачальник, теоретик, соперник Наполеона, который удивлялся на него, встретившись с ним на позиции, подготовленной Каменским» (Шкловский В. Б. Лев Толстой. М., 1963. С. 396).
С. 490. Об этом Толстой и писал Фету 17 ноября 1863 г. :«Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения...». — В ПСС другая дата — 17 ноября 1870 г. (61, 240).
С. 491. Здесь особенно знаменательно появление слова «поэма» — как обозначение того, что изменился не только план, но и жанр, и изменился именно в сторону «повышения», приближения к жанру поэмы. — Мнение Э. об изменении жанра «Войны и мира» (от семейного романа — к эпопее) поддерживают С. П. Бычков (Творчество Л. Н. Толстого. М., 1954. С. 15), Я. С. Лурье (После Льва Толстого. Исторические воззрения Толстого и проблемы XX века. СПб., 1993). Иная точка зрения выражена в работах А. А. Сабурова, Э. Е. Зайденшнур. Как утверждает Сабуров, концепция Э. «строится на основании черновых текстов, отвергнутых самим Толстым» (Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика. М., 1959. С. 22), а «появление отступлений было обусловлено у Толстого сочетанием работы художника и мыслителя, необходимостью исторических справок, а вовсе не соображениями жанра» (Там же. С. 463). С точки зрения Э. Е. Зайденшнур (Л. Н. Толстой. Создание великой книги. М., 1966; коммент. к «Войне и миру» в ПСС. Т. 16), первая редакция романа — уже «многоплановое произведение», где «в историко-философских рассуждениях голос автора звучит уже громко и отчетливо» (Зайденшнур Э. Е. Л. Н. Толстой. Создание великой книги. С. 66). Возражая ей, Я. С. Лурье пишет: здесь толстовские рассуждения об истории «не были еще объединены в некую единую концепцию» (Лурье Я. С. После Льва Толстого. С. 9). О проблеме жанра «Войны и мира» см. также: Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого: Проблематика и поэтика. М., 1959; Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1975; Громов П. О стиле Л Толстого: «Диалектика души» в «Войне и мире». Л., 1977; Мотылева Т. «Война и мир» за рубежом: Переводы. Критика. Влияние. М., 1978; Купреянова Е. Н. О проблематике и жанровой природе романа Л. Толстого «Война и мир» // Русская литература. 1985. № 1. С. 161172; Сливицкая О. В. «Война и мир» Л. Н. Толстого: Проблемы человеческого общения. Л., 1988. С. 18-19.
С. 496. В своем ответном письме (от 7ноября 1866 г.) Толстой благодарит Фета и говорит, что вывел для себя поучительное из его отзыва о кн. Андрее: «Он однообразен, скучен и только ип homme сотте ilfaut во всей 1-й части. Это правда, но виноват в этом не он, а я. Кроме замысла характеров есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу и с которой [которым ?] я не справлюсь, как кажется. — В цитате из письма пропущена часть предложения, в ПСС: «Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла столкновений характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу, и с которым я не справляюсь, как кажется»(б7, 149).
С. 499. Уже в конце своей первой книги я остановился на связи «Войны и мира» Толстого с «Войной и миром» Прудона. Теперь этот вопрос надо развернуть, а также внести некоторые поправки и дополнения. — Э. заинтересовался сочинениями Прудона еще в конце 1920-х гг., в процессе работы над книгой «JI. Толстой. 50-е годы» (см. с. 902, 905 наст, изд.), в последней главе которой материал по теме «Толстой и Прудон» был конспективно изложен. В мае 1928 г. Э. читал письма Прудона, в которых нашел «описание встречи и разговора с Толстым» (Контекст-1981. С. 271). Материал о взаимоотношениях Толстого и Прудона, в частности об этой встрече двух мыслителей, дополнен в работе: Мендельсон Я. М. Герцен — Прудон — Толстой //Лит. наследство. 1934. № 5. С. 282-286). В 1928 г. Э. обнаружил очень любопытные работы М. Драгомирова о Прудоне и о Толстом, 30 ноября он писал об этом Шкловскому: «С Прудоном я раскопал еще интересные вещи. В 1865 г. были напечатаны его черновые записки и наброски (1859-60 гг.) о Наполеоне, цель которых — унизить Наполеона, доказать, что он — шарлатан и пр. (Все эти наброски вышли потом отдельной книгой — "Napoldon I", которую я достал). По этому поводу Драгом иров в 1897 г. написал статью во франц <узском> журнале, где ругает Прудона и, называя Толстого, иронически цитирует его слова о том, что гений не нужен тому, кто велит идти тому налево, тому направо. По этой статье видно, что Драгомиров знает книгу Прудона ВМ. Выходит так: когда Драгомиров в 60-х гг. писал о ВМ Толстого, он не называл Прудона; когда в 1897 г. он писал о Прудоне, он не называет Толстого, а только цитирует его слова... а ссылается, опровергая Прудона, на стихи Пушкина, Лермонтова. Забавно!» (Из писем к В. Б. Шкловскому. С. 158).
По словам Э., Прудон для него «важен в двух отношениях: как толчок к "военной эпопее" и как важный для Толстого момент в трактовке Наполеона» (письмо Шкловскому, 24 декабря 1928 г. // Там же. С. 159). С Прудоном Э. связывал толстовское «решение писать не просто исторический, а военный роман, с отступлениями в сторону философии истории и войны» («Л. Толстой. 50-е годы»). К Пру- дону Э. возводил и название романа «Война и мир». По мысли Э., у Прудона, а затем и у Толстого, это «не просто два слова, а формула, за которой стоит целая теория войны» (Там же), и слово «мир» (через «и»!) — элемент этой формулы, а не обозначение семейных сцен, «тыла». В поздней статье «90-томное собрание сочинений Л. Н. Толстого (Критические заметки)» (Русская литература. 1959. № 4). Э. полемизировал с Э. Е. Зайденшнур, которая в комментариях к толстовскому роману делала вывод о написании Толстым слова «Mip» через «i», опираясь на «единственную описку в деловом документе», в проекте условий с типографией Каткова (с. 223). По этому вопросу см. также более поздние работы С. Г. Бочарова «"Мир" в "Войне и мире"» (Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985.
С. 229-248); «Роман Л. Н. Толстого "Война и мир"» (М., 1987), недавнюю ст. Н. А. Еськовой «Что означает слово "мир" в названии романа Льва Толстого?» (Новый мир. 2006. № 7. С. 204-205).
Вторая проблема — трактовка образа Наполеона у Прудона и Толстого, — как отметил сам ученый, в первой и второй книгах решалась им по-разному. В первом томе Э. писал о разности во взглядах Прудона и Толстого на Наполеона, а во втором томе обнаружил их сходство.
По вопросу о влиянии Прудона с Э. в разные годы полемизировал Шкловский. Выводы Э. поставил под сомнение и А. А. Сабуров. Он признал влияние сочинения Прудона «Война и мир» только на название книги Толстого, но не на его «идейное содержание» (Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика. С. 24). И. Берлин в ст. «Еж и лисица. Об исторических взглядах Толстого» (ВЛ. 2001. № 4. С. 139-178; № 5. С. 71-100; Берлин И. История свободы. Россия. М., 2001. С. 183-268. Впервые ст. опубл. под названием «Leo Tolstoy's Historical Scepticism» (Oxford Slavonic Papers. 1951. Vol. 2. P. 17-54), переиздавалась под нынешним названием в 1953, 1978 гг.) писал, что «сходства между Прудоном и Толстым носят зыбкий и весьма общий характер, различия же — глубже, многочисленнее и более конкретны», «Прудон следует за де Мест- ром, считая, что причины войн — это темная и священная тайна; во всех его произведениях много непонятного иррационализма, морализаторства, любви к парадоксам и вообще руссоизма. Но эти особенности присущи почти всей французской радикальной мысли, и найти что-то сугубо прудонистическое в "Войне и мире" Толстого, за исключением названия, весьма затруднительно» (Берлин И. Еж и лисица. С. 81).
С. 513. В дальнейшей работе над романом, как это видно и по дневнику и по письмам к Бартеневу, Толстой обратился к сочинениям де-Местра, и они стали одним из источников, использованным не только для военных и философских глав, но и для глав художественных. — Труды Жозефа де Местра рассмотрены как важнейший источник «Войны и мира» в статье Берлина. Общность между Толстым и де Ме- стром Берлин увидел в иррационализме, «упоре на неощутимое и неисчислимое» (Берлин И. Еж и лисица. Об исторических взглядах Толстого. С. 74), в представлении о том, что «победа есть дело морального или психологического превосходства, а не физического» (Там же. С. 76). Берлин заметил у Толстого и де Местра «одинаково глубокий интерес к "неумолимому" — напоминающему "железную поступь" — характеру событий», «происходящее есть огромная., сложная паутина событий... соединенных между собой бесчисленными и непознаеваемыми связями, а также разделенных друг с другом пробелами и внезапными разрывами, как видимыми, так и невидимыми» (Там же. С. 84). Однако Берлин указывает и на глубочайшее различие между де Местром и Толстым — де Местр «прославляет войну, объявляет ее чем-то мистическим и божественным», Толстой же «ее ненавидит и считает, что в принципе ее можно объяснить, если только нам известны ее многочисленные мельчайшие причины, — знаменитый "дифференциал" истории» (Там же. С. 98).
С. 517. Гомер и Гёте вдохновили и придали ему смелости на внедрение и развитие не только батального, но и философского материала — как знака «эпического» жанра. — По воспоминаниям М. Горького, сам Толстой говорил о «Войне и мире»: «Это как "Илиада"» (Горький А. М. Лев Толстой. Письмо // Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1960. Т. 2. С. 442). Связь между «Войной и миром» и древнегреческим эпосом отмечали и первые читатели романа-эпопеи: Н. Н. Страхов, Н. Я. Данилевский, П. А. Вяземский, Р. Роллан и др. В литературоведении проблему «Толстой и Гомер» на материале «Войны и мира» рассматривали Г. Д. Га- чев, А. В. Чичерин и др.
В книге Гачева не только выявлены сюжетные параллели между «Илиадой» и «Войной и миром» (гнев Ахилла и его отказ от участия в сражениях — отставка Кутузова; Николай Ростов, усмиряющий Богучаровский бунт, — Одиссей, усмиряющий Терсита; Кутузов на совете в Филях — Одиссей, отклоняющий рассудочные доказательства Терсита), но и показана глубинная общность толстовского и гомеровского эпоса — сходное художественное мышление, позволяющее «захватить все» (13, 53), движение «по бытию космическими параллелизмами, развернутыми сравнениями», видение мира в процессе становления, «освеженное первоощуще- ние бытия» (Ганев Г\ Д. Содержательность художественных форм (Эпос. Лирика. Театр). М., 1968. С. 121-122), художественно воссоздаваемое в «картинах» жизни. Этим обусловлен «особый характер... незавершенности» толстовской книги, обрывающейся «на завязке нового ряда крупных событий» (Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1975. С. 25).
Сам Э. вернулся к гомеровской теме в книге «Лев Толстой. Семидесятые годы»: рассказ Кавказский пленник» (1872) исследователь назвал «миниатюрной Одиссеей», уловив в нем гомеровское любование видимой жизнью «как она есть». Более детально это произведение Толстого проанализировано Э. в статье «О рассказе Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» (ТолстойЛ. Н. Кавказский пленник. Л., 1935. С. 53—68). Гомеровская тема затронута Э. в статье: Очередные задачи изучения Л. Толстого // Труды юбилейной науч. сессии ЛГУ. Секция филол. наук. Л.: ЛГУ, 1946. С. 279-294.
С. 520. Образуется кружок «самобытных» мыслителей, связанных со славянофильством и с архаическим «народничеством», — партия архаистов-чудаков, среди которых основную роль играет давнишний друг Толстого, С. Урусов. — В «Необходимом объяснении», предваряющем книгу Э. «Маршрут в бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского дворянина и международного лексикографа Николая Петровича Макарова» (1933), автор пишет: «Изучая Л. Толстого и эпоху 50—60-х годов, я обратил внимание на один исторический факт: появление в эту эпоху огромного количества всяких "чудаков" Факт этот не случаен — он характерен и знаменателен как факт социальный, неразрывно связанный с экономическими преобразованиями эпохи. Это были дворяне-помещики, придерживавшиеся в той или другой степени славянофильской идеологии. Среди них были люди талантливые и очень любопытные — как математик С. Урусов, как лингвист П. Лукашевич. Н. Гиляров- Платонов назвал их в своих воспоминаниях "эксцентриками" и "донкихотами просвещения". Крушение феодализма, а с ним вместе и славянофильства, заставило их сделаться врагами новых идей и направлений. Они отошли в сторону, замкнулись и стали ожесточенно заниматься науками, и притом науками "чистыми" — не биологией или политической экономией, а филологией, математикой, астрономией. Они стали изобретателями разных фантастических теорий, вещунами, пороками» («Мой временник»... Художественная проза и избранные статьи 20-30-х годов. СПб., 2001. С. 143).
С. 523. Некто В. Лопатин... заявил:«вся философия романа "Война и мир" есть следствие непосредственного впечатления Бокля на Толстого». Это совершенно неверно: Бокль — источник второстепенный и нехарактерный. — Влияние Бокля на философию «Войны и мира» было замечено еще современниками Толстого (см. Ахшарумов И. «Война и мир», сочинение гр. JI. Н. Толстого. Т. 5 // Всемирный труд. 1869. № 3. С. 69). В качестве второстепенного источника толстовского произведения сочинения Бокля вслед за Э. рассматривали зарубежные исследователи, работы которых проанализированы в кн. Я. С. Лурье «После Льва Толстого. Исторические воззрения Толстого и проблемы XX века» (см.: Sampson R. V. The Discovery of Peace. London, 1973. P. 116; Morson G. S. Hidden in Plain View. Narrative and Arcative Potentials in "War and Pease" Stanford, 1987. P. 85). Сам Лурье считает влияние Бокля более существенным: отмечая расхождение Толстого и Бокля в оценке прогресса и научных знаний, исследователь подчеркивает общее для них «представление об изменяемости мира и изменении человеческой личности, об их подчинении определенным объективным законам» (.Лурье Я. С. После Льва Толстого. С. 16-18).
С. 525. Толстовский термин «диференциал истории» взят, оказывается, у Погодина; в предисловии Погодин пишет: «История, скажу здесь кстати, имеет свои логарифмы, диференциалы и таинства, доступные только для посвященных». — Мнение Э. о связи толстовского термина «дифференциал истории» с трудами Погодина поддерживает Сэмпсон (Sampson R. V. The Discovery of Peace. London, 1973. P. 116). Эту точку зрения оспаривает Лурье: «Погодин употребил однажды термин "дифференциал истории", не придавая ему никакого конкретного значения...», у него слова о «логарифмах» и «дифференциалах» — «просто набор первых пришедших на память математических терминов, не имеющих никакого значения в системе рассуждений Погодина. Совершенно иное значение имело это понятие для Толстого». (Лурье Я. С. После Льва Толстого. С. 20). У Толстого «дифференциалы истории» — «это однородные, достаточно элементарные "влечения людей"», «интернирование которых дает возможность понять законы истории» (Там же. С. 20-21).
Примеч. Э. : Между тем Толстой писал П. А. Сергеенко 6февраля 1906г. : «Уменя было два (кроме А. А. Толстой — это третье) лица, к которым я много писал писем... Это Страхов и кн. Серг. Сем. Урусов» («Письма Л. Н. Толстого». Т. И. С. 227). — В ПСС письмо датировано 13 февраля 1906 г. (76, 98).
Ко времени появления этой книги относится, по-видимому, и начало особенной дружбы Толстого с Урусовым. Именно тогда, в 1866 г., Толстой начал разработку военно-исторической части своего романа. <... > ...и как помощник в развитии философско-исторических идей, и как руководитель в военно-теоретической части романа, должен стоять Урусов. — По вопросу о влиянии взглядов Урусова на философию «Войны и мир» с Э. спорит ряд исследователей: А. А. Сабуров, А. В. Чичерин, Я. С. Лурье. Как пишет Сабуров, Урусов — «подражатель автора "Войны и мира»", а не наоборот, Э. же «выводит великое из ничтожного» (Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого. С. 21-22). По утверждению А. В. Чичерина, Э. «преувеличил близость взглядов Урусова и Толстого. Первый из них... доходил до фанатического преклонения перед математическим мышлением в сферах, ничего общего с математикой не имеющих. <...> В этом роде, конечно, у Толстого ничего нет. Включая термины математики и физики, сопоставляя явления физического и социально- исторического порядка, Толстой искал внутреннее единство, аналогию разнородных явлений. И его сравнения в этом случае служат выражением его философских исканий» (Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. С. 156-157).
С Э. и разделяющим его мнение Б. Гринвудом спорит по этому вопросу и Лурье: «Урусов действительно с сочувствием воспринимал взгляды Толстого, высказывавшиеся писателем во время работы над "Войной и миром", но собственные представления Урусова о Наполеона — как о "чародее", "который неизвестно какою силою делал из людей то, что хотел", — были очень далеки от толстовских, и Толстой вовсе не принимал их» (Лурье Я. С. После Льва Толстого. С. 16-18. С. 25).
С. 536. В 1870 г. Толстой пишет в письме к Урусову: «Биология — меня огорчила. <...>06 этой мнимой науке можно говорить только тогда, когда не можешь или не хочешь серьезно мыслить». — В ПСС это письмо отнесено к 1872 г. (61, 286).
С. 549. 40 лет — самый трудный, пограничный возраст... — В предисловии к кн. А. Островского «Молодой Толстой в записях современников» Э. сопоставил культуру первой и второй половины XIX в.: во II половине века «меняется возрастной тип эпохи: молодость теряет свои права на историческое значение — люди становятся настоящими деятелями и входят в эпоху только около 40 лет» (Островский А. Молодой Толстой в записях современников. Л., 1929. С. 11). По Э., Толстой занимал особое положение в русской культуре того времени, ему «удалось до конца жизни, на протяжении почти 60 лет (1852—1910), удержаться в литературе, несмотря на смену эпох и поколений» (Там же. С. 9). «Первое сорокалетие его жизни, т. е. тот объем времени, которым исчерпывалась жизнь русских людей (я, разумею, конечно, деятелей) 20-х годов (если не физически, то исторически), — было для него только подготовкой к деятельности, периодом ориентации. Только второе сорокалетие определило его деятельность и его поведение, заслонив собой предыдущие годы и сообщив им смысл школьных лет» (Там же. С. 11). Об особом ощущении времени у Э. подробнее см. с. 899 наст. изд.
С. 550. ...А. А. Толстой (14ноября 1865г.) он сообщает: «Романа моего написана только 3-ья часть, которую я не буду печатать до тех пор, пока не напишу еще 6-ти частей, и тогда — лет через пять — издам все отдельным изданием». — В ПСС не «изданием», а «сочинением» (61, 115).
С. 555. Весной 1873 г. Толстой, в связи с изданием собрания его сочинений, взялся за переработку «Войны и мира» и просил Страхова помочь ему в этом деле. В результате этой переработки получился новый роман. <... > Перед нами разительный и непоправимый факт: окончательного, несомненного, «канонического» текста «Войны и мира» нет и никакими средствами создать его невозможно. — С этих позиций Э. критиковал Юбилейное издание Толстого, в котором М. А. Цявловский опубликовал «"основной текст" по изданию 1868-1869 гг., но "со всеми стилистическими поправками" по изданию 1873 г.», Э. подчеркивал, что «над изданием 73 года Толстой работал творчески, а не только грамматически» (Эйхенбаум Б. М. 90-томное собрание сочинений Л. Н. Толстого (Эйхенбаум Б. М. Критические заметки // Русская литература. 1959. № 4. С. 221-222).
Лев Толстой. Семидесятые годы
Впервые: Эйхенбаум Б. М Лев Толстой. Семидесятые годы / Ред. и предисл. Б. И Бурсова. Л., 1960. 295 с. Тираж 8000 экз.
Печатается по: Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 7191.
В 1930-е гг. Э. продолжил работу над третьей книгой о Толстом, которая была сдана в печать в 1940 г. В письме Шкловскому от 10 июля 1932 г. Э. сообщает о своей работе в шуточном стихотворении: «Впереди — третий том о Льве Толстом:
Третий том
О Льве Толстом -
То есть, о том
Как в году семьдесят шестом
Граф Лев Толстой
Написал роман простой» (Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вступ. заметка, публ. и коммент. О. Панченко // ВЛ. 1984. N° 12. С. 202).
О своей новой книге Э. отзывался критически еще до окончания работы. 6 декабря 1938 г. Э. писал Шкловскому: «Книгу о Толстом я действительно сдал, но — увы! Это совсем не то, что был, например, второй том. Написано кусками, с большими перерывами, неполным голосом» (Из писем к В. Б. Шкловскому / Публ. О. Б. Эйхенбаум; вступ. заметка и коммент. М. О. Чудаковой // Нева. 1987. № 5. С. 161).
В течение 1930-х гг. фрагменты книги появились в ст. Э.:
Лев Толстой. Петр I //Литературный Ленинград. 1934. 20 мая.
О рассказе Л. Толстого «Кавказский пленник» // Толстой Л. Кавказский пленник. Л., 1935. С. 53-68; То же с незначительными сокращениями в кн.: Толстой Л. Кавказский пленник. 2-е изд. М.; Л., 1936. С. 66-87; То же в кн.: Толстой Л. Кавказский пленник. М.; Л., 1937. С. 45—62.
Творческие стимулы Толстого //Литературная учеба. 1935. № 9. С. 45-56.
Толстой и Шопенгауэр (К вопросу о создании «Анны Карениной») //Литературный современник. 1935. № 11. С. 134-149.
Как Лев Толстой не написал романа о Петре I // Литературный критик. 1935. № 11. С. 140-155.
Толстой после «Войны и мира» // Лит. наследство. Т 35—36: Л. Н. Толстой. I. М., 1939. С. 221-264.
К вопросу об источниках «Анны Карениной» (Из кн.: «Лев Толстой. Семидесятые годы») // Уч. зап. Лен. гос. ун-та. Сер. филол. наук. Л., 1941. № 76. Вып. 11. С. 191-229.
Некоторые рецензии связаны с выходом этих статей. Н. Н. Гусев отозвался о статье «Толстой после "Войны и мира"» критически. Замечания Н. Н. Гусева связаны с рядом частных наблюдений Э., но, несмотря на то что Н. Н. Гусев увидел интересные данные в статье, общий взгляд Э. на Толстого не был понят и принят автором рецензии: «Толстой в изображении Эйхенбаума — кабинетный писатель, весь поглощенный журнально-газетными отзывами о его произведениях» (Гусев Я. Я. Книги о Толстом // Октябрь. 1941. № 3. С. 189).
В драматичное для Э. время, когда после доклада Жданова и объявленной борьбы с космополитизмом он оказался без работы (см. с. 21-22 наст, изд), собственно литературоведческий подход к творчеству Толстого не мог удовлетворить официальную критику. Выразительным примером такой критики является статья Б. Рю- рикова, часть которой посвящена работе Э. «Толстой и Шопенгауэр (К вопросу о создании "Анны Карениной")».
Ст. Б. Рюрикова представляет собой обвинительную речь, мало чем отличающуюся от оскорбительных выпадов 1920-х гг. Творчество Толстого объявлено в ней самобытным и национальным явлением, а потому любое соотношение толстовских произведений с западноевропейской традицией должно быть подвергнуто беспощадной критике. Б. Рюриков писал: «Концепция Эйхенбаума основана на формалистском отрыве искусства от жизни, на раболепии перед Западом...»; «во всем творчестве гениального писателя Эйхенбаум хочет видеть только отголоски западных влияний» (Рюриков Б. О творчестве Толстого и некоторых его истолкователях // Рюриков Б. Литература и жизнь. М., 1953. С. 327).
Третий том книги о Толстом увидел светлишь в 1960 г., уже после смерти автора. Двадцать лет прошло со времени его написания, и Э. высказывал намерение многое пересмотреть и переработать в книге, этого не было сделано. Но Я. С. Би- линкис в рецензии на труд Э. отмечал, что он не утратил своей актуальности и значения, так как «Эйхенбаум, проделав немалый и нелегкий путь, смог по-новому подойти к литературным явлениям» (Билинкис Я. С. Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесятые годы // Звезда. 1961. № 4. С. 213).
В рецензии отмечены две черты, которые характеризуют книгу Э. о 70-х гг. Толстого. Первая состоит в том, что «особенности образного мышления, художественных идей Толстого исследователь стремился увидеть в их неразрывной связи со всем, чем жила эпоха...». И само время разворачивается у Э. «во всей многосложности и многоцветное™». Второй чертой является то, что «Эйхенбаум вглядывался в Толстого, стараясь понять, как воспринимал сам Толстой свои отношения со временем, с историей». В рецензии Я. С. Билинкисом не выделена, но названа еще одна особенность, отличающая все работы Э.: «Мучительный и великий опыт Толстого полон для исследователя живого и волнующего смысла» (Там же. С. 213). Эту же особенность отмечала Л. Я. Гинзбург, говоря об «интимном смысле» и «личном значении», которыми проникнуты исследовательские книги Э. (Гинзбург JI. Я. Проблема поведения (Б. М. Эйхенбаум) // Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 445).
С. 564—565. С. Навалихына, статья которого о «Войне и мире» появилась в журнале «Дело» (1868. № 6) под ядовитым заглавием «Изящный романист и его изящные критики». Никто не писал о романе Толстого так резко, так бесцеремонно, так самоуверенно и так несправедливо. — Э. Г. Бабаев, комментируя журнальную полемику вокруг романа Толстого, говорил о ст. Навалихина (Берви-Флеровского): «Никто и никогда не писал о Толстом так резко, никто и никогда не подвергал "Войну и мир" такой уничтожающей критике» (Бабаев Э. Г. Лев Толстой и русская журналистика его эпохи. М., 1993. С. 77). Вместе с тем Э. Г. Бабаев отмечал, что именно Берви-Флеровский «в своей неправоте угадал многое в духовном развитии позднего Толстого» (Там же. С. 81).
С. 573. Н. Малиновский, например, считает, что система научной этики, построенная Флеровским, явилась во многом «предшественницей нравственного учения JI. Н. Толстого». — Н. Малиновский писал, что социологические и этические воззрения Флеровского «выльются в целую систему "научной этики" систему, во многом явившуюся предшественницей нравственного учения Л. Н. Толстого, хотя источником ее у Флеровского является не религиозное чувство, а разум и знание, а в жизни осуществляется она не путем анархизма (индивидуализма), а путем коллективизма» (Малиновский Н. Не пора ли вспомнить? // Русская мысль. 1905. №4. С. 129).
С. 580. «Азбука» Толстого направлена против основных методов и принципов новой педагогики. Системе разума он противопоставляет систему веры, системе науки — систему инстинкта и воображения, системе убеждений и идей — систему нравственных правил. — Это положение Э. оспаривает Н. Н. Гусев: «Б. М. Эйхенбаум утверждает, что в своей "Азбуке", вышедшей в 1872 году, Толстой "системе разума противопоставляет систему веры". В действительности во всей толстовской "Азбуке" нет ни одного слова, которое бы могло быть истолковано в таком смысле, а в своей статье "О народном образовании" (1874) Толстой определенно заявлял: "Теперь всеми признано, и совершенно правильно по моему мнению, что религия не может служить ни содержанием, ни указанием метода образования, но что образование имеет своим основанием другие требования" (/7, 105—106). Э. много говорит об этой статье, но цитируемое положение Толстого игнорирует» (Гусев Н. Н. Книги о Толстом. С. 189).
С. 590. Толстой утверждает, что народ «всегда предпочтет сельского городскому учителю», и особенно защищает церковнослужителей. — См. возражение Н. Гусева: «Толстой, по Эйхенбауму, — человек книжный: все свои идеи он черпает из книги, а не из жизни. Толстой в статье "О народном образовании" в 1874 году утверждал, что народ "всегда предпочтет сельского городскому учителю". Толстой говорил это, конечно, потому, что такое впечатление он вынес из своего многолетнего общения с крестьянами, по опыту человека, открывавшего в своей округе десятки школ и направлявшего в них десятки учителей. Эйхенбауму кажется, что Толстой говорит это потому, что "он следует Рилю", немецкому философу, которого он читал за четырнадцать лет до этого, в 1860 году» (Гусев Н. Н. Книги о Толстом. С. 189).
С. 593. Пришлось Михайловскому взяться за это не очень легкое и не очень благодарное дело. — Н. К. Михайловский выступал на страницах «Отечественных записок» со статьями «Записки профана» (Михайловский Н. К. Записки профана. Десница и шуйца Льва Толстого//Отечественные записки. 1875. № 5. С. 106—149; № 6. С. 300-334;. № 7. С. 164-203). О ст. Михайловского см.: Бабаев Э. Г. Лев Толстой... С. 150-155.
Толстой пробует освободиться от психологического анализа, и от «генерализации», и от «подробностей», и от длинных фраз. — О «приемах» Толстого Э. подробно говорит в кн. «Молодой Толстой», с. 90-99 наст. изд.
С. 604. Впервые у Толстого рассказ построен на самых событиях, на самом сюжете — на самом простом интересе к тому, чем дело кончится. От читателя не требуется ничего иного, кроме сочувствия к герою, которому грозит гибель. — В ст. «О рассказе Л. Толстого «Кавказский пленник» (ТолстойЛ. Кавказский пленник. Л., 1935) Э. расширяет анализ историческим комментарием о Кавказской войне, сопоставлением повести Толстого со стихотворениями Жуковского, поэмой Пушкина, лирикой Лермонтова.
С. 605. ...как будто направленный против Пушкина, оказался стоящим гораздо ближе к пушкинской прозе, нем прежние вещи Толстого. — В ст. «Пушкин и Толстой» Э. также пишет о родстве повести «Кавказский пленник» и пушкинской прозы: «"Кавказский пленник" Толстого — демонстративное и потому особенно характерное его выступление, показывающее близость или родство корней» (с. 702 наст. изд.).
С. 619. Толстой никогда не был гегельянцем и не принадлежал к «людям сороковых годов». — В поздних работах Э. утверждает, что Толстой усваивает философские идеи Канта, Гегеля и социальных утопистов через связи с представителями 1840-х гг.
С. 641. Роман по началу кажется сделанным по европейскому образцу, чем-то вроде сочетания традиций английского семейного романа и французского «адюльтерного». — Б. Рюриков критикует подход Э. в рамках борьбы с космополитизмом: «Эйхенбаум сообщает нам, что роман был создан не потому, что Л. Толстой был полон впечатлениями русской действительности, а потому, что писатель прочел некоторые западные книжки и вдохновился ими» (Рюриков Б. О творчестве Толстого... С. 325).
С. 646. Толстой вступает в полосу новых страстных поисков и резких противоречий. В годы 1872-1874 на нем начинает особенно резко сказываться та «быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых иустоев" старой России», о которой говорит Ленин в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение». — В ст. «О взглядах Ленина на историческое значение Толстого» Э. отмечает особое значение статей Ленина в осмыслении жизни и творчества Толстого: «Вся проблема изучения Толстого была сдвинута с индивидуально-психологической почвы на историческую. До Ленина Толстой неизменно оказывался стоящим вне исторического процесса; Ленин преодолел это положение, показав, наоборот, полную историческую закономерность и необходимость появления Толстого с его "кричащими противоречиями"» (с. 740 наст. изд.).
С. 653. Вместе с уяснением новой позиции и отношения к современности работа над романом пошла гораздо живее: под ногами появились «подмостки». — Я. С. Билинкис усматривает во внутренних противоречиях героев романа «Анна Каренина» проявление сложности и неоднозначности самой жизни, эпохи: «Проникновение в действительную сущность, в действительное своеобразие отношений людей сразу же вводило в книгу реальную сложность целой эпохи, ее острейших внутренних противоречий» (Билинкис Я. С. Характеры и время (Основные образы «Анны Карениной») // Билинкис Я. С. О творчестве Л. Н. Толстого. Очерки. Л., 1959. С. 290).
С. 654. Первый набросок к «Анне Карениной» был начат словами: «Гости после оперы съезжались к молодой княгине Врасской». Известно, что слова эти были написаны под впечатлением пушкинского отрывка, начинающегося словами: «Гости съезжались на дачу графини... Зала наполнялась дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую италианскую оперу». — Последовательность рукописей романа восстанавливает В. А. Жданов, подтверждая, что первоначально Толстой начал со сцены в гостиной будущей Бетси Тверской. В. А. Жданов указывает на закравшуюся в литературоведческие работы ошибку: «Долгие годы существовала легенда о том, как Толстой начал работу над "Анной Карениной" Широко распространено мнение, что под влиянием только что прочитанного незаконченного отрывка Пушкина "Гости съезжались на дачу" Толстой тут же набросал вступление к своему роману: "Все смешалось в доме Облонских"... Проникшие в печать сведения о первой фразе... совершенно не соответствуют действительности» (Жданов В. А. Творческая история «Анны Карениной». М., 1957. С. 7).
С. 657. Совсем иное у Толстого: его люди — не типы и даже не вполне характеры; они «текучи» и изменчивы, они поданы интимно — как индивидуальности, наделенные общечеловеческими свойствами и легко соприкасающиеся. — В кн. «Молодой Толстой» Э. говорит об отсутствии в произведениях Толстого «типов» (с. 92 наст. изд.). В кн. «Лев Толстой. 50-е годы» Э. отмечает как особенность психологического анализа Толстого — «недоверие к неразложимости, к слитности, к цельности душевной жизни» (с. 163 наст. изд.).
С. 663. Несравненно глубже и как будто ближе к замыслу и духу романа понял этот эпиграф Достоевский, увидевший в «Анне Карениной» новое решение старого вопроса о «виновности и преступности человеческой». — Как поздний комментарий к позиции Достоевского можно рассматривать дневниковую запись Э. от 4 января 1948 г.: «Толстой порвал с историей, но верил в человека, в возможность и необходимость счастья на земле каждого отдельного человека, потому что он сотворен совершенным (Руссо, Фурье, Кант). Для Достоевского это было детской примитивной верой, потому что его человек несовершенен, а счастье может быть только для человечества — через жертвы, искупления, страдания и пр.» (Контекст-1981. С. 281). На толкование Ф. М. Достоевским романа Толстого обращает внимание В. В. Вересаев: «Удивительно, как в отзыве этом отразился сам Достоевский. В мире царит "таинственная и роковая неизбежность зла", "ненормальность и грех исходят из самой души человеческой"... Но ведь у Толстого как раз обратное! Весь роман светится несокрушимою верою в то, что душа человеческая нормальна, свята, что "грех" приходит к ней снаружи» (Вересаев В. В. Живая жизнь: О Достоевском и Л. Толстом: Аполлон и Дионис (О Ницше). М., 1991. С. 134).
С. 666. Вересаев рассказывает... — В кн. «Живая жизнь» В. В. Вересаев так комментирует позицию Толстого: «Для самого Толстого смысл романа как будто сводится к следующему разговору светской старухи, матери Вронского, с Козныше- вым:
«— Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую.
— Не нам судить, графиня, — со вздохом сказал Сергей Иванович».
В отношении Толстого к своему роману замечается та же рассудочная узость и мертвенность, как в отношении, например, к "Крейцеровой сонате" Каждая строка "Сонаты" кричит о глубоком и легкомысленном поругании человеком серьезного и светлого таинства любви. Сам же Толстой уверен, что показал в "Сонате" как раз противоположное — что сама любовь есть "унизительное для человека животное состояние", есть его "падение"
Нет, прав, сто раз прав был Сократ, когда говорил: "Ходил я к поэтам и спрашивал у них, что именно они хотели сказать. И чуть ли не все присутствующие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Не мудростью могут они творить то, что они творят, а какою-то прирожденною способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям"» (Вересаев В. В. Живая жизнь. С. 133).
С. 667. Ни одна отдельная мысль не может выразить всего смысла художественного произведения, этого «бесконечного лабиринта сцеплений». — Термин «сцепление» был осмыслен Э. в ранних работах: «Лабиринт сцеплений» (Жизнь искусства. 1919. 10-11 дек. С. 1).
С. 673. Шум времени не проникает за ворота яснополянской усадьбы. — Э. Г Бабаев, высоко оценив книгу Э., возражает по поводу этого высказывания: «Это суждение невозможно признать справедливым. Роман Толстого весь проникнут веянием времени» (Бабаев Э. Г. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. М., 1978. С. 11).
С. 676. Трактовка страсти как стихийной силы, как «поединка рокового», и образ женщины, гибнущей в этом поединке, — эти основные мотивы «Анны Карениной» подготовлены лирикой Тютчева: я имею в виду такие стихотворения, как «Она сидела на полу и груду писем разбирала...» или «Не говори: меня он, как и прежде, любит...» Стихотворение «О, как убийственно мы любим...» звучит как лирический комментарий к «Анне Карениной», или, вернее, как эпиграф к ней. — О соотношении романа «Анна Каренина» и любовной лирики Тютчева вслед за Э. говорит Е. А. Маймин: «Стихи Тютчева о любви, вызывая ассоциации с «Анной Карениной», в чем-то проясняют проблематику толстовского романа, помогают его лучше понять. Особенно интересно в этом отношении стихотворение Тютчева "Две силы есть — две роковые силы..."» (Маймин Е.А. Лев Толстой. Путь писателя. М.. 1978. С. 123). Е. А Маймин обращает внимание на сходство сюжетных ситуаций и характеров героинь.
Статьи
Литературная карьера Л. Толстого
Впервые: Эйхенбаум Б. Литературная карьера Л. Толстого//Эйхенбаум Б. Мой временник. Словесность. Наука. Критика. Смесь. Л., 1929. С. 109-114
Печатается по: Эйхенбаум Б. М. Литературная карьера Л. Толстого// Эйхенбаум Б. М. «Мой временник»... Художественная проза и избранные статьи 20—30-х годов. СПб., 2001. С. 114-120.
Творческие стимулы Л. Толстого
Впервые: Эйхенбаум Б. Творческие стимулы Л. Толстого //Литературная учеба. 1935. № 9. С. 46-56. — В рукописи дата: 1935.
Печатается по: Эйхенбаум Б. Творческие стимулы Л. Толстого // Эйхенбаум Б. О пр.: Сб. статей. Л., 1969. С. 77-90.
Пушкин и Толстой
Впервые: Эйхенбаум Б. Пушкин и Толстой//Литературный современник. 1937. № 1. С. 136-147. — В рукописи дата: 21-23 ноября 1936 г.
Печатается по: Эйхенбаум Б. Пушкин и Толстой // Эйхенбаум Б. О пр.: Сб. статей. Л., 1969. С. 167-184.
О противоречиях Льва Толстого
Впервые: Эйхенбаум Б. О противоречиях Льва Толстого //Литературный современник. 1939. № 7-8. С. 231-250. — В рукописи дата: 8 октября 1938 года.
Печатается по: Эйхенбаум Б. О противоречиях Л. Толстого // Эйхенбаум Б. О пр. Сб. статей. Л., 1969. С. 25-60.
Легенда о зеленой палочке
Впервые: Эйхенбаум Б. Легенда о зеленой палочке // Огонек. 1950. № 47. С. 23— 24. — В рукописях даты: сентябрь 1949 года, октябрь 1949 года. Б. М. Эйхенбаум снова обращался к этой теме, работая над книгой «Юность Льва Толстого» (1952).
Печатается по: Эйхенбаум Б. Легенда о зеленой палочке // Эйхенбаум Б. О пр. Сб. статей. Л., 1969. С. 431-438.
О взглядах Ленина на историческое значение Толстого
Впервые: Эйхенбаум Б. О взглядах Ленина на историческое значение Толстого // Вопросы литературы. 1957. № 5. С. 116-127, со следующим примечанием: «В первоначальном виде эта работа была написана в апреле 1945 года и прочитана на научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения В. И.Ленина, в Ленинградском государственном университете им. А. А. Жданова». — В рукописи даты: 1945-1956, июль 1956 года.
Печатается по: Эйхенбаум Б. О взглядах Ленина на историческое значение Толстого // Эйхенбаум Б. О пр. Сб. статей. Л., 1969. С. 61-76.
Главы из незавершенной монографии о Л. Н. Толстом
Впервые: Эйхенбаум Б. Главы из незавершенной монографии о Л. Н. Толстом // Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 195-356
В течение вт. пол. 1940-1950-х гг. Э. работал над новой книгой о Толстом. Ее замысел воплощен в нескольких главах. В дневнике от 4 ноября 1946 г. Э. пишет: «Вчера отправил письмо П. И. Лебедеву-Полянскому с просьбой разрешить мне написать сначала книжку о Толстом (листов 16— 18), а потом, к концу 1947 г., сделать из нее главу в 8 п. л. для "Истории литературы"...» (Контекст-1981. С. 275).
Главы предполагаемой монографии объединены биографией Толстого, в которую включен обширный литературно-бытовой материал, что уже было сделано Э. в трех томах о Толстом (см. с. 12-14,895-896 наст, изд.), но исследователь подчеркивал, что видит «новую» книгу совершенно в другом свете. В письме Шкловскому от 18 марта 1947 г. Э. пишет: «Многое у меня теперь иначе, начиная с казанского периода, который я на днях закончил» (Цит. по: КертисДж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб., 2004. С. 334).
Исследователь в третий раз обращается к раннему периоду жизни и творчества Толстого 1847-1852 гг. его сомнения в том, как организовать материал, отражены в дневниках конца 40-х — нач. 50-х гг. 31 марта 1950 г. записано: «Опять возвращаюсь к работе, хотя еще не уверен, что пойдет, и еще не все решил — колеблюсь: с одной стороны, серия небольших конкретных очерков (вроде как о зеленой палочке), с другой — книга. Надо бы так параллельно и вести, поскольку в книге детали не поместятся. Обдумываю план книги» (Контекст-1981. С. 285). Исследование Э. разрастается и насыщается новыми литературными, историческими фактами. «Деталей» становится все больше: подробности биографии Толстого, его окружение, философские концепции и веяния эпохи, история рода.
В дневнике Э. неоднократно возвращается к вопросу распределения материала о жизни и творчестве Толстого по главам. Но систематизация все время нарушается, так как обилие фактов требует все новых отступлений, до появления отдельных глав и разделов.
Первоначально Э. говорит о 4 главах до «Войны и мира»: «Вчера утром успел написать 2 страницы взамен прежних — очень важные (Чернышевский и Толстой). Писал с настоящим увлечением. <...> За эти 2 дня добавил ко второй главке очень важные 4 страницы о связи Т-го с социальным утопизмом, о Чернышевском и Герцене. На этом, по-видимому, и надо закончить эту главку, а с "Метели" начать третью, которую закончить "Семейным счастьем". Этим закончится третья глава, а четвертую отдать на все до "Войны и мира"» (запись от 10 окт. 1946 г. — Там же. С. 274-275). Уже на этом этапе работы видно, как исторические и философские сведения, разрастаясь, требуют особого места в структуре книги. Очень скоро в дневнике от 2 ноября 1946 г. появляются указания на новые направления в работе: «Непрерывное соотношение с философскими течениями. Безусловная связь с утопическим социализмом (русский фурьеризм как учение о страстях, требующее изучения "природы человека"), с учением Канта второго периода — понятие "любви", о котором Т. твердит в 1856 г. в дневниках и письмах. Именно отсюда — близость с Чернышевским» (Там же. С. 275). Появляются имена Фурье, Канта, Чернышевского.
Дневниковые записи этого периода отражают интенсивность, с которой работает Э.: «Со второй главой все-таки пока задержка — выясняю материал писем 1847-1850 гг. и их последовательность» — запись от 1 апреля 1947 г. (Там же. С. 276); 20 апреля 1947 г.: «Сегодня опять взялся за вторую главу — с использованием планов "Юности" (очень важно!) "Романарусск. пом." (Тамже. С. 277); 15 сентября 1947 г.: «Набросал о "Казаках" все. Очень начерно. "Казаки", в конце концов, привели к истории — определилось, что вне истории эпос не получается, нет опоры, нет мысли...» (Там же. С. 278); 12 октября 1947 г.: «Первые шесть глав определились и вчерне написаны. В VII главе (которую я сейчас бросаю незаконченной) должно быть так: 1. "Казаки" (с вопросом о 40-х годах), "Три смерти" и "Сем. счастье" (т. е. 1858-1859 гг.); 2. Уход из литературы, заграница, "Декабристы" 3. Школа — Глава VIII. 1. Подход к "Войне и миру" через "Холстомера" и "Зараж. Семейство" (18631864); 2. " 1865-й год"... 3. "Война и мир" 1866-1869 г. 4. "Война и мир" в целом ... Тогда пойдет IX глава — "Петр" и "Анна Каренина" вместе с азбукой и пр. Так я доберусь к весне до 80-х годов, т. е. до конца III части» (Там же. С. 279).
Остановки в работе Э. связаны с новыми поворотами в изучении материала: «С писанием застрял... отчасти потому, что вопрос о Станкевиче привел меня к новой теме, о которой раньше я не думал в таком виде. Один из важнейших очередных вопросов после Крымской войны — вопрос нравственный, вопрос о соотношении личных и общих интересов. Все пишут об этом. В связи с этим — вопрос о понимании "действительности", об искусстве, о поведении и пр. Пересмотр 40-х годов; столкновение Чернышевского (и Добролюбова) с поколением 40-х годов. Вопрос о Белинском и Станкевиче — как вопрос о поведении; на этом — конфликты между "людьми 40-х годов" (Тургенев, Боткин, Анненков) и "новыми людьми". Сложное положение Некрасова. Толстой проходит через это — "Альберт", "Люцерн", "Казаки". Где мне сказать обо всем этом? Получается особая тема — "Толстой и традиции 40-х годов". Сюда-то и попадает Станкевич...» (Там же. С. 278). Подробно тема «Толстой и традиции 40-х годов» будет развернута Э. в ст. «Наследие Белинского и Лев Толстой». 27 июня 1948 г. Э. отметил в дн.: «5-го прочитал доклад «Белинский и Толстой» на заседании факультета. Очень хвалили. Просят приготовить для печати — придется написать» (Там же. С. 282).
Один из самых последних планов книги о Толстом находим в дневнике Э. от 31 марта 1950 г.: «Часть первая
Глава I
В семье (1828-1837).
Казань и университет.
Перед уходом (1846-1847).
Глава II 1947-1851
Утопия "помещичества"
1848-1849 (Москва и Петербург).
1950-1851 (до отъезда на Кавказ).
Глава III. На Кавказе.
Глава IV. На войне.
Часть вторая 1856-1880
Глава V.
Петербург — "Современник" и пр.
Глава VI.
Часть третья 1881—1905
Часть четвертая
Развязка
1906-1910» (Там же. С. 285-286).
Для Э. на первый план в кн. «Молодой Толстой» выходил вопрос о рождении нового стиля. Кн. «Лев Толстой. Книга первая. 50-е годы» поставила вопрос об историческом поведении (см. с. 14, 905 наст. изд.). В новом обращении Э. к этому же периоду жизни и творчества Толстого главной станет эпоха, которая с наибольшей силой выражается в жизни и творчестве гениальной личности.
Э. фиксирует свое понимание оснований, на которых будет строиться новая книга о Толстом. В дн. от 7 ноября 1947 г.: «О Толстом надо бы записать все основное, на чем будет держаться книга. Все вокруг идеи счастья. Противоречие человеческой природы и истории (цивилизации). Детство — Роман русск. помещика — Казаки; вот первый круг. Счастье ребенка (природа) — Зло цивилизации (в мужике добро) — Мудрость первобытной жизни (Ерошка). Сюда же Холстомер, Люцерн (голос автора — прямо — Герцен). "Семейное счастье" не вышло, п. ч. неясно. Потом проблема истории — "Декабристы", "Война и мир"...» (Там же. С. 280). Идея счастья, осмысленная в исторической перспективе, оказывается центральной для Э.
Одним из принципов работы в исследовании становится «реконструкция»: для Э. необходимо воссоздать атмосферу времени, полемик, литературных и научных влияний, чтобы уяснить, из чего прорастает художественный мир писателя. В дневнике Э. 13 ноября 1947 г. размышляет над «Казаками» и делает заключение по поводу своей работы: «Это все надо ввести в главу "Между Казанью и Кавказом" — совершенно заменяет дневник и дает даже больше, потому что говорится о самом важном» (Там же. С. 280) или 9 декабря 1949 г.: «Могу сейчас заняться только идейной биографией — и то в свободной, почти художественной форме. Попробую так написать юность Толстого, широко пользуясь его вещами и заполняя пустоту 1848-1850 гг.» (Там же. С. 285); в дневнике от 17 апреля 1952 г.: «Надо выдерживать тематическое строение книги. Первая глава — не детство "вообще", а то, из детства, что было важно для будущего Толстого. С этой стороны (т. е. с идейно-биографической, исторической) детство Толстого надо реконструировать, потому что он сам об этой стороне почти ничего не знал...» (Там же. С. 295).
Для Э. важно уловить и зафиксировать движение и взаимопроникновение идей, которые стимулируют творческий, преображающий процесс Толстого. Не случайно в дневнике за август 1949 г. Э., сопоставляя фрагменты из романа В. Гюго «Отверженные» и размышления Толстого, цитирует вступительную статью А. К. Виноградова к изданию «Отверженных» (Academia, 1931): «Как это всегда бывало у Толстого, глубокое и органическое усвоение проблемы романа выражалось у него в форме позднего осадка впечатлений с полной переработкой чужой идеи до неузнаваемости» (Там же. С. 282).
В 1950-х гг. Э. внимательно изучает родословную Толстого. В дневнике от 15 января 1952 г.: «Много работаю над изучением "светских" знакомств Толстого 50-х годов, соответственных родословных и пр. В этой области сильно двинулся за последнее время — и это помогает понимать дневники» (Там же. С. 286-287); от 31 января 1952 г.: «Работаю много и упорно над родословиями. Трудно прервать, боюсь, что эта область (трудная и сложная) засосет. Однако надеюсь, что выскочу, когда надо. Пока еще вожусь с отдельными семьями и не всегда добиваюсь толку. Кажется мне, что эта работа окажется полезной для уяснения биографии отца... Многое в знакомствах юного JI. Н. восходит к отцу и даже к деду, а то и еще дальше — во всяком случае — ко времени Екатерины и Павла» (Там же. С. 287); от 6 февраля того же года: «Родословные сильно надоели, но зато значительно определились очертания первой ("родословной") главы» (Там же. С. 287).
Вскоре прояснится общая логика новой книги о Толстом. В дневнике от 30 марта 1952 г. читаем: «Я окончательно понял, как нужно построить вступительную часть и почему она так трудно дается. Не надо уходить никуда в сторону — надо вести речь о политической истории Толстовского родословия и о том, как эта история отражалась в сознании Толстого. Надо вести дело так, чтобы было ясно, что родословие понадобилось потому, что оно осознавалось самим Толстым как важный политический и социальный факт...» (Там же. С. 293-294).
Исторический процесс в связи с личной биографией писателя теперь более всего занимает Э. Уже в дн. от 20 апреля 1947 г. Э., размышляя о книге, пишет: «...если бы еще лет 20 настоящей научной работы, я бы сделал дело: перевернул бы весь вопрос о Толстом, поставил бы его по-настоящему, исторически» (Там же. С. 277).
Объяснение причин исторического подхода к творчеству писателя снова находим в дневнике Э. от 2 марта 1952 г.: «Гений — это явление, в котором исторические силы народа скапливаются и высказываются в нужный момент. Так с Пушкиным (последняя политическая схватка дворянства с самодержавием), так с Толстым — переход к социальным конфликтам» (Там же. С. 291); или 28 марта 1952 г.: «Гений является в результате накопления исторических сил — поэтому сознание истории в нем органично и обязательно» (Там же. С. 293).
Весь материал должен быть подан под особым углом зрения. В дневнике от 6 февраля 1952 г. читаем: «Мне нужна не наследственность (не психология), а история... Толстой необыкновенно сильно чувствовал в себе историю народа и своего рода. Только при этом и мог быть такой активный, такой принципиальный антиисторизм — такая борьба с историей, стремление преодолеть ее силы. Доказательства: цитата из записной книжки от 26 октября 1889 г.: "Я молодым человеком чувствовал в себе инстинкты 12-го года. Теперь юноши, дети чувствуют инстинкты 40-х годов. Не подтверждается ли этим, что часть нас живет в прошедшем. Как?"» (Там же. С. 287). Развивая мысль Толстого, Э. пишет: "Инстинкты 12-го года — это, конечно, не только пресловутый "патриотизм", но и многое другое, определившееся в 20-х годах и собранное в "Войне и мире". Это не только Николай Ростов, но и Пьер — не только Толстые, но и Волконские. Цитаты из дневника и зап. книжки 1906 г.: "Я несу в себе своих предков", "Я, Лев Толстой, есть временное проявление Толстых, Волконских, Трубецких, Горчаковых и т. д. "(55, 248—249, 386)» (Там же. С. 287).
Работа над творчеством Толстого в 1940 — нач. 1950-х гг. — это время так называемого молчания, когда, по выражению Э., он был «выключен совершенно» из научной жизни. Не случайно именно в эти трудные годы в дневнике Э. от 20 апреля 1947 г. появляется запись: «Страшно возбужденно работаю и думаю. Никогда в жизни так не работал и не понимал многого — разве что во время блокады и голода. Да, для мысли и работы нужны несчастья и страдания. Это — выводит из личного» (Там же. С. 276).
Книга о Толстом, задуманная и так до конца не написанная, остается важнейшим стимулом для жизни и работы Э. Ю. А. Бережнова вспоминает, что Э. в январе 1957 г. делился своими планами: «Я совершенно здоров и мечтаю сделать книгу о Толстом, но пока еще нет времени — надо освободиться от хвостов по договорам» (Бережнова Ю. А. Из разговоров с Б. М. Эйхенбаумом//Звезда. 1997. № 10. С. 164). В письме к Шкловскому от 5 августа 1957 г. Э. говорит о своих исследовательских планах еще более определенно: «Я посмотрел свои рукописи и записи к работе о Толстом, сделанные в годы молчания. Надумано и догадано было очень много — и много забыто. Надо вернуться и восстанавливать. Буду собирать и отчасти заново писать книгу: "Лев Толстой. Очерки и исследования" К началу 1959 года сделаю — в 1960 г. Можно было бы выпустить. Это мне будет почти 75 лет — на этом, верно, и кончить придется» (Цит. по: Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. С. 338).
Последнюю книгу о Толстом Э. так и не удалось закончить, были написаны только несколько глав, которые представляют собой начало монографии.
Толстой — студент (1844-1847 ГГ.)
Впервые: Эйхенбаум Б. Толстой — студент (1844-1847 гг.) // Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 195-231.
Печатается по первому изд.
Некоторые положения вошли в ст.: Эйхенбаум Б. Из студенческих лет JI. Н. Толстого// Русская литература. 1958. № 2. С. 69-84.
С. 751. Лермонтов предупреждал своей «Думой». Надо бшо отказаться от бес- плодных занятий абстрактной философией. ~ надо было восстановить «надежды лучшие и голос благородный неверием осмеянных страстей». — В работе о Лермонтове (1941) Э. отмечал: «"Дума", "Поэт" и "Не верь себе" являются не простыми сатирами, а своего рода декларациями, которыми Лермонтов отвечал на определившиеся к тому времени общественно-философские умонастроения и направления. Конец 30-х годов был моментом формирования новой русской интеллигенции, нового "поколения" — уже вне декабристских традиций и часто даже с враждебным к ним отношением. В эти годы завязывается тот сложный идеологический узел, который будет постепенно развязываться на протяжении следующих десятилетий: западники и славянофилы, революционные демократы и либералы, теоретики "чистого искусства" и их противники — вся эта будущая "история русской интеллигенции" берет свое начало в 30-е гг., от первых выступлений Белинского, Бакунина, Герцена. Хомякова, К. Аксакова и др., от споров о Гегеле и об отношении к действительности, от новых журналов, подготовивших будущее разделение интеллигенции на партии и группы. Годы 1838-1839 являются годами рождения всей этой будущей борьбы» (Эйхенбаум Б. М. Литературная позиция Лермонтова//Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 149150). По мысли. Э., Толстой вступает в литературную и общественную жизнь, противоречия и идеологические столкновения которой берут свое начало в конце 30-х гг.
Детство Толстой провел в архаической обстановке дворянского поместья, намеренно сохранявшего уклад и традиции александровского времени. — О термине «архаический» см. с. 918-919 наст. изд.
С. 752. Это были не просто «фрондеры», но люди, прямо связанные с декабристским движением. — О связи поколения отца с декабристским движением см. в ст. Э. «Легенда о зеленой палочке». В дневнике Э. от 20 апреля 1947 г. отмечено: «Вчера в Инст-те слушал очень интересную работу В. Г. Базанова о масонских ложах и "Союзе благоденствия" по архивным данным. Выходит несомненно, что отец Т-го был в этом кругу (Калошины!) — отсюда и "муравейные братья", и "Зеленая палочка", и Франклинов журнал ("Семейство Холмских" Бегичева Д. Н. — Грибоедов!)» (Контекст-1981. С. 276).
С. 753. Сам Толстой не говорил прямо о связях отца с масонско-декабристским кругом, потому что имел очень смутное и неточное представление о его жизни до женитьбы. — В ст. «Легенда о зеленой палочке» Э. писал: «Как и Пьер Безухов, Николай Ильич Толстой занимался масонством лишь в той мере, в какой оно могло тогда способствовать просвещению общества» (с. 737 наст. изд.). Э. учитывает «Воспоминания» (1903), где о брате Николае и легенде о зеленой палочке Толстой делает предположение: «Как теперь я думаю, Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливливанию человечества...» (34, 387).
Братья учились на так называемом втором отделении философского факультета, т. е. на физико-математическом отделении; Лев поступил на восточное отделение... Это решение было принято, вероятно, потому, что восточное отделение Казанского университета считалось лучшим и было очень популярным. — Критически на систему образования в Казанском университете смотрит Е. Г. Бушканец: «Восточные разряды составляли в то время славу Казанского университета. Кафедры возглавлялись известными ориенталистами, много путешествовавшими по странам Востока и создавшими ценнейшие исследования, словари, различного рода описания» (Бушканец Е. Г. Юность гения // Нева. 2008. № 8. С. 196). Одновременно исследователь отмечает: «Было бы, однако, неверным не видеть определенного разрыва между очень высоким научным уровнем, достигнутым отдельными, наиболее крупными учеными, и общим состоянием преподавания» (Там же. С. 197).
С. 755. «Исповедь» была, конечно, не столько действительной исповедью или автобиографией (особенно в отношении юности), сколько проповедью, имевшей свою специальную задачу. — В ранних работах Э. писал об «Исповеди»: «В своей "Исповеди" Толстой — тот же художник, разлагающий и искажающей собственную свою душевную жизнь по законам своего художественного творчества...» (Эйхенбаум Б. М. О Льве Толстом // Жизнь искусства. 1919. 22-23 нояб.).
С. 756....Казанский университет был связан не только с университетами Петербурга и Москвы, но и с Дерптским, откуда издавна вывозились в Казань и немецкие профессора и немецкая наука. — О преподавателях и профессорах Казанского университета обширный материал представлен в работе Е. Г. Бушканца: «А. Ф. Мартынов так описывал восточное отделение в 1840-х годах: "Блестящее его состояние объяснялось присутствием на нем таких личностей, каковы Эрдман, Казембек, Ковалевский, Попов (Монгол, как его назвали в отличие от другого Попова — математика. Этого второго Попова студенты называли Интеграл. — Е. Б.), Васильев (не упомню хорошо, был ли тогда в Казани Васильев, или он был в Китае), Березин и др."; "Старик Эрдман был отличный арабист, кроме знания, славился своею прямотою и честностью. Только русскому языку не выучился, ходя долго прожил в России. Последним недостатком, впрочем, отличались тогда все профессора-немцы"» (Бушканец Е. Г. Юность гения. С. 196).
С. 757. Мейер посоветовал ему заняться сравнением «Наказа» Екатерины II с «Духом законов» Монтескье... — О работе Толстого над «Наказом» Екатерины Э. подробно говорит в кн. «Молодой Толстой», но отмечает не содержательную сторону работы студента Толстого, а сам принцип работы над текстом «Наказа». В этом, позднем исследовании, Э. осмысляет именно содержательную сторону работы Толстого, отмечая, что занятия на юридическом факультете до некоторой степени соответствовали напряженным моральным исканиям и запросам Толстого.
...Л. Н. Толстой, между прочим, передавал нам, что в Казани он познакомился с тремя поляками... — Е. Г. Бушканец также обращает внимание на знакомство Толстого с польскими студентами, ссылаясь на книгу Э.: «Большой интерес представляет его знакомство с некоторыми из студентов-поляков, переведенных, точнее, высланных в Казань в 1839 году из Киевского университета. Их было восемь человек, и их присутствие в Казанском университете оказало большое влияние на студентов» (Бушканец Е. Г. Юность гения. С. 192).
Следует остановиться еще на одном ученом, сыгравшем, по-видимому, немалую роль в студенческой жизни Толстого: это Н. А. Иванов... — В дн. Э. отмечал 1 апреля 1947 г.: «Сегодня пошел в Публ. Б-ку и читал в Рукописном отд.: письма Н. А. Иванова 1845 г., дневник Второва (Казань) 40-х годов — совершенно в стиле Толстого. Даже правила и Франклин. Надо бы выяснить, откуда идет эта полоса Франклина — по-видимому, из педагогики» (Контекст-1981. С. 276); о Н. А. Иванове см.: Бушканец Е. Г. Юность гения. С. 200-206.
С. 763. Несомненно, что об учении Гегеля Толстой узнал тоже в казанские годы. В трактате «Так что же нам делать?» он вспоминает: «Когда я начал жить, гегельянство было основой всего ~ и вдруг прошло 40лет, и от него ничего не осталось, об нем нет и помину, как будто его никогда не было» (25, 332). — С этими наблюдениями связан интерес Э. к статье В. Асмуса, в дневнике от 16 апреля 1946 г. отмечено: «Читаю интересную статью В. Асмуса в журнале " Вопросы истории" (1946. № 1) о философской борьбе в Московском университете 70-х гг. Тоже очень важно для Толстого» (Контекст-1981. С. 274). В. Ф. Асмус, описывая ситуацию 40-х годов, отмечал, что центры «передовой науки и передовой общественной мысли в значительной мере совпадали, и Московский университет был средоточием той самой мысли, которая развивалась и действовала в обществе» (Асмус В. Ф. Борьба философских течений в Московском университете в 70-х годах XIX века // Вопросы истории. 1946. № 1. С. 58). Э. делает предположение, что Казанский университет в эпоху Толстого по напряженности интеллектуальной жизни не уступал Московскому и Петербургскому.
...юный Толстой вместе со своим поколением, со своей эпохой вступал в область социально-утопических идей («перестроивал весь мир божий»). — В дневнике от 8 декабря 1947 г. Э. прочерчивает линии развития утопических представлений XIX в.: «В сущности говоря, не надо уходить ни в какие детали, а говорить только главное: художественное выражение утопизма. "Концепция" у меня окончательно сложилась. Декабризм был уже связан с социальным утопизмом (Пестель, Лунин). Дальше XIX век становится веком утопического социализма в самых разнообразных его формах. В России это дает разные линии: одна идет от декабризма (от дворянского революционного движения) и на всем протяжении сохраняет эту связь — Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Герцен, Толстой; другая — рев. демократическая: Белинский, Чернышевский и пр., Некрасов. В первой постепенно вырастает идея антигосударственности, идея морального совершенства (учение о страстях Фурье) — отсюда психологизм; во второй преобладает идея изменения общ. форм. Достоевский — между этими двумя» (Контекст-1981. С. 280-281).
С. 765. В нем сохранялись черты того «юридического мышления», которым отличалась русская философская и общественная мысль конца XVIII века... — О связях Толстого с традицией XVIII в. см. в кн. «Молодой Толстой» (с. 78 наст, изд.), «Лев Толстой. Книга первая. 50-е годы» (с. 150, 172, 297 наст. изд.).
С. 767. Большую роль играли отношения с братьями. — О влиянии братьев на Толстого см.: Бушканец Е. Г. Юность гения. С. 189-192.
С. 768. ...этой повестью можно пользоваться как своего рода мемуаром. — Э. пользуется текстами ранних произведений Толстого как материалом для того, чтобы реконструировать внутреннюю жизнь писателя, в этом смысле художественные тексты Толстого заменяют отсутствующие дневники.
С. 769. Стоит вспомнить слова Герцена в «Былом и думах»... — О Герцене Э. упоминает, освещая свои научные планы, в письме из Саратова в ЦК от 11 июля 1943 г.: «Занялся вопросом о философско-исторической части "Войны и мира" — оказалось невозможным. Сейчас я занялся Герценом (отчасти по связи с темой "Толстой и декабризм") — одна из очередных тем, очень важная для пересмотра нашего прошлого в свете вопроса "Россия и Запад"» (Цит. по: Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. С. 329); в письме Шкловскому от 16 июля 1943 г.: «Читай Герцена — и для Толстого и независимо» (Там же. С. 330). Неоднократно имя Герцена возникает в дневнике Э. кон. 1940-1950-х гг. Внимание к Герцену объясняется тем, что для Э. в период работы над монографией основным становится вопрос о том, как преломляется история в творческом сознании Толстого. JI. Я. Гинзбург, отмечая временнбе совпадение работы Толстого над «Детством» и Герцена над первой частью «Былого и дум», пишет: «Вопрос о жанре "Былого и дум" в высшей степени важен, потому что речь здесь идет о познавательном качестве произведения, о принципе отражения, преломления в нем действительности. В этом и состоит проблема жанра, если не понимать жанр формально. <...> Под пером Герцена первоначальный замысел разрастается неудержимо, вбирая многообразное общественное содержание, превращаясь в построение очень сложное, которое граничите историей, с мемуарами, с романом, не становясь ни романом, ни исторической хроникой» (Гинзбург JI. Я. О психологической прозе. М., 1999. С. 221-222).
Так пишет о Казанском университете В. В. Берви... — О Берви в Казанском университете и его критическом отклике на роман Толстого «Война и мир» см. с. 567-572 наст. изд.
С. 770. Толстой писал эти главы в 1856 г.; в них, таким образом, могли отразиться впечатления и мысли петербургского периода — беседы в «Современнике», встречи с Чернышевским, Некрасовым, Тургеневым идр.—О влиянии на Толстого идей «Современника» в казанский период см. в работе Е. Н. Купреяновой: «Уже в 1847 г. Толстой далеко не был человеком, отрешенным от передовой общественной мысли. Он пристально следил за текущей литературой и, прежде всего, за тем, что печаталось в передовом журнале — "Современнике", и несомненно, находился в какой-то мере в сфере его влияния» (Купреянова Е. Н. Молодой Толстой. Тула, 1956. С. 18-19).
С. 772. ...грандиозный план, который намечен для осуществления в деревне в течение двух лет и из которого видно, что Толстой вовсе не был намерен бросить занятия науками. — В кн. «Молодой Толстой» эта программа действий осмыслена как «прием, как самоцель» (с. 79 наст. изд.).
Толстой на Кавказе (1851—1853 гг.)
Впервые: Эйхенбаум Б. JI. Толстой на Кавказе (1851-1853) // Русская литература. 1962. №4. С. 48-76).
Печатается по: Эйхенбаум Б. Толстой на Кавказе (1851 -1853 гг.) // Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 232-278
С. 779. Так взят и развит метод Лермонтова... — О том, что до Толстого психологический анализ был разработан у Лермонтова, говорил Чернышевский (Чернышевский Н. Г. ПСС. В: 15 ТТ. Т. 3. М., 1947. С. 423). Э. писал о психологизме в творчестве Лермонтова: «Традиционная светская повесть повышена в своем значении, потому что герой психологизирован — мотивирован как личность, как характер... Правда, психологической разработки, какой подверглись литературные персонажи у Толстого и Достоевского, у Лермонтова еще нет — впечатление "личности", и притом "типичной", создается не детальным анализом душевных состояний, не разнообразием чувств и мыслей, а самым составом афоризмов, разговоров и размышлений героя» (Эйхенбаум Б. М. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки // Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 273); в др. ст.: «"Герой нашего времени", насыщенный богатым психологическим материалом, открыл новые возможности и для Тургенева, и для Достоевского, и в особенности для Толстого» (Эйхенбаум Б. М. Михаил Юрьевич Лермонтов. М., 1947. С. 15).
С. 781. Не удивительно, что первые же произведения Толстого были так восторженно встречены редакцией «Современника» — не только Некрасовым и Тургеневым, но и Чернышевским. — О Толстом в «Современнике» см. с. 271-273 наст. изд.
...охвачен пафосом открытия общих «моральных истин» и усовершенствования человеческой жизни. Такова принципиальная (теоретическая) основа его напряженного самонаблюдения и самоиспытывания. — О «самоиспытывании» и «самонаблюдении» Э. подробно говорит в кн. «Молодой Толстой». Видимо, вслед за Э. о «самонаблюдении» пишет Е. Н. Купреянова: «Переход от дневниковой формы самонаблюдения и самоанализа к развернутому изображению самого процесса своего духовного развития явился началом творческой деятельности Толстого, вывел его на путь широких художественных обобщений» (Купреянова Е. Н. Молодой Толстой. Тула, 1956. С. 23).
С. 782. Одним из первых заговорил об этом Лермонтов, прошедший весь путь по- следекабристских разочарований; в предисловии к «журналу» Печорина он смело и решительно заявил: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли нелюбопытнее и не полезнее истории целого народа». Это многозначительное заявление открывало новые горизонты для литературы. — В дневнике от 7 июня 1946 г. Э. говорит о работе над книгой: «Надо обыграть слова Лермонтова в предисловии к "Журналу Печорина" — об "истории человеческой души". К этим словам привлечь все то, что говорилось в 40-х годах о важности изучения личности в обыденных домашних отношениях...» (Контекст-1981. С. 272). Э. подчеркивал, что слова Лермонтова в предисловии к «Журналу Печорина» направлены «против исторического романа, созданного романтиками, — против В. Скотта и его многочисленных последователей» (Эйхенбаум Б. М. Литературная позиция Лермонтова//Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 137).
Герцен начинает усиленно говорить о важности изучения «частной жизни», ежедневных домашних отношений и рекомендует ввести употребление микроскопа в нравственный мир («Капризы и раздумье»). — В дневнике от 22 июня 1946 г. Э. записал: «Привлечь все то, что говорилось в 40-х годах о важности изучения личности в обыденных, домашних отношениях (Герцен в "Капр. и разд. (?)") и пр. Сюда примкнет Данилевский и станет ясной база для "психологизма", рожденная крахом революционных надежд» (Контекст-1981. С. 272). В дневнике от 22 июня 1946 г. Э. отметил, что работал с кн. П. Сакулина, в кн. два раздела посвящены петрашевцам (Сакулин П. Русская литература и социализм. Ч. 1: Ранний русский социализм. М., 1924. С. 313-431).
С. 786. Слово «философальный» указывает на французский источник этой записи («pierrephilosophale» — философский камень алхимиков). Очень близкое к этому изречение имеется в книге П. Леру «О человечестве»... — В дневнике от 15 апреля 1947 г. Э. вспоминает кн. А. А. Козлова «Религия Толстого», которую он читал во время блокады: «Там много оказалось подчеркнутым — в том числе о связи с социализмом и даже Пьер Леру! Все у меня тогда было в мозгу. Потом я забыл, и весь материал пропал на Ладожском озере. А теперь я пришел к тому же, думая, что впервые» (Контекст-1981. С. 276). В кн. А. А. Козлова дана оценка и анализ философских и религиозных взглядов Толстого, а также отмечены связи представлений Толстого с учениями Конта и Леру: «По сущности своей доктрина гр. Толстого всего скорее составляет одну из разновидностей социальных утопических учений» (Козлов А. А. Религия графа Л. Н. Толстого. СПб., 1888. С. 115).
Кто же будет, собственно, рассказчиком и с точки зрения кого будет рассказана история четырех эпох?— О своеобразии повествования в трилогии Толстого говорит Е. Н. Купреянова: «Повествование ведется как будто от лица ее главного героя, но организующим речевым потоком является отнюдь не повествовательная речь Николеньки, а лирическая речь автора» (Купреянова Е. Н. Молодой Толстой. С. 25); на особенности повествования в трилогии также обращает внимание Я. С. Билинкис: «На всем протяжении толстовской трилогии непрерывно скрещиваются восприятие жизни ребенком, отроком, юношей и осмысление всех этих впечатлений Иртень- евым-повествователем, для которого юность уже осталась позади, при этом самый характер связи между анализом жизневосприятия Николеньки и авторским «дополнением» Николенькиных дум и переживаний различен в разных частях трилогии и определяется у Толстого тем этапом в жизни Николеньки, о котором в данном случае идет речь» (Билинкис Я. С. Эпохи развития человека (Автобиографическая трилогия) // Билинкис Я. С. О творчестве Л. Н. Толстого. Л., 1959. С. 13).
Толстой в «Современнике» (1856—1857 гг.)
Впервые: Эйхенбаум Б. Толстой в «Современнике» // Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 279-336
Печатается по первому изд.
С. 808. Чернышевским в его статье о Толстом. — Ст. без подписи по поводу вышедших «Детства и Отрочества» и «Военных рассказов». (Современник. 1856. Т. 60. № 12. С. 53-64. Отдел «Критика»).
Чернышевский первый обратил внимание на эту черту Толстого... — Об отношении Чернышевского к творчеству Толстого см.: ШифманА. И. Чернышевский о
Толстом // JI. Н. Толстой. Сборник статей и материалов. М., 1951. С. 189-267. Статьи о Толстом анализируются с позиции их роли в идейном столкновении с эстетической критикой.
С. 811. ...Дружинин был отчасти прав, усмотрев в «Метели» нечто сходное с поэзией и, в частности, со стихотворениями Фета. — В ст. А. В. Дружинин отмечал: «Зорко подмечает он все мельчайшие поэтические подробности внешнего и внутреннего мира, с бесконечной правдой рисует он нам картину за картиною и местами, как, например, в описании своего тревожного сна, возвышается до поэзии поистине изумительной» (Дружинин А. В. «Метель». — «Два гусара». Повести Л. Н. Толстого//Дружинин А. В. Литературная критика. М., 1983. С. 110).
С. 811. С. Аксаков, очень хваливший ее, тем не менее писал 12 марта 1856 г. Тургеневу: «Скажите ему, что подробностей слишком много; однообразие их несколько утомительно». — Полностью высказывание С. Аксакова выглядит так: «Скажите пожалуйста графу Толстому, что "Метель" — превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих: не один раз испытал я ужас зимних буранов и однажды потому только остался жив, что попал на стог сена и в нем ночевал. Скажите ему, что подробностей слишком много; однообразие их несколько утомительно» (Письма С. Аксакова Тургеневу// Русское обозрение. 1894. Т. 30 С. 583).
С. 812. Им был противопоставлен Покорский (Белинский)... — В отличиет от Э. Д. И. Чижевский считал прототипом образа Покорского в романе «Рудин» Станкевича: «Тургенев воздвиг Станкевичу памятник в образе Покорского в «Рудине» (Чижевский Д. И. Гегель в России. Париж, 1939. С. 71).
С. 814. В1903 г. Толстой говорил о Блудове А. Б. Гольденвейзеру...—С вязь повести «Два гусара» с темой декабризма Э. отметил в дн. от 11 декабря 1947 г.: «Вступление к "Двум гусарам" обнаруживает несомненную подготовку к "Декабристам" — за ним большое чтение об эпохе (детали быта, костюмов, мебели и пр.); это вступление могло бы быть началом "Войны и мира"» (Контекст-1981. С. 281).
С. 817.28мая 1856г. Толстой приехал в Ясную Поляну и в тот же день вступил в переговоры с крестьянами. — В дн. от 7 ноября 1946 г. Э. отметил: «Первый раздел будет о крестьянском вопросе» (Контекст-1981. С. 275). О проектах освобождения крестьян Толстого см. с. 283-295 наст. изд.
С. 823. В. Боткин говорит. <... > Такая постановка вопроса должна была нравиться Толстому, но дело осложнялось тем, что так называемое у современников «практическое направление» века (развитие капитализма и индустрии) ставило как будто под удар самое существование искусства. — О взглядах Боткина на искусство см. в кн.: Сакулин П. Русская литература и социализм. С. 179-194. — Э. приводит те же выдержки из сочинений Боткина.
С. 832.... Толстой со своим «Альбертом» шагнул так назад, что против него оказались все. — В ст. «Пушкин и Толстой» Э. резко оценивает повесть Толстого «Альберт»: «"Альберт" — чуть ли не единственная у Толстого фальшивая вещь, записанная с чужих слов, произнесенная не своим голосом» (с. 706 наст. изд.).
Н. Н. Мостовская возражает Э., ссылаясь на А. Григорьева, который утверждал, что «Альберт» является «органическим последствием того же самого психического процесса, который раскрывается в предшествовавших его произведениях, — завершением того же анализа, который так поразил всех в этих предшествовавших произведениях» (Цит. по: Мостовская Я. Я. Личность художника у Гоголя и Толстого («Портрет» и «Альберт») //Л. Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979. С. 111).
Наследие Белинского и Лев Толстой (1857—1858)
Статья в сокращенном виде опубликована в журнале «Вопросы литературы». 1961. № 6. С. 124-148. — Полный текст печатается впервые по рукописи. В рукописи дата: июнь—июль 1948 г. Статья посвящена «с благодарностью за дружеские советы... профессору Г. А. Вялому».
Статья примыкает к общему замыслу Эйхенбаума 1940-1950-х гг. и в наст. изд. печатается вместе с главами незавершенной монографии.
С. 852. Через Тургенева, Анненкова и Боткина, через чтение Белинского и писем Станкевича, через «Былое и думы» Герцена Толстой вошел в атмосферу «замечательного десятилетия», которое в свое время (когда он учился в Казанском университете) коснулось его сознания только некоторыми сторонами. — О влиянии Станкевича на Белинского, Грановского, Тургенева, К. Аксакова, Бакунина см. в кн. Д. И. Чижевского, где приведены те же отзывы Толстого о Станкевиче, на которые обращает внимание Э. (Чижевский Д. И. Гегель в России. С. 69). Знакомство с немецкой философией поколения 40-х гг. Д. И. Чижевский связывает с влиянием, которое имел Станкевич. Д. И. Чижевский отмечает: «Станкевич пришел к Гегелю после занятий немецким идеализмом. Он начал с Шеллинга и Шиллера, прошел через Канта и Фихте и только тогда перешел к Гегелю» (там же. С. 75).
О близости толстовских взглядов воззрениям его старших современников Белинского и Станкевича пишет Е. Н. Купреянова: «Философия никогда не была для Станкевича, как и для Белинского, чистым умозрением, кладезем непогрешимых и отвлеченных откровений, а только методом постижения "практической", т. е. общественно-нравственной истины. "Я ищу истины, а вместе с нею и добра", — так определил Станкевич цель своих философских занятий и "поэтических" влечений к ним своего "сердца"
Столь характерное для Толстого отождествление общественной сущности человека с его "свободной" духовно-нравственной сущностью, а всего эгоистического антиобщественного в человеке с его же собственной "животной", т. е. физической природой, уже полностью сложилось у Станкевича в ходе изучения им немецкой классической философии. Воспринимая ее идеи преимущественно в этическом аспекте, Станкевич видит в нравственном начале решающий фактор прогрессивного исторического развития, побуждающий человека добровольно и активно стремиться не только к своему собственному, но и к общему благу, и в служении ему находить высшее счастье и удовлетворение, истинный, т. е. подлинный смысл своей собственной жизни» (Купреянова Е. Я. Эстетика Л. Н. Толстого. М.; Л., 1966. С. 69).
О том, что Толстой после приезда в Петербург был приобщен к «культу Станкевича» см. в кн.: ОрвинД. Искусство и мысль Толстого. 1847-1880. СПб., 2006. С. 75
JI. Е. Кочешкова, И. Ю. Матвеева
ОГЛАВЛЕНИЕ
Толстой Эйхенбаума: энергия постижения (1919-1959) (И. Я. Сухих) 3
ЛЕВ ТОЛСТОЙ 29
МОЛОДОЙ ТОЛСТОЙ
Предисловие 73
Дневники (1847-1852) 75
Опыты в области романа 101
Борьба с романтикой (Кавказ и война) 118
ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Книга первая. Пятидесятые годы
Предисловие 147
Часть первая. 1847-1852
Глава 1 150
Семья Толстого. — Н. И. Толстой. — Смерть отца. — Толстой в Казанском университете. — Толстой в деревне. — Новые планы. — Фельетон Б. Алмазова. — Дневники и первые литературные проекты Толстого. — Переезд на Кавказ.
Глава 2 161
Дневники. — «История вчерашнего дня». — Связь с дневниками. — Начало литературной работы. — Вопрос о «слоге». — Стихи и проза. — Статьи Дружинина. — СлогТолстого. — Проблема описания. — Наброски портретов. — Отношение к «беллетристике». — Размышления Тургенева.
Глава 3 176
Разрыв поколений. — 1845 г. — «Воспоминания» П. М. Ковалевского. — Статья Н. Полевого. — Борьба журналов. — «Физиология Петербурга». — Статья В. Белинского. — «Современник» и «Отечественные записки». — Статья И. Киреевского. — Пародия Б. Алмазова. — Переводная литература. — Светские повести. -Дамы-писательницы.
Глава 4 187
Развитие автобиографий, записок и прочего. — Работа над «Детством». — Повесть П. Кулиша о «Детстве». — Положение «Современника». — Отношение к Писемскому. — Беллетристика о беллетристах. — Переписка Толстого с Некрасовым.
Глава 5 200
Занятия и планы Толстого. — Письмо к Т. А. Ергольской. — Отношения Толстого к людям. — Мысли о себе. — Разжалованные. — Епишка. — Отношение к брату Николаю. — Литературное соперничество. — «Казаки» и «Охота на Кавказе». — Смерть Николая.
Часть вторая. 1852-1856
Глава 1 211
Новые литературные планы. — Развитие военных очерков. — «Калужские вечера» 1825 г. — «Записки об Аварской экспедиции» Я. Костенецкого. —«Предгорное ущелие» П. Карловича. — План «Кавказских очерков». — «Набег». — «Роман
помещика». — Статья Сенковского. — Работа над «Романом помещика». — Вопрос об «отвлеченных мыслях». — Роль воспоминания.
Глава 2 224
«Как гибнет любовь». — Работа над «Отрочеством». — «Записки маркера». — Толстой в Севастополе. — Проект военного журнала. — Толстой — военный корреспондент. — «Рубка леса». — Первый Севастопольский очерк. — Второй Севастопольский очерк. — Чтение Толстого. — П. Н. Глебов о Толстом. — Ю. И. Одаховский о Толстом.
Глава 3 241
Редакция «Современника». — Дворяне и разночинцы. — Лето 1855 г. — Статья Дружинина о Пушкине. — Анненков о положении литературы. — Вопрос о Гоголе. — Борьба с Чернышевским. — Рецензия Чернышевского. — Отношение Тургенева. — «Школа гостеприимства» Григоровича. — Письма Чернышевского к Некрасову. — Появление Толстого.
Глава 4 253
Литературное положение Толстого. — Восторженный прием. — Толстой и Тургенев. — Толстой и Фет. — Толстой и славянофилы. — А. Григорьев. — Толстой о Чернышевском. — «Очерки гоголевского периода» Чернышевского. — «Критика Гоголевского периода» Дружинина. — Письмо Некрасова о Толстом. — «Бесценный триумвират».
Глава 5 267
«Севастополь в августе». — Дружинин о Севастопольских рассказах Толстого. — «Метель». — Два гусара». — Сходство с Теккереем. — Злободневный смысл «Двух гусаров». — Дружинин о «Двух гусарах». — Чернышевский о Толстом.
Часть третья. 1856-1860
Глава 1 280
Отношение Толстого к интеллигенции. — Толстой в деревне. — Письмо к Д. Н. Блу- дову. — Исторический комментарий. — Статьи в «Русском вестнике». — «Крепостничество» Толстого. — Письмо к Е. П. Ковалевскому. — Итоги. — Цитаты из «Анны Карениной». — Толстой в «Современнике». — Толстой и Чаннинг. — Выводы.
Глава 2 297
«Юность». — Чтение и отзывы Толстого. — Парижский период. — «Альберт». — Вопрос об искусстве. — Неудача с «Альбертом». — Письмо Некрасова. — «Люцерн». — Письма Боткину. — Работа над «Казаками». — Переписка с Боткиным. — Некрасов о «Современнике». — Уход Толстого из «Современника».
Глава 3 313
Новые проекты Толстого. — План журнала. — «Сон». — «Три смерти». — Работа над «Казаками». — Положение писателя и литературы. — Статья Н. Ахшарумо- ва. — Статья Б. Алмазова. — Статья Г. Елисеева. — Речь Толстого в Обществе Любителей Российской Словестности.
Глава 4 324
«Семейное счастие». — Автобиографический материал. — Вопрос о женщине. — Книга Прудона. — Книга Мишле. — Полемичность толстовского романа. — Миш- ле о семейной жизни. — Сочетание стилей у Толстого. — Неудача с «Семейным счастием». — Толстой и Фет. — Письма Дружинина Толстому и Фету. — Письмо к Е. П. Ковалевскому.
Глава 5 341
Вторая поездка за границу. — Вопрос о народном образовании. — Тезисы Толстого. — Толстой в Германии. — Толстой в Марселе. — Статья «Прогресс и определение образования». — Вопрос о литературной собственности в статьях 1861-1862 гг. — Чернышевский о Толстом. — Толстой у Прудона. — Письмо Прудона. — «Война и мир» Прудона. — Вопрос о Наполеоне. — Возвращение Толстого. — Письмо к А. А. Толстой. — Предисловие к «Войне и миру».
ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Книга вторая. Шестидесятые годы
Предисловие 355
Часть первая. Толстой вне литературы
Глава 1 356
Конец 50-х годов. — Вопрос о Салтыкове-Щедрине. — Статья Е. Эдельсона. — Москва и Петербург. — Объявление от редакции «Современника». — Статья А. Григорьева о Толстом. — Позиция Толстого. — Толстой как «социальный архаист».
Глава 2 362
Толстой и славянофилы. — Дружба Толстого с Б. Н. Чичериным. — Чичерин и славянофилы. — Письмо Чичерина к К. Д. Кавелину. — С. Соловьев о славянофилах. — Отношение Толстого к Чичерину. — Статья Чичерина. — Ссора. — Чичерин о Толстом. — Чичерин в «Анне Карениной».
Глава 3 373
Отречение Толстого от литературы. — Вопрос о народном образовании. — Роман Ауербаха «Новая жизнь». — Евгений Бауман и его работа в школе. — Педагогические теории Ауербаха. — Толстой в Германии. — Ю. Фрёбель о Толстом. — Чтение книг В. Риля. — Популярность Риля в России.
Глава 4 382
Статьи В. Безобразова в «Русском вестнике» 1857-1859 гг. — Пропаганда теорий Риля. — С. Соловьев о Риле. — Публицистический смысл его статьи. — Полемика со славянофилами. — Риль как «немецкий славянофил». — Хомяков о Соловьеве. — Письма И. Аксакова о Риле. — Отзывы Толстого о Риле. — Взгляды Риля. — Риль и немецкое народничество.
Глава 5 395
Школа и литетатура. — Толстой и Тургенев в 1861 г. — Риль о «пролетариях умственной работы». — Риль о писательстве. — Журнал «Ясная Поляна». — Статьи Толстого. — Письмо к С. А. Рачинскому. — Письма к А. А. Толстой. — Письмо к Чернышевскому. — Статья «Воспитание и образование». — Статья «Современника». — Полемика вокруг вопроса о школе Толстого. — Ответ Маркову. — Радикализм Толстого. — Обыск в Ясной Поляне. — Женитьба и отход от школы.
Часть вторая. Возвращение в литературу
Глава 1 410
П. Анненков о школе Толстого. — Описания школы в журнале Толстого. — Статья «Кому у кого учиться писать». — Федька и Семка. — Писание рассказа. — Волнение Толстого. — Школа как литературный эксперимент. — Возвращение в литературу и новая позиция Толстого.
Глава 2 416
Замысел «Идиллии». — Связь с немецким народничеством. — Книга Ауербаха «Schrift und Volk». — Сказовая основа «Идиллии». — «Тихон и Маланья». — Риль о Готхельфе. — Характеристика Готхельфа. — Готхельф и Ауербах. — «Поликушка». — Связь с Готхельфом. —Ауербах о «Поликушке».
Глава 3 425
Возобновление «Казаков». — Предполагаемая фабула. — «Казаки» в «Русском вестнике». — Фигура Оленина. — Набросок 1862 г. — Я. Полонский и Е. Тур о «Казаках». — Статья «Современника». — Положение Толстого. — Уход в «домашность».
Глава 4 432
Замысел «истории лошади». — План М. А. Стаховича. — Очерк А. Башуцкого. — Тема лошади в 40-50-х годах. — Комедия М. Стаховича «Наездники». — Увлечение коннозаводством. — Расцвет коннозаводства. — Конное дело в помещичьем быту 50-х годов. — Газетные фельетоны. — Эпистолярная литература. — Послание Фета к Тургеневу. — Воспоминание Тургенева о Толстом. — Отзыв В. Соллогуба о «Холстомере».
Глава 5 444
Толстой-хозяин. — Накопление имущества. — Письмо к тульскому губернатору. — Борьба за «счастье». — Записи дневника. — Возвращение к «лиризму». — Письмо о фарфоровой кукле. — Записи в дневнике С. А. Толстой. — Семейная травма. — Страшный сон С. А. Толстой. — Смысл слова «кукла». — Разочарование Толстого в хозяйстве.
Часть третья. «Все хорошо, что хорошо кончается»
Глава 1 450
Возвращение к 1856-1857 гг. — Интродукция «Двух гусар» и замысел «Декабристов». — Переход от «Казаков» к «Декабристам». — «Декабристы» Толстого и Герцен. — Вступление. — Связь с журнальным стилем 60-х годов. — Лабазов- Волконский. —Толстой и И. Аксаков. — Характеристика Завалишина. — Завалишин и декабристы. — Интерес Толстого к Завалишину. — Переход от «Декабристов» к «Войне и миру».
Глава 2 461
Роман Чернышевского и отношение к нему. — Планы и наброски комедий. — «Зараженное семейство». — Языковой комизм. — Использование жаргонов. — Пародия на интеллигентский язык. — Язык Толстого в письмах к Т. А. Кузмин- ской. — Толстой о прогрессе. — Обличение «новых людей».
Глава 3 467
Положение беллетристики. — Суждения Н. М. Павлова и Г. Е. Благосветлова. — Интерес к истории: книги, статьи и лекции. — Выбор эпохи для романа. — Письмо Е. А. Берс. — Источники Толстого. — «Антиисторизм» Толстого. — Уроки истории в школе. — Рассказ о 1812 г. — Письмо Е. Н. Ахматовой и детская литература. — Лубочная литература. — Ранние конспекты романа. — Первоначальный жанр романа. — 4 периода в работе над романом. — Редакция 1863 г.
Глава 4 480
Работа 1864 г. — Знакомство с М. П. Погодиным. — Изменение плана. — Кн. Андрей. — Письмо к Л. И. Волконской. — Превращение мотивировочного элемента в сюжетный. — Военные и политические настроения Толстого. — Тенденциозность «Войны и мира». — Статья Н. Лескова о «Войне и мире». — Работа Толстого над материалом. — П. Бартенев о Толстом.
Глава 5 487
Отзыв П. Анненкова. — Отзыв А. Д. Блудовой. — Узнавание прототипов. — Старик Болконский. — М. Ф. Каменский. — Письма Т. Кузминской и Поливанова о прототипах романа. — Отзыв И. С. Тургенева. — Работа 1865 г. — Превращение в «поэму». — Чтение Гёте и Троллопа. — «Мемуары» маршала Мармона и запись в дневнике. — Окончание второй части романа и выход отдельного издания. — Рецензия «Книжного вестника». — Письмо А. Фета.
Часть четвертая. «Война и мир»
Глава 1 498
Работа 1867 г. — Кружок Толстого. — Популярность Прудона в России. — Е. Тур о Прудоне. — Споры о Прудоне. — Письмо М. Погодина к Прудону. — Прудон в реакционных кругах. — Переводы книг Прудона. — Статья Н. Курочкина. — Отношение Чернышевского к Прудону. — Н. Михайловский о Толстом и Прудоне. — Статья Молинари о «Войне и мире» Прудона. — Толстой в Брюсселе.
Глава 2 508
Прудон о Наполеоне. — Черновые наброски Прудона. — Сходство характеристики Наполеона у Прудона и Толстого. — Совпадение мнений Прудона и Толстого о войне. — Смысл сопоставлений. — М. Драгомиров о военных рассуждениях Толстого и Прудона. — Ж. де-Местр и его популярность в России. — Заимствования Толстого из писем де-Местра. — Диалог о войне в «.Soirdes de St.-P6ters- bourg». — Сочетание Прудона и де-Местра.
Глава 3 516
Соотношение двух планов романа. — «Рассудительство» в эпоху 60-х годов. — Интерес к вопросам философии истории. — Журнальные статьи. — Вопрос о Бок- ле. — Толстой и Бокль. — «Самобытность» Толстого. — С. Соловьев о Бокле. — С. Урусов о Бокле и Погодине. — Толстой о Бокле. — Письма Толстого к Погодину. — «Исторические афоризмы» Погодина. — Толстой и Погодин. — Монтажные приемы Толстого.
Глава 4 528
Чичерин о книге С. Урусова. — Письмо И. Тургенева и слово «разуруситься». — В. Барятинский об Урусове. — Толстой об Урусове. — Письмо Урусова к И. Киреевскому. — Письмо Урусова к И. Аксакову о польском вопросе. — Сближение Толстого с Урусовым в 60-х годах. — Урусов о западниках. — Книга Урусова «Обзор кампаний 1812 и ШЗгодов». —Переписка Толстого с Урусовым. — Борьба дворянской науки с разночинской. — Математическая терминология Толстого. — Кружок Толстого. — Возражения Урусова. — Философские рассуждения Толстого как «зачины» частей. — Письма Урусова о франко-прусской войне. — Письмо Толстого о военной реформе. — Вступление Толстого в 70-е годы.
Глава 5 549
Переломы в истории писания «Войны и мира». — Отсутствие полной сводки редакций. — Отзывы прессы. — Статьи ветеранов и военных специалистов. — «Правые» и «левые» о Толстом. — Н. Страхов об «обличительном» характере романа. — Статья «Русского инвалида» и письмо Толстого в редакцию. — Н. Страхов о философии Толстого. — «Война и мир» в редакции 1873 г. — Дальнейшая история текста. — Отсутствие «канонического» текста. — «Война и мир» в истории русского романа. — Достоевский о Толстом.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Семидесятые годы
Часть первая. После «Войны и Мира»
Глава 1 563
Статья Н. Страхова в «Заре». Статья С. Навалихина (В. Берви-Флеровского) в «Деле». Толстой и В. Берви в Казани. Берви в «Современнике». Книга Берви- Флеровского «Положение рабочего класса в России». Толстой и Берви
Глава 2 575
Промежуточный период: новый уход из литературы. Работа над «Азбукой». Увлечение хозяйством: Толстой в Самарской губернии. Неудачи и волнения
Глава 3 583
«Большая битва» с педагогами. Толстой в Комитете грамотности. Статья Толстого «О народном образовании». Отзывы прессы. Затруднительное положение «Отечественных записок». Михайловский о Толстом
Глава 4 599
«Азбука» как демонстрация против современной литературы. Письма к Страхову о «возрождении и народности». Обращение к мировому народному эпосу. Рассказ «Кавказский пленник»Часть вторая. Роман из Петровской эпохи
Глава 1 607
Новые исторические замыслы. Русская историография 60-х годов. Смутное время и эпоха Петра I как соотносительные злободневные темы. Вопрос о кризисе дворянства и о петровских реформах
Глава 2 616
Полемика Толстого с С. Соловьевым. Отрицательное отношение к исторической науке. Увлечение Шопенгауэром: проблема свободы волн, вопрос об истории
Глава 3 623
Связь замысла романа о Петре с «Азбукой». Первые наброски и изменение замысла. Дальнейшие наброски «Старое и новое». Образ Петра. Работа над материалами и неудача
Глава 4 629
Переход от исторического сюжета к семейному. Отношение Толстого к «женскому вопросу». Страхов о книге Милля и письмо Толстого к Страхову. Шопенгауэр и А. Дюма
Часть третья. «Анна Каренина»
Глава 1 641
«Анна Каренина» и западные традиции. Первоначальный замысел и наброски. Первый период работы и остановка. Переписка со Страховым. Возобновление работы и печатание. Искание «подмостков» и отношение к Страхову
Глава 2 654
Увлечение прозой Пушкина. Толстой и Пушкин. Зинаида Вольская и Анна Каренина. Письмо Толстого к П. Д. Голохвастову. «Объективность» новой манеры Толстого
Глава 3 662
Толстой и Шопенгауэр. Отношение Толстого к философским системам. Предисловие к «Избранным мыслям французских философов». Влияние эстетики Шопенгауэра. Происхождение и смысл эпиграфа к «Анне Карениной». Толстой об эпиграфе. Центральная проблема романа и его моральные тенденции
Глава 4 671
Толстой в 70-е годы. Толстой и Тютчев. Чтение Толстого в эпоху создания «Анны Карениной». Влияние поэзии Фета. Художественная символика как новый элемент в системе Толстого. Переход к 80-м годам
СТАТЬИ
Литературная карьера Л. Толстого 687
Творческие стимулы Л. Толстого 691
Пушкин и Толстой 700
О противоречиях Льва Толстого 711
Легенда о зеленой палочке 734
О взглядах Ленина на историческое значение Толстого 739
ГЛАВЫ ИЗ НЕЗАВЕРШЕННОЙ МОНОГРАФИИ О Л. Н. ТОЛСТОМ
Толстой — студент (1844-1847 гг.) 751
Толстой на Кавказе (1851-1853 гг.) 774
Толстой в «Современнике» (1856-1857 гг.) 803
Наследие Белинского и Лев Толстой (1857-1858) 837
Примечания 861
Комментарии (Л. Е. Кочешкова, И. Ю. Матвеева) 884
■ПВШ <./ I it v i^/ / ^^ Y
' > Л.4 / / I
• V ..... , ' ' 4 .. V'1' 1
t * 'J j <
bj iulinfik Ik л - / '1» '"л
43 «Confessions», partie l'livre HI: «Mes manuscrits, raturds, barbouillds, melds, inddchiffrables, at- testent Id peine qu'ils m'ont coCitde. II n'y en a pas un qu'il me m'ait fallu transcrire quatre ou cinq fois
28 Характерная прибавка, невозможная в романтической характеристике.
12 Письма Л. Н.Толстого 1848-1910 гг. / Собр. и ред. П. А. Сергеенко. М., 1910. С. 1.
11 Там же. С. 2-3.
52 Вероятно — «Роман русского помещика».
51 Печать и революция. 1928. Кн. 1.
7 Толстой. Памятники творчества и жизни / Ред. В. И. Срезневского. Вып. 4. М., 1923. С. 59. Речь В. А. Кокорева напечатана в «Русском вестнике» (1857. Кн. 2. Декабрь. С. 212—217). В этой речи Кокорев, между прочим, говорит: «Когда новый порядок сообщит довольство крестьянам, тогда вся торговля разовьется и примет другие размеры, значит, и мы, купцы, будем иметь новую огромную выгоду. За что же мы эту выгоду получим даром, без всякого участия в общем деле нового устройства крестьян? Ведь нам будет стыдно смотреть и на дворян, и на крестьян, на последних тем более будет стыдно, что многие из нас сами недавно вышли из крестьян, и я, говорящий эти слова, имею родных в крестьянском сословии. Не вправе ли будут крестьяне сказать: "а вот там, в городах, есть купцы-богачи, да они забыли о нас, ничем не помогли, никто не расстался ни с малейшею частицей своих богатств, в пользу созидания общего богатства земли Русской". А ведь быт крестьян нам знакомее, чем кому-либо; наши приказчики живут в деревнях, стоят с крестьянином лицом к лицу и на рынке, и на гумне, и сообщают нам верные и свежие известия, так сказать из вчерашней жизни народа. А быт помещиков разве мы не знаем? Знаем вдоль и поперек. Каждый приказчик от хлебных торговцев знает даже те числа, в которые нужны помещику деньги на взнос в опекунский совет или на другие надобности, и в это время он является к нему для покупки хлеба. То же самое знание внутренних подробностей помещичьего и сельского быта мы имеем и по про
чим статьям, как-то: по торговле салом, шерстью, льном, пенькой, по найму рабочих, по движению обозов на торговых трактах и т. д. Есть такие тракты, по коим перевозится товаров на сотни миллионов, а они неизвестны ни в одном печатном дорожнике; их проложила прямиком сама потребность, минуя все дальние пути, сочиненные одним ложным умозрением. Но почему же бы из всех этих знаний не высказать слово —сущей правды? Зачем мы молчим? Говорить не привыкли. Попробуемте.
Крестьянам, обитающим на помещичьих землях, назначено окупить деньгами или трудом стоимость их жилища и огородов. Сверх того, за ту землю, которую они получат от помещиков под поля, они должны обрабатывать землю владельца, то есть ту, которую они и ныне обрабатывали. Очевидно, крестьянину прибавляется новый труд — отработать стоимость своей избы и огорода. Вот и готов случай купечеству принять участие в деле устройства судьбы крестьян. Почему не открыть между всеми русскими купцами подписку в том, кто и за сколько крестьянских жилищ заявит желание заплатить деньги помещикам? Москва должна подать пример, а ему последует и вся Россия. Москва и подала бы этот пример, но ей мешает отвычка от самостоятельности. Означенным платежом денег справедливость требует выкупить только те крестьянские жилища, кои находятся в имении мелкопоместных владельцев, ибо им при настоящем перевороте, необходимы денежные средства для насущных потребностей жизни. Таким образом купечество, содействуя справедливой развязке настоящего важного жизненного для России вопроса, сделает пользу и мелкопоместному дворянству и крестьянам...
Вот при таком-то сочувствии, при такой-то спайке всех сословий истинною любовью, выражаемою жертвами, устроится дело к обоюдной пользе помещиков и крестьян, устроится оттого, что соберется много денег, кои необходимы для развязки этого вопроса, в губерниях: Московской, Ярославской, Вологодской, Костромской, Владимирской, Новгородской, Тверской, Псковской и северных уездах Смоленской. В губерниях этих половина дохода извлекается помещиками из их личного права на крестьянина: треть народонаселения выходит на заработки, платя оброк за то, чтобы помещик не потребовал домой, следовательно, здесь переложение всех доходов с имений на арендную плату за землю не может бьггь применено вполне. Часть убытков, кои понесет
51 Уже в 1858 г. М. Михайлов в своих «Парижских письмах» сообщает читателям «Современника» (Nq 9) о появлении новой книги Прудона и останавливается именно на тех ее частях, которые посвящены вопросу о женщине: «Особенный интерес для большинства представляют в книге главы, посвященные разбору семейных отношений и роли женщины в современном обществе. Уж и в прежних его сочинениях попадались места, обличавшие странный взгляд на женщину и на ее призвание. Но, как высказанный вскользь, взгляд этот не вызывал особенных возражений. Можно было думать, что суждения Прудона о женщине и ее роли выражены не совсем ясно, потому что он не придавал им особого значения как вопросу, почти не касавшемуся главного предмета его критики. Теперь эти беглые заметки разработаны со всею диалектическою ловкостью, отличающей автора "Системы Экономических Противоречий" и возведены тоже в систему. Что прежде казалось просто странным, явилось теперь диким и почти непонятным. С главными основаниями последней книги Прудона нельзя не согласиться; но критика вопроса о браке и любви возмутительна. И друзья и недруги согласны в своем негодовании на эту часть сочинения. Две женщины-писательницы, с которыми я познакомился на вечере г. Фо- вети, г-жа д'Эрикур... и г-жа Л... готовят к печати каждая по опровержению на обидные суждения Прудона о прекрасном поле. Один американский журнал заранее объявил, что г-жа д'Эрикур разобьет Прудона в пух и прах. Когда эти опровержения выйдут в свет, я познакомлю вас с ними и поговорю о взгляде Прудона на женщину, который возмутил и меня не менее вышепоименованных дам».
В следующем номере «Современника» Михайлов посвящает все «письмо» целиком разбору книг Прудона и Мишле. Книга Мишле имела еще более шумный успех — «успех скандальный», как квалифицирует его Михайлов: «Сочинение, задуманное с благороднейшей целью и пропитанное желанием общего блага, производит впечатление безнравственной книги». Михайлов признает, что «вопрос о положении женщины и об организации семейства есть один из самых насущных вопросов нашего времени. Только от его разрешения зависят твердые и правильные успехи цивилизации. Мысль всех сознательно или бессознательно обращена к этому вопросу. Но все попытки создать справедливые, законные отношения между мужской и женской половинами человечества были до сих пор шатки и неопределенны». Обе книги Михайлов отвергает решительно, считая их реакционными: «Ни сентиментальная теория Мишле, ни циническая система Прудона не поворотят общества назад. Эманципация женщины началась, и остановить ее невозможно. Надо признать за женщиной иные права, нежели признают эти писатели, обращаясь от печального настоящего к прошедшему и отыскивая там идеалы будущему. Золотой век не так-то легко водворить. Ни картинами аркадских хижин, ни законами, почерпнутыми из быта готтентотов и из руководств к коннозаводству, не поможешь развращенному обществу. Пока мы будем считать женщину существом больным и жалким, как Мишле, самкой, как Прудон, рабой, как
средневековые учители, куклой, как современные романисты, — невозможны ни нравственная твердая семья, ни нравственное и здравое воспитание новых поколений, стало быть, невозможны и успехи общества. Только в признании за женщиною человеческих и гражданских прав — охрана от страшного разврата, разъедающего современное общество в самых его основаниях».
Далее Михайлов излагает основные положения и аргументацию Прудона и Мишле. Прудон призвал на помощь и естественные науки, и историю, и современную нравственность, чтобы сказать, что женщина не человек, и доказать, что она ниже мужчины и в физическом, и в умственном, и в нравственных отношениях: «При всех возможных условиях воспитания, развития и инициативы, перевес должен всегда оставаться на стороне сильного, в пропорции 3 к 2, т. е. мужчина должен быть господином, а женщина повиноваться». По мнению Прудона, говорит Михайлов, женщина эманципированная развратила общество. Против этого тезиса Михайлов приводит ряд возражений и приходит к выводу, что книга Прудона доказывает только одно — страшное падение нравов во французском обществе. Книга Мишле удивляет и возмущает Михайлова еще больше. Он приводит ряд цитат, иллюстрирующих одно из главных положений Мишле — «женщина есть — больная» (la fern me est une malade), и восклицает: «И такими книгами хотят исправлять общество!» Мишле говорит: «Наш век будет назван веком болезней утеруса, иначе сказать, веком горя и отчуждения женщины, веком ее отчаяния». Михайлов прибавляет: «Да, и мозг и утерус страшно поражены в современной Франции; но больше всего — мозг. Книга Мишле — одно из самых убедительных доказательств этому». Михайлова удивляет еще другое — французская критика на эту книгу: «Ни один журнал не посмотрел с должной строгостью на это печальное явление и не осудил его как безнравственное и вредное для общества. Из полуслов, намеков, легких укоризн и крупных комплиментов, изо всей этой путаницы понятий и фраз можно заключить, что мнение критики в пользу Мишле... Нетеще и месяца, как появилась "Любовь", а уж, говорят, печатается второе издание». В заключение Михайлов приводит примеры таких женщин, как мисс Блэквель — «служительница истины и свободы», или г-жа Женни д'Эри- кур, которая «горячо служит пером» вопросу об эманципации женщин: «она первая из французских женщин совершенно свободна от несчастного сентиментализма, которым заражены лучшие мужские умы во Франции... Теперьона занята большим сочинением "Права женщины", которое, вероятно, выйдет в свет в начале будущего года. По тому, что я знаю из него, это будет одно из замечательных явлений не в одной французской литературе».
Так реагировал «Современник». Если французские журналы, по словам Михайлова, единодушно, несмотря на разницу направлений, встретили одобрением книгу Мишле, то такое же единодушие, только противоположного характера, сказалось и в русской печати. «Русский вестник» (1859. Кн. 1. Июнь) помещает статью Евгении Тур «Женщина и любовь по понятиям г. Мишле», еще более резкую и насмешливую, чем статья Михайлова. Книга Мишле излагается здесь гораздо подробнее, с обширными цитатами, которые сопровождаются недоуменными и гневными репликами автора, пораженного не только идеями и стилем, но нелогичностью, непоследовательностью и противоречиями. Е. Тур упрекает автора в том, что у него — «варварский и восточный образ мыслей», ужасается «развращению нравов», называет книгу Мишле «старческой болтовней, приторным сентиментальничаньем», видит в ней не поэзию, как французские критики, а «фальшивый пафос, трескотню реторики»: «в ней все есть, кроме поэзии — и увы! — здравого смысла.» В заключение Е.Тур пишет: «Г. Мишле, быть может, сам того не подозревая, сошелся в своем взгляде на любовь и на женщину с другим, очень известным французским писателем. Г. Мишле, одарив женщину поддельными совершенствами и сочиненною прелестию, преследующий везде, даже в спальне, даже в подробном описании болезней и родов, эту, как клад в руку, не дающуюся ему поэзию, имеет, как мы видели, претензию поставить женщину очень высоко во мнении всех... Он убежден, что написал книгу в защиту, мало того в восхваление и
11 Имеется в виду, очевидно, статья И. Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии», напечатанная в «Русской беседе» (1856. Кн. 2). Статья ставила вопрос «Когда человек отвергает всякий авторитет, кроме своего отвлеченного мышления, то может ли он идти далее того воззрения, где все бытие мира является ему прозрачной диалектикой его собственного разума, а его разум самосознанием всемирного бытия?» — и отвечала на него последними строками: «Потому я думаю, что философия немецкая, в совокупности с тем развитием, которое она получила в последней системе Шеллинга, может служить у нас самою удобною ступенью мышления от заимствованных систем к любомудрию самостоятельному, соответствующему ос
32 См. в указанной выше книге А. Амфитеатрова, в которой собран большой мемуарный материал по 1812 г.
31 Принадлежность этой анонимной статьи Н. С. Лескову установлена только недавно его сыном, А. Н. Лесковым, которого я и благодарю за указание. Интересно, что Н. Лесков оправды
21 Урусов С. С. Письмо к Л. Н. Толстому от 12 декабря 1868 г. // Гос. музей Л. Н. Толстого.
Фонд Л. Н. Толстого переписка 193/32 — Б. Л.
1 Pirrelee S. de. Ldon Tolstoi // Mademoiselle. 1911. N 19.
14 Русское обозрение. М., 1901. Вып. 1. С. 94.
42 Леонтьев К. О романах гр. Л. Н. Толстого. С. 76-77.
тексте с указанием тома и страницы.
[1] Написана в 1832 г., потом вышла, вместе с другими вещами, в сб.: «Nouvelles Genevoises» (1841). Рус. пер. напечатан: Отеч. записки. 1848 г. Т. 61 (Библиотека моего дяди). Отд. «Смесь». С. 1-49, 125-158.
[1] Цит. по изд. С. А. Толстой (М., 1911. Ч. 1), где напечатана ранняя редакция «Детства».
[2] Судя по дневникам 1857 г., Толстой, увлекавшийся в это время поэмами Пушкина (особенно «Цыганами»), пробовал писать «Казаков» стихами, но оставил. Связь с «Цыганами» подтверждается и одной записью: «Мысль, что добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо — недостаточны». Работа над «Казаками» тянется вплоть до 1863 г.
[3] Заглавие дано Некрасовым; у Толстого было — «Отец и сын».
[4] См. ст. Н. Чечулина. «Основа общего тона книги "Война и мир"» (Историч. вестник. 1916. Дек.) и Ф. Батюшкова — «Ричардсон, Пушкин и Лев Толстой» (ЖМНПр. 1917. Сент.). Несмотря на верность общей мысли, ни та ни другая не кажутся нам убедительными, потому что сопоставляют не приемы, а типы и сюжеты. Дело не в заимствовании, а в усвоении художественных методов школы — и потому простое сравнение «Войны и мира» с каким-нибудь одним романом не может дать никаких результатов.
[5] Vanity Fair: A Novel without hero.
[6] Дистерло P. А. Граф Л. H. Толстой как художник и моралист. СПб., 1887.
[7] Андрей Белый. Лев Толстой и культура // О религии Л. Толстого. М.: Путь, 1912. Сб. 2. С. 142-171.
[8] Цит. по: Бирюков П. Л. Н. Толстой. Биография. 2-е изд. М., 1911. Т. I. С. 270.
[9] «Война? Какое непонятное явление!.. Я совершенно ничего не понимал» — ср. с «ничего» не понимающим Фабрицием у Стендаля.
[10] Стендаль. Проповедник / Пер. Л. Я. Гуревич. М., 1905. С. 65.
[11] Леонтьев К. Н. О романах гр. Л. Н. Толстого. Первоначально напеч. в «Рус. вестнике» (1890. Кн. 6-8), изд. отдельно в 1911 г. (М.). Книга эта почему-то до сих пор мало кому известна, тогда как она гораздо оригинальнее, ярче и содержательнее, чем популярное исследование Д. Мережковского. Особенно оригинальна и неожиданна для того времени чисто литературная постановка вопроса, делающая эту книгу по духу совершенно современной.
[12] Дневник Л. Н. Толстого. 2-е изд.; под ред. В. Г. Черткова. Т. I.: 1895-1899. М., 1916.
[13] Дневник А. Б. Гольденвейзера//Толстой. Памятники творчества и жизни. I/Ред. В. И. Срезневского, А. Л. Бема. Пг., 1917. С. 47.
[14] Характерно для литературной борьбы 70-х годов, что, несмотря на это, «Анна Каренина», именно как роман с любовной фабулой, вызвал гнев и возмущение у таких писателей, как Салтыков (см. его «Письма») и «разночинцы» (см. в кн. Н. Успенского «Из прошлого»). По поводу выхода «Сочинений» А. В. Соллогуба рецензент «Отеч. зап.» (1877, N° 6) пишет: «Излюбленная и даже, можно сказать, единственная тема старого романа — любовь. Говорят, это — тема вечная. Это — вздор, конечно. Тема изнашивается, как сапоги, как все на свете, как свет, наконец. Любовь способна принимать очень разнообразные формы и оттенки. Но должен наступить, наконец, такой момент (во всех литературах такой момент наступал), когда новые комбинации, способные заинтересовать читателя и писателя, даются только с огромным трудом. Тогда остаются два исхода для беллетристики: или она вводит новые мотивы, бытовые, политические и т. п., среди которых любовь занимает уже второстепенное место; или же беллетристы берут старые, изношенные любовные комбинации, но приправляют их более или менее пряным соусом, рассчитанным на то, чтобы раздражить притупившийся вкус».
[15] Вот примеры типичных для Толстого переходов от одной главы к другой. Глава о свадьбе Левина (ч. V, гл. VI) кончается: «После ужина в ту же ночь молодые уехали в деревню», следующая начинается: «Вронский с Анной три месяца уже путешествовали вместе по Европе». В связи с этим характерно употребление придаточных предложений в качестве начал: «Доктор подтвердил свои предположения насчет Кити. Нездоровье ее была беременность» (конец XX гл. V ч.). «С той минуты, как Алексей Александрович понял из объяснений с Бетси» и т. д. (начало XXI гл.). Этим подчеркивается параллельность, независимое существование двух фабул.
[16] В этом отношении характерно для Толстого механическое использование исторических фамилий в «Войне и мире». Наоборот, у Достоевского фамилии всегда являются плодом творчества и потому обладают яркой суггестивностью.
[17] В отрицательном отзыве об этом заключении сошлись такие противоположные по своим воззрениям судьи, как К. Леонтьев и Н. Успенский (Из прошлого. М., 1889. С. 165).
[18] То есть «Анну Каренину».
[19] Аполлон Григорьев.
[20] Дневник л. Н. Толстого. I: 1895-1899.
[21] К этому, в виде дополнения, интересно другое место: «Вчера шел в Бабурине и невольно (скорее избегал, чем искал) встретил 80-летнего Акима пашущим, Яремичеву бабу, у которой во дворе нет шубы и один кафтан, потом Марью, у которой муж замерз и некому рожь свозить, и морит ребенка, и Трофим и Халявка, и муж и жена умирали и дети их. А мы Бетховена разбираем. И молился, чтобы он избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь».
[22] То есть к искусству религиозному.
[23] То есть к искусству «житейскому, всемирному».
[24] Гуревич Л. Я. Художественные заветы Толстого // Гуревич Л. Я. Литература и эстетика. М., 1912. С. 230-231.
[25] Дневник молодости Льва Николаевича Толстого (Далее: ДМ. — Ред.). 1-е изд. / Под ред. В. Г. Черткова. Т. 1: 1847-1852. М., 1917. — К сожалению, следующие тома этой второй серии (первую серию составило изд., указ. в примеч. 73. — Ред.) (1853-1856, 1857-1861) до сих пор не появились, так что приходится пользоваться только некоторыми извлечениями из них по: Бирюков П. Лев Николаевич Толстой. Биография. Т. I. 2-е изд. // Посредник. 1911. № 881.
[26] ДМ. С. 5.
[27]ДМ.С.6.
[28] ДМ. С. 5.
[29] «Об обществе и уединении» (нем.). — Ред.
[30] Ср. статью «Несколько мыслей о любви к уединению, о достоинстве и характере», переведенную Жуковским из Шамфора (Переводы в прозе. 2-е изд. СПб., 1827. Т. 3. С. 19—24), и статью Карамзина «Мысли об уединении» (1803).
[31] ДМ. С. 6.
[32] ДМ. С. 30-31.
[33] Это обращение не было напечатано в «Современнике», чем Толстой был огорчен: «Заглавие: "Детство" и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения». Возможно, что именно «чувствительный» тон предисловия не понравился редакции.
[34] ДМ. С. 17-18.
[35] ДМ. С. 31.
[36] Письма л. Н. Толстого 1848-1910 гг. / Собр. и ред. П. А. Сергеенко. М., 1910. С. 1-4.
[37] ДМ. С. 37. — Ко всему этому интересно еще привести те места из «Юности», где Толстой сам как бы комментирует эти страницы дневника: «Я достал лист бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлиневать бумагу. Но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексикон. Кроме того, что, проведя пером вдоль лексикона и потом отодвинув его, оказалось, что вместо черты я сделал по бумаге продолговатую лужу чернил, — лексикон не хватал на всю бумагу, и черта загнулась по его мягкому углу. Я взял другую бумагу и, передвигая лексикон, разлиневал кое-как. Разделив свои обязанности на три рода: на обязанности к самому себе, к ближним и к Богу, я начал писать первые, но их оказалось так много и столько родов и подразделений, что надо было прежде написать "Правила жизни", а потом уже приняться за расписание. Я взял шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: "Правила жизни". Эти два слова были написаны так криво и неровно, что я долго думал: не переписать ли? и долго мучился, глядя на разорванное расписание и это уродливое заглавие. Зачем все так прекрасно, ясно у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?..» (гл. V «Правила»). «Тетрадь с заглавием "Правила жизни" тоже была спрятана с черновыми ученическими тетрадями. Несмотря на то, что мысль о возможности составить себе правила на все обстоятельства жизни и всегда руководиться ими нравилась мне, казалась чрезвычайно простою и вместе великою, и я намеревался все-таки приложить ее к жизни, я опять как будто забыл, что это нужно было делать сейчас же, и все откладывал до такого-то времени. Меня утешало, однако, то, что всякая мысль, которая приходила мне теперь в голову, подходила как раз под какое-нибудь из подразделений моих правил и обязанностей: или к правилам в отношении к ближним, или к себе, или к Богу» (гл. IX — «Как я готовлюсь к экзамену»).
[38] ДМ. С. 37, 39, 38.
[39] Расстановка пальцев (франц.) — Ред.
[40] ДМ. С. 41.
[41] ДМ. С. 42-43.
[42] ДМ. С. 54.
[43] Там же.
[44] Ложного стыда (франц.) — Ред.
[45] ДМ. С. 54, 55.
[46] Гордости (франц.). — Ред.
[47] ДМ. С. 62-63.
[48] ДМ. С. 66.
[49] Бирюков П. JI. Н. Толстой. Биография. Т. 1. С. 129.
[50] Об этом.искажении см. интересную статью: Эрн В. Толстой против Толстого// О религии Льва Толстого. М.: Путь, 1912. С. 214-248. Автор утверждает: «Толстой писал "исповеди", излагал с величайшей ясностью, в чем его вера, отзывался на все вопросы жизни, и он загадочнее Чехова, который никогда и не пытался исповедоваться и определять свою веру, и столь же загадочен, как Гоголь и Достоевский» (с. 217). Ср. еще в «Воспоминаниях о Л. Н. Толстом» М. Горького (Пб.: изд. 3. И. Гржебина, 1919).
[51] Годы учения (нем.). — Ред.
[52] Цит. по: Письма Л. Н. Толстого 1848-1910 / Собр. и ред. П. А. Сергеенко. М., 1910. С. 14 (Тифлис, 1851, 12 нояб.).
[53] ДМ. С. 42. Материал, по-видимому, использован позже — в повести «Два гусара».
[54] Бирюков П. Л. Н. Толстой. Биография. Т. 1. С. 168-169.
[55] Введение к «Воспоминаниям детства» //Толстой JI. Н. Полн. собр. соч. / Под ред. П. И. Бирюкова. М., 1913. Т. I. С. 255. — Повесть Тёпфера, на которую указывает Толстой, написана в 1832 г., потом вышла вместе с другими вещами в сборнике «Nouvelles Genevoises» (первое изд. — 1841 г.). Русский пер. напечатан в«Отеч. записках» (1848. Т. 61. Отд. «Смесь». С. 1-49, 125-158). О Тёпфере см. особенно статью Сент-Бёва, напечатанную в виде вступительного очерка к роману Тёпфера «Roza et Gertrude» (Paris: Dubochet, 1847).
[56] ДМ. С. 62: «Хорошую можно написать книгу: жизнь Т. А.».
[57] ДМ. С. 67: «Нынче хочу начать историю охотничьего дня» (17 апреля 1851 г.).
[58] ДМ. С. 69: «Хотел бы писать много: о езде из Астрахани в станицу, о казаках, о трусости татар, о степи» (3 июня 1851).
[59] Нравоописательные этюды (франц.). — Ред.
[60] ДМ. С. 172.
[61] «Confessions», partie I, livre IV: «J'ai fait de temps en temps de mddioc res vers: c'est un exercice assez bon pour se rompre aux inversions dldgantes, et apprendre & mieux dcrire en prose». Ср. обратное отношение — у Батюшкова (записная книжка 1817 г.): «Для того чтобы писать хорошо в стихах — в каком бы то ни было роде, писать разнообразно, слогом сильным и приятным, с мыслями незаемными, с чувствами, надобно много писать прозою, но не для публики, а записывать просто для себя. Я часто испытал на себе, что этот способ мне удавался; рано или поздно написанное в прозе пригодится. "Она — питательница стиха", — сказал Альфьери, если память мне не изменила».
[62] ДМ. С. 78.
[63] ДМ. С. 73.
[64] ДМ. С. 87.
[65] Примеры эти взяты Тургеневым у Бенедиктова.
avant de le donner A la presse. Je n'ai jamais pu rien faire la plume A la main vis-A-vis d'une table et de mon papier, c'est a la promenade, au milieu des rochers et des bois, c'est la nuit dans mon lit et durant mes insomnies, que j'dcris dans mon cerveau... И у a telle de mes pdriodes que j'ai tournde et retournde cinq ou six nuits dans ma tete avant qu'elle fut en 6tat d'etre mise sur le papier».
[67] «Зачем говорить тонкости, когда нужно еще сказать столько больших истин». — ДМ. С. 79.
[68] Интересно еще, что Толстой и Карамзин перевели одну и ту же вещь Бернарден де Сен- Пьера: см. «Суратская кофейная» Толстого и «Кофейный дом» у Карамзина.
[69] ДМ. С. 144.
[70] ДМ. С. 114.
[71] ДМ. С. 129.
[72] ДМ. С. 87.
[73] ДМ. С. 127.
[74] ДМ. С. 128.
[75] ДМ. С. 167.
51 «Confessions», partie I, livre IV: «Cette petite pidce, mal faite A la vdritd, mais qui ne manquait pas de sel, et qui annongait du talent pour la satire, est cependant le seul dcrit satirique qui soit sorti de ma plume. J'ai le coeurtrop peu haineux pour me prdvaloird'un pareil talent».
[77] ДМ. С. 74.
[78] ДМ. С. 154.
[79] ДМ. С. 69-70.
[80] ДМ. С. 74-76.
[81] ДМ. С. 89-90.
[82] Стерн JI. Тристрам Шенди / Пер. И. М-ва. СПб., 1892. С. 120. — Этим наблюдением я особенно обязан Викт. Шкловскому. См. также: Dibelius W. Englische Romankunst. Die Technik des englischen Romans imachtzehnten und zu Anfangdes neunzehnten Jahrhunderts: PalaestraXCII. Berlin, 1910. Bd. I. О жестах у Стерна Dibelius пишет: «Ег hat als ersterdie Geste zu einem bedeutsamen Mit- tel menschlicher Schilderung erhoben. Fast jedes Mai, wo einer von Sternes Charakteren das Wort ergreift, wird das Wort von einer Geste begleitet» (S. 248). <Он первым поднял жест до значительного средства в изображении человека. Позже всякий раз, где персонаж Стерна начинает говорить, это слово сопровождается жестом (нем.) — Ped.> Dibelius устанавливает непосредственную связь в этом отношении между Стерном и Диккенсом: «Das sind die ersten Anfange einer Kunst, die bei Dickens ihre Hohe erreicht und aus einer einzelnen Geste die erstaunlichste Fiille von Variationen her- auszuholen versteht» (S. 250). Ото самое начало того искусства, которое у Диккенса достигает своей вершины — создав из отдельных жестов удивительное разнообразие вариаций. — Ред> Также по вопросу о деталях (толстовская «мелочность»): «Ег ist ein Bahnbrecher geworden in der liebevollen Ausarbeitung des Kleinen und Allerkleinsten — ohne ihn hatte niemals Dickens seine Sketches deschrieben» (S. 256). <Он — пионер в своей любви к разработке малого и самого малого — без этого Диккенс никогда не написал бы своих скетчей. — Ред.>
[83] Ср. выше: «Описать человека собственно нельзя».
[84] Андреевский С. А. Из мыслей о Льве Толстом //Литературные очерки. СПб., 1902. С. 236.
[85] ДМ. С. 70-71.
[86] ДМ. С. 74.
[87] Всп<омним>: «Я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся», «большой переворот сделала во мне в это время спокойная жизнь в деревне» и т. д. Ср. «Исповедь» и «Воспоминания детства».
[88] Тут Толстой как бы отклоняет традиционные мотивы грусти, элегические шаблоны, точно намекая на Пушкина, Лермонтова и т. д.
[89] ДМ. С. 83-84. — Ср. в «Казаках»: «В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких — ни физических, ни моральных — оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, а всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольно удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергий и говорил ласковые речи» (гл. II).
[90] Ср. «Не знаю, как мечтают другие; сколько я ни слыхал и ни читал, то совсем не так, как я». Интересно совпадение даже словесной и синтаксической формы.
[91] Ср. характерную «генерализацию»: «Любви нет: есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни» (ДМ. С. 160).
[92] ДМ. С. 85-86.
[93] С теоретической точки зрения, такого рода мотивировка больших событий ничтожными случайностями есть особого рода художественный прием. У Г. Цшокке есть целая повесть — «К1е- ine Ursachen (Eine Doppelgeschichte)», таким образом построенная.
[94] Ср. в «Отрочестве» характерную фразу: «Вообще я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни, — склонности к умствованию» (гл. XXIV).
[95] ДМ. С. 72. Ср. начало «Набега».
[96] ДМ. С. 165.
[97] Интересно, что историко-литературная роль Стерна до некоторой степени аналогична: «Der Roman ist eine bestimmte literarische Gattung mit bestimmten formellen Merkmalen; das Wesen von Stemes Kunst besteht dagegen gerade darin, ailes Feste aufzulfizen, aile Kunstform ad absurdum zu fiihren; Tristram Shandy ist ebenso wenig ein Roman wie eine philosophische Abhandlung oder ein lyrisches Gddicht, vielmehrein seltsames mixtum compositum aus diesen und noch einigen anderen Ingredienzen» (DibeliusW. Op. cit. S. 239). (Роман — определенный литературный роде определенными формальными признаками; суть искусства Стерна в том, чтобы преодолеть оковы, довести искусство формы до абсурда. «Тристрам Шенди» столь же мало является романом, сколь философское сочинение или лирическое стихотворение, это, скорее, странная композиционная смесь из разных ингредиентов. — Ред.)
[98] ДМ. С. 73.
[99] Бирюков П. Биография... Т. I. С. 259-260.
[100] Из дневника 1854 г. (Бирюков П. Биография... Т. I. С. 247-250).
[101] «Завтра утром примусь за переделку Описания войны, а вечером за Отрочество, которое окончательно решил продолжать. 4 эпохи жизни составят мой роман до Тифлиса. Я могу писать про него, потому что он далек от меня» (ДМ- С. 166-167, запись от 30 ноября 1852г.). Об этом же — в письме к Некрасову (ноябрь 1852 г.), где Толстой жалуется на перемену заглавия: «Заглавие: "Детство" и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения — заглавие же "История моего детства", напротив, противоречит ей. Кому какое дело до истории моего детства? Последнее изменение в особенности неприятно мне потому, что, как я писал вам в первом письме моем, я хотел, чтобы Детство было первой частью романа, которого следующие должны были быть: Отрочество, Юность и Молодость» (Архив села Карабихи. М., 1916. С. 187-188; то же — в примеч. к ДМ. С. 245). В этом первом письме (от 3 июля 1852 г.) Толстой писал о том же: «В сущности, рукопись эта составляет 1-ю часть романа — Четыре эпохи развития; появление в свет следующих частей будет зависеть от успеха первой» (примеч. к ДМ. С. 236). П. И. Бирюков делает очевидную ошибку, когда в книге своей о Толстом (Бирюков П. Биография... Т. I. С. 217) говорит, что «первоначальное заглавие этого первого литературного произведения было: "История моего детства"».
[102] Xavier de Maistre (1763-1852). Voyage autourde ma chambre (1794).
[103] Напечатано в виде предисловия к сб. Тёпфера «Nouvelles Genevoises» (Paris, Charpentier, 1846).
[104] Статья Сент-Бёва 1841 г., перепечатанная в качестве предисловия к роману Тёпфера «Roza et Gertrude» (Paris: Dubochet, 1847). Интересно, что, говоря о книге Тёпфера «Reflexions et menus- propos d'un peintre genevois» (есть русский перевод Д. М. Г. — «О прекрасном в искусстве. Размышления и заметки женевского художника». СПб.: Огни, 1912), Сент-Бёв сравнивает его манеру со Стерном (к la Sterne). Русский переводчик говорит в предисловии к указанной книге: «Если многое в этих произведениях устарело, тем не менее они сохранили живую прелесть и для современного читателя, благодаря своеобразию манеры Тёпфера... Его мысль постоянно перескакивает с одного предмета на другой, и речь как будто едва поспевает за нею; в большинстве его рассказов отступления составляют самую сущность их», т. е. то самое, что так характерно и для Стерна, и для Ксавье де Местра. Непонятно, как решился переводчик, высказав такой взгляд на Тёпфера, сокращать его книгу об искусстве — «для того, чтобы ярче выделить основные идеи Тёпфера из множества отступлений, которыми согласно своей привычке (?!) автор уснащает изложение. Многие из этих отступлений, при всей своеобразной прелести их, показались бы наивными современному читателю и могли бы отвлечь внимание от основной мысли». Что за наивное варварство!
[105] Ср. слова Толстого: «Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая "Словарь музыки" Я более чем восхищался им, — я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам». (Бирюков П. Биография... Т. I. С. 279).
[106] Приводится в примеч. к ДМ. С. 244.
[107] Современник. 1852. Т. 35. С. 137-188.
[108] Ср. последние фразы гл. XV: «Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?»
[109] Русская беседа. 1857. Кн. 1 (Зелинский В. Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого. Ч. I).
[110] Курсивом я отмечаю места, которые стоят вне всякой мотивировки и обнаруживают стремление Толстого совершенно освободиться от нее.
[111] Удачливым (франц.). — Ред.
[112] Дневник Льва Николаевича Толстого. 2-е изд.; под ред. В. Г. Черткова. Т. I: 1895-1899. М., 1916. С. 134.
[113] Дистерло Р. А. Граф Л. Н. Толстой как художник и моралист. Критический очерк. СПб., 1887. С. 31-32.
[114] Статья без подписи по поводу вышедших отдельными изданиями «Детства», «Отрочества» и «Военных рассказов» (Современник. 1856. Т. 60. N° 12. С. 53—64 (отдел «Критика»).
[115] Вероятно, Саламалида, которая упоминается в дневнике 1851 г.: «Пьяный Япишка вчера сказал, что с Саламалидой дело на лад идет. Хотелось бы мне ее взять и отчистить».
[116] Сорок веков смотрят на меня с вершин этих пирамид (фраза Наполеона). — Ред.
[117] Ср. в «Юности» гл. V— «Правила», где тон уже иронический.
|Я По словам В. Срезневского (Срезневский В. Наследие Л. Н. Толстого//Вестник литературы. 1920. N° 11), Толстой работал над этим романом около пяти лет, а черновики его погибли вместе с другими рукописями в корзине, выброшенной по недоразумению в канаву. Но важно, что Толстой в 1856 г. нашел возможным опубликовать только этот отрывок.
[119] Термин Виктора Шкловского — см. его статью «Искусство как прием» в сб. «Поэтика» (Пг., 1919).
[120] Но не «огромное», как иные вещи — «Исповедь» Руссо, «Давид Копперфильд» Диккенса.
[121] Бирюков П. Биография... Т. I. С. 148.
[122] Бирюков П. Биография... Т. I. С. 279-280. См. также статью Л. Гроссмана «Стендаль и Толстой» (Русская мысль. 1916. Июнь). Ср. слова Толстого в письме к О. Мирбо, 1903 г.: «L'art fran^ais m'a donnd jadis се sentiment de ddcouverte quand j'ai lu pour la premifcre fois les oeuvres d'Alfred de Vigny, de Stendhal, de Victor Hugo et surtout de Rousseau». <«Французское искусство произвело на меня в свое время это самое впечатление открытия, когда я впервые прочел Альфреда де Виньи, Стендаля, Виктора Гюго и особенно Руссо». — Ред.> (Цит. по: Письма Л. Н. Толстого. Т. 2: 1855-1910 / Собр. и ред. П. А. Сергеенко. М., 1911. С. 217).
[123] Письма графа Л. Н. Толстого к жене .1862-1910 гг. / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1913. С. 209.
[124] Там же. С. 308.
[125] «Rien d'ennuyeux pour moi comme l'emphase germanique et romantique» (предисловие к роману «Агшапсе»). <«Ничего нет скучнее для меня, чем германская и романтическая напыщенность» (франц.). — Ред>.
[126] Лансон Г. История французской литературы. Современная эпоха / Пер. с франц. Е. Баратынской. М., 1909. С. 147-148.
[127] Barbey d'Aurevilly J. Les Oeuvres et les Hommes. 4-e Partie. Les Romanciers. Paris, 1865. P. 43-59.
[128] Casimir Stryjenski. Soirees du Stendhal-Club. Paris: Merc, de France, 1904. P. 3.
[129] Seche A. Stendhal. La Vie anecdotique et pittoresque des grands dcrivains. Paris: Louis-Michaud.
P. 5.
[130] Ср. у Толстого: «Всякую неприятную мысль обсудить: во-первых, не может ли она иметь следствий; ежели может иметь, то как отвратить их. Ежели нельзя отвратить и обстоятельство такое уже прошло, то, обдумав хорошенько, стараться забыть или привыкнуть к оной» (ДМ. С. 40).
[131] Stendhal. (Oeuvres Posthumes). Napoteon. Notes et introduction par Jean de Mitty. 3-me Јdit. Paris, 1898. Отд. «Les pensdes». Ср. у P. Mdrimde: «Henri Beyle (Stendhal). Portraits historiques et 1 it:— tdraires» (Paris, 1894. P. 171).
[132] SecheA. Op. cit. P. 45 и 110. См. также в кн.: Chuquet A. Stendhal-Beyle. Paris: Pion, 1902. P. 414-415. Ср. в указанном этюде Мериме, с. 187-189.
[133] Л. Гроссман в вышеуказанной статье сопоставляет приемы классификации у Стендаля (de l'amour) и у Толстого: «есть четыре рода любви: 1) любовь-страсть; 2) любовь-вкус; 3) любовь физическая; 4) любовь-тщеславие». Или: «есть семь эпох любви: 1) восхищение; 2) предчувствие наслаждения; 3) надежда» и т. д. Вероятно, под его влиянием Толстой разбивает на рубрики свои описания: «есть три рода любви: 1) любовь красивая; 2) любовь самоотверженная и 3) любовь деятельная» («Юность»). Такова же классификация по типам русских солдат в «Рубке леса»: «главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие: 1) покорных, 2) начальствующих и 3) отчаянных. Покорные подразделяются на а) покорных хладнокровных и Ь) покорных хлопотливых. Начальствующие подразделяются на а) начальствующих суровых и Ь) начальствующих политичных» ит. д.» (Русская мысль. 1916. Июнь. С. 37,2-я паг.). Прибавим к этому четыре чувства, которые были основой мечтаний Николеньки («Юность». Гл. HI), и три рода экзаменующихся (там же, гл. X).
[134] Едва ли не впервые на родство Толстого со Стендалем указал В. В. Чуйко в статье об «Анне Карениной» (Голос. 1875. N° 37; см.: Зелинский В. А. Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого. М., 1902. 4. 8. С. 17-19).
[135] Связь с «Набегом» устанавливается еще тем, что в одном месте рассказчик вспоминает капитана Хлопова: «Это еще было не дело, а одна потеха-с», как говорил добрый капитан Хлопов» (гл. V).
1М Война и мир. Т. VI. С. 215. — Сатирическая или обличительная мотивировка — самый частый вид остранения у Толстого. Но есть и иные случаи.
[137] В это же время Некрасов пишет Тургеневу: «В IX N° "Современника" печатается посвященный тебе рассказ юнкера "Рубка леса". Знаешь ли, что это такое? Это очерк разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), т. е. вещь доныне небывалая в русской литературе. И как хорошо! Форма в этих очерках совершенно твоя, даже есть выражения, сравнения, напоминающие "3<аписки> ох<отника>", а один офицер так просто Гамлет Щ<игровского> уезда в армейском мундире. Но все это так далеко от подражания, схватывающего одну внешность».
[138] Сходно с этим в «Певцах» Тургенева: «Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами... Но прежде чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю нелишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. (Идут характеристики Обалдуя, Моргача, Якова, Дикого Барина. — Б. Э.). Итак, Рядчик выступил вперед <...>» — и т. д. Ср. еще в «Бежином луге», по-видимому, особенно повлиявшем на Толстого: «Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. (Следует характеристика пяти мальчиков поочередно, как солдат у Толстого. — Б. Э.). Итак, я лежал под кустиком, в стороне, и поглядывал на мальчиков». У Стерна («Тристрам Шенди») — этот прием в пародийной форме (В. Шкловский).
[139] Начало гл. X: «Начало смеркаться. По небу ползли с и не-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели, горизонт суживался, и вся окрестность принимала мрачные тени».
[140] Ср. в первом Севастопольском очерке: «Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело». Здесь — частый у Толстого оксюморон, как частный случай остранения.
[141] Проповедник (La Chartreuse de Parme) / Пер. Л. Я. Гуревич. Пб., 1905. С. 47-48.
[142] Ср. в «Цыганах» Пушкина — Алеко, Земфира и цыган. По поводу «Кавказского пленника», где эта ситуация не развернута, Пушкин писал Гнедичу в 1822 г.: «Легко было бы оживить рассказ происшествиями, которые сами собой истекали бы из предметов. Черкес, пленивший моего русского, мог быть любовником его избавительницы; мать, отец и братья ее могли бы иметь каждый свою роль, свой характер». Таким образом, в этом «основном романтическом сюжете» (по выражению П. К. Губера в докладе его на эту тему, читанном в заседании «Общества изучения теории поэтического языка») есть своя внутренняя логика, которая приводит к устойчивости главных персонажей: европеец, дикарка и ее любовник. Четвертый персонаж — отец или просто старец — нужен для развязки, где он обычно читает европейцу нравоучение (отец Земфиры в «Цыганах»).
[143] Ср. в «Цыганах» Пушкина: «Когда б ты знала, / Когда бы ты воображала / Неволю душных городов!»
[144] Ср. выше в «Рубке леса».
[145] Возраст самого Толстого в 1852 г.
24 Ср. начало «Вечера на Кавказских водах в 1824 году» Марлинского (Бестужев А. А. (Марлин- ский). Полн. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1838. Ч. 8. С. 7-8): «Вот Эльбрус, сказал мне казак-извозчик, указывая плетью налево, когда приближался я к Кисловодску; и в самом деле Кавказ, дотоле задернутый завесою туманов, открылся передо мною во всей дикой красоте, в грозном своем величии. Сначала трудно было распознать снега его с грядою белых облаков, на нем лежащих; но вдруг дунул ветер, — тучи сдвинулись, склубились и полетели, расторгаясь о зубчатые верхи. Солнце западало. Розовый, неизъяснимо прелестный румянец таял на голубоватых и словно прозрачных льдах горного гребня, и мимолетные пары, расцвеченные всеми отливами радуги, оживляя их игрою теней, придавали еще более очаровательности картине. Я не мог наглядеться, не мог налюбоваться Кавказом: я душою понял тогда, что горы есть поэзия природ ы». Курсивом я отмечаю те детали, которые повторены у Толстого. Возможно, что образцом романтического описания гор был для Толстого именно этот отрывок из Марлинского.
[147] Письмо Пушкина к Гнедичу, 1822 г.
[148] Повесть была передана М. Н. Каткову в уплату проигранных ему в 1862 г. денег (см.: Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. СПб.: Об-во Толстовского музея. 1911. Т. I. С. 159). Ср. в письме Толстого 1898 г. — по поводу неоконченных повестей: «Если я буду исправлять их, пока останусь доволен, я никогда не кончу. Обязавшись же отдать их издателю, я должен буду выпустить их tels quels. Так случилось со мной с повестью "Казаки": я все не кончал ее; но тогда проиграл деньги и для уплаты передал в редакцию журнала». (Новый сб. писем Л. Н. Толстого. Собрал П. А. Сергеенко; под ред. А. Е. Грузинского. М., 1912. С. 165).
[149] Бирюков П. Биография... Т. I. С. 62.
[150] Интересны слова Достоевского о Лескове в письме к А. Н. Майкову (1871): «Читаете ли вы роман Лескова в "Русском вестнике"? Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества, — но зато — отдельные типы! Какова В а н - скок! Ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее. Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам, ведь я точно осязал ее! Удивительнейшее лицо! Если вымрет нигилизм начала шестидесятых годов, — то эта фигура останется на вековечную память. Это гениально! А какой мастер он рисовать наших попиков! Каков отец Евангел! Это другого попика я уже у него читаю. Удивительная судьба этого Стебницкого в нашей литературе. Ведь такое явление, как Стебницкий, стоило бы разобрать критически, да и посерьезнее». (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. Пб., 1883. С. 243-244). Характерно отношение Толстого к Лескову. М. Горький («Воспоминания о Л. Н. Толстом». Пб., 1919) приводит свой разговор с Толстым: «Потом вы прикрашиваете все: и людей, и природу, особенно людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают» (с. 14). Однако в другом разговоре Толстой отзывается о Лескове совсем иначе, осуждая манеру Достоевского: «А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, — вы читали его?.. Язык он знал чудесно, до фокусов» (с. 45).
[151] Бирюков П. Биография... Т. II. С. 134-136. — Ср. слова Достоевского в письме к Страхову (1868 г.): «Что совсем было прекратилась литература, так это совершенно верно. Да она, пожалуй, и прекратилась, если хотите. И давно уже. <...> Со смерти Гоголя она прекратилась. Мне хочется поскорее своего». Тут же характерно о Толстом: «Вы очень уважаете Льва Толстого, я вижу; я согласен, что тут есть и с в о е; да мало. А впрочем, он, и з всех н а с, по моему мнению успел сказать наиболее своего и потому стоит, чтоб поговорить о нем» (Биография, письма и заметки.... С. 260). О нем же — в другом письме Страхову (1870 г.): «Две строчки о Толстом, с которыми я не соглашаюсь вполне, это, когда вы говорите, что Л. Толстой равен всему, что есть в нашей литературе великого. Это решительно невозможно сказать! Пушкин, Ломоносов — гении. Явиться с "Арапом Петра Великого" и с "Белкиным" значит решительно появиться с гениальным новым словом, которого до тех пор совершенно не было нигде и никогда сказано. Явиться же с "Войной и миром" — значит явиться после этого нового слова, уже высказанного Пушкиным, и это во всяком случае, как бы далеко и высоко ни пошел Толстой в развитии уже сказанного в первый раз до него, гением, нового слова. По-моему, это очень важно» (с. 290-291). Толстой и Достоевский в этом смысле — действительные противоположности. Толстой ликвидирует старое, но целиком связан с ним; Достоевский зачинает новое.
[152] Гуревич Л. Я. Литература и эстетика. М., 1912. С. 230-231 (статья «Художественные заветы Толстого»).
% Недаром Толстой еще в 1851 г. писал проповеди.
[154] Отмечаю курсивом слова, связывающие это место с предыдущим.
18 Биография, письма и заметки... С. 313.
[156] Ср. описание Марки в дневнике: «Когда он сидит, вы скажете, что он среднего роста мужчина и хорошо сложенный» (ДМ. С. 89). Все описание, как уже говорилось в гл. I, сделано со стороны. Интересно, что та же деталь повторена в «Войне и мире» — в описании полкового командира: «Полковой командир был пожилой, сангвинический, с седеющими бровями и бакенбардами генерал, плотный и широкий больше от груди к спине, чем от одного плеча к другому» (т. I, ч. II, гл. I). Устойчивость такой детали свидетельствует об устойчивости самого метода — подчеркивать в наружности уродливые или странные черты и этим диссонансом усиливать восприятие.
[157] Ср. у Стендаля: «Нужно было оторвать от сердца все прекрасные мечты о высокой рыцарской дружбе героев "Освобождения Иерусалима"!.. Нет, видно, война не является таким благородным, единодушным порывом жаждущих славы душ, каким он воображал ее себе на основании воззваний Наполеона!»
[158] Цит. по: Зелинский В. А. Указ. соч. Ч. 1.
[159] Цитаты из произведений JI. Толстого приводятся по «Полн. собр. худ. произв.» под ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума (Л., 1928. Т. I, II и III); цитаты из дневников Л. Толстого после 1852 г. (неизданных) — по копии В. И. Срезневского. Огарева Ю. М. Из воспоминаний // Голос минувшего. 1914. № 11.
[160] Этюды М. П. Кулешова. Л. Н. Толстой по воспоминаниям крестьян. Вып. VI: Кормилица Л. Н. Толстого и другие рассказы. М., 1908.
[161] Тульский край. 1926. № 3. Сент. С. 36-39.
[162] Гусев Н. Н. Толстой в молодости / Изд. Толст, музея. М., 1927. С. 77.
[163] То есть С. И. Языков — крестный отец Льва Николаевича и близкий приятель его отца (см. в «Воспоминаниях детства»).
[164] Толстой JI. Н. Работа над романом «Декабристы» // Биб-ка «Огонек». М., 1925. Nq 85.
[165] Назарьев В. Люди былого времени // Исторический вестник. 1890. №11.
"Дневник молодости Л. Н.Толстого. 1-е изд. / Под ред. В. Г. Черткова. М., 1917. Т. I. С. 13-14. Поправки — по копии В. И. Срезневского.
[167] Там же. С. 23.
[168] «Автодидактом» назвал Толстого как-то раз Тургенев.
[169] Дневник молодости. С. 31.
[170] Москвитянин. 1851. JSfe 7. Перепечатано в «Сочинениях» (М., 1892). Т. III.
[171] Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. М.: Изд-во К. Ф. Некрасова, 1916. С. 224-225.
[172] Ср. слова Толстого в письме к Т. А. Ергольской (12 января 1852 г.): «Единственное мое доброе качество — чувствительность» и в дневнике — об «испанских замках».
[173] Ср. в дневнике Толстого 1851 г.: «Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?»
[174] Ср. в дневниках Толстого: «В дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике должны быть тоже определены мои будущие деяния» (1847); «Потом, так как я нахожу необходимым определять все занятия вперед, то для этого тоже необходим дневник. Хотелось бы привыкнуть определять свой образ жизни вперед не на один день, а на год, на несколько лет, на всю жизнь даже; слишком трудно, почти невозможно. Однако, попробую сначала на день, потом на два дня, — сколько дней я буду верен определениям, столько дней буду задавать себе вперед» (1850).
[175] Ср. в дневнике Толстого 1852 г.: «Я не могу не работать. Слава богу; но литература пустяки, и мне хотелось бы писать здесь устав и план хозяйства».
[176] Интересно, что даже этот замысел — «описать сон» — имеется в числе первых замыслов Толстого; 14 апреля 1851 г. в дневнике помечено: «писать сон». Этому предшествует план — «писать историю нынешнего дня», куда и вошло описание сна (см. «Историю вчерашнего дня»).
[177] Толстой был хорошо знаком с ним уже в 1850 г. (см. в «Дневниках молодости»).
[178] Соллогуб В. Воспоминания // Исторический вестник. Т. XXIV. С. 321.
[179] Ср. в дневнике от 21 марта 1851 г.: «Необходима гимнастика для развития всех способностей».
[180] Курсив мой.
[181] Толстой. 1850-1860. Материалы, статьи / Ред. В. И. Срезневского. Л.: Изд. Акад. наук, 1927. С. 7-9.
[182] Письма Л. Н. Толстого / Собр. и ред. П. А. Сергеенко. С. 7-8.
[183] Там же. С. 14.
[184] Собр. соч. А. В. Дружинина. СПб., 1865. Т. VI. С. 68.
[185] Там же. С. 169.
10 «Сочинения». Т. III.
[187] Москвитянин. 1851. Т. V. № 19 и 20.
[188] Собр. соч. А. В. Дружинина. Т. VI. С. 223.
" Ср. в дневнике Толстого от 5 июня 1852 г.: «Известно, что в целом лесу не найти двух листов, похожих один на другого. Мы узнаем несходство этих листьев, не измеряя их, а по неуловимым чертам, которые бросаются нам в глаза. Несходство между людьми, как существами более сложными, еще более, и узнаем его точно так же по какой-то способности соединять в одно представление все черты его, как моральные, так и физические».
[190] Там же. С. 290-291. Подробнее об интересе Толстого к Тёпферу и Стерну — в моей книге «Молодой Толстой» (Пг., 1922).
[191] Там же. С. 335-336.
[192] В дневнике Л. Толстого 18 октября 1852 г. записано: «Читал Племянницу, очень хорошо».
[193] Дневник молодости. С. 111.
[194] Там же. С. 73.
[195] Там же. С. 78.
[196] Ср. в «Детстве»: «Сердце билось, как голубь» (гл. XXIII).
[197] Толстой. 1850-1860/Ред. В. И. Срезневского. Л., 1927. С. 7-9.
[198] Неизданное.
[199] Дневник молодости. С. 87.
[200] Ср. в другом месте дневника: «Я не буду говорить о тех книгах, которые пишутся с целью найти много читателей, это не сочинения, это произведения авторского ремесла» (с. 78).
[201] Цит. по: Наша старина. 1914. № 8.
[202] Там же.
[203] Москвитянин. 1842. Ч. I. № 1.
[204] Ковалевский П. Стихи и воспоминания. СПб., 1912. (Первоначально — в «Историческом вестнике». 1888. № 2; теперь перепечатано в кн.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания / Ред. В. Л. Комарович. JI.: Academia, 1928).
[205] О принадлежности этой статьи Белинскому см. статью П. Сакулина (Изв. II Отд. Акад. Наук. Т. XVI. Кн. 3).
[206] В «Современнике» (1850. Т. XXIV. Кн. XI. С. 106) напечатана следующая таблица итогов за 1849 г. (цифры — число страниц)
Отеч. записки.
Неточка Незванова Часть I 52
I 49
I 49
Дочь Еврея. Лажечникова 77
Странная история. Буткова 27
Дружеские советы 64
Жак Бичовкин. Часть I 46
II 80
Любовная сказка. Ф 43
Скупой. Буткова 18
Лето в Гельсингфорсе. В. Ч 44
Холостяк. И. Тургенева 64
Тернистый путь Т.Ч. 58
Волтижерка. В. Зотова 66
Два старичка. М. Достоевского 51
Поездка в Ревель. Милюкова 37
825
Современник.
Жюли А. Дружинина 164
Три страны света. Часть IV. л 110
V. Некрасова 104
L и 123
Станицкого 101
J 100
Записки охотника. Тургенева 40
Выгодное предприятие. Меншикова 71
Маскарадная быль. И. П-ва 21
Похождения Накатова. Часть I. Д. Григоровича 82
II. 74
Маленький братец А.Д 30
Варинька. М. Авдеева 82
Ошибка. Е. Тур 147
Пасека. Н. Станицкого 94
Четыре времени года. Д. Григоровича 80
Шарлотта Штиглиц. Л.Дружинина 27
1450
К таблице присоединен следующий комментарий: «Вывод из этой сравнительной таблицы ясен для всякого: в течение года "Современник", по отделу русской словесности, дал своим подписчикам 1450 страниц русских повестей и романов, а "Отечественные записки" в тот же период времени, по тому же отделу, дали 825 страниц; то есть "Современник" дал 625 страниц больше против "Отечественных записок". (Нужно однако ж заметить, что страница "Отечественных записок" несколько больше страницы "Современника".) Что же касается до сравнительного достоинства произведений, то читатель потрудится посмотреть выписанные в нашей таблице имена авторов, участвовавших в данный период в том и другом журнале, — и сам сделает заключение».
51 Полн. собр. соч. И. В. Киреевского / Под ред. М. Гершензона. М., 1911. Т. I. С. 121 и сл.
[208] Собр. соч. А. В. Дружинина. Т. VI. С. 546.
[209] «Современник» 1857 г. Т. LXI. Nq I. Отд. «Новые книги».
[210] Соч. Т. III.
[211] В 1852 г. Толстой часто читает исторические книги (Тьер, Histoire d'Angleterre, историю Карла I, историю войны тринадцатого года, Предание о Петре Великом и пр.) и даже сам собирается писать историю Европы. 14 апреля 1852 г. он записывает: «Я начинаю любить Историю и понимать ее пользу. Это в 24 года; вот что значит дурное воспитание!»
[212] То есть стилистические.
[213] Ср. в дневнике от 31 октября 1852 г.: «Прочел свою повесть, изуродованную до крайности».
[214] В печатной редакции — середина гл. VI, перед абзацем «День был жаркий».
[215] Русская мысль. 1902. № I.
[216] Архиве. Карабихи. С. 187.
[217] Москвитянин. 1851. Ч. V. Кн. 18 и 19.
[218] В «Дневнике» В. С. Аксаковой (ред. и примеч. Н. В. Голицына, П. Е. Щеголева. СПб., 1913) есть интересные записи о Кулише: «В нем много учительских приемов и какой-то старинный методизм в выражениях, в приемах и даже в мыслях, а между тем слышна под этим страстная натура, которая впрочем, как кажется, побеждается довольно сильным характером, но странные у него понятия, особенно о некоторых предметах. Мне кажется, это как будто следы впечатлений Жан-Жака Руссо, о котором он и теперь говорит с таким восхищением... Странный этот человек Кулиш, что за путаница у него в голове разнородных понятий, а в душе разнородных стремлений!» В этой характеристике много сходного с Толстым.
м ПыпинА. Н. Н. А. Некрасов. СПб., 1905. С. 110.
[220] Русская мысль. 1902. N° 1.
[221] Там же.
[222] Поли. собр. соч. и писем А. Григорьева / Под ред. В. Спиридонова. Пг., 1918. Т. I. С. 175.
[223] Ошибка — вместо «История моего детства».
6,4 Москвитянин. 1852. Ч. V. № 19.
[225] Пыпин А. Я. Н. А. Некрасов. С. 97.
[226] Там же. С. 105.
[227] Соч. Т. III.
[228] Русская мысль. 1902. N° 1.
[229] Поли. собр. соч. (1918). Т. I. С. 139.
[230] Русская мысль. 1902. № 1.
[231] Салтыков-Щедрин М. Е. Письма //Труды Пушкинского Дома. Л., 1925. С. 13.
[232] Собр. соч. А. В. Дружинина. Т. VI. С. 653. — Ср. «Литературный маскарад накануне нового года» И. Панаева (Современник. 1852. N° 1. С. 185).
[233] Пыпин А. И. Н. А. Некрасов. С. 167.
[234] Архиве. Карабихи. С. 185.
[235] Там же. С. 299.
[236] Дневник молодости. С. 142.
[237] Там же. С. 127.
и Там же. С. 130.
м Письма Л. Н. Толстого / Собр. и ред. П. А. Сергеенко. М., 1910. С. 23-24.
[240] 1 апреля 1852 г. Толстой пишет в дневнике: «...людям, которые смотрят на вещи с целью записывать, веши представляются в превратном виде; это я на себе испытал». Как пример непосредственного использования нового знакомого для «описания» ср. вышеприведенный портрет офицера Кноринга.
[241] Ср. в «Истории вчерашнего дня»: «Не надо сознавать; но я сознал, что сознал, и пошло и пошло».
[242] Гусев Н. Н. Толстой в молодости. С. 199.
[243] Современник. 1853. № 5-12. — Когда я сделал предположение о связи приведенной цитаты с чтением Д'Израэли, то не знал, что в неизданном дневнике от 13 октября 1853 г. есть запись: «Читал нынче литературную характеристику гения, и это сочинение разбудило во мне уверенность в том, что я замечательный по способностям человек и рвению к труду». Этой записью догадка моя превращается в факт. Кстати, это — лишнее подтверждение тому, что Толстой в это время внимательно следил за «Современником».
[244] Дневник молодости. С. 77.
[245] Там же. С. 104. — Этот же Султанов изображен в «Охоте на Кавказе» Н. Толстого под фамилией Мамонова.
[246] Бирюков П. Л. Н. Толстой. Т. I. С. 197.
[247] Там же.
[248] Эта редакция письма, очень резкая, с перечислением главных искажений, произведенных в тексте «Детства», сохранилась в архиве Л. Толстого. (См.: Печать и Рев. 1928. Кн. 6.)
[249] В смысле — стилистическая.
[250] Письма Л. Н. Толстого. С. 11-12.
[251] Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. С. 258.
[252] Эти догадки подтверждаются фактами, за сообщение которых благодарю А. Е. Грузинского.
* Фет А. Мои воспоминания. М., 1890. Ч. 1. С. 217-218.
[254] Впервые «Охота на Кавказе» появилась в «Современнике» (1857. № 2); отдельное издание (М. и С. Сабашниковых, с предисл. М. О. Гершензона) вышло в 1922 г.
|<Х) Как видно из письма Некрасова к Толстому от 22 июля 1856 г. (альманах «Круг». М., 1927. Кн. 6. С. 199), обработка «Охоты на Кавказе» была поручена Л. Толстому.
[256] Красная Новь. 1926. № 5 и 7.
[257] Фет Л. Мои воспоминания. Ч. 1. С. 296.
[258] Архиве. Карабихи. С. 187-188.
[259] Ср. Афанасьев-Чужбинский А. Русский солдат. Рассказ в стихах: В 3 ч. 1851.
[260] Об этом сам Булгарин говорит в своих «Воспоминаниях».
[261] Неизданное.
[262] Героиня повести Марлинского «Аммалат-бек».
[263] «Шкалик» — название главы романа (см.: Толстой JJ. Н. Избр. произведения / Под ред. М. А. Цявловского. М.: Гиз, 1927).
[264] Там же.
[265] Толстой ошибся — это предисловие не Карамзина, а Новикова. Размышления эти явились, очевидно, после прочтения статьи А. Галахова — «Н. М. Карамзин. (Материалы для определения его литературной деятельности)» — в «Современнике» (1853. Nq 11). Здесь цитируются «Предуведомления» и «Заключения» редактора «Утреннего Света» Новикова.
[266] Ср. в «Альберте» воспоминания Делесова во время игры скрипача.
[267] Архив с. Карабихи. С. 200.
[268] Голос минувшего. 1915. № 5. С. 211.
[269] Альманах «Круг». М., 1927. Кн. 6. С. 193.
[270] ПисьмаJ1. Н.Толстого. М., 1910. С. 33.
[271] Там же. С. 39.
[272] Письма Л. Н. Толстого. С. 43.
[273] В. С. Аксакова записывает 19 ноября 1854 г.: «В настоящую минуту нет человека довольного в России. Везде ропот, везде негодование. Раскольники ожесточены до крайности — закрыли Преображенское и Рогожское кладбища, запрещено раскольников принимать в купцы и т. д.... Всякая мысль, всякое живое движение преследуется как преступление; самая законная, самая умеренная жалоба считается за бунт и наказывается» («Дневник». С. 8).
[274] Письма Л. Н. Толстого. М., 1910. С. 44.
[275] Курсивом — вставка рукой Толстого.
[276] Срезневский В. И. О военном журнале Л. Н. Толстого и его сотоварищей по армии //Толстой. 1850-1860/Изд. Акад. наук. Л., 1927.
[277] Архиве. Карабихи. С. 190-193.
[278] Шелгунов Н. Воспоминания. Из прошлого и настоящего. Гиз. 1923. С. 99.
[279] ПыпинА. Н. Н. А. Некрасов. С. 134-135.
21 «Фауст».
[281] Атеней: Ист.-лит. временник. Л., 1926. Кн. 3.
[282] Письма Л. Н. Толстого. М., 1901. С. 49.
[283] ПыпинА. Н. Н. А. Некрасов. С. 135.
[284] Ср. у Тургенева: «Мы въехали в кусты: Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю... На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Подушкина» («Хорь и Калиныч»). «Мы опять примолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас... Через полчаса мы разошлись» («Малиновая вода»).
м Письма Л. Н. Толстого к жене / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1913. С. 209.
[286] Подробнее см. в моей книге «Молодой Толстой» (1922).
10 Русская старина. 1905. № 3. С. 528.
[287] Исторический вестник. 1908. N° 1.
[288] См., напр., «Заметки петербургского туриста» Дружинина (1855).
[289] Первое собр. писем И. С. Тургенева. СПб., 1885. С. 11. — Подробности об этом фарсе см.: Григорович Д. Литературные воспоминания / Под ред. В. Комаровича. Л.: Academia, 1928.
[290] Там же. С. 13.
[291] XXV лет. СПб., 1884. С. 483.
[292] Пыпин А. Н. С. 127.
[293] Соч. Т. VII. С. 59.
[294] XXV лет. С. 485.
[295] Там же. С. 481.
[296] Анненков П. Литературные воспоминания / Под ред. Б. Эйхенбаума. Л.: Academia, 1928. С. 572.
[297] XXV лет. С. 484.
[298] Так называли Чернышевского в своей переписке Григорович (по-видимому — автор этого прозвища), Тургенев и Дружинин.
41 Голос минувшего. 1916. N° 10.
[300] Поли. собр. соч. И. И. Панаева. СПб., 1888. Т. 6. С. 321.
[301] Первое собрание писем И. С. Тургенева. С. 14.
[302] Там же. С. 25-26.
[303] ПыпинЛ. Н. Указ. соч. С. 150.
[304] Подробности о «Школе гостеприимства» см. в «Литературных воспоминаниях» Д. Григоровича.
[305] Произведено, очевидно, от названия имения Тургенева — Спасское-Лутовиново.
[306] Ср. выше в письме Тургенева к Дружинину: «В нем это не есть проявление расстройства печени, как говорил некогда милейший Григорович».
[307] Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А. С. Зеленым / Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1925. С. 29.
[308] «О мысли в произведениях изящной словесности. (Заметки по поводу последних произведений гг. Тургенева и Л. Н. Т.)» // Современник. 1855. Nq 1 (здесь же — «Записки маркера»).
[309] Характерно, что А. Григорьев и в прежнем своем отзыве и в этом относится к «Детству» Толстого как к чистой автобиографии, что отражается даже на искажении названия («Воспоминания детства»). Между тем сам Толстой, увидев в печати вместо своего названия («Детство») другое («История моего детства»), подсказанное, очевидно, желанием редактора подчеркнуть принадлежность этой вещи к числу автобиографий или записок, писал Некрасову: «Заглавие: Детство и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения; заглавие же Ист. М.Д., напротив, противоречит ей. Кому какое дело до истории моего детства?» (Архиве. Карабихи. 1916. С. 188).
[310] Москвитянин. 1855. Ч. IV. № 15, 16. С. 203.
[311] Русская старина. 1905. № 3.
[312] Дневник В. С. Аксаковой. С. 41.
[313] Фет А. Мои воспоминания. Ч. 1. С. 106.
[314] Там же.
[315] Там же. С. 107.
[316] Из Орла, куда он ездил к умирающему брату Дмитрию.
[317] «Метель».
[318] Печать и революция. 1928. Кн. 1.
[319] Григорьев Л. А. Материалы для биографии / Под ред. В. Княжнина. Пг., 1917. С. 150.
[320] Григорьев Л. А. Материалы для биографии. С. 180.
[321] То есть редактор и издатель журнала — так употреблялось тогда это слово.
[322] Голос минувшего. 1916. N° 10. С. 92.
[323] Клоповоняющим?
[324] Современник. 1913. N° 8.
[325] Ср. выше в письме Чернышевского к Некрасову.
[326] Эпиграфом намеренно выбраны слова, обращенные Некрасовым к Белинскому. «Упорствуя, волнуясь и спеша, ты быстро шел к одной высокой цели!» (Курсив Дружинина.)
71 Ср. в письме Толстого к Некрасову, выше цитированном, о подражателях Белинскому, «которые отвратительны».
[328] Белинского.
[329] Ср. в выше цитированном письме Толстого к Некрасову — о «подражателях» Белинскому.
[330] В книге А. Н. Пыпина (Н. А. Некрасов) это письмо напечатано с выпуском всех мест, касающихся Л. Толстого. Я цитирую по автографу, хранящемуся в Пушкинском Доме.
[331] Первое собрание писем И. С. Тургенева. С. 32.
[332] Там же. С. 33.
[333] Ср. цитированную в концег первой главы второй части запись дневника (от 22 ноября 1853 г.).
[334] Толстой. Памятники творчества и жизни / Ред. В. И. Срезневского. М., 1923. Вып. 4. С. 10.
[335] Отечественные записки. 1856. № 11. С. 13.
[336] В этой оценке Гоголя можно, по-видимому, видеть влияние Дружинина — ср. выше его нападки на «гоголевское направление».
[337] ПыпинА. И. И. А. Некрасов. С. 129.
[338] Собр. соч. Т. VII. С. 172.
[339] Там же. С. 247.
[340] Там же. С. 177.
[341] Русское обозрение. 1894. № 2.
[342] Москвитянин. 1851. Ч. V. № 19 и 20. С. 266.
[343] Голос минувшего. 1916. N° 10. С. 94.
[344] Aylmer Maude. The Life of Tolstoy. First fifty years. London, 1911. C. 157.
[345] Собр. соч. Т. V. С. 239.
[346] Там же. Т. VII. С. 173.
[347] Там же. Т. V. С. 248-9.
[348] Там же. Т. VII. С. 183-184.
[349] Поли. собр. соч. Н. Чернышевского (1918). Т. II. С. 639.
[350] Литературный вестник. 1903. Кн. 6. — Письмо это, сообщенное В. Ф. Боцяновским как принадлежащее А. К. Толстому, на самом деле принадлежит Л. Н. Толстому.
[351] Толстой JI. Н. Избр. произведения / Под ред. М. А. Цявловского. М., 1927. С. 11.
[352] Для комментария к этому письму Толстого использованы: «Русская история» М. Н. Покровского (J1.: Гиз, 1924. Т. IV), статья Попельницкого «Секретный комитет в деле освобождения крестьян» («Вестник Европы». 1911. № 2), книга И. Игнатович «Помещичьи крестьяне накануне освобождения» (3-е изд. Л., 1925) и др.
[353] Редакция делает примечание: «Возможную, однако, ж даже посредством частных банков».
[354] Этюды М. П. Кулешова. Л. Н. Толстой по воспоминаниям крестьян. М., 1908. Вып. VII.
[355] Особенно характерно указание Кокорева на «желание купцов покупать населенные земли для отдачи в аренду крестьянам».
владелец имения, должна быть пополнена деньгами, которые и должны явиться от тех, кого этот вопрос не задевает, а кому, напротив, доставляет выгоду.
Другое дело губернии хлебородные и черноземные. Там помещики будут в большой выгоде от нового порядка. Вот живые доказательства: недавно я купил в Орловской губернии 2200 десят. земли у ф. Р. за 100 тысяч р. с. и отдал эту землю в аренду за 9 тыс. в год, тогда как имение с крестьянами никогда не может дать таких процентов. В той же губернии мне предлагает кн. О. 3500 десятин земли, по той же расценке, как я купил к гр. Р.; но я не мог на это согласиться потому только, что на этой земле живут 500 крестьян, значит, и нет возможности приобрестъ эту землю купцу, а владение под чужим именем никому не понугру. Надобно вам сказать, что за 500 лиц крестьян никакой не полагалось цены. Из этого очевидно, что в хлебородных губерниях желающих арендовать землю будет более, чем земля того требует, и оттого арендные цены будут возрастать к выгоде землевладельцев; напротив, в губерниях северных многие оставят землю и обратятся исключительно к одним ремеслам и работам вне своих местностей. Здесь доходы помещиков от земли не возместят доходов, ныне ими получаемых. Здесь-то вот и нужно пожертвование. Мы всегда скупы на такие расходы, где выгода отвлеченна; но в делах очевидной пользы никто и никогда не затрудняется...
Зачем держать в секрете такие благодетельные предположения и желания, известность о которых действовала бы успокоительно на многих, как например: предположение некоторых богатых землевладельцев подарить своим крестьянам усадебную оседлость; другое, еще более широкое предположение со стороны богатейших, дать бедным и часть землицы, чтобы было можно на ней попахать и коровку покормить, дабы через это пособие и бедные крестьяне обратились в зажиточных? Мы не будем называть теперь славные имена этих истинных благодетелей; но придет время, когда все почтут за обязанность и долг воздать им дань признательности от лица всей земли Русской.
А желание купцов покупать населенные земли для отдачи их в аренду крестьянам, само собою разумеется без всякого права на вмешательство в частную жизнь крестьян, принесло бы удивительную пользу. Сколько бы мелкопоместных дворян сейчас же получили деньги за свои поместья?
Купцы имеют обычай жертвовать огромные суммы на поминки. Какое славное назначение для этих сумм!»
[357] Анненков П. Литературные воспоминания. С. 643.
[358] Характерно, что Чернышевский употребляет по отношению к Толстому именно это слово, а не слово «убеждения».
[359] Герцен А. И. Поли. собр. соч. и писем / Под ред. М. К. Лемке. Пг., 1919. Т. XI. С. 43 и 46.
[360] Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой / Изд. Общ. Толст. Музея. СПб., 1911. С. 163.
[361] В журнальной редакции вместо последних двух слов было сильнее: «Свиньи, и свиньями останутся».
[362] В журнальной редакции после этой фразы было: «Он, очевидно, вполне теперь разделял мнение желчного помещика о русском народе».
[363] Цит. по: Тур Е. Уильям Чаннинг // Русский вестник. 1858. Кн. 2. Апрель.
[364] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 313. — Ср. слова Версилова в черновом тексте «Подростка» (Гроссман JI. П. Семинарий по Достоевскому. Гиз, 1923. С. 30).
[365] Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. 4. С. 9.
[366] То есть «Поездка в Полесье».
[367] Наша старина. 1914. №11.
[368] Срезневский В. И. Георг Кизеветтер, скрипач петербургских театров (к истории творчества Л. Н. Толстого) //Толстой. 1850-1860. Л.: Изд. Акад. Наук, 1927.
[369] Альманах «Круг». Кн. 6. С. 215.
[370] Архиве. Карабихи. С. 197.
[371] Там же.
[372] Там же. С. 125.
[373] Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. 4. С. 21-22.
[374] Там же. С. 33.
[375] 6 января 1858 г. Толстой записывает: «К Аксаковым. Спор с стариком. Аристократическое чувство много значит. — Но главное. Я чувствую себя гражданином, и ежели у нас есть уж власть, то я хочу власть в уважаемых руках».
[376] ПерепискаЛ. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. СПб., 1911.С. 80.
[377] Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып 4. С. 40.
[378] Архив с. Карабихи. С. 204.
[379] Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. 4. С. 41-43.
[380] Альманах «Круг». Кн. 6. (М., 1927). С. 211.
[381] ПыпинА. Н. Указ. соч. С. 179.
" Там же. С. 181-183.
[383] Архиве. Карабихи. С. 198.
15 Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. С. 14.
[385] Анненков П. Литературные воспоминания. СПб., 1909. С. 500.
[386] Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. 4. С. 56.
[387] Очевидно — «Казаки».
[388] «Мои воспоминания». Ч. I. С. 232.
[389] Толстой. Пам. творч. и жизни. Вып. 4. С. 60.
[390] Срезневский В. И. «Сон» — набросок Л. Н. Толстого// Толстой. 1850-1860. Л.: Изд. Акад. наук, 1927. С. 78.
[391] Переписка Л. Н.Толстого с гр. А. А. Толстой. СПб., 1911.С. 101.
[392] Подробнее это развитие см. в моей книжке «Молодой Толстой» (1922).
[393] Сборник Пушкинского Дома на 1923 г. Пг.: Гиз, 1922. С. 228.
[394] Толстой Jl. Неизданные художественные произведения. М.: Изд-во «Федерация», 1928. С. 247-250.
[395] 21 января 1858 г. записано: «Евангелие прочел и думал и переписывал дерево» (т. е. «Три смерти»).
[396] Под этими именами Толстой разумеет себя и В. Арсеньеву. Курсив мой.
[397] Ibid. Р. 30. В подлиннике: «Avez-vous lu aussi le livre de Michelet sur l'amour? Celui de M-me Juliette la Messine contre moi? Celui de Louis Jourdan sur la F e m m e e t Г A m о u г?.. С'est toute une levde de boucliers contre mon livre, ей, sans rdprouver Гатоиг, j'ai os6 dire qu'il devait etre subor- donnd & la justice».
[398] Proudhon P.-J. De la Justice dans la Revolution et dans l'Eglise. Nouveaux principes de philosophie pratique. Paris. Gamier. 1858. Т. III. C. 414-28.
прославление женщины. Несмотря, однако, на все это, единственное назначение женщины, по мнению г. Мишле, единственная цель ее существования — это любить в очень тесном смысле этого слова, родить и быть кухаркой мужа. Мы уже видели, как почтенный автор бьется изо всех сил, чтоб опоэтизировать, обоготворить это назначение женщины. Г. Прудон, заклятый враг поэзии, ненавидящий не только сладкую, разрумяненную форму для выражения мысли, но сильно придерживающийся грубости выражения и любящий называть всякую вещь ее именем, взглянул на женщину, как того и ожидать следовало, проще, а потому проще и яснее высказал свое мнение. "Женщина, говорит он, или кухарка, или куртизанка". Если очистить книгу г. Мишле от всех восклицаний, от знаков удивления, восхищения и вопроса, от фраз и перифраз, то получим то же самое с изменением частицы или на частицу и. Итак, два замечательные писателя Франции сошлись в своем взгляде на женщину. Г. Мишле — идеалист, гуманист, поэт, энтузиаст, и г. Прудон — материалист, иронический скептик и неумолимый, трезвый прозаический критик запели на одну ноту». И так же, как Михайлов, Е. Тур поражена, как «во всем французском обществе не высказалось удивления или хотя бы недоумения, по поводу книги г. Мишле. Напротив того, она разошлась в огромном количестве экземпляров, общественное мнение было скорее за нее, чем против нее».
Около этого же времени Герцен написал главу «Былого и дум» (XLI), посвященную Прудону, где говорит, между прочим, и об его отношении к женщине. Он не возмущен, но огорчен этой книгой: «У Прудона есть отшибленный угол, и тут он неисправим, тут предел его личности, и, как всегда бывает, за ним он — консерватор и человек предания. Я говорю о его воззрении на семейную жизнь и на значение женщины вообще. "Как счастлив наш N., — говаривал Прудон шутя: у него жена не настолько глупа, чтоб не умела приготовить хорошего pot au feu, и не настолько умна, чтоб толковать о его статьях. Это все, что надобно для домашнего счастья". В этой шутке Прудон, смеясь, выразил серьезную основу своего воззрения на женщину. Понятия его о семейных отношениях грубы и реакционны, но в них выражается не мещанский элемент горожанина, а скорее упорное чувство сельского pater familias'a, гордо считающего женщину за подвластную работницу, а себя за самодержавную главу дома». В специальном «Раздумье по поводу затронутых вопросов», написанном позже, Герцен, сам переживший семейную драму, ничего не отрицает и не предлагает, а говорит только, что «грозная идея справедливости», развитая у Прудона, вряд ли разрешает вопросы страстей, потому что «страсть сама по себе несправедлива». Он не нападает на женщину, а только жалеет ее, потому что «она больше сосредоточена на одном половомотношении,бол ьш е загнана в л ю б о в ь... Н е в е с та, жена, мать —женщина едва под старость, бабушкой, освобождается от половой жизни и становится самобытным существом, особенно если дедушка умер. Женщина, помеченная любовью, не скоро ускользает от нее... беременность, кормление, воспитание, развитие той же тайны, того же акта любви; в женщине он продолжается не в одной памяти, а в крови и в теле, в ней он бродит и зреет и, разрываясь, не разрывается». Эти мысли уже не так далеки от воззрений Мишле; Герцен здесь уже не столько русский, сколько западный человек, не разделяющий того решительного пафоса, которым проникнуты статьи русских публицистов, защищающих «эманципацию» и отвергающих все сомнения, на чем бы они ни основывались. И действительно, следов возмущения книгой Мишле у Герцена нет. Получив письмо, в котором Мишле извещает его о своей книге, Герцен отвечает (24 ноября 1858 г.): «Сюжет ее тем более для меня интересен, что я хотел бы видеть разницу между вашим представлением о л ю б в и и Прудоновым, которое он изложил в последнем своем труде. Должен признаться, что я совсем не поклонник пресловутой римской семьи, приговоренной к бессрочной каторге без любви, без независимости, с "главою семейства" в духе императора Николая». В следующих своих письмах Мишле сообщает Герцену об успехе своей книги: в течение двух месяцев разошлось 26 ООО экземпляров.
[400] Ср. в «Воспоминаниях детства» (гл. III): «Помню раз в середине пасьянса и чтения отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то. Мы все смотрим туда же. Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет к нему в кабинет брать его табак из большой, складывающейся розанчиком кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смотрит на его на цыпочках осторожно шагающую фигуру. Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает, радостно улыбается».
51 Фет А. Мои воспоминания. Ч. I. С. 316.
[402] Там же. С. 318. — В печатном тексте стоит не «Пушкин», а «Булгарин». Сначала я предполагал, что это ошибка переписчика, разобравшего фамилию «Пушкин» как «Булгарин» (при почерке Толстого такая ошибка возможна: П как Б, ш каклгау к как/7); но на мой запрос М. А. Цяв- ловский любезно сообщил мне, что в автографе — несомненное «Булгарин». Остается признать это своеобразной «опиской» самого Толстого.
[402] Псевдоним «Евгения Тур» (Сальяс де Турнемир) выглядит как перевернутое «Тургенев». Совпадение ли это или намеренный намек — не знаю.
[403] Бирюков П. Л. Н. Толстой. Биография. М., 1911. Т. I. С. 378-380.
[404] Фет А. Мои воспоминания. Ч. I. С. 334.
[405] Поли. собр. соч. Пг., 1918. Т. IX.
[406] Archiv fur slavische Philologie / Hrsg. von E. Bcrnckcr. Bd. XL, drittes und viertes Heft. Berlin, 1926. Здесь, между прочим, сделано сопоставление «Фальшивого купона» с рассказом Ауэрбаха «Der falsche Sechser». Надо, однако, указать, что у Даля есть тоже сходная вещь — «Серенькая».
[407] Маковицкий Д. Яснополянские записки. М.: Задруга, 1922. Вып. I. С. 55.
[408] Correspondence. Т. X. S. 340-341. — Письмо это до сих пор оставалось незамеченным биографами Толстого и никем не цитировалось. Привожу подлинник: «Un de mes amis de Moscovie, l'excellent Alexandre Herzen, proscrit depuis quinze ans,va retourner к P^tersbourg.Toute la Russie est dans la joie. C'est d'accord avec les boyards, et aprfcs avoir consult^ tout le monde, que le tsar a rendu son oukase dEmancipation. Aussi faut-il voir I'orgueil de ces ex-nobles. Un homme fort instruit, M. Tolstoi, avec qui je causais ces jours demiers, me disait: Voite qui peut s'appeler une Emancipation. Nous ne renvoyons pas nos serfs les mains vides, nous leur donnons, avec la libertd, la propridtd! II me disait encore: «On vous lit beaucoup en Russie, mais on ne comprend pas Pimportance que vous attachez к votre catholicisme. II a fallu que je visitasse rAngleterre et la France pour comprendre к quel point vous aviez raison. En Russie, l'Eglise est zlro».
[409] Большая рецензия на эту книгу Прудона была напечатана в «Русском вестнике» уже в 1861 г. (Август. С. 129-162). В 1864 г. в связи с выходом русского перевода, на эту книгу отозвался и «Современник» (N9 4). О ней как возможном источнике названия «Война и мир» упомянуто в статье Н. Апостолова — «Из материалов по истории литературной деятельности Л. Н. Толстого» («Печать и революция». 1924. Кн. 4). Должен сказать, что я занялся книгой Прудона независимо от указания Н. Апостолова — меня привела к ней рецензия в «Современнике».
[410] Correspondance. Т. IX. S. 94.
[411] Гусев И. И. Толстой в расцвете художественного гения / Изд. Толстовского Музея. М., 1928. С. 33.
«Насчет партий вы, конечно, справедливо заметили, и я с вами согласен, — тихо ответил князь, капельку помолчав, — я вот тоже очень недавно прочел книгу Шарраса о Ватерлосской кампании. Книга, очевидно, серьезная, и специалисты уверяют, что с чрезвычайным знанием дела написана. Но проглядывает на каждой странице радость в унижении Наполеона, и если бы можно было оспорить у Наполеона даже всякий признак таланта и в других кампаниях, то Шар- рас, кажется, был бы этому чрезвычайно рад; а это уж нехорошо в таком серьезном сочинении, потому что это дух партии».
[413] Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. С. 192.
[414] Толстой JI. Н. Новые тексты из «Войны и мира». Кн. I. М.: Изд-во «Огонек», 1926. С. 43.
[415] Роман Н. Чернышевского «Что делать?» имеет подзаголовок «Из рассказов о новых людях». Это — термин эпохи.
[415] Сочинения Г. 3. Елисеева. М., 1894. Т. 1 / Изд. Солдатенкова. С. 18.
[416] Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. XVI. С. 368. — Ср. статью Н. Добролюбова об этом сборнике.
[417] Курсив мой. Этими словами ясно указано на происшедшую дифференциацию, приведшую к разрыву.
[418] Ср. слова А. Григорьева в письме к Н. Страхову от 19 октября 1861 г.: «Статья о Толстом пишется, но очень медленно. Руки отнимаются. Кому теперь нужда до Толстого ?..» (А. А. Григорьев. Материалы для биографии / под ред. В. Княжнина. Пг., 1917. С. 284).
[419] См. статью Ю. Тынянова «Архаисты и Пушкин» в его книге «Архаисты и новаторы» (Прибой, 1929). Здесь впервые пересмотрен весь вопрос об архаистах 20-х годов; Ю. Тынянов между прочим пишет: «Архаистическая литературная теория была вовсе не необходимо свазана с реакцией александровского времени. Самое обращение к "своенародности" допускало сочетание с двумя диаметрально противоположными общественными струями — официальным шовинизмом александровской эпохи и радикальным "народничеством" декабристов» (с. 105.)
[420] Недаром Толстой ценил именно «самобытных» людей и дружил с людьми преимущественно этого типа. Ср. в письме к Ю. Самарину 1867 г.: «мне кажется, что вы тот самый человек, которого мне нужно... который мне недостает — человек самобытно умный» (Печать и революция. 1928. Кн. 6. С. 94).
к См. письма Толстого к Дружинину в статье К. Чуковского «Молодой Толстой. По неизданным материалам» (Звезда. 1930. № 3,4, 5.)
[422] Эту фамилию надо произносить с «ё», потому что она произведена Толстым от своего имени, которое он всегда произносил «Лёв».
[423] К вопросу об исторических воззрениях славянофилов и Чичерина см.: Русская историческая литература в классовом освещении: сб. статей с предисл. и под ред. М. Н. Покровского. М., 1927. Т. I. Изд-во Ком. академии (статьи Н. Рубинштейна и П. Соловьева).
новным началам древнерусской образованности и могущему подчинить раздвоенную образованность запада цельному сознанию верующего разума» (см. Полн. собр. соч. И. В. Киреевского; под ред. М. Гершензона. М., 1911. Т. I).
[425] Неизданное. Автограф — в б. Пушкинском Доме.
[426] Цитирую по неизданной главе «Воспоминаний» (копия — в Рукописный отдел Академии наук СССР).
[427] Записки С. М. Соловьева. Кн-во «Прометей». С. 107.
[428] Статья Чичерина напечатана в его сборнике «Очерки Англии и Франции» (М., 1858).
[429] Как раз перед началом работы над «Анной Карениной», Толстой встретился с Чичериным; об этом Чичерин вспоминает в письме к Толстому от 7 декабря 1877 г., посылая ему 4-ю часть «Истории политических учений»: «Около четырех лет тому назад мы с тобою встретились в Москве и провели вечер в толках о некоторых из вопросов, которые в ней обсуждаются».
[430] Интересно, что в одном месте «Анны Карениной» Толстой, говоря о Кознышеве, использовал и личный материал — типичная для него автобиографическая прививка. Восьмая часть романа начинается с описания того, как Кознышев с нетерпением ждал рецензий на свой шестилетний труд — «Опыт обзора основ и форм государственности в Европе и в России». Прошел уже месяц, но никаких отзывов не появлялось: «Только в "Северном жуке", в шуточном фельетоне о певце Драбанти, спавшем с голоса, было кстати сказано несколько презрительных слов о книге Кознышева» и т. д. В этих строках есть, по-видимому, намек на рецензию, появившуюся после выхода «Тысяча восемьсот пятого года». Эта рецензия, напечатанная в «Книжном вестнике» (я привожу ее целиком в V гл. III части), начинается сравнением русских писателей с певцом Кравцовым, надорвавшимся над ut diez'oM. Об этом Кравцове много писала «Северная пчела» в 1860 г. (у Толстого — «Северный жук»), сначала шумно рекламировавшая его, а потом насмешливо описавшая его провал в «Отелло» Россини (см. № 235) (В собирании этого материала мне помог И. Л. Андроников). О Чичерине в это же время появилось много резких статей — в том числе статья Чернышевского «Г. Чичерин как публицист» (Современник. 1859. № 5). Я думаю, что именно эту статью имеет в виду Толстой, говоря о том, что на третий месяц после выхода книги Кознышева «в серьезном журнале появилась критическая статья. Сергей Иванович знал и автора статьи. Он встретил его раз у Голубцова. Автор статьи был очень молодой и больной фель
[431] Bettelheim A. Berthold Auerbach. Der Mann, sein Werk, sein Nachlass. Stuttgart; Berlin, 1907. S. 234. Ср. статью Gesemann G. Leo Tolstoj und Berthold Auerbach // Archiv f. Slavische Philologie. 1926. Bd. 40. Heft 3-4.
[432] Первое издание романа вышло в 1852 г. в трех томах. Судя по словам Е. Скайлера (Русская старина. 1890. № 10. С. 261), у Толстого было собрание сочинений. Первое собрание сочинений Ауербаха вышло в 1858 г.; в нем текст романа был переработан (см. у Bettelheim'a. С. 266). Для цитат я пользуюсь русским переводом («Новая жизнь. Роман в трех частях». СПб., 1876), в который вношу некоторые исправления по немецкому тексту.
[433] Ср. разговоры Толстого с детьми в описаниях Яснополянской школы.
[434] «Graf Leo Tolstoy war zwei Tage hier. Ich freute mich herzlich mit dem so ideell gehobenen Natu- rell dises Mannes» (Berlin. 1861. 25 avril; Nord und Sud. 1887. Bd. 42. S. 431).
[435] Современник. 1863. № 7.
[436] Время. 1862. № 3.
[437] Frobel, Julius. Ein Lebenslauf. Aufzeichnungen, Erinnerungen und Bekenntnisse. Stuttgart, 1891. Bd. 2. S. 74-75.
[438] Письмо от 1/13 августа 1859 г. Анненков П. В. Литературные воспоминания. СПб., 1909. С.512.
[439] Глава III. — Прототипом Ворошилова является, как установлено Ю. Г. Оксманом, К. К. Слу- чевский (см. примеч. к IX т. «Сочинений И. С. Тургенева». Л.: ГИЗ, 1930).
[440] Соч. М., 1877. Т. I.C. 401.
[441] В 1867 г. вышла в русском переводе часть книги Риля «Die biirgerliche Gesellschaft» под названием: «Четвертое сословие, или Пролетариат / Перевел с пятого немецкого издания А. Е. Ландау» (СПб). В заметке от переводчика, между прочим, сказано: «Отдавая полную справедливость автору... мы, однако, считаем своим долгом предупредить читателя, что его положение и выводы следует принимать крайне осторожно. В. Г. Риль есть скорее человек "доброго старого", чем нового времени, и в этом духе написано его сочинение, отчего, однако, это исследование как таковое, нисколько не теряет своих достоинств, которые всякий беспристрастный ценитель не может не назвать великими». Большая и принципиальная рецензия на это издание была напечатана П. Ткачевым в «Деле» (1867. №11. Отд. «Новые книги». С. 20-40). Ткачев говорит, что «в немецкой литературе рядом с крайними положениями современной науки мы видим самые дикие заблуждения "доброго старого времени". Глубокий анализ настоящего и трезвый взгляд на будущее здесь смешиваются с отжившими преданиями прошлого... Вот это-то заманчивее старое время и хочет воскресить маленькая плеяда курьезных публицистов, среди которых Риль является звездою первой величины. Риль — это, бесспорно, один из проницательнейших, талантливейших и в то же время самых отсталых публицистов современной Германии. Он обладает обширною историческою эрудициею, он умеет необыкновенно верно схватывать данные отношения, но чуть дело касается его рассудочной способности, чуть только понадобится объяснить схваченное отношение, сделать вывод из исторических данных, как вдруг он теряет всю свою проницательность и превращается в какого-то скудоумного старца, ворчащего и брюзжащего на все, что только дышит жизнию и молодостью». Далее Ткачев возражает против занесения всех «пролетариев» в одно сословие: «Чтобы сплотиться в сословие, нужно иметь общие и притом исключительные интересы, — таких интересов у современных пролетариев нет и не может быть. Какие общие интересы могут связывать обнищавшего дворянина и оставшегося за штатом чиновника, фабричного рабочего и обанкрутившегося торгаша, литературного пролетария и какого-нибудь бродягу? У всех у них есть сознание необеспеченности, шаткости своего положения, все они чувствуют недовольство своим безвыходным положением, но однако этого сознания и недовольства еще слишком мало, чтобы сплотить их в замкнутое сословие. Потому все эти пролетарии теснее связаны с теми сословиями, из которых они вышли, нежели друг с другом... Пролетарии фабричные не питают никаких дружеских чувств к пролетариям земледельцам. Окрестить все эти разнообразные и часто враждебно относящиеся друг к другу элементы одним общим именем четвертого сословия — это значит употреблять слово сословие в том именно смысле, в каком его никогда не употребляли. Следовательно, пролетариат никогда не может выродиться в особое сословие». Далее Ткачев указывает на ненависть, с которой Риль говорит о людях, принадлежащих к четвертому сословию «Приблизительно он смотрит на них с такой же точки зрения, с какой смотрят на наших нигилистов и реалистов гг. Стебницкие, Соловьевы, Авенариусы и легион их единомышленников; особенно сильно достается от него журналистике и литераторам. Читая его выходки против них, так и кажется, что читаешь статьи сотрудников Всемирного труда и Литературной библиотеки, в немецком переводе». Излагая исторические теории Риля, Ткачев резюмирует:
«Только фальшью можно объяснить его странные претензии игнорировать в экономическом вопросе экономическую сторону и сосредоточивать все свое внимание на стороне этической». Остальная часть рецензии состоит из возражений Рилю и изложения своих точек зрения на вопрос об образовании пролетариата. В начале 80-х годов все эти вопросы, в связи с образованием «дворянской фронды», стали заново злободневными — и книга Риля была издана полностью (СПб., 1883. Гражданское общество). Таким образом, имя Риля, теперь совершенно забытое, пользовалось в России популярностью с конца 50-х до середины 80-х годов. Теории Риля были, конечно, направлены против учения Маркса. Ф. Энгельс мимоходом упоминает о Риле — в числе «собирателей крох с чужого стола — беллетристов в культурно-исторической области, как господин Риль» (Маркс К. К критике политической экономии. 4-е изд. Л.: Гиз., 1931.С. 38)
Русская беседа. 1858. Т. II. Кн. 10. Отд. «Смесь». С. 216-221. Подпись «Т...к» (Туляк).
И. С. Аксаков в его письмах. Ч. 1. Т. III. Письма 1851-1860 гг. М., 1892.
11 То есть К. С. Аксаков.
[445] В известной «Истории немецкой литературы» Ю. Шмидта (Schmidt Julian. 3-е изд. 1858. Т. III) имя Риля стоит в одном ряду с именами Готхельфа, Ауербаха, Штифтера, Г. Келлера, О. Людвига и Фрейтага в отделе, озаглавленном «Volkstiimliche Reaction».
[446] Так назывался педагогический журнал Толстого.
[447] Современник. 1863. № 7.
[448] Очевидно — намек на статьи Фета.
[449] Время. 1863. № 3.
17 Русские пропилеи. Т. II.
[451] Ср. фигуру Пети в пьесе Толстого «Зараженное семейство».
[452] См. статью «Наша общественная жизнь» (Современник. 1863. Т. I). «Время» отвечает сразу на две статьи.
[453] Северная почта. 1862. № 188. В. Заочный — псевдоним В. П. Ржевского; о нем см. в книге Иванова-Разумника «М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество». I (М.: Федерация, 1930).
[454] Неизданное.
[455] Л. Н. Толстой. Юбилейный сборник / Собр. и ред. Н. Н. Гусев. М., 1928.
[456] С.-Петербургские ведомости. 1863. N9 144, 145.
[457] Сочинения Готхельфа вышли в 1856-1858 гг. в 24 томах: «Jeremias Gotthelfs (Albeit Bitzius) gesammelte Schriften». Последний том содержит в себе монографию Manuel С. Albert Bitzius (Jeremias Gotthelf), sein Leben und seine Schriften. В яснополянской библиотеке сохранился экземпляр повести Готхельфа «Uli, der Pachter» (1850).
[458] Первоначальное заглавие этой вещи было: «Wie Uli der Knecht gliicklich wird, eine Gabe fur Dienstboten und Meisterleute».
[459] A. Bettelheim. С. 344.
[460] «Russische Revue» (потом переименованное в «Nordische Revue») издавал друг Ауербаха (одессит по происхождению) Вильгельм Вольфзон. В «Прибавлении к Русскому инвалиду» от 1 февраля 1862 г. (№ 25) помещено большое объявление об этом журнале, в котором говорится: «Внутреннее развитие России в царствование императора Александра II вступило после крестьянского освобождения в новую и важную эпоху. Только с освобождением стольких миллионов людей, составляющих свежее, живое зерно русского народа, можно говорить о будущем и плодотворном развитии науки... Но если для всеобщей пользы нужен посре дни чествующий орган, то где он может лучше издаваться, как не в Германии, посреди нации, которая содействовала во всех
частях света этой благотворной цели? Убеждение в этом заставило издателя предпринять вышеупомянутый журнал. Он откровенно сознается, что в духе своем он прежде всего остается германцем и что самое пламенное его политическое желание состоит в величии и могуществе Германии. Но вместе с тем свободно сознается он, что любовь к русской земле, на которой он родился и которой превосходные зародыши несокрушимой силы он знает по всем своим наблюдениям, давно уже внушила ему мысль представить Германии свои наблюдения и уничтожить предрассудки своих соотечественников противу такой страны и такого народа, который одарен величайшими качествами и которого недостатки падают на ответственность тех, от которых он наиболее страдал». В первом «ливрезоне» журнала издатель обещал напечатать следующие статьи: «Русские журналы. — Вопрос о воспитании. — Женщины. — Шиллер в России. — Гейне в России. — Роман нравов. — Комедия. — Новые лирики. — Воспоминание о Дмитрии Княжеаиче. — Тютчев. — Тургенев. — Князь Вяземский. — Мирза-Казим-Бег. — Алексей Козлов. — Состояние медицины в России. — Благотворительные заведения. — О русских университетах. — О древних языках в России. — О публичных библиотеках. — О национальной экономии. — Вернадский. — Русские голоса о Германии. — Германские голоса о России. — Жизнь и наука в Остзейских провинциях. — Очерки Южной России. — Состояние музыки».
Ср. отзыв А. А. Толстой: «Le sujet cje Поликушка est trap d^chirant». (Переписка, с. 186).
См. статью: Halm. Wechselbeziehungen zwischen L. N. Tolstoj, und derdeutschen Literatur/Archiv fur slavische Philologie. 1914. Bd. 35.
н Здесь и дальше я пользуюсь материалом, опубликованным в юбилейном «Полном собрании сочинений» Л. Н. Толстого, под общей ред. В. Г. Черткова. М.: ГИЗ, 1929. Т. VI (ред. А. Е. Грузинского).
[464] Имеется в виду книга генерала Р. А. Фадеева (1824-1883) «Шестьдесят лет Кавказской войны» (1860).
[465] В письме к В. Боткину от 7 февраля 1862 г. Толстой писал: «Я здесь — в Москве — отдал всегдашнюю дань своей страсти к игре и проиграл столько, что стеснил себя; вследствие чего, чтобы наказать себя и поправить дело, взял у Каткова 1000 руб. и обещал ему в нынешнем году дать свой роман — Кавказской. Чему я, подумавши здраво, очень рад, ибо иначе роман бы этот, написанный гораздо более половины, пролежал бы вечно и употребился бы на оклейку окон».
[466] 1863. №5.
[467] 1865. №6.
[468] В письме к Фету от 23 января 1865 г. Толстой пишет о «1805 годе»: «Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю; только бы не ругали, а то ругательства расстраивают ход этой длинной сосиски, которая у нас, нелириков, так туго и густо лезет...» (Цявловский М. Как писался и печатался роман «Война и мир» //Толстой и о Толстом. М., 1927. Вып. III)..
[469] Литературный вестник. 1903. Т. VI. Кн. 7-8. С. 255-256. (Перепечатано из: Петербургские ведомости. 1903. № 278.)
[470] Мердер И. К. Исторический очерк русского коневодства и коннозаводства. СПб., 1897. С. 47-49.
[471] Мердер И. К., Фирсов В. Э. Русская лошадь в древности и теперь: Историко-иппологическое исследование. СПб., 1896. С. 176-177.
[472] Мартос П. Эпизоды из жизни Шевченко// Вестник Юго-Западной и Западной России. 1863. №4.
[473] Письмо писано из Парижа.
[474] Имение Фета.
[475] Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник. Л.: ГИЗ, 1928. С. 260.
[476] В черновой редакции первые главы «Холстомера» названы были сначала «песнями», по образцу поэмы.
[477] И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников / Собр. и коммент. М. К. Клеман. Л.: Academia, 1930. С. 237.
[478] То есть Т. А. Кузминская.
[479] Бельчиков Н. Новые материалы о Л. Н. Толстом // Красный архив. 1929. Т. XXXIV. С. 199.
[480] Буш В. В. Из переписки А. И. Эртеля с А. Н. Пыпиным //Литературные беседы / Изд. Об-ва литературоведения при Саратовском гос. ун-те. Саратов, 1929.
[481] Толстой и о Толстом. М., 1926. Сб. 2. С. 80.
[482] Весной 1857 г. Толстой жил в Швейцарии вместе с декабристом М. И. Пущиным (братом И. И. Пущина, лицейского товарища Пушкина), автором записки о встрече с Пушкиным; эту записку Толстой послал П. Анненкову и писал ему: «Записка презабавная, но рассказы его изустные — прелесть. Вообще это видно была безалаберная эпоха Пушкина». В записке Пущина много места отведено Руфи ну Ивановичу Дорохову, сыну партизана 1812 г. — «известному своим неукротимым и буйным нравом, из-за которого имел несколько дуэлей, несколько столкновений со своими начальниками и несколько раз подвергался разжалованию в рядовые». (Майков Л. Пушкин. СПб., 1899. С. 382 и 387). Этим материалом Толстой воспользовался для изображения партизана Долохова: Ф. Толстой перенесен в «Декабристах» в эпоху 50-х годов, а Р. И. Дорохов в «Войне и мире» — назад, в эпоху 1812 г. (вместо партизана-отца). О Ф. Толстом см. книжку С. Л. Толстого — «Федор Толстой американец» (М., 1926).
[483] Собр. соч. А. В. Амфитеатрова. Т. XVI. 1812 год. Очерки из русского патриотизма. — Эта забытая книга — едва ли не лучшая из книг Амфитеатрова, в свое время вызвавшая большой шум и многих возмутившая своим смелым отношением к Толстому. Здесь прекрасно показана тенденциозность «Войны и мира» на фоне обширного мемуарного материала.
[484] Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. Т. I. С. 126.
[485] День. 1865. № 51 и 52.
[486] Неизданное. Автограф — в б. Пушкинском доме.
[487] М. И. Семевский. Его жизнь и деятельность: Биографический очерк, составленный В. В. Ти- мощук. СПб., 1895. С. 124.
[488] Записки декабриста Д. И. Завалишина. СПб., 1906.
[489] Оксман Ю. Г. Д. И. Завалишин в борьбе за опубликование своих записок. «Декабристы». Неизданные материалы и статьи / Под ред. Б. Л. Модзалевского, Ю. Г Оксмана // Труды Пушкинского дома при Акад. наук. М., 1925. С. 195.
[490] В тексте первого издания пропуск. (Ред.)
[491] Что касается Пахтина, то возможно (как думает Ю. Оксман), что в его лице описан Николай Филиппович Павлов (писатель), очень хлопотавший около вернувшихся декабристов. Эта догадка подтверждается тем, что отчество Пахтина в тексте, напечатанном в сборнике Литературного фонда («XXV лет»), один раз — «Вавилович» (Филиппович), другой раз — «Павлович» (Павлов); что касается самой фамилии «Пахтин», то она, вероятно, смысловая — образованная от слова «пахтаться», что, по Далю, значит «нянчиться-пестоваться, возиться, хлопотать».
[492] Подробности см. в кн: Г. Берлинсра «Н. Г Чернышевский и его литературные враги» (1930).
[493] Парижский дневник 1857 г. опубликован в кн.: Лев Толстой. Неизданные произведения. М., 1928.
[494] Архив с. Карабихи. С. 140.
[495] См. мою первую книгу о Толстом (1928). С. 204. Впрочем, в статьях Чернышевского я этого слова не нашел. Любопытно, что Добролюбов в рецензии на «Утро» Погодина (1859 г.) смеется над тем же словом: «когда вспомню о заложениях, которые в тебе образовались, как ты уверял несколько лет тому назад». По-видимому, слово это было, вообще, характерно для языка разночинцев-семинаристов 50-х годов.
[496] Сначала было написано — «в Современнике».
[497] Павлов Н. М. Наше переходное время // Приложение к «Русскому архиву» 1888 г. М., 1888.
[498] Сочинения г. Е. Благосветлова. СПб., 1882. С. XX.
[499] Из памятных тетрадей С. М. Сухотина // Русский архив. 1894. Т. I. Кн. 2. С. 227. — Ср. в статье М. К. Лемке «Дело о "публичных лекциях" в 1860-х годах» (Историко-литерат. сборник. Поев. В. И. Срезневскому. JI., 1924).
[500] Неизданное.
[501] Книга эта (до сих пор не указанная ни в одном списке источников «Войны и мира») несомненно была использована Толстым. Здесь, оказывается, источник той знаменитой сцены с бросанием бисквита, которой так возмущался П. Вяземский и по поводу которой Толстой просил П. Бартенева напечатать специальное письмо в «Русском архиве», ссылаясь на «Записки» С. Глинки. Книги Глинки у Толстого под руками не было, а Бартенев не нашел у Глинки такого места. Толстой сердился и писал Бартеневу: «Ежели вы не нашли того места, то только потому, что не брали в руки... У меня на беду и досаду пропала моя книга Глинки. И напечатайте поскорее, чтобы вышло вместе с 5-м томом» (Толстой и о Толстом. Сб. 4. М., 1928. С. 9). Бартенев так и не нашел, и письмо Толстого осталось ненапечатанным. В примечании к письму Толстого к Бартеневу М. Цявловский пишет: «Лев Николаевич, надо думать, имеет в виду книгу: Записки о 1812 годе
Сергея Глинки, первого ратника Московского ополчения... Ни в этой, ни в другой книге С. Глинки: Записки о Москве... указываемого Толстым эпизода с бисквитами нет. Нет его и в ряде других, подобных глинковским, книгах» (см. соображения по этому поводу в книге В. Шкловского — «Ма- терьял и стиль в романе Льва Толстого "Война и мир"». М.: Изд-во «Федерация»., 1928. С. 45-48.) Книги «Воспоминания очевидца», вероятно, тогда уже не было под руками у Толстого, а между тем здесь на с. 26—27 описано следующее: «В день прибытия государя в Москву, во время обеда в Кремлевском дворце, император, заметив собравшийся народ, с дворцового парапета смотревший в растворенные окна на царскую трапезу, встал из-за стола, приказал камер-лакеям принести несколько корзин фруктов и своими руками с благосклонностью начал их раздавать народу». Книгу эту Толстой читал, вероятно, в самом начале работы, в 1863 г., а писался третий том романа (1812 г.) гораздо позже. Толстой запомнил эту сцену, но неточно: вместо фруктов явился бисквит. Эту деталь, очевидно, легко было спутать: П. Бартенев в своей поздней заметке по поводу статьи П. Деменкова («Русский архив» 1911. N9 11. С. 885) пишет, что Вяземский указал на сцену романа, в которой Александр I «кидал в народ конфектами и апельсинами».— На экземпляре «Воспоминаний очевидца», принадлежащем К. С. Шохор-Троцкому, имеется автограф: «Милостивая государыня Марья Алексеевна! По любознательности вашей ко всему родному-отечественному, в знак памяти, покорнейше прошу принять книгу, в коей описаны мною как очевидцем происшествия моего семейства в несчастную годину нашествия неприятелей в Москву 1812 года». Подпись открывает имя автора — А. Рязанцев. Возможно, что из этой же книги Толстой взял материал и для некоторых других сцен: спасение ребенка во время пожара (с. 74), нападения грабителей, срывавших с женщин шали, серьги и платья (с. 77) и др.
22 Первоначально печатались в «Русском архиве» 1872 г., потом полностью — в «Вестнике Европы» 1874 г.
[503] Иначе говоря: Севастопольские рассказы, «Декабристы» и «Война и мир». — Б. Э.
[504] Неизданное. Журнал Е. А. Ахматовой «Дело и отдых» (1864-65 г.) носил очень характерный для 60-х годов подзаголовок — «Чтение для мальчиков и девочек всех сословий». Так как Толстой не исполнил своего обещания, то в 1864 г. был напечатан «исторический рассказ» А. Разина «Четыре дня разореного года», в котором, в полубеллетристической форме, описаны главные события 1812 г. (взятие Смоленска, вступление в Москву, пожар и т.д.). Полностью повесть Разина «Разореный год» вышла в 1868 г. — одновременно с «Войной и миром» Толстого.
[505] Квадратные скобки означают вычеркнутое.
[506] В печатном тексте эта фраза есть, но в смягченной форме.
[507] Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии. М., 1863.
2Я Письма Л. Н. Толстого. Т. 2.1855—1910 гг. / Собр. и ред. П. А. Сергеенко. М.: Кн-во «Книга», 1911. С. 14. — Самый эпизод гибели «блестящего молодого человека» в Аустерлицком сражении заимствован Толстым у Михайловского-Данилевского, описывающего подвиг флигель-адъютанта Кутузова, Ф. И. Тизенгаузена («Описание первой войны императора Александра с Наполеоном, в 1805 году». СПб., 1844. С. 184). Этот эпизод рассказан и в «Анекдотах или достопамятных сказаниях» о Кутузове (СПб., 1814. Ч. 1), и в «Русских анекдотах..., изданных С. Глинкою» (М., 1822. Ч. 5). Таким образом гибель «блестящего молодого человека» была одним из традиционных моментов в описаниях Аустерлицкого сражения. Ср.: Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927. С. 148-150.
[509] Неизданное.
10 Русский архив. 1894. Т. I. С. 420.
[511] Мысль эта высказана В. Шкловским в книге «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого "Война и мир"» (М.: Федерация, 1928). В этой книге показаны методы обращения Толстого с источниками. Тем самым я, ссылаясь на эту книгу, могу обойти этот вопрос и говорить только о тех источниках и материалах Толстого, которые до сих пор не были указаны.
вал Толстого за его внимание к «старым памятям» и предпочтение их официальным документам (ср. ниже в главе об Урусове); Лесков пишет: «Что можно было бы сделать без них для того, чтобы воспроизвесть очерки лиц, представленных сухими и подцензурными историками и релято- рами, вполне зависимыми от тех, о ком они доносили и писали? Можно ли, например, по печатным источникам нарисовать сколько-нибудь похожий портрет Аракчеева или фельдмаршала
Каменского, если не черпнуть живой струи из новогородских памятей о первом, который желал доказать императору Александру Павловичу, что военные поселения благоденствуют, и, показывая государю избы поселенцев, пересылал из одной избы в другую одного и того же жареного гуся, и из Орловских преданий о втором, который то потешал Орел крепостным театром, то травил у себя на дворе духовенство, осмелившееся прийти к нему с христианскою требою?» (Биржевые ведомости. 1869. № 109). Ср. в рассказе Лескова «Тупейный художник».
[514] То есть мистрисс Брэддон (Braddon), о которой Толстой упоминает, говоря о своих «будущих Казаках» (см. выше).
[515] Неизданное.
16 Неизданное.
[517] Русский архив. 1868. Стлб. 1493. — Отсюда это указание перешло в книгу М. И. Пыляева «Замечательные чудаки и оригиналы» (СПб., 1898. С. 32).
[518] Воспоминания и записки А. Д. Блудовой // Заря. 1872. Nq 1. С. 134.
w Воспоминания Льва Тихомирова. М.: Центрархив. ГИЗ, 1927. С. 33.
[519] В ряде других писем к разным лицам Тургенев дает не менее резкую оценку, говоря о «шарлатанстве» Толстого и пр. (см.: Первое собрание писем И. С. Тургенева, письма к П. Анненкову и пр.)
[520] Роман Trollope «The Bertrams» (2 тома) вышел в издании Tauchnitz в 1859 г. Здесь изображена судьба двух людей, представляющих собой психологический контраст. Это — типичный английский семейный роман, противопоставляемый романам ужасов и тайн. Фабула развернута методом параллелизма и насыщена большим описательным материалом.
[521] Колокол. 1857. Л. 6 (Поли. собр. соч.; под ред. М. К. Лемке. Т. IX).
[522] «Mdmoires du mardchal Marmont due de Raguse». Paris, 1857 (9 томов). Т. II. С. 60.
[523] Так иногда Толстой называл 2-ю часть, считая то, что появилось в двух номерах «Русского вестника» 1865 г. за 2 части (см. об этом в статье М. Цявловского).
[524] Так подписывал свои фельетоны Писемский.
[525] Книжный вестник. 1866 г. № 16-17 (15 сент.) С. 346-347. Без подписи.
[526] Неизданное.
[527] Русский архив. 1910. Т. I. Кн. 4. С. 617.
[528] Очевидно — по цензурным соображениям.
[529] В сборнике стихотворений Д. Минаева «Думы и песни» (СПб., 1864) имя Прудона упоминается несколько раз, как одно из самых популярных, — напр., в «Московской элегии (мотив из "Русского вестника")» (с. 223):
В кружках читают Молешота, Прудона чтут, А Ахшарумова и Грота Не признают.
В стихотворении «Праздная суета», посвященном В. Соллогубу, Минаев пишет:
Был век славный, золотой, Век журнальной знати, Все склонялись перед той Силой нашей рати.
Всё вельможи, важный тон... Но смешались краски — И пошли со всех сторон Мошки свистопляски.
Бородатый демократ Норовит в Солоны; Оскорбить, унизить рад Светские салоны.
Грязь деревни, дымных сёл В повестях выводит, Обличает кучу зол, Гласность в моду вводит.
Свел с ума его — Прудон, Чернышевский с Милем, А о нас повсюду он Пишет грязным стилем.
[530] Утро. Литературный и политический сборник, издаваемый М. Погодиным. М., 1866. См. рецензию в «Книжном вестнике» (1866. Nq 5. С. 115-118). С Прудоном был знаком и Ю. Самарин — см. письмо Прудона к нему в «Руси» (1883. Nq 2).
[531] Скабичевский А. М. Литературные воспоминания / Ред. Б. Козьмин. М.: ЗИФ, [1928]. С. 194.
[532] Жуковский Ю. Прудон и Луи Блан. Материалы для общественной науки. СПб., 1866.
[532] Чернышевский в Сибири. Переписка с родными. СПб., 1912. Вып. I. С. 82—83.
[533] Proudhon P.-J. Napoteon I-ег. Manuscrits inddits, et lettre du g6n6ral Brialmont, publics avec Introduction et notes par Clement Rochel. Paris, [1898]. Первоначально — частично в «La Nouvelle Revue 1895. T. 97 (Novembre-D6cembre). Ср. другую книгу Прудона: «Commentaires sur les Мёпкм- res de Fouch6, suivis du parallfcle entre Napoteon et Wellington. Manuscrits inddits publics par Cldment Rochel» (Paris, 1900).
[534] Вопрос о Наполеоне, в связи с антибонапартовской литературой, был в это время очень популярным. Особенно популярной была книга полковника Шарраса (Charras) о Ватерлоо. Ср. в «Идиоте» Достоевского (1868) рассказ генерала Иволгина, как он был «камер-пажем» у Наполеона (пародия на всякие «воспоминания очевидцев»), и слова Мышкина: «Насчет партий вы, конечно, справедливо заметили, и я с вами согласен, — тихо ответил князь, капельку помолчав,— я вот тоже очень недавно прочел книгу Шарраса о Ватерлосской кампании. Книга, очевидно, серьезная, и специалисты уверяют, что с чрезвычайным знанием дела написана. Но проглядывает на каждой странице радость в унижении Наполеона, и если бы можно было оспорить у Наполеона даже всякий признак таланта и в других кампаниях, то Шаррас, кажется, был бы этому чрезвычайно рад». Очень характерны слова К. Леонтьева в статье об А. Григорьеве (1869 г.): «Представляя себе Наполеона I, я думаю не только о Маренго, Аустерлице, Бородине и пирамидах, об административной энергии его, об его законодательстве и т. п. вещах, нет — я интересуюсь тем, что он нюхал табак, что он носил серый сюртук, что ему нравилась одно время г-жа Рекамье, что в Москве он страдал геморроем мочевого пузыря, что в молодости он был хуже собою, чем в зрелости, и т. п.» (Григорьев А. Воспоминания / Ред. Иванова-Разумника. «Academia», 1930. С. 545).
[534] General Dragomirof. Napolfon et Wellington (Feuilleton semi-militaire) // La Nouvelle Revue. 1897. T.CVIL
[535] Записки С. Жихарева. С. 264, 323.
[536] «Correspondance diplomatique de Joseph de Maistre (1811-1817), recueillie et publide par Albert Blanc». Paris, 1861 (2 т.). Эта книга есть в Яснополянской библиотеке. Более ранние письма де- Местра напечатаны в книге «Mdmoires politiques et correspondance diplomatique de J. de-Maistre» (2-е изд. 1859), а в рус. пер. — в «Русском архиве» (1871).
[537] Собр. соч. Т. XXII («Властители дум»). С. 4-5.
[538] Собр. соч. Н. И. Кареева СПб.: Кн-во «Прометей», 1912. Т. II: Философия истории в русской литературе. С. 128.
[539] Собр. соч. С. М. Соловьева. Стлб. 1121.
[540] Лопатин В. Граф Л. Н. Толстой и М. И. Драгомиров («Разбор» романа «Война и мир»). Варшава, 1899.
[541] На литературном посту. 1929. № 10 (май). С. 64-66. — Письма, здесь напечатанные, сопровождены совершенно курьезным комментарием М. Барсукова. В письме к Погодину 1868 г. Толстой, обещая написать о себе, вспоминает о своем прошлом — о жизни на Кавказе в 1851 г. (проигрыш, приезд Садо, история с векселем). М. Барсуков комментирует: «Эти пять писем дают представление о том глубоком творческом процессе, который происходил в Толстом в момент писания "Войны и мира" Они говорят о тех внутренних переживаниях, которыми была так богата жизнь Льва Николаевича, полная всякого рода исканий и душевных надломов. В те дни, [т. е. в 1868 г.!], Л. Н. Толстой жил на Кавказе и находился в периоде частых смен своего неустойчивого настроения. Толстой, видимо, чувствовал недовольство своим поведением и охваченный мистическим экстазом пытался дать понять Погодину, что это состояние лишь временное как результат случайной слабости воли, и он принимает все меры к тому, чтобы исправиться и снова взяться за литературную работу». Все это — сплошная фантазия, доказывающая полное незнание биографии Толстого (в 1868 г. Толстой сидел в Ясной Поляне и работал над «Войной и миром») и даже неумение разобраться в простом смысле письма Толстого.
[542] Исторические афоризмы Михаила Погодина. М., 1836.
[543] Ср. у Толстого: «Французское войско с постоянно увеличивающеюся силой стремительности несется к Москве, к цели своего движения. Сила стремительности его, приближаясь к цели, увеличивается подобно увеличению быстроты падающего тела по мере приближения его к земле». Язык Погодина отражает на себе характерное для 30-х годов увлечение математикой как основой для построения философских систем.
[544] Любопытно, что в этой же главе до последнего времени удерживалась ошибка, в которой повинны наборщики и корректор, но самое постоянство которой характерно для психологии чтения романов, даже исторических: по дороге в Ковно Наполеон подъезжает «к широкой реке Висле», которая давным-давно осталась позади; эта Висла получилась из Вилии (Вильно).
[545] Русский архив. 1904. Т. III. Кн. 11. С. 459-463.
[546] Русский архив. 1903. Т. III. Кн. 11. С. 480.
[547] Неизданное. Автограф в б. Пушкинском доме.
[547] Сохранились только более поздние письма, напечатанные в «Вестнике Европы» (1915. № 1). Между тем Толстой писал П. А. Сергеенко 6 февраля 1906 г.: «У меня было два (кроме А. А. Толстой — это третье) лица, к которым я много писал писем и, сколько я вспоминаю, интересных для тех, кому может быть интересна моя личность. Это Страхов и кн. Серг. Сем. Урусов» (Письма Л. Н. Толстого. Т. И. С. 227.)
[548] Все письма Урусова 1868-1869 гг., из которых я привожу цитаты, не изданы. За возможность использовать их благодарю М. А. Цявловского.
[549] Сын Толстого — С. Л. Толстой.
[549] Неизданное.
[550] В обществе распространились тогда слухи, что Толстой пишет продолжение «Войны и мира». В газете «Русский мир» (1873. № 32, фельетон) сообщается: «Говорят, что гр. Jl. Н. Толстой, с увлечением занимавшийся в последние годы изучением греческого языка, для того чтобы читать в подлиннике Гомера, пишет теперь продолжение своего знаменитого романа "Война и мир", т. е. пишет седьмой его том. Если слух этот справедлив, то нельзя не поздравить русскую литературу с возвращением на ее поприще лучшего из лучших ее писателей. Говорят, что в этом томе будет изображена эпоха первых годов царствования Николая Павловича, от 1825 до 1832 года, т. е. печальная попытка декабристов, персидская и турецкая кампании конца двадцатых годов, первая холера и польский мятеж, со взятием Варшавы».
[551] Толстой и оТолстом. М, 1926. Сб. 2 (ст. Н. Гусева «Где искать канонический текст "Войны и мира"»).
[552] В первом издании далее следуют примечания, которые в настоящем издании публикуются постранично. — Ред.
[552] Книга А. Щапова (1870). См. по поводу нее характерную статью: Кочнев В. Событие в нигилистическом мире // Русский вестник. 1870. № 2.
[553] Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (Юбилейное изд.). Т. 61. М.: Гослитиздат, 1953. С. 227. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
[554] Там же. С. 139-140.
[555] Авсеенко В. Г. Кружок (рассказ поличным воспоминаниям) // Исторический вестник. 1909. № 5. С. 448.
[556] Заря. 1870. № 1.0тд. Критика. С. 114-115.
[557] Там же. С. 115.
[558] Там же. С. 115-116.
[559] Русанов Г. А. Поездка в Ясную Поляну (24-25 августа 1883 года) // Толстовский ежегодник. М., 1912. С. 57.
[560] Роман был издан анонимно: «На жизнь и смерть. Изображение идеалистов. Роман в трех частях». Genfcve; Bale; Lyon, 1877. На обложке сверху — заглавие по-французски: «А vie ой & mort». Экземпляр этой редкой книги есть в Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (отдел «Вольная русская печать»).
[561] [В. Берви]. На жизнь и смерть. Изображение идеалистов. Женева, 1877. Ч. 1. С. 22.
[562] Там же. С. 44.
[563] Тургенев и круг «Современника». М.; JI.: Academia, 1930. С. 386, 390.
[564] Анненков П. В. Литературные воспоминания. СПб., 1909. С. 533-534.
[565] [В. Берви). На жизнь и смерть. Ч. 1.С. 107-108, 109.
[566] Там же. С. 106.
[567] Витязев П. П. Л. Лавров в воспоминаниях современников. Гл. 4: Из рассказов М. П. Сашина// Голос минувшего. 1915. N9 10. С. 117. — Потом отношение Берви к Чернышевскому изменилось (см. «Азбуку социальных наук» и «Три политические системы»).
[568] Книга эта была написана, несомненно, по следам известной уже тогда книги Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» (1845). Берви мог познакомиться с этой книгой через Н. Шелгунова, который популяризировал ее в своих статьях «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» (Современник, 1861. № 9, 10, 11). Не указывая своего источника прямо, Шелгунов говорит здесь об Энгельсе: «Имя это у нас совсем неизвестно, хотя европейская экономическая литература обязана ему лучшим сочинением об экономическом быте английского рабочего» (Современник, 1861. № 9. С. 137). Маркс штудировал книгу Флеровского и писал о ней Энгельсу 10 и 12 февраля 1870 г., находя, что «это самая важная книга», вышедшая после книги Энгельса. См. также письмо Маркса членам Комитета русской секции Интернационала в Женеве от 24 марта 1870 г. Пометки, сделанные Марксом на полях книги Флеровского, см. в «Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса» (Т. 4. С. 373—378). Письмо Флеровского к Марксу, поясняющее состав и происхождение книги, опубликовано в «Летописях марксизма» (1929. Кн. 9-10. С. 55-82). Ленин дважды ссылается на книгу Флеровского в сочинении «Развитие капитализма в России».
[569] Малиновский Н. А. Не пора ли вспомнить? // Русская мысль. 1905. № 4. Отд. 2. С. 126.
[570] Аптекман О. В. Флеровский-Берви и чайковцы // Былое. 1922. № 19. С. 129.
[571] Аптекман О. В. Василий Васильевич Берви-Флеровский. По материалам б. III Отделения и Д. Г. П. «Колос». Л., 1925. С. 165, 168.
[572] Три политические системы... С. 263.
[573] Д. Анфовский — псевдоним, составленный по принципу пародии на псевдоним Берви: Флеровский осмысляется как «Аеиг» (по-французски — «цветок») и окончание «овский»; Анфовский — перевод этого псевдонима на греческий язык: «av$oЈ» — по-гречески «цветок». Автора рецензии нетрудно определить по самому ее характеру и некоторым фактическим указаниям. Эту рецензию мог написать только близкий сотрудник редакции, сам много ездивший и хорошо знавший Вологодскую губернию, человек хотя и реакционно настроенный, но достаточно осведомленный в теориях и взглядах радикальной партии. Именно таким был поэт и публицист Ф. Н. Берг. В тексте рецензии говорится, что автор ее «изъездил всю Россию вдоль и поперек» и «знает быт крестьянина на севере России, в центре, в Малороссии». Берг действительно много путешествовал по России и напечатал в той же «Заре» (1869. № 10 и 11) «Заметки из путевой жизни». В. Авсеенко вспоминает, что он вносил в кружок «Зари» большое оживление своими рассказами: «В нем была своеобразная поэзия "северного дворянина". Вологодский лес и вологодская мелкопоместная усадьба представлялись ему чем-то наивысшим в природе и человечестве. "Ведь что же это за жизнь у нас там! — говорил он, мечтательно щуря светло-голубые глаза. — Вы только одно представьте себе: перед каждым помещичьим домом идет березовая аллея: Чу-у-десно!"» (Исторический вестник. 1909. № 5. С. 443—444). В начале 60-х годов Берг был радикалом — ходил в красной рубашке и сотрудничал в «Современнике»; потом перешел в правый лагерь: «Отрицательное отношение к русской действительности заменяется в недавнем сотруднике "Современника" отыскиванием в ней положительных сторон, для чего он отправляется в "Заозерье" — Вологодский и Важеский "лесной край", где, по уверению автора очерков, вышедших под этим заглавием, живут истинно русские люди, старинного склада, с крепкими нравственными устоями» (Венгеров С. А. Критико-биогра- фический словарь русских писателей и ученых. Т. 3. С. 34).
[574] Положение рабочего класса в России... С. 468-469.
[575] Заря. 1870. № 1. Отд. «Критика». С. 153-154.
[576] Толстая С. Л. Дневники. С. 103.
[577] Заря. 1871. № 1. Отд. «Критика». С. 30-31.
[578] Аптекман О. В. Флеровский-Берви и чайковцы. С. 132.
[579] Малиновский Н. Не пора ли вспомнить? // Русская мысль. 1905. Nq 4. С. 130 (2-я пагинация).
[580] Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.: Гослитиздат, 1951. Т. 14. С. 293-294.
[581] Флеровский Н. Азбука социальных наук. Ч. 2. С. 194.
[582] Русская мысль. 1905. № 4. С. 129 (2-я пагинация).
[583] Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 1. С. 99.
[584] Эта книга была перепечатана в «Голосе минувшего» 1915-1916 гг., но с цензурными купюрами и искажениями. В сильно сокращенном виде была выпущена издательством «Молодая гвардия» под названием «Записки революционера-мечтателя» (М., 1929).
[585] В ответ на мой вопрос о Берви М. Горький, знавший его давно, написал мне (14 марта 1933 г.): «В 92 г., когда я знал В. В. Берви, он был уже человек, остановившийся на достигнутой высоте. К чужой мысли — нетерпим, в отношении к людям — грубоват и властен. Эти качества он проявлял даже к людям своего круга, друзьям и ученикам своим, которые уже отбыли ссылку и каторгу: И. С. Джабадари, Ольге Любатович, Здановичу, Гамкрелидве и другим».
[586] Горький М. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Пг.: Изд-во Гржебина, 1919. С. 30-31.
[587] Три политические системы... С. 411-413.
[588] Сорок веков смотрят на меня с высоты этих пирамид (франц.).
[589] Sine Ira [В. С. Соловьев]. Наши журналы // С.-Петербургские ведомости. 1875. №11.
[590] Дело. 1868. № 6. Отд. «Современное обозрение». С. 2.
[591] Толстая С. А. Дневники. С. 30.
[592] Там же. С. 33.
[593] Гусев Н. Н. Жизнь Льва Николаевича Толстого. Я. Н. Толстой в расцвете художественного гения (1862-1877) / Изд. Толстовского музея. М., [1927]. С. 124.
[594] Там же. С. 120.
[595] Толстая С. А. Дневники. С. 30.
[596] N. [В. П. Мещерский]. Народная школа и дворянство// Гражданин. 1874. № 4. С. 98.
[597] М... [В. П. Мещерский]. Еще слово о дворянстве// Гражданин. 1874. № 13—14. С. 378.
[598] Полевой П. Азбука графа JI. Н. Толстого // С.-Петербургские ведомости. 1872. № 330.
[599] Письмо Толстого, на которое отвечает Страхов, не найдено.
[600] Толстовский музей. Т. 2: Переписка Л. Н. Толстого с Н. И. Страховым. 1870-1894. СПб., 1914. С. 45-46.
[601] Тихомиров Д. И. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом // Педагогический листок. 1910. № 8. С.556.
[602] N. Гр. Толстой о грамотности // Русские ведомости. 1874. №31.
[603] Семья и школа. 1874. № 12. Кн. 2. С. 279-280.
[604] Протоколы заседаний Комитета грамотности //Московскиеепархиальные ведомости. 1874. 3 марта и 7 апреля.
[605] Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1900. Т. 1. С. 199-200.
[606] Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. Т. 1. С. 200.
[607] Отечественные записки. 1874. № 9.
[608] Русский вестник. 1874. No 9. С. 414.
[609] Толстовский музей. Т. 2. С. 55.
[610] Толстая С. А. Дневники. С. 33-34.
[611] Там же. С. 34.
[612] Толстовский музей. Т. 2. С. 14.
[613] Перцов П. Литературные воспоминания. 1890-1902 гг. М.; Л.: Academia, 1933. С. 139.
[614] Толстовский музей. Т. 2. С. 30.
[615] Толстая С. Л. Дневники. С. 30.
[616] Там же. С. 31.
1 Там же. С. 32.
[618] Там же. С. 31.
[619] В это же время Толстой собирался написать для «Русского архива» статью «О тщете исторических разысканий» (см.: Сборник Государственного Толстовского музея. М.: Гослитиздат, 1937. С. 168).
[620] Павлов П. Об историческом значении царствования Бориса Годунова. М., 1850. С. 93.
[621] Там же. С. 109-110.
[622] «Шлёцер и антиисторическое направление». (Соловьев С. М. Собр. соч. СПб.: Изд. т-ва «Общественная польза», [б. г.]. С. 1613.
[623] Ключевский В. О. Сочинения: В 8 т. Т. 8. М.: Соцэкгиз, 1959. С. 361.
[624] Щедрин Я. (М. Е. Салтыков). Полн. собрсоч. Т. 18. Л.; М.: Гослитиздат, 1937. С. 233.
" Вестник Европы. 1866. Т. 2. С. 325, 326.
[626] Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1872. С. 16.
[627] Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. С. 16-17.
[628] Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2. Л.; М.: Мысль, 1924. С. 346-347.
[629] Достоевский Ф. М. Письма. Т. 2: 1867-1871. М.; Л.: ГИЗ, 1930. С. 100.
[630] Романович-Славатинский А. В. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. Киев, 1912. С. V.
[631] Там же. С. 514.
[632] Там же.
[633] Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. Т. 8. С. 408-409.
[634] X. X. X. [В. П. Мещерский]. Политические письма // Гражданин. 1875. N9 13. С. 316.
[635] Кавелин К. Мысли и заметки о русской истории // Вестник Европы. 1866. N9 2. С. 328.
[636] Большим знатоком (франц.).
[637] Толстая С. А. Дневники. С. 31.
[638] Русский вестник. 1863. Т. 46. Июль. С. 381, 382.
[639] Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1929. С. 217.
[640] Фет А. Мои воспоминания. Ч. 2. С. 209.
[641] Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т.: Письма. Т. 5. Изд-во АН СССР. М.; Л., 1963. С. 65.
[642] Клеман М. И. С. Тургенев и П. Мериме// Литературное наследство. N° 31-32. М., 1937. С. 721.
[643] Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 331.
[644] Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 кн. М.: Соцэкгиз, 1962. Кн. 7. С. 543.
Толстая С. А. Дневники. С. 35.
[646] [А. Суворин]. Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца. Кн. 1. Ч. 3. Из записок фельетониста. СПб., 1875. С. 20-21.
15 Толстая С. А. Дневники. С. 32.
[648] Там же. С. 35.
[649] Гусев Н. Н. Жизнь Льва Николаевича Толстого. Л. Н. Толстой в расцвете художественного гения (1862-1877). М.: Изд. Толстовского музея, [1927]. С. 168.
[650] Этот набросок напечатан в Юбилейном издании Полн. собр. соч. Толстого как особое философское размышление «О браке и развитии женщины» (7, 133-135). На самом деле это, конечно, не отдельное сочинение, а вариант к десятой главе второй части эпилога «Войны и мира».
[651] Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Гослитиздат, 1956. Т. 11. С. 353.
[652] Самец женщины (франц.).
[653] «Мужчина — женщина. Ответ Анри д'Идевиллю» (франц.).
[653] Статья о Дюма в «Histoire de la langue et de la littdrature frangaise», L. Petit de Julleville (T. 8. 1899. C. 90-91).
[654] H. Страхов писал Толстому 12 сентября 1893 г.: «Перечитал Ваше Не-делание в С. Вестнике. Направление у Вас, как всегда, удивительно верно и чисто. А об Дюма услышал я на днях от одного юноши, бывшего в Париже, что он действительно совершенно изменился в образе мыслей, бранит свою Dame aux cam&ias и т. п> (Толстовский музей. Т. 2. С. 448-449).
[655] Лазурский В. Воспоминания о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 7.
[656] Впоследствии — Левин.
[657] Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). Поли. собр. соч. Т. 10. С. 55, 56.
[658] Толстовский музей. Т. 2. С. 41.
[659] Предзнаменованиями (франц.).
[660] Толстовский музей. Т. 2. С. 49.
[661] Там же. С. 57-58.
[662] Толстая С. А. Дневники... С. 36.
[663] Толстовский музей. Т. 2. С. 48-49.
[664] Вы выходите за пределы вопроса, это не принадлежит к области науки (франц.).
[665] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 39.
[666] МаковицкийД. П. Яснополянские записки //Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. 2-е изд. М.: Гослитиздат, 1960. Т. 2. С. 243.
[667] Толстовский музей. Т. 2. С. 53.
[668] Толстовский музей. Т. 2. С. 55.
[669] Толстовский музей. Т. 2. С. 80-82.
[670] Толстовский музей. Т. 1: Переписка Jl. Н. Толстого с гр-А. А. Толстой. 1857-1903. СПб., 1911. С.268.
[671] Толстовский музей. Т. 2. С. 95.
[672] Толстовский музей. Т. 2. С. 72.
Там же. С. 158.
[674] Там же. С. 171.
[675] Там же. С. 185.
[676] Там же.
[677] Алексеев В. И. Воспоминания //Летописи Государственного литературного музея. Кн. 12. Т. 2: Л. Н. Толстой. К 120-летию со дня рождения (1828-1948). М.: Изд. Государственного литературного музея, 1948. С. 279.
[678] Гусев Н. И. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828-1890. М.: Гослитиздат, 1958. С. 463.
[679] Толстовский музей. Т. 2. С. 116, 130.
[680] Толстая С. А. Дневники. С. 39,40.
[681] Там же. С. 39.
и Толстая С. А. Дневники. С. 35-36.
[683] Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В Ют. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 7. С. 222.
[684] Булгаков Ф. И. Граф Л. Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная. 3-е изд. СПб.; М., 1899. С. 86.
[685] Толстовский музей. Т. 2. С. 81.
[686] Авсеенко В. По поводу нового романа гр. Толстого // Русский вестник. 1875. № 5. С. 415.
[687] Молва. 1876. № 12. С. 240.
[688] Достоевский Ф. М. Полн. собр. художественных произв. М.; Л.: ГИЗ, 1929. Т. 12. С. 208.
[689] Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом (в октябре и ноябре 1891 г.) Смоленск, 1893. С. 37.
[690] Леонтьев К. О романах гр. JI. Н. Толстого. М., 1911. С. 125-128.
17 Рин. Литературные очерки // Новое время. 1876. N° 5.
18 Белинский В. Г. Письма. Т. 2 (1839-1843). СПб., 1914. С. 419.
1У Леонтьев К. О романах гр. Л. Н. Толстого. С. 18-19.
[694] Там же. С. 108.
[695] Оболенский А. Д. Две встречи с Л. Н. Толстым (1876 и 1901 гг.) // Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. 3. М.: Кооперативное т-во изучения и распространения творений Л. Н. Толстого, 1923. С. 34-35.
[696] Ветринский Ч. Крохи Некрасова (из данных П. А. Ефремова) // Литература. Искусство. Наука. Бесплатное приложение к газете «День». 1913. № 354
[697] Достоевский Ф. М. Полн. собр. художественных произвел. Т. 12. С. 209, 210.
[698] Русская мысль. 1883. № 2-4. — В дальнейшем было несколько отдельных изданий.
4Н Алданов М. Толстой и Роллан. Пг., 1915. Т. 1. С. 168-169.
[700] С общим мнением ученых (лат.).
[701] Алданов М. Толстой и Роллан. С. 165, 169-170, 173-174, 178-179.
[702] Вересаев В. Лев Толстой // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 216—
51 Они знают об этом больше, чем я (франц.).
[704] Эта пьеса была написана после франко-прусской войны — с целью укрепления семейных и нравственных устоев, от которых, по мнению Дюма, зависело спасение Франции. В пьесе действует германский шпион: он ухаживает за женой знаменитого физика, чтобы при ее помощи извлечь рукописи мужа, содержащие важное военное изобретение. Пьеса кончается тем, что муж убивает жену. Интересно, что эта пьеса (под названием «Тропа шпиона») появилась в репертуаре некоторых наших театров одновременно с инсценировкой «Анны Карениной».
[704] Толстовский музей. Т. 2. С. 57-58.
[705] Толстая С. А. Дневники. С. 106-107.
[706] Чулков Г. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л.: Acaddmie, 1933. С. 215.
[707] Там же. С. 215.
[708] Мирскую жизнь, суету (термины взяты из Шопенгауэра).
[709] Полонский Я. П. И. С. Тургенев у себя, в его последний приезд на родину // Нива. 1884. № 7. С. 159.
[710] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 39.
[711] Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 20. С. 100-101.
м Оболенский А. Д. Две встречи с Л. Н. Толстым. С. 34.
[713] Лазурский В. Воспоминания о Л. Н. Толстом. С. 45-47.
Литературное наследство. М., 1939. Nq 37-38. С. 223-224.
[715] Леонтьев К. О романах гр. Л. Н. Толстого. С. 65—68.
[716] Ткачев Я. Критический фельетон //Дело. 1875. Nq 5. Отд. Внутреннее обозрение. С. 39,40.
[717] Оболенский Д. Д. Охотничьи воспоминания и наброски. М., 1890. С. 27.
[718] Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. («Юбилейное издание»), М.: Гослитиздат, 1953. Т. 61. С. 175176. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
[719] Толстой И. Л. Мои воспоминания. М: Мир, 1933. С. 90.
[720] Сергеенко П. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. 2-е изд. М., 1908. С. 79.
[721] Дневники С. А. Толстой. 1860-1891. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1928. С. 33.
[722] Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М.: Гослитиздат, 1959. С. 53.
[723] Русский архив. 1910. № 4. С. 647.
[724] Дневники С. А. Толстой. 1860-1891. С. 31.
[725] Незнакомец (А. Суворин). Очерки и картинки. СПб., 1875. Кн. 1. С. 21.
[726] Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1893. С. 46.
[727] Это прямо из Шопенгауэра — см. его «Метафизику половой любви». Ср. мою статью «Толстой и Шопенгауэр» в журнале «Литературный современник» (1935. JSfe 11).
[728] Горький М. Собр. соч. в 30 томах. Т. 14. М.: Гослитиздат, 1951. С. 281.
[729] Там же. С. 279-280.
[730] Там же. Т. 17. С. 39.
[731] Там же. Т. 14. С. 280.
[732] Дневники С. А. Толстой. 1860-1891. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1923. С. 35.
[733] Лазурский В. Воспоминания о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 45—46. (Курсив мой. — Б. 3.).
[734] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. («Юбилейное издание»). М.: Гослитиздат, 1953. Т. 34. С. 346. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
[735] Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1803. С. 37.
[736] Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. С. 37.
н Дневники С. А. Толстой. 1860-1891. С. 35-36.
4 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л.: изд-во АН СССР, 1949. Т. 7. С. 222. - В дальнейшем: Пушкин, том, страница.
[739] См. публикацию Н. Гудзия в «Красной нови» (1935. № 11).
" Булгаков Ф. И. Граф Л. Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная. 3-е изд. СПб.: Изд-во М. О. Вольфа, 1899. С. 86.
[741] Памяти К. Н. Леонтьева. СПб., 1911. С. 135,
[742] Пушкин. Т. 7. С. 53.
[743] Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 17. С. 210. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в
[744] Горький М. История русской литературы. М.: Гослитиздат, 1939. С. 296.
[745] Там же. С. 295, 296.
[746] Устойчивого (англ.).
[747] Толстой JI. Н. Поли. собр. соч. («Юбилейное издание»). Т. 52. М.: Гослитиздат, 1952. С. 68. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
[748] Горький М. История русской литературы. С. 294-295.
к Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. 3-е изд. М.; Пг.: Госиздат, 1923. Т. 1. С. 55.
[750] Великосветской важности (франц.).
[751] Ложного стыда (франц.).
[752] Дурному расположению духа (франц.).
[753] Труды Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М.: Academia, 1934. Вып. 3. С. 65.
[754] Анненков П. В. Литературные воспоминания. М.: Гослитиздат, 1960. С. 416.
[755] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т.: Письма. М.; Л.: Наука, 1962. Т. 4. С. 44. — В дальнейшем: Тургенев. Письма или Тургенев. Соч.
[756] Там же. Т. 3. С. 175.
[757] Письма Толстого и к Толстому. М.; Л.: Госиздат, 1928. С. 265
[758] Там же. С. 280.
[759] Там же. С. 291.
[760] Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки. СПб., 1879. Т. 2. С. 292.
[761] Письмо Некрасова к Л. Толстому от 29 августа 1857 года (Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. и писем. М.: Гослитиздат, 1952. Т. 10. С. 360).
[762] «Десница и шуйца Льва Толстого» (Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М.: Гослитиздат, 1957. С. 9).
[763] Горький М. История русской литературы. С. 295
[764] МаковицкииД. П. Яснополянские записки. М.: Задруга, 1922. Вып. 1. С. 64.
[765] Горький М. Владимир Ленин // Русский современник. 1924. № 1. С. 231.
[766] Большого дыхания (франц.).
[767] Горький М. История русской литературы. С. 296
[767] Горький М. Лев Толстой// Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.: Гослитиздат, 1951. Т. 14. С. 280.
[768] Там же. С. 278.
[769] Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. («Юбилейное издание»). М.: Гослитиздат, 1952. Т. 34. С. 387. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
* Распространенное мнение, что в Николае Ростове Толстой изобразил отца, неверно, как неверно вообще сводить образы Толстого к тому иди другому «прототипу». Сам Толстой говорил С. А. Берсу, что некоторые черты отца он передал Пьеру (Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1893. С. 4-5). Характеристика отца, сделанная в «Воспоминаниях», никак не совпадает с позицией Николая Ростова в споре с Пьером.
[771] Дочь П. И. Колошина Сонечка была предметом детской любви Толстого — «самой сильной», как писал он П. И. Бирюкову в 1903 году (74, 239). Эта любовь описана в «Детстве» и «Отрочестве» (Сонечка Валахина). Сыновья Колошина были его близкими приятелями в 50-х годах. В «Воспоминаниях» Толстой не упоминает о приездах П. И. Колошина, вероятно, потому, что он был тогда (в годы 1832-1833) еще очень мал.
[772] Луначарский А. В. Ленин и литературоведение //Литературная энциклопедия. М., 1932. Т. 6. Стлб. 247.
[773] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 19. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте — с указанием тома и страницы.
[774] Статья была напечатана в газете «Пролетарий» (1908. JSfe 35. 11-24 сентября), выходившей в Женеве.
[775] О связи этой статьи Ленина с его работой «Материализм и эмпириокритицизм» см.: Мейлах Б. Ленин и проблемы русской литературы конца XIX — начала XX в. Л.: Лениздат, 1956.
[776] Это письмо (от 20/7 января 1911 г.) было написано к проживающему в Енисейском уезде А. М. Авраменок (Красный архив. 1934. Т. 1. С. 224). Автором письма был, по-видимому, Н. А. Семашко (партийная фамилия — Александров), живший тогда в Париже.
[777] Красный архив. 1934. Т. 1. С. 229. — Этот реферат не указан и в новейшей публикации «Исторического архива» (1955. № 2) «О рефератах В. И. Ленина за границей».
[778] Возможно, что в лейпцигской лекции 1912 г. («Историческое значение Л. Н. Толстого») Ленин развернул мысли именно этой статьи.
* Интересно сравнить эту часть статьи Ленина со статьей Розы Люксембург, напечатанной в 1908 г. на польском языке (по-русски, под заглавием «Эпигон утопического социализма», напечатано в «Красной нови» (1928. № 9)). Р. Люксембург сопоставляет Толстого с утопистами — классиками социализма — и говорит: «Таким образом, Толстой, как в том, в чем он силен, так и в том, в чем он слаб, и по своей глубокой критике, и по смелому радикализму своих социальных перспектив, и по своей идеалистической вере в могущество субъективной человеческой сознательности может быть причислен к типу великих утопистов социализма» (с. 149).
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




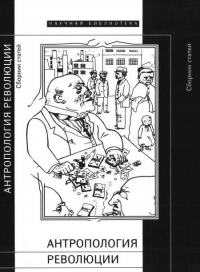



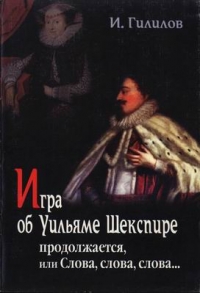
Комментарии к книге «Работы о Льве Толстом», Борис Эйхенбаум
Всего 0 комментариев