Александр Марков От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир
Предисловие
Семиотика – не просто одна из важнейших гуманитарных наук, определивших современное состояние междисциплинарных исследований, сотрудничество специалистов разных областей. Это увлекательная наука, и увлекательная даже не как проза, с ее сюжетными ожиданиями, но как поэзия, с ее изумительной образностью. Позволю себе биографическую подробность: в студенческие годы я не раз уезжал в депо, с головой уйдя в «S/Z» Ролана Барта или сборник Лотмана «Внутри мыслящих миров» с предисловием Эко, по тем же причинам, по каким уезжал туда же с Пруденцием, Гийомом де Машо, Гонгорой или Целаном.
Но также семиотика – наука о том, как знаки, кажущиеся неприступными, частью «памятников культуры», оказываются здесь, прямо рядом, и не потому, что они адаптированы к нашему пониманию, но потому что они сами себя могут с избытком «переводить» и «переносить». Как написал В.В. Бибихин в статье «Детский лепет»:
«…и зрелый язык культуры и ранний язык чувства имеют одинаковую основу, которая и позволяет младенцу с такой смелостью брать в свои руки инструмент взрослой речи в уверенности, что он сможет им пользоваться».
В лекциях по большей части и будут описаны механизмы этого перевода и переноса, уже не только для младенческого опыта, но и для взрослого, так что и время прожитой жизни, и продуманное, и прочитанное тоже легко включаются в семиотическую игру. Поэтому переводу и переносу, семиозису, уделяется такое большое внимание, как первым правилам игры, хотя о семиотике комикса и других подобных вещах мы никак не забываем.
Курс лекций – приношение светлой памяти Вячеслава Всеволодовича Иванова, великого исследователя, в 2005 г. благословившего мою научную деятельность. С Вами всегда оставалось слово правды, и сделанное Вами – рассвет научного знания.
Благодарности всем, кого благодарю в предисловии к курсу по теории искусства, и еще множеству друзей.
12 мая 2018 г.
Лекция 1 Что знает знак
Слово «семиотика» (или, во французской и итальянской традициях, «семиология») означает науку о знаках. Греческое «сема» – это знак, иногда могила (как мы говорим, «памятный знак», «памятник» как что-то очень значимое), отсюда известная поговорка мрачных философов «сома – сема», тело – это могила. Уменьшительная форма «семейон», значок, означала боевое знамя, или скульптуру на древке, как бы ту точку, куда смотрит все войско, чтобы ориентироваться в битве или добиться перелома в ней; но также и «печать», и «медаль», и вообще любой опознавательный знак, естественного или искусственного происхождения, что-то заявляющий и побуждающий к какому-то действию. Можно сказать, заявляющий, что все так, а не иначе, и поэтому действовать можно и нужно только так. В Евангелии это слово значит «знамение», «чудесное явление», делающее саму жизнь совсем другой, не такой, какой она была прежде. Как у Пастернака: «И осень ясная, как знамение, К себе приковывает взоры» – осени еще предстоит наступить, еще август, но ее пророчество уже исполняется, жизнь уже не может быть прежней.
Уменьшительная форма была выбрана для названия науки по простой причине: слово «сема» не имеет значения признака, тогда как «семиотика» всегда исходит из признаков и далее движется к сути. Так действует «семиотика» как раздел медицины: распознает симптомы заболеваний и по малейшим признакам судит о качестве заболевания. Но мы будем заниматься не медицинской семиотикой, а семиотикой как гуманитарной и даже, как увидим, социальной дисциплиной.
Греческому слову «сема» или «семейон» соответствует одно латинское слово signum, имевшее все те же значения от боевого знамени (откуда наш «сигнал») до значка на одежде, и от указателя до вообще любой вещи, которая что-либо значит в нашей жизни. Это слово могло приобретать сколь угодно широкое значение: например, блаженный Августин называл словом signum вообще любую вещь, так как она сотворена Богом и поэтому служит знаком его воли. При этом Августин считал, что мир вещей, как и библейский текст, подлежит некоторым правилам интерпретации, и знаки поэтому могут быть вполне прочитаны и распознаны.
В средневековой мысли знаки, по заветам Августина, изучались не как часть нашего мышления, но как часть реальности – поэтому средневековая наука вполне может быть вписана в современную семиотику. Так, Роджер Бэкон, мыслитель высокой схоластики XIII век, разделил все знаки на «знаки природы» и «знаки для природы»: если петух кричит на рассвете, то это знак природы, сама природа заявляет о своем торжестве через петуха, тогда как если петух кричит курам, что он нашел пищу, то это знак для природы. Еще за полтора века до него Петр Абеляр, тот самый который с Элоизой, назвал знаками «да» и «нет», тем самым показав, что знаки не только рассказывают о реальности, но и включают и выключают реальность, влияя на качество ее присутствия как таковой. Главное средневековое определение значимого-звучащего слова как «знака понимания» (voces sunt signa intellectuum, сказанные вслух слова суть знаки интеллекций) утвердило статус знака как способа понять не только понятое, но и само понимание: ведь и сейчас наравне со знаками для вещей существуют логические или математические знаки.
Хотя семиотика как наука – достижение XX века, практической семиотикой занимались многие мудрецы. Еще античные евреи, чьим родным языком стал греческий, от греков узнали, что буквы могут значить числа, а из своей собственной традиции – что мир построен на определенных мерах и закономерностях. Соединив эти два знания, они получили каббалу – полумагическое учение о том, что раз мир измерим, то значит, знание букв и правильное их употребление позволяет менять мир, внося в него новые смысловые параметры.
Около 1300 года святой Раймунд Луллий, мудрец с Майорки, бывший трубадур из аристократов, после неудачи в любви (как и положено трубадуру, он был влюблен в замужнюю женщину, но когда добился взаимности, оказалось, что воспетая им белая грудь изъязвлена тяжелой болезнью) принявший монашество и основавший первый в Европе институт иностранных языков, создает логическую машину, позволяющую производить только истинные суждения. Она представляла собой круг, разделенный на секторы, в каждом из которых писалось какое-то понятие и производные от него. Например, Бог-божество-божественный, Благо-благость-благой, Истина-истинность-истинный. И можно было, проводя хорды, получать развернутые суждения об устройстве божественного мира. Луллий утверждал, что он увидел свою машину во сне и что ее использование отучит людей врать и докажет всем истины христианства. Хотя вроде бы машина Луллия напоминает схемы каббалы, как устроена вся истина Бога и мира, но он открыл то, чего в каббале не было, но что важно для современной семиотики и лингвистики: различие между синтагмой и парадигмой. Синтагма – последовательность элементов, позволяющая получить смысл в конце этой последовательности, тогда как парадигма – ряд элементов, из которых внутри каждой отдельной синтагмы используется только один, который и наделяет синтагму смыслом. Любые несколько секторов круга Луллия образовывали синтагму, тогда как внутри сектора оказывалась парадигма. Различие между синтагмой и парадигмой мы видим также, например, в астролого-магических календарях эпохи Возрождения, например, на фресках Палаццо Скифанойя в Ферраре, где триумф каждого месяца соотнесен с конкретными успехами правителя, и значит, ход месяцев ведет правителя ко все большим успехам.
Около 1800 года круг Луллия возродили Гёте и Шиллер. Гёте отрицал учение Ньютона о природе цвета, по его мнению, лишавшее природу характерной глубины, и считал, что каждый цвет имеет свой характер, свой темперамент и нрав; и как у человека нрав образуется в тени обстоятельств и других людей, так и цвета получаются от затухания или оседания света. Вместе с Шиллером они решили приложить эту теорию к созданию характеров для романов и драм и нарисовали круг, внешнее кольцо которого делится на четыре сектора: «фантазия», «разум», «рассудок», «осмысление», от холодных к теплым и обратно к холодным цветам, а внутреннее кольцо уже из шести секторов: «необязательный», «красивый», «вечный», «хороший», «нужный», «общий». И тогда можно создавать героев, например, фантазера, который по мере возрастания горячности начинает любоваться собой и поэтому становится менее необязательным, или разумного человека, который, полюбив, находит в своей и чужой прежней красоте начало вечности, или рассудочного человека, который хороший, но, охлаждая свой пыл, понимает, как стать нужным людям… продолжайте дальше сами. В общем, готовые характеры, которые точно в приключенческой книге будут как живые. Так практическое использование знаков развернулось оживлением литературных героев.
Следующий этап развития практической семиотики связан с появлением идеи программируемой машины, способной производить высказывание не только при комбинировании, но и при декодировании. Одним из таких семиотиков-практиков был монах-иезуит, эрудит и полиглот Афанасий (Атанасиус, Анастасиус) Кирхер (1608–1680). Он больше всего известен как изобретатель волшебного фонаря: собираясь организовать проповедь христианства для китайцев, он счел, что китайский язык совершеннее европейских, потому что сочетание звуков и соответствующий рисунок выражают целую идею, понятие или даже рассказ (кстати, именно из-за невнимательного чтения Кирхера, не дальше корешков, занимавшегося и Китаем, и Египтом, китайские идеограммы стали называть «иероглифами», что неграмотно: «жреческая резьба», как переводится это слово с греческого, могла быть только там, где было образцовое для греков жречество – в Египте). Поэтому китайцев не возьмешь просто текстом Евангелия, в переводе на китайский сразу будет видно убожество европейских языков, где нужно употребить много частей речи, чтобы высказать смысл. Кирхер поэтому понял, что нужно усовершенствовать китайское, чтобы быть убедительным для китайцев: он взял китайский театр теней, прибавил к нему яркость красок иезуитского «сакрального искусства», религиозной плакатной живописи, и что получилось? – волшебный фонарь!
Но Кирхер решил пойти дальше и создать всемирный язык по образцу китайской письменности. Он исходил из того, что китайская идеограмма обозначает как фактические, так и логические отношения между вещами. Значит, нужно посмотреть, как вещи соотносятся друг с другом фактически, например, по принадлежности к общим родам, и как соотносятся логически, например, могут ли они противопоставляться или заменять друг друга. Так произведя переучет всех вещей мира, можно создать совершенный язык, в котором идеограмма или сочетание звуков будут выражать место вещи среди Других вещей и правила взаимодействия с Другими вещами. Язык, созданный Кирхером, напоминал наше «Вася + Маша = любовь» или подобные выражения одновременно предметов и их отношений в одной формуле, благо, здесь могут широко использоваться идеограммы: слово «любовь» мы легко заменим на пронзенное стрелой сердце, и ничего не изменится.
Единственное, Кирхер забыл, что личные имена тоже должны быть, и поэтому никто не смог ответить на его письма: вежливые коллеги не знали, как правильно на всемирном языке обратиться к нему по имени. Следующим таким создателем совершенного языка стал Готфрид Лейбниц, учитель Христиана фон Вольфа, учителя Михаила Ломоносова. Лейбниц соединил логическую идеографику Кирхера с представлением об ограниченности и гармонии категорий: если у Кирхера они ветвились, то у Лейбница ложились в ровные квадраты. Вероятно, вдохновением для него был проект его учителя Эрхарда Вайгеля, который создал для себя первый в истории «умный дом» из комнат-кубиков, где само регулировалось тепло и освещение. Вот Лейбниц и стал укладывать все понятия в домики. Поэтому если семиотику Кирхера можно назвать семиотикой историй, то семиотика Лейбница – семиотика логики, исследующая, как устроено то, что уже имеет идеальную геометрическую форму соотношения всех смыслов. Именно поэтому Лейбницем так много занимался в XX в. Жиль Делёз, французский философ, утверждавший, что принцип начального различия, а не принцип бытия, и есть единственный философски приемлемый принцип организации мира, не подавляющий свободу человека.
Идеальный семиотический объект – это, например, картинка с подписью, жанр, возникший в эпоху барокко. Вот, например, одна из картинок «Эмблем и символов» Амбодика, употребленная как рисованный эпиграф к одной из глав «Столпа и утверждения истины» Павла Флоренского (о нем мы еще много будем говорить): в круге утес, поднимающийся из волн, а подпись «В непогоде тих». Картинку без подписи мы примем за простой пейзаж, и мысль о тишине будет внушать разве ее общее настроение. Но и подпись без картинки ничего не значит, кроме того, что характеризует чье-то индивидуальное ничем не мотивированное поведение. Тогда как связь картинки и текста сразу выстраивает систему мотиваций: утесу хорошо быть не потопленным морем, поэтому ему лучше тверже стоять, чем обрушиться, а значит, мы и в своей жизни должны найти, как связать твердость намерений и спокойствие, выдержку и умеренность в поведении.
Современная семиотика имеет два источника, и оба они – из первых лет XX века.
Американский философ Чарльз Сандерс Пирс опубликовал тогда серию статей, в которых обосновал изучение знаков как отдельную науку, а Фердинанд де Соссюр читал «Курс общей лингвистики», книгой изданный посмертно. Эти исследователи друг с другом не общались, принадлежали совсем разным академическим мирам, но они сходились в одном: знак – это самостоятельная реальность, которую нужно отличать как от реальности вещественного мира, так и от реальности психики. Тем самым семиотика изначально, как и многие интеллектуальные достижения начала XX века, возникала как критика психологизма – убеждения, что наши отношения с реальностью исчерпываются психическими реакциями на нее и что эти реакции можно поставить под рациональный контроль. Семиотика доказывала, что кроме мира реакций есть еще мир вполне самостоятельно действующих значений.
Чарльз Сандерс Пирс принадлежал к крупнейшей тогда американской философской школе – прагматизму. Слово «прагматизм» нельзя понимать в бытовом смысле, как решение практических задач или искание пользы и выгоды. Это философия, согласно которой законы отношений с вещами и законы отношений с идеями примерно одинаковые: мы можем оценивать идеи так же, как оцениваем вещи, и совершать операции с вещами на тех же основаниях, на которых выполняем операции в уме. Прагматизм противостоял чрезмерному пафосу оценивания, который вел к перевесу эмоций над разумом и мешал оценить реальность. Нужно было научиться относиться к мыслям так же внимательно и бережно, как к вещам.
Но именно здесь Пирс задумался: если мы осторожны с каждой вещью, то значит, она нам подсказывает эту осторожность. А следовательно, будучи внутри употребления вещью, в логике высказывания она становится знаком, который выдает, выговаривает свой смысл для нас. Но такое выговаривание смысла, как в практике познания, так и в практике пользования языком, не может быть разовым, но должно представлять собой некоторую последовательность, явно регламентируемую больше формами самих знаков, чем нашим желанием быть последовательными.
Пирс разделил все знаки на три большие группы, чтобы объяснить не только свойства самих знаков, но и их способность делать нашу коммуникацию реальной и соотносящей нас с реальными вещами. А именно, это «икона», «индекс» и «символ». Икона требует сходства знака с изображаемым предметом, индекс указывает на него, как симптом или признак, тогда как символ создан договоренностью между людьми, и непонятен тем, кто вне этой договоренности.
Несколько примеров. Для обозначения мужского и женского помещения можно употребить схематичные фигурки мужчины и женщины (икона), можно изображение мужского ботинка и женской туфли на каблуке (индекс), а можно знаки S «щит и копье Ареса» и ^ «зеркало Венеры» (символ) – они понятны только тем, кто косвенно наследует античной мифологии и астрологии. Или можно обозначить школу по-разному: фотографией здания школы (икона), изображением школьной формы (индекс) или официальным логотипом школы (символ). В данном примере все три обозначения ненадежны: не все опознают школьные здания среди Других зданий безошибочно, не все отличат школьную форму от офисной и не все правильно прочтут логотип школы – получается, что все три типа знака культурны, а не природны.
Слово «икона» (от греческого «эйкос» – похожий) подразумевает внешнее сходство. Но важно, что для Пирса это внешнее сходство определяется всегда без всякого сравнения с другим сходным изображением. Среди двух портретов мы можем выбирать, какой более «похож», но икона принимается как похожая без каких-либо сравнений или обсуждений. Получается, что икона – не природное явление, а уже некоторая социальная условность (мы должны знать не только, что такое школа, но и чем в ней занимаются, чтобы определить, что это школьное здание, например, благодаря пристроенному спортивному залу), и при этом определение иконы исходит из особенностей самого предмета, а не особенностей нашей процедуры познания.
«Индекс» (указатель, указательный палец) – это тоже всегда часть предмета: по дыму мы определяем огонь, по ботинку – пол его хозяина, по столу – учреждение. Здесь тоже замечательно, что строение индекса происходит не из устройства языка, а из устройства самой предметной реальности. Но при этом мы должны знать не только, что такое ботинок, но и в каких случаях какие ботинки надеваются: например, если человек думает, что ботинки носят только чиновники, он может подумать, что это комната для чиновников, а не для всех мужчин вообще.
Наконец, символ, хотя и вполне условен, тоже принадлежит вещи: он может наноситься на вещь как логотип, или закрепляться за ней, как устное или письменное ее обозначение – устное или письменное слово всегда символ, потому что оно точно уж не похоже на свой предмет, разве что слово «му» можно считать отчасти индексом, а не только символом коровы. В стихах романа Г. Гессе «Игра в бисер» (1942) прекрасно изображен страх дикаря, человека естественного, перед системой символов, как налагающих на человека дополнительные обязательства.
Но даже в простых системах, вроде дорожных знаков, мы не всегда можем различить эти три типа. Знак «кирпич» – для одних это икона, что-то лежит и перегораживает путь. Для других – индекс, потому что одна белая балка будет скорее частью препятствия или намеком на него, чем действительно может воспрепятствовать любому движению. Для третьих – символ, потому что, скажут они, это наша фантазия, услышав название дорожного знака, превратила вытянутый белый прямоугольник в какой-то объемный кирпич или балку, каким он никогда не был. Поэтому сейчас оставим в стороне Пирса, он на нас не обидится, и обратимся к Соссюру, который выяснял свойства знаков, не подразделяя их на группы.
Фердинанд де Соссюр, изучая и сравнивая различные языки, обратил внимание на самую простую вещь: никак нельзя соотнести напрямую звук слова и его смысл. Например, хотя у стола четыре ножки, а в слове стол – четыре звука, вряд ли это случайное числовое совпадение достаточно для соотнесения. Одни и те же предметы не только в разных языках называются совсем непохоже, но и в одном языке могут быть совсем не сходные по звуку синонимы. Конечно, есть звукоподражания, вроде «гавкать» или «скрежетать», но из них не составишь язык, и они не слишком надежны: например, «гавкать» похоже на лай собаки, но уже в слове «лаять» звучит скорее ла-ла, чем песий звук. Как написал Михаил Кузмин: «Лаем лисьим лес огласился» – лай, как вы видите, растекается гладко по лесу, и о тявкании лисы мы уже думаем меньше, чем об охотничьем пейзаже.
Поэтому должно быть другое основание, связывающее звук слова и его смысл. В русском языке слово «язык» означает очень многое: и языковую способность (человеческий язык), и отдельный язык (английский язык), и любую систему условных обозначений (научный язык). Индивидуальную речь или коллективное наречие мы выделяем как то, что не обладает главным свойством языка – устойчивостью и полнотой. Мы можем описать молодежный жаргон, используя литературный язык, но не наоборот. Потом мы увидим, как гипотеза о полноте языкового выражения (надо заметить, принципиально недоказуемая) легла в основу отечественной семиотики. При этом русское слово «язык», как и греческое «глосса» и латинское lingua обозначало первоначально только часть тела в ротовой полости, от «лизык», то, чем лижут, как и латинское lingua тоже лижет, а затем греческое «глосса» стало означать в том числе пояснение непонятного слова, а lingua – средство общения, как в выражении lingua franca – «свободный язык», язык международного коммерческого общения.
Во французском языке есть три слова: langage, langue и parole. Первое слово означает язык как способность говорить, произносить слова и фразы. Эта способность может быть даже индивидуализированной, то, что мы называем «манера речи» (тоже калька с французского). Второе слово – язык как систему, язык какого-то народа, свой или иностранный язык, то, что по-немецки будет Sprache, а по-русски сейчас язык в словосочетаниях «русский язык» или «китайский язык». Наконец, parole – это речь, немецкое Rede, высказывание, разговор, разговорная речь или диалект, что по-русски «говор», но также и «речь» как употребление языка в индивидуальных прагматических целях.
Для понимания Соссюра важно, что слово langage может употребляться для обозначения криков животных, тогда как мы если говорим «язык птиц» или «язык обезьян», то имеем в виду обмен сигналами и указаниями, но не произведение звуков: для нас язык обезьян будет включать скорее мимику и жесты, чем их крики, тогда как по-французски это именно и только крики, звук. Можно вспомнить, как в русской поэзии употребляется слово «звук» как синоним вдохновения, причем не простого, а действенного, пересоздающего самого поэта и его или ее отношение к произведению. Например, у Блока: «Приближается звук и, покорна щемящему звуку, молодеет душа», или у Ахматовой: «Встает один, всё победивший звук». Поэтому можно перевести langage как «звучащая речь», langue как «язык» или «речь» в смысле учебника «Родная речь», a parole – как «речь» или «наречие» в значении (в том числе) совершенно индивидуального наречия, такого, что и не поймешь, на каком наречии человек говорит, если говорит невнятно или непривычно для нас.
До Соссюра отношение между этими тремя словами регулировалось только официальной культурой: langage изучался медицински, как одно из качеств здорового человека, а иногда – диалектикой или поэтикой, langue – грамматикой, a parole – риторикой. Но ко времени Соссюра такое деление слов для области речевых явлений между разными свободными искусствами не соответствовало реальной педагогической Ирактике. Нужно было радикально обновить всю конструкцию восприятия этих явлений.
Соссюр предположил, что langage – слишком общее слово, и лучше всякий раз, рассуждая о звукосмысловых явлениях, строго различать langue и parole. Langue – это язык как система, a parole – индивидуальное речевое высказывание. Если с чем-то сравнивать, то langue (язык) – это магазин, а parole (речь) – корзина с товаром. Но тогда, если речь вполне принадлежит нам, язык существует независимо от нас и как бы сам определяет, какие звуки каким смыслам соответствуют.
Но как он это определяет? В самом простом виде, по учению Соссюра, отличая от всех остальных вариантов: мы не путаем стол и стул и благодаря умению отличать звук о от звука j/, но также благодаря знанию, как устроена та и другая вещь. В русском языке слово «стол» исконное, от корня глагола «стоять», а стул – заимствование из немецкого языка. Но мы отличаем эти слова и эти вещи, еще даже не зная, откуда какое слово произошло. Тогда язык – это система отличий, а речь – использование знаний об этих отличиях.
Получается, что и звуки слов мы определяем отрицательно, отличая звучание слова стол от звучания слова «стул» или слова «стал», и предметы мы определяем отрицательно, отличая стул от стола, коровы, чернильницы или свободы воли. Тогда языковой знак – это схождение через многие отрицания определенного звука «с» через многие отрицания определенного смысла. Когда мы научились отличать козу от овцы, и когда мы не путаем звуки в словах «коза» и «овца», тогда мы можем называть козу козой, а овцу овцой. Соссюр назвал звуковой облик слова «означающим» (signifiant), а смысл – «означаемым» (signifie). Означающее иногда называют также «звукообразом» (sound-image), а означаемое – «понятием» (concept). Бывают случаи нулевого означающего, скажем, в русском языке пропускается глагольная связка, как и нулевого означаемого, в случае рекламных и прочих «симулякров», которые рассматривал философ-журналист Жан Бодрийяр.
Другое великое открытие Соссюра – это доказательство того, что в языке есть одно различение, которого больше нет ни в каких областях бытия. Это различение синхронии (состояния системы в данный миг времени) и диахронии (изменения системы во времени из-за того, что в ней изменен какой-то элемент). Для любых других систем бытия синхрония и диахрония была бы абстракцией: ведь как можно представить миг времени, когда любые наши инструменты измерения времени фиксируют его длину, и как можно представить изменение всей системы, когда наш опыт и способности не позволяют следить за всей системой одновременно. Но язык, согласно Соссюру, это такая высокая степень знаковости, что в нем и синхрония, и диахрония становятся действительностью. Если люди вдруг перестанут отличать коз от овец (например, горожанам это не особо надо) или начнут так шепеляво говорить, что на слух не отличишь слово «коза» от слова «овца», в языке произойдет диахроническое изменение.
Возможно, Соссюра на все эти размышления вдохновила этимология слова mot (французское, итальянское motto) из латинского muttum – мык, мычание. Он не забывал, что слово иногда оказывается лишь мыком, теряются его оттенки и ритуалы его восприятия, но этот мык создает новую ситуацию смыслов.
Сам Соссюр занимался не столько общей лингвистикой, сколько тем, что его захватывало с головой. В молодости он сделал открытие о той связи гласных и согласных в языке, о которой прежде и не подозревали историки языка – что в индоевропейских языках, как и в кавказских и некоторых языках Океании, существовали гортанные звуки, вроде кашля, и что их исчезновение повлияло на всю систему гласных. Таким образом, звуковую организацию языка нельзя мыслить как сочетание гласных с согласными, но как появление данных комплексов гласных и согласных при распаде или трансформации начальных звуковых движений.
А потом он всю жизнь увлекался поиском анаграмм, прежде всего в индийской санскритской поэзии. По гипотезе Соссюра, в индийских гимнах, обращенных к богам, это имя бога было рассеяно по всему тексту, складываясь из звуков разных слов в некоторый невнятный, но верный образ. Благодаря этому гимн и стал не просто ритуалом, а произведением литературы, выбалтывающим природу бога как необходимое условие поклонения ему и наполняющим богопочитание уже сбывшимися обещаниями. Можно ли найти такие анаграммы в позднейшей поэзии – большой вопрос, хотя считается, что трубадуры могли шифровать свое имя и имя возлюбленной, что иногда в народных загадках ответ содержится в звуках вопроса, например, слово «даль» эхом отдается в поговорке «куда Макар телят не гонял» (связь имени Макар с блаженством и юродством доказал В.Н. Топоров).
Важнейшей особенностью семиотики после Соссюра является различение денотата (предмета, обозначенного в речи) и референта (смысла, обозначенного в речи). Эти две вещи могут по-разному называться в различных традициях, но мы будем называть их пока так. Существуют концепции, в которых референт и денотат принципиально не различаются: например, в магии, где употребление слов в определенном порядке оказывается уже манипулированием с вещами, или же в узко позитивистской науке, которая считает обозначение причин вещей достаточным раскрытием их сущности. Но семиотика исходит из того, что это совсем разные вещи, и их различение и делает семиотику столь многогранной, живой и интересной наукой. Самая ранняя модель – «треугольник Фреге» (его он придумал для объяснения, как слово может иметь и прямое, и переносное значение) – предложена отцом-основателем аналитической школы философии: слово-денотат-референт – три вершины этого треугольника, который, согласно Фреге и Расселу, позволяет вещи быть и настоящим содержанием словесного значения.
Философским основанием семиотики стала прежде всего идея «логического синтаксиса» Рудольфа Карнапа (1891–1970), немецкого исследователя, с 1935 г. работавшего в США. Карнап утверждал, что наравне с речевым синтаксисом, соотносящим условные элементы наших высказываний или переживаний, существует логический, организующий достоверное знание, и оба синтаксиса связаны определенной структурной соположенностью, что и не позволяет нашим поспешным эмоциям или реакциям влиять на объективность научного знания.
Особый вклад в становление семиотики внес американский исследователь русского происхождения Роман Осипович Якобсон (1896–1982). Якобсон стал одним из лидеров гуманитарного знания в США вообще, известна история, как он убедил ученый совет не утвердить Набокова профессором русской литературы в Гарварде, сказав, что крупный писатель не может быть профессором литературы по той же причине, что слон не может быть профессором зоологии.
Отзыв, заметим, очень болезненный: Набоков передавал свои коллекции бабочек как раз зоологическому музею Гарварда, и оказалось, что он сам годится разве что для такого музея. Вероятно, здесь сыграли свою роль политические обстоятельства: Набоков подозревал Якобсона в симпатиях к СССР и не разделял его восхищения русским футуризмом, тогда как Якобсон отрицательно оценивал опыт российского парламентаризма, в частности, роль отца Набокова, и, вероятно, как авангардист, считал самого кандидата слишком бытоописателем. Но сейчас скажем, что прекрасного Якобсон сделал для нашей науки.
Прежде всего, Якобсон предложил необычную модель языковой коммуникации, представленную, например, в его итоговой статье «Лингвистика и поэтика» (1975). В этой модели выделяются шесть функций языка, каждая из которых привязана к какому-то из моментов коммуникации. На стороне адресанта, отправителя сообщения, оказывается эмотивная функция языка, не только в том смысле, что адресант руководствуется эмоциями, но и в том, что употребление языка всегда «возбуждает», побуждает к действию, заставляет что-то меняться в мире вещей или в мире отношений к вещам и с вещами. На стороне адресата, получателя сообщения, конативная функция, иначе говоря, способность языка быть однозначно понятым, исключить неправильное понимание, даже если мы сталкиваемся с омонимией слов или грамматических форм: мы не поймем «Мой дядя самых честных правил» как *«мой дядя как редактор правил работы самых честных людей» (астериском, звездочкой * в лингвистике обозначают не зафиксированные на письме грамматические варианты), хотя, например, слова из молитвы Святому Духу «сокровище благих» многие понимают как «сокровище благих людей», а не «сокровище (запас) благ».
Само сообщение располагает поэтической функцией языка, иначе говоря, его способностью привлекать к себе внимание: собственной звучностью или чем-либо еще. Не только для того, чтобы сообщение было понято, но и чтобы оно состоялось, нужна референтативная функция, другими словами, отсылка к контексту. Нужно также, чтобы сообщение пошло на контакт, – и здесь срабатывает фатическая функция языка, а именно способность языкового высказывания быть воспринятым как высказывание, а не как шум или случайный звук. Наконец, любое сообщение отличается от мира вещей и мира реакций на вещи, а значит, оно представляет собой закодированное сообщение с определенными правилами кода: и метаком-муникативная функция языка позволяет декодировать сообщения исходя из произошедшего кодирования, и кодировать в расчете на декодирование.
Нас в этой модели, конечно, удивит, что язык оказывается не просто субъектом, а творческим субъектом, а человек – лишь моментом различных самореализаций языка. Чтобы понять, как Якобсон пришел к этому, нам нужно сделать философское отступление, а вы немного потерпите: придется немного спуститься вниз, чтобы потом подняться вверх.
Далее я изложу вопрос отчасти по результатам бесед с Викторией Файбышенко, отчасти по тем сведениям, что я узнал в Высшей нормальной школе от соавторов по Словарю европейских философий. В философии семиотической концепции знака соответствует учение Гуссерля о ноэзисе (ноэзе) и ноэме. Слова непривычные, обычно остающиеся без перевода, потому что «умопостижение» и «умопостигнутое» или что-то в таком роде только запутает дело; хотя есть латинское соответствие cogitatio и cogitatum. Лучше соотнести эти слова с поэзис (поэзия, поэза) и поэма: в русском языке словом поэма стали называть большое произведение, а слово поэза осмелился употреблять только Игорь Северянин, тогда как в европейских языка поэма – это небольшое стихотворение, а поэза (поэзия) – поэтическое творчество или большое произведение.
Гуссерль поставил простой вопрос, что именно мы мыслим, когда мыслим корову: само рогатое животное, наш образ его или понятие о нем? Предшествующая философия ответа не давала, но может дать ответ слово «поэзия». Когда поэт сочиняет стихотворение о корове (поэзис), мы определенным образом ее переживаем: вдруг обращаем внимание на ее шерсть, крутые рога или большие глаза. Когда стихотворение сочинено (поэма), то для нас корова в этом стихотворении обладает уже содержанием, а не только свойствами: для нас важно, что она там пасется на лугу, греется на солнце или дает нам самое лучшее молоко. Таково же отношение ноэзиса и ноэмы: ноэзис, постижение вещи, состоит из переживаний, тогда как ноэма – из смыслов. Переживания и смыслы соотнесены, причем соотносим их не мы, потому что мы не можем точно сказать, когда мы постигли вещь (как и поэт может сказать, что сочинил завершенное произведение, только руководствуясь взглядом извне), а сама вещь. Поэтому дальше Гуссерль уже в ноэме вычленил ядро – способность коровы представать именно коровой даже при первых наших чувствах, это ядро в поэзии мы называем «художественный образ». В ноэзисе ядра нет – по крайней мере, не было до аналитической философии Джона Сёрла (у нас иногда ошибочно говорят Сёрль, хотя он Сёрл), который считает, что и сама направленность сознания на предмет «значима».
Первыми связали учение Соссюра об означающем и означаемом с учением Гуссерля о ноэзисе и ноэме русские формалисты. Так, идея остранения, выдвинутая Шкловским, как раз подразумевает, что переживания позволяют посмотреть на вещь со стороны, но эта возможность диктуется самой вещью, точнее, ее смысловым ядром, как и по Соссюру, смысловое ядро означаемого, идея или концепт, определяет ассоциативную связь с ним означающего.
Но формализм столкнулся с важным ограничением своего метода: можно было описать эксцентричные переживания, которые и пестовал любимый формализмом русский авангард, но нельзя было описать нормативные переживания. Вообще, анализ авангарда очень хорошо показывает, что в нем ноэзис и ноэма или поэза и поэма соотносятся как два разных мира. Возьмем для примера всем известное стихотворение Маяковского «Я сразу смазал карту будня…» (разбору этого стихотворения я обязан разговору с филологом О.Б. Кушлиной). Сюжет его реконструируется исходя из реалий 1915 г., а именно, военного кризиса. Герой пришел в ресторан и в волнении от фронтовых событий пролил вино на меню, карту (бу)дня, причем предпочел более дешевое красное вино белому из-за нехватки денег; далее, находящийся в глубоком экономическом кризисе ресторан принес ему вместо речной рыбы суррогат – морскую рыбу, выловленную на Дальнем Востоке, в китайско-японском регионе мира («косые скулы океана»), причем одноразовая тарелка тоже из экономии оказалась предназначена для «новых губ», многоразового использования. В конце Маяковский задает вопрос: могли бы вы тоже составить стихотворение из признаков современного города, указав на запущенность коммунального хозяйства во время войны, что даже водосточные трубы толком не чистят.
Но выходит, что здесь кроме поэзиса (футуристической образности) и поэмы (Петрограда 1915 года), ядро которой, а именно, реалии военного времени, и возбуждает странные, совершенно в духе Пикассо переживания, есть еще и сам поэт, который в конце общается с читателем и создает норму поэтизации действительности. Такой фигуры поэта у Гуссерля, занимавшегося исключительно познанием мира, быть не могло. Но зато получившаяся схема из трех поэт – поэз – поэма больше всего напоминает триаду Жака Лакана (1901–1981), великого французского психоаналитика, «реальное – символическое – воображаемое», которую он сам представлял как Кольца Борромео, сплетенные все со всеми. У Лакана, как и положено психоаналитикам, человек – объект, а не субъект; человек – жертва воздействия, а не автономное лицо. Реальное – это тогда поэт, это то, что определяет место вещей и в том числе наше место; символическое – поэзис, придание нашим субъективным переживаниям объективного рокового смысла, а воображаемое – поэма, единственный способ собрать образ как связное смысловое содержание. Этим Лакан отличается от Фрейда, у которого существует только поэзис и поэма, тогда как деятельность поэта – это невроз, как и у Гуссерля деятельность поэта внутри познания – лишь неизжитая «естественная установка». Поэтому когда Якобсон говорит о функциях языка, по сути, о его целеполагании, то он имеет в виду не фрейдовскую, а лакановскую модель: во фрейдистской семиотике язык выглядел бы лишь как одна большая ошибка.
Якобсон прямо писал о своем несогласии с теми, кто видел и целеполагание только в художественных произведениях, а не в самом языке. Для Якобсона сам язык обладает поэтической функцией, а значит, целесообразен. В этом он расходится с Соссюром, но замечает, что тот просто следовал научному правилу своего времени: наука ищет только причины, а не цели, тогда как современная биология вполне говорит о закономерном движении живой природы к выполнению собственных задач, не сводящихся к структуре причин.
Для Лакана, радикализующего позицию Якобсона, только язык и обладает настоящей телеологией, тогда как любая телеология субъекта оборачивается «комплексом кастрации», любое проективное желание человека обрывает сам этот проект. В этом Лакан сходится с постмодерной критикой власти как проекта, который, так как всегда остается поэзисом и никогда не становится поэмой, только срывается в подавление (репрессию), вызванное «переживаниями» – вспомним работы Фуко или Делёза. Но Якобсон решил эту проблему исходя из своего понимания «кода». В статье «О художественном реализме» Якобсон рассмотрел случаи поэтического безумия, известного нам из культуры романтизма, заметив, что это безумие является не декодируемым сообщением, а самим кодом письма, утверждающего человеческое присутствие, а не отсутствие. Безумие – это саморазрушающийся код, фрустрирующий поэзис, но именно поэтому и позволяющий создать поэму: освободившись от переживаний, выйти к смыслу уже сказанного. Тогда как у Лакана если что-то и фрустрирует поэзис (символическое), то это предметный опыт, который всякий раз оказывается ошибочным и иллюзорным, поэтому должен в ходе терапии зацепить и воображаемое, и реальное в их единстве, чтобы не стать вполне разрушительным. Этот предметный опыт отождествляется с опытом болезни, иначе говоря, опытом абсолютизировавшего себя сознания. Позиция Лакана тоже определяется интеллектуальным настроением его эпохи: отрицать всякое начальное содержание и начальный опыт сознания.
Оптимистический взгляд Якобсона на возможности поэзии позволил ему выделить ряд категорий, подходящих и для лингвистики, и для поэтики. Это, например, «перформатив» и «шифтер» (от shift – смещать, сдвигать). Перформативными (в философию это понятие ввел Джон Остин в работе «Как делать вещи с помощью слов», 1955, «делать вещи» в обоих смыслах – делать предметы и производить действия: «мастер сделал красивую вещь», «тиран делает ужасные вещи») называются высказывания, меняющие реальность уже в момент их произнесения, что соответствует категории «возвышенного» в общей эстетике. Например, таков крик «Пожар!» или слова «Клянусь», «Объявляю вас мужем и женой» и даже «Я тебя люблю». Шифтер – это высказывание, которое в момент произнесения способно менять не реальность, а своего субъекта. Например, я скажу о себе в третьем лице: «Профессор вам сейчас читает лекцию по семиотике, не шумите» (в японском языке, кстати, можно сказать только так – там нет грамматической категории лица). Получается, что я в ходе произнесения становлюсь из просто Саши Маркова не просто инстанцией речи, а инстанцией, придающей речи авторитетность. Шифтер объединяет в себе пирсовский «индекс» и «символ», и может быть очень значим в поэзии.
Например, Якобсон разбирает знаменитое стихотворение Пушкина: «Я вас любил..»: только шифтеры объясняют, почему субъект высказывания так легко уступил сопернику, с таким легким сердцем. Надо заметить, вообще, проблема шифтеров стала возможна после опыта, например, Блока, который явно не был все время пригвожден к трактирной стойке, даже если иногда заходил в трактиры, почему Тынянов и придумал термин «лирический герой» для субъекта высказывания у Блока. Так вот, стихотворение Пушкина: в начале сказано «Я вас любил», но дальше «я» же не могу судить, совсем или не совсем угасла любовь в моей душе; влюбленный если об этом судит, то любовь только больше разгорается, опрокидывая все его суждения. Равно как «Я не хочу печалить вас ничем» – это тоже шифтер: никогда субъект высказывания не знает, опечалит ли он собеседника или даже не знает, хочет ли он опечалить собеседника, потому что желание любить превышает желание соблюдать такт – но тут произошел шифт, смещение в сторону позиции любимой. Так сложная система шифтеров и ведет к тому, что поэзия требует признать привилегию любимой и незрелость любви любящего. В строке «Я вас любил так искренно, так нежно» вообще два шифтера: от «я» в сторону «он» (только отстраненно можно оценить искренность) и в сторону «ты» (только в разговоре с глазу на глаз возможна нежность). Поэтому и в последней строке появляется и новый он – бог, «дай вам бог» в смысле пусть так обстоятельства сложатся, и «другой» новый возлюбленный, с которым она сможет быть счастлива в той мере, в какой будет доверительна. Можно вспомнить также, как Эмиль Бенвенист, великий лингвист, расширил известный в логике «парадокс лжеца» до вообще парадокса перволичного высказывания: нельзя сказать в первом лице не только «я лгу», но и «я хороший» или «я плохой» без открытых или подразумеваемых пояснений, но вот ребенок говорит «я хороший» без пояснений, потому что еще умеет как поэт играть шифтами. В.В. Бибихин в статье «Детский лепет» рассматривал случай, как ребенок упал, заплакал, потом отчетливо сказал «бум», а потом опять разревелся – и это если «театр», то в начальном исконном смысле показа спрятанного бога, спрятанного Петрушки, эпифании бытия (как это понимала О.М. Фрейденберг, о которой мы на сегодняшней лекции уже не успеем сказать), а еще проще, это свобода в отношении шифтов.
Во Франции Ролан Барт в книге «Фрагменты речи влюбленного» (1977), своеобразной сумме семиотики, также исследует, как неревностная любовь появляется благодаря речевым фигурам и приходу Другого. Но Барт имеет в виду скорее лингвистический перевод, поэтому любовь у него фантомная радость между языками, а Якобсон и тартусцы, о которых мы будем говорить на следующей лекции – перемену точки зрения.
Остроумное понимание слова «семиотика» было предложено Ю.М. Лотманом и И.И. Ревзиным на одной из первых летних школ в Тарту. Лотман был профессором в Эстонской ССР, и по свидетельству Б.М. Гаспарова (впрочем, Лотманом критиковавшемуся), языковая и географическая обособленность центра русской семиотики способствовала развитию нонконформистского экспериментаторства. Слово «семиотика» было предложено написать латиницей и понять исходя из тех языковых привычек, которые исследователи приобретали в Тарту, латинского semi-половина и эстонского joodik – пьяница. Тогда семиотика оказывалась наукой о полупьяных, как бы об измененном состоянии ума после совершения операций со смыслами, но в конце концов языковая унификация пошла навстречу выделению предмета семиотики – семь было прочитано по-русски, и карикатурные семь пьяниц, появившиеся на доске в дни этой летней школы, доказали, что семиотика – это наука не только о смыслах, но и вещах и их отношениях, прежде всего, числовых. О тартуско-московской школе, становлению которой заочно и очно помог Якобсон, по приглашению Лотмана побывавший в Тарту (почти невероятное для советского времени событие), мы и поговорим на второй лекции.
Лекция 2 Чем славен город Тарту
Юрий Михайлович Лотман (1922–1993), в годы «борьбы с космополитизмом» не принятый на работу в Ленинграде и в центральной России, получил место в Тарту, тогда ничем не известном городке. Тартуский университет существовал как немецкоязычный до революции, но во время Первой мировой войны он был эвакуирован в Воронеж, как и Варшавский русско-немецкоязычный – в Ростов-на-Дону и даже Санкт-Петербургский отчасти в Пермь, а советская власть подавила те университетские традиции, которые возникли в свободной Эстонии. Лотман начал с нуля и достиг мировых вершин. В Тарту употреблялись наравне слова «семиотика» и «структурализм», маскироваться от цензуры приходилось то тем, то другим, хотя семиотика – это наука, а структурализм – метод. Но для Лотмана и его сподвижников метод – это не только способ воздействовать на мысли и вещи, но и способ выяснить, все ли поддается этому воздействию, или есть невыразимое и невысказываемое.
Первым манифестом тартуско-московской семиотики стали «Лекции по структуральной поэтике» (1964) Ю.М. Лотмана, вышедшие небольшим тиражом в Тарту как учебное пособие. В этих лекциях Лотман сразу же отказался от деления поэзии на «форму» и «содержание», весело заметив, что для определения плана дома не нужно ломать дом, чтобы узнать, в какой из стен спрятан план. Интересно, почему Лотман посвятил книгу поэзии, а не прозе: проза для него слишком сложно организованный текст, подразумевающий вторжение множества речевых и стилистических стратегий, тогда как на материале поэзии легче всего можно научиться семиотическому анализу искусства.
Подход Лотмана к поэзии даже стал потом предметом анекдотов: поэт Лев Лосев, вспоминая о том, как редакцию детского журнала, в котором он работал, штурмовали молодые непубликуемые поэты, заметил, что «они о тексте, как учил их Лотман, судили как о чем-то очень плотном, как о бетоне с арматурой в нем». Чтобы не пересказывать всю книгу, приведем просто свой пример, как можно, по Лотману, разобрать небольшое стихотворение, скажем, пушкинское:
Напрасно я бегу к сионским высотам, Грех алчный гонится за мною по пятам. Так ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, Голодный лев следит оленя бег пахучий.В пушкинской рукописи под четверостишьем изображен тот самый склонивший голову лев; пунктуацию мы здесь приблизили к рукописи, отказавшись от пунктуации советских изданий. В этом стихотворении богатая звукопись а-о-о-а как основа первых двух строк, и о-е-о-у как основа последних двух, поэтому первые две строки производят впечатление восклицания, тогда как последние две – отчаянного размышления. Парная рифма, настраивающая на неспешное размышление или, напротив, на остроумное замечание, заставляет читать это стихотворение как меланхолическое и философски заостренное одновременно. Все стихотворение выдержано в настоящем времени, кроме «уткнув», тем самым, позиция воображаемого льва, с которым сравнивается грех, появляется раньше позиции субъекта высказывания, и этот воображаемый лев привилегирован в сравнении с повествователем: явно наблюдатель не может разглядеть пыльных ноздрей льва, в пустыне они просто не видны, но и природный лев специально не обращает внимания на пыль, а только на запах. Следовательно, ноздри пыльные чувствует особый, метафорический лев. Таким образом, по сути стихотворение не только о преследующих дурных воспоминаниях, но и о власти метафор, которые оказываются сильнее власти тех обстоятельств, над которыми, как кажется, мы властны.
«Лекции по структуральной поэтике» открыли широкие возможности для изучения, например, звукописи в поэзии. Русские символисты и их наследники (статьи Андрея Белого, «Поэзия как волшебство» К. Бальмонта, заумь Крученых и Хлебникова, «Ключи Марии» С. Есенина) пытались увидеть в звуках иероглифы, символы высших тайн, а значит, в интенсивной звуковой организации стихов – способ широко распахнуть ворота в эти тайны и тем самым преобразовать всю реальность. «Чтоб в край моих заморских песен Открылись торные пути», как писал Блок. Советская поэзия, наоборот, в звукописи видела прежде всего натуральный эффект, который можно использовать в целях пропаганды: стихи могут реветь как завод или самолет. Лотман делает шаг дальше тех и других, утверждая, что звук – это функция, а не вещь и не отражение вещи. Поэтому, добавим мы, в хорошей поэзии звукопись выстроена не как взрыв эмоций, а как полноценный график, сразу ясно, кто звучит и зачем. Например, у Ахматовой «Вдали раскат стихающего грома» – важно не только, что гром стихает, но что сама даль позволяет ему стихнуть, но раскрыв все величие его раската. Или у Пастернака «Октябрь серебристо-ореховый», важно не то, что октябрь уже насыщен первыми заморозками в овраге, где орешник, но что сам октябрь заставляет долго размышлять над состоянием природы и различать орешник тогда, когда уже прочувствована сама жизнь природы.
Но, продолжим еще дальше в сравнении с Лотманом. В обоих приведенных нами поэтических примерах есть смысловое подлежащее всего происходящего, в первом случае отличающееся от грамматического подлежащего, а во втором – формально совпадающее, но по сути нет, потому что акт называния, – мы называем октябрь, – превращен в самостоятельно действующую картину самого октября. Такое смысловое подлежащее легче сближается с другими первыми словами строк, в картину удивления в первом случае и в картину лирической осени во втором, чем взаимодействует с другими членами предложения по законам прозы.
Историческая заслуга отечественной семиотики перед поэтикой в том, что она, в отличие от формализма, заговорила о мире поэта и мире поэзии. Пример изучения мира поэта – статья М.Л. Гаспарова о поэзии Михаила Кузмина, где исследователь, составив тезаурус поэта, список слов по частотности с контекстами употребления, восстановил магистральный скрытый сюжет всей поэзии Кузмина – появление чудесного Вожатого, который часто не виден, если мы следим только за образами данного стихотворения. Но этот сюжет прорвется через необходимость связных образов, просто частотой слов, интенсивностью своей неминуемости.
Изучение мира поэзии – это изучение образов, не зависящих от воли отдельного автора, примерно того, что К.-Г. Юнг называл «архетипами». Примером такого изучения можно считать реконструкцию «основного мифа» древних славян, предпринятую Вяч. Вс. Ивановым и В.И. Топоровым. Это оказался миф о змееборце, который может стоять за всем фольклором, если это борьба солнца и света против хтонических (подземных) сил, а может оказаться сюжетом Георгия Победоносца. Основной миф не просто поэтичен, в том смысле, что употребляет яркие образы, он сверхпоэтичен, а поэтическое – это только его следы, остающиеся при узнавании или употреблении, когда народ полюбил Георгия Победоносца, узнав в нем что-то глубоко свое.
Еще более общий «основной миф», принадлежащий не только древним славянам, но и по утверждению В.Н. Топорова, возможно, всему человечеству – миф о мировом древе. Это древо мы видим на эмблеме нашего университета (РГГУ): В.Н. Топоров до самой смерти был нашим сотрудником. Мировое древо, в отличие от змееборчества, не противопоставляет небесный и хтонический мир, превращая земной мир в поле битвы, а как ось проходит через эти три мира, отводя каждому свое место. Тогда если славянская поэтика – драма, то мировая поэтика – эпос. Миф мирового древа позволил принять в реконструкцию поэтики мифа наблюдения над ролью посредников в различных мифологиях, посредников между земным миром и иными мирами: таким посредником может быть ворон или волк, как падальщик: не случайно волк оказывается оборотнем, т. е. принадлежность к двум мирам поэтизируется в его индивидуальной поэтике поведения. Посредников изучали такие исследователи, как Клод Леви-Стросс или Елеазар Моисеевич Мелетинский, а первым эту идею подал великий исследователь сказочных сюжетов Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970). Мировое древо подсказало всем посредникам, чем им на самом деле следует заниматься: белка растеклась по древу, а лось стал пастись у его корней.
Отечественная семиотика, кроме этого «основного мифа», ввела несколько терминов, получивших потом всемирное признание. Один из них – «вторичные моделирующие системы» для обозначения вектора интереса семиотики: часто даже мероприятия по семиотике назывались мероприятиями по «вторичным моделирующим системам» – это позволяло обходить цензуру, не очень благосклонно встречавшую новые науки, но в целом одобрявшую «шестидесятнический» технократизм с разного рода технологическими метафорами для описания любых процессов. Язык, естественный или литературный, понимался как первичная система, тогда как искусство, религия или бытовой этикет – как вторичные системы, «моделирующие» в том смысле, что имеют свои правила, которые могут регулярно исполняться.
Этот термин вызвал ряд недоумений, например, А.Ф. Лосева, заметившего, что эти системы скорее моделируются, чем моделируют что-то еще. Лосев при этом исходил из идеалистического образа культуры как запаса смыслов, которые художники или ученые обрабатывают, придавая им идеализированную форму. Но тартуские исследователи подчеркивали просто различие между языком, в строгих рамках которого никогда нельзя построить никакой непротиворечивой модели, – в языке всегда есть некоторая аномальность, – и культурными достижениями, которые именно что живут тем, что они – модели. Ведь на структурализм повлиял, хотя и очень косвенно, русский формализм, учение о том, что искусство создается не иллюзорными образами, а приемами, разоблачающими эту иллюзорность; а на формализм, еще более косвенно, – философия жизни Ницше.
Ницше нельзя было не заметить, так он был моден. В разделе «Чем я обязан древним» из книги «Сумерки божков» Ницше заметил, что в стихах Горация изложение не линейно, но представляет собой «мозаику слов», которые «изливают свою силу вправо, влево, на целое». По сути, здесь в зерне главная идея поэтики Тынянова – «теснота стихового ряда» (в книге «Проблема стихотворного языка», 1924), определенная сжатость поэтического изложения, разделенного на строки, позволяющая грамматической семантике одних слов влиять на лексическую семантику соседних. Возможно, здесь повлиял еще русский адепт стиля Ницше Лев Шестов, поставивший эпиграфом к своему «Апофеозу беспочвенности» «Не для боящихся головокружения» – сразу представляется вполне тесная горная тропинка, по которой нужно сделать ряд шагов – поэтических стоп.
Также и тезис Ницше о том, что слабые филологи колеблются, а сильные чем дальше, тем больше идут по прямой, потом многократно отзывался в русской культуре, начиная с шуточного доклада О.М. Фрейденберг «О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках», где явно соединен термин А.Н. Веселовского «бродячий сюжет» с духом ницшевской веселой науки, до определения С.С. Аверинцевым принципа средневековой культуры как «уже, но еще не» (спасение уже явлено, но еще не достигнуто) – то есть требуется твердость и интенсивность движения, а не колебания вокруг уже достигнутого.
Еще одно важное и загадочное событие в интеллектуальной истории России усилило интерес к сфере значений и выражений, а именно спор об имяславии в русском монашестве. В Библии слово «имя» (шем) – одно из неотъемлемых свойств Бога, наравне со славой, силой, мудростью и многими другими. То же самое мы видим в наших выражениях «действовать от имени», «иметь громкое имя» или «этот же человек – имя» (в смысле, очень известен, big name). То есть имя – залог победы библейского Бога над другими богами, его торжество и непосредственное присутствие. Открыть имя Бога – оказаться в ситуации, когда он присутствует. «Я открыл имя Твое человекам» (Ии. 17, 6) означает – я познакомил их с Тобой и показал, что Я – Твой сын.
При этом то самое истинное библейское имя чудно и невыразимо, оно обозначалось сочетанием четырех согласных ИХВХ, которые при этом читались как гласные, что-то вроде ИАОЭ (чтение «Яхве», до сих пор встречающееся в популярных книгах по Библии, малоуместно). Такое чтение согласных как гласных, как особенность небесного языка, многократно повторена в поэзии, как у Николая Гумилева «еа» и «аи» – радостное обещание (возможно, влияние на этот образ жителей Венеры фонетики Полинезии), или у Елены Шварц предстал ангел по имени АОИ («Невнятно гласные бормочем…»).
Из этих предпосылок исходит иудейская и христианская мистика имени, в которой называние имени Бога – уже постановка себя в Его присутствие. Это именование и чтили афонские имяславцы; но их демократизм, в частности, избрание игумена на общем собрании, крайне не понравился тогдашнему церковному руководству; и незадолго до начала Первой мировой войны русские монахи были депортированы с Афона, и рассуждать о мистических вопросах им было запрещено. Но их движение вдохновило целый ряд русских христианских интеллектуалов, прежде всего П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова и А.Ф. Лосева, на создание философий имени, соединивших диалектику немецкого классического идеализма с признанием именования как первичного акта мирового сознания, предшествующего как знанию, так во многом и бытию.
Павел Александрович Флоренский (1882–1937) – русский богослов и исследователь-универсал – признанный предшественник отечественной версии семиотики. Его открытия в этой области обусловлены математическим образованием и желанием приложить математические модели как к систематизации природных закономерностей, так и к изучению условий и принципов нашего познания. Например, различение между дурной и актуальной бесконечностями, введенное Георгом Кантором, он применил для различения познания земных вещей и познания Бога.
В работе «Строение слова», предназначавшейся для его большого труда по всем наукам «У водоразделов мысли», Флоренский рассматривает слово как живую динамичную структуру, обеспечивающую познание на разных уровнях. Флоренский ставит вопрос, почему если слово имеет устойчивое значение, его можно употреблять в научных или художественных целях, хотя, казалось бы, раз и навсегда данное значение слова будет сковывать нашу мысль и творческий порыв.
Чтобы решить этот вопрос, Флоренский обращается к понятию «внутренняя форма слова», введенному А.А. Потебней. Внутренняя форма – это этимология слова, те предпосылки в его происхождении, которые определяют его теперешнее употребление. Например, внутренняя форма слова стол – стоять. Поэтому, благодаря внутренней форме, мы можем, говоря о столе, думать об устойчивости или о стойкости, тем самым решая инженерные задачи или сочиняя истории о стойких характерах в быту.
Слово Флоренский называет «встречей двух энергий», имея в виду как богословский смысл энергии, деятельность Бога вовне, так и лингвистический, введенный Вильгельмом фон Гумбольдом – энергия как способность языка меняться и заключать в себе творческий момент. Одна из энергий – это индивидуальное понимание вещи, а другая – коллективное понимание, состоявшееся в общечеловеческом опыте или опыте какой-то группы (такой группой для Флоренского как богослова явилась прежде всего Церковь).
Чтобы понять, как опыт становится общим достоянием благодаря речевой деятельности, как исключается в большинстве случаев превратное понимание речи, Флоренский выделяет три уровня слова: фонему, как «костяк» внешней формы, морфему, как ее «ткань», и наконец, семему, или смысл, как начало внутренней формы во внешней. Так как внутренняя форма познается индивидуально, Флоренский сосредотачивается далее только на внешней форме как действительном коллективном опыте речи. Фонема позволяет начинать разговор и опознавать его в качестве разговора, морфема придает ему организованность и способность отсылать к вещам действительности, наконец, семема позволяет осмыслять сам разговор как состоявшийся осмысленно – и для Флоренского это своеобразное доказательство бытия Божия: смысл придается вещам извне, необходима точка зрения Бога, даже если кажется, что мир вещей или разговор о вещах самодостаточен.
В семиотике Флоренского интересно, что все три уровня слова служат хранителями памяти, но памяти совсем различного вида. Устойчивость фонемы напоминает геологическую память, звуки существуют так же постоянно, как отложения пород, и деформация фонетики напоминает тектонические сдвиги. Устойчивость морфемы – это уже память органического вещества, наподобие того, как растение сохраняет свою форму, выпрямляется, тянется к свету и выполняет прочие функции, которые и есть его организованность и органичность. Наконец, семема, которая отвечает, как мы помним, уже не за организованность, а за взгляд извне, сохраняет социальную память, понимаемую как постоянное забвение и постоянное припоминание, как социальный опыт общения с неведомым. Скажем, семема названия какого-либо дерева включает для Флоренского как мифологические представления об этом дереве, так и профессиональные ботанические.
Итак, подход Флоренского к слову и вообще к языковым явлениям должен быть признан семиотическим. Флоренский признает, что знаковый характер слова и обеспечивает его свободу и творческий потенциал, что наличие инобытия по отношению к миру значений и позволяет значениям состояться как самостоятельно действующим, а не только обособленным в ходе познания, и что любой знак устроен сложно, включая в себя не только правила своего употребления или отсылки к миру вещей, но и правила рефлексии над ним, т. е. установления его возможностей и ограничений. Только Флоренский описывает все это не как свойства системы, а как свойства нашего познания, что и позволяет ему сделать богословские выводы из наблюдаемого материала.
Также Флоренский известен и как первый семиотический интерпретатор иконы. Согласно Флоренскому, икона – это прежде всего не система изображения, а система отношения: не набор знаков, с помощью которых достоверно представляется мир, а самостоятельный знак, показывающий, в каком отношении мир, воспринимающий и само изображенное, стоит к Богу. Поэтому, согласно Флоренскому, в иконе нормативным оказывается обратная перспектива, в противоположность воздушной перспективе живописи: если последняя создает правдоподобие познания, то первая ставит вещи и людей, воспринимающих вещи, в изначальное отношение к Творцу. Тем самым, иконописец понимается как союзник Бога, а отношение замысла иконописца, канона иконописи и творения Богом мира полностью соотносятся с понятиями фонемы, морфемы и семемы в философии языка Флоренского.
Такое умение связывать различные области и утверждать приоритет отношений над текущим бытовым опытом и обеспечили Флоренскому место среди предшественников отечественной семиотики. Конечно, открытия Флоренского обязаны тому, что он очень хорошо разбирался в точных науках, в частности в электротехнике, и поэтому более глубоко понимал, что такое «функция», не сводя ее к отдельным ее состояниям. Такое понимание функции, как не просто организации данных, а как ключа ко всей совокупности данных, позволило ему по-новому понять отношения мира вещей и мира смыслов, хотя при этом приходилось использовать различные устаревшие конструкции, такие, например, как учение Потебни.
Другой важный для становления отечественной семиотики исследователь, Николай Яковлевич Марр (1864–1934) был крупнейшим русским кавказоведом, академиком сначала императорской, а потом и советской Академии наук. На Кавказе Марр изучал не только строение местных языков, но и обычаи их употребления, можно сказаиь, был социологом языка; и он заметил целый ряд странностей в этих обычаях. Например, в некоторых аулах мужчина разговаривал с другими мужчинами словами, а с женщинами – жестами. Конечно, женщина тогда оказывалась в подчиненном положении, но подчиненное положение женщины – это пережиток. Исходя из этого, Марр и сделал вывод, что как общество бывает первобытным и развитым, так и язык тоже бывает первобытным и развитым, и язык жестов – типичный первобытный язык. Как из первобытной экономики возникает рабовладельческая, а потом феодальная и капиталистическая, на основе разделения труда, так и из первобытного языка жестов возникает звуковой язык, на основе разделения смыслов или связанных с ними прагматических решений. Первобытный человек показывал ладонь, но на следующих этапах понадобилось большее количество значений, на которые рук и ладоней не хватит. Поэтому наравне с руками пошли в ход звуки, и наравне с жестом руки появился звук руки, звук, означающий руку, но одновременно, скажем, женщину – раз с женщинами общались, показывая знаки рукой. Учение Марра сначала легко вписалось в советский марксизм, утверждавший превосходство экономического базиса над культурной надстройкой, но оно очень плохо годилось для интерпретации грамматики отдельных языков: ведь этот переход от жестов к звукам не мог быть зафиксирован ни в каких памятниках, и поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть гипотезы Марра было невозможно. Нет ни одного памятника, где «рука» звучит так же, как «женщина», и нет звуковых законов, которые бы подтверждали уж совершенно головокружительную фантазию Марра о том, что все слова всех языков произошли из первичных четырех криков бер, сал, йон, рош, в сложении с жестами, с наименованием этих жестов, и значит, друг с другом, давших все многообразие слов и смыслов. Поэтому рано или поздно от языковой теории Марра пришлось бы отказаться: после войны Сталин и сделал выбор в пользу традиционной лингвистики, руководствуясь скорее стилистическими предпочтениями: авангард окончательно был вытеснен новым имперским стилем, и авангардное языкознание терпеть никто бы не стал.
Но хотя в теории Марра фантастики больше, чем действительного исследования языка, и Марра даже из-за этих его неуместных фантазий иногда несправедливо бранят как лжеученого, хотя он был великим ученым, в ней есть несколько гениальных прозрений. Во-первых, Марр освободил слово из плена грамматики, потому что, по сути, изучал не слова, а некоторые жестово-смысловые комплексы, которые можно отождествить и со словами, и с частями слов, и с целыми предложениями, и даже с текстами, например мифами. Здесь Марр сошелся с исследователем, исходившим из совсем других предпосылок, из немецкого идеализма и имяславия, а именно, Алексеем Федоровичем Лосевым с его формулой «Миф – развернутое магическое имя». Но это соответствует и развитию современной науки о языке, доказавшей, что наши представления о «слове» внушены нам грамматикой и что для многих языков, например, японского, чукотского или полинезийских, категория «слово» вообще не годится для описания системы языка. Во-вторых, Марр поставил речь в ряд с материальным производством, доказав, что как есть прогресс человечества в создании изделий, так он есть и в создании языка. Наконец, и самое главное, Марр при всем своем авангардизме доказывал, что ничего не пропадает, что жесты живут новой жизнью в высказываниях, что рука остается в женщине, что, следовательно, высказывания (не говорим «слова», по уже названной выше причине) могут нести в себе целые мифы, сюжеты, образы, которые и живы благодаря речевому употреблению больше, чем благодаря индивидуальным впечатлениям. Только когда люди слишком полюбили свою впечатлительность, миф превратился в необязательную сказку.
Последнее достижение Марра восприняла сотрудница его института Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955), создавшая целую программу изучения художественной литературы как такой эстетизации изначальных мифологических сюжетов. Например, трагедия возникает из жертвоприношения, а комедия – из праздника урожая, поэтому в трагедии полный тупик героя и появление богов, а в комедии – избыточный смех. Но Фрейденберг идет дальше: для нее важно не просто связать литературный жанр с древним ритуалом, но понять и сам ритуал как проявление определенной стадии развития языка. Тогда жертвоприношение оказывается «поеданием», а праздник урожая – «возвращением» богов, утопией, возвращением золотого века. Поедание жертвы, рост зерна как его смерть и воскресение и другие начальные акты опыта потом были развернуты и в ритуал, и в миф, и в литературную форму, и в литературное содержание. Поэтому после трудов Фрейденберг нельзя говорить о том, что «литература произошла из мифа» или «искусство произошло из ритуала», скорее, все они – разнонаправленные ветви эволюции, произошедшие из единого первоначального опыта. И метод Фрейденберг позволяет ответить на вопросы, которые мучили историков литературы, например, почему в античной комедии есть черты утопии или почему Гесиод сочиняет и поэму по ведению хозяйства, и поэму о происхождении богов – да потому что хозяйство и есть единственное место, где боги не только присутствуют, но и сохраняют память о своем присутствии.
Фрейденберг была кузиной Б.Л. Пастернака, многолетней его собеседницей, и эта дружба родных людей духовно обогащала обоих. Конечно, творческий подход Пастернака, который видел за готовыми вещами действие искусства, так что оно представало не оформлением готовых смыслов, а энергией порождения в том числе природных вещей и состояний, был очень важен для Фрейденберг. Но и для Пастернака важно было научиться мыслить историю не как череду обстоятельств, а как постоянное возвращение человека к созиданию собственной формы, в конце концов разрешающееся формой Воскресения. И нам как раз сейчас время вернуться к истолкованию художественного произведения в семиотике.
В отечественной семиотике сложилось три основных подхода, объясняющих, как именно из опыта возникает художественное произведение. Все три исходят из того, что содержание художественного произведения не сводимо к предшествующему ему опыту, как опыту познания окружающей действительности, так и внутреннему опыту, вместе с тем мы не можем назвать какой-либо Другой источник этого содержания, кроме определенным образом переработанного опыта. Как сказал О.Э. Мандельштам: «Он опыт из лепета лепит. И лепет из опыта пьет». Значит, встает вопрос, как при сочинении художественного произведения происходит такой прыжок, превращающий итоги опыта в совершенно незнакомый, прежде не бывший смысл.
Первый подход представлен, например, искусствоведением Б.А. Успенского и восходит к наследию русского формализма. Согласно Успенскому и другим, творческое действие деформирует произведение. Слово «деформация» может нам не нравиться, напоминая о вмятинах, но на самом деле оно переводится на английский как transformation; и может быть, утвердилось бы и слово «трансформация» (русское: преобразование), если бы оно в наших привычках словоупотребления не означало полного или почти полного отказа от прежней формы, тогда как «деформация» означает, что операции со старой формой можно как-то проследить. Например, вытянутые фигуры готической скульптуры – типичная деформация: не только архитектура, но и скульптура стремится к небу. В те же годы группа нейрофизиологов под руководством Вяч. Вс. Иванова исследовала деформации в изображениях, создаваемых людьми при поражении отдельных участков мозга: там тоже могли оказываться и вытянутые или как-то еще измененные изображения, что позволяло видеть и в культуре прежде всего факт организации мысли, избавляя культуру от натуралистического понимания.
Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский видели в иконе «информационный парадокс» – изображено небольшое число предметов, а при этом передаются целые развернутые сюжеты и суждения. Конечно, можно объяснять такую насыщенность лаконичного изображения аккумулированием традиций, но для этих исследователей важнее было, что символы в иконе срабатывают как в черном ящике особого рода, который не только трансформирует информацию, оставляя в целом то же ее количество, но и приумножает ее, чтобы нам легче было оценить ее качество. Как раз о черном ящике мы сейчас поговорим.
Второй подход разрабатывали А.К. Жолковский и Ю.К. Щеглов в своей «поэтике выразительности». Они исходили из названной кибернетической модели «черного ящика»: устройства, позволяющего нам знать, при каких сигналах на входе какие получаются сигналы на выходе, при том, что механизм преобразования сигналов не может быть реконструирован, либо же просто и не нужно его реконструировать по его сложности, предпочтя описанию алгоритмов описание функционала. Функционал описать всегда проще. Так и получилось с «черным ящиком» поэтики: одни и те же впечатления от внешнего мира у разных поэтов, как бы черных ящиков, давали различные результаты. Например, в мире Мандельштама все вещи обособлены, а в мире Пастернака, наоборот, проникают друг в друга – значит, одно и то же впечатление, например солнечный луч или дождь, дадут совершенно разную образность. У Пастернака «как мазь, густая синева… пачкает нам рукава», а у Мандельштама это будет непроницаемая эмаль, стекло и разве что можно «лететь вослед лучу».
Но у этого подхода вскрылись существенные недостатки. Во-первых, так можно описать мир поэтов модернизма, но не мир Горация или Пушкина, где действуют топосы, общие места, а не общие законы трансформаций. Во-вторых, такие реконструкции ничего не прибавляют к тому, что мы и так знали как особенность поэтики этих авторов. Наконец, в-третьих, эта модель была бы очень эффективной, если бы были прояснены роль автора и читателя. Но мы знаем только один такой опыт: статья О.А. Седаковой об Ахматовой «Шкатулка с Зеркалом», где модель «одно в другом» не просто вычленена, а распространена на концепцию автора и читателя у Ахматовой, их сложного сюжетного отношения и проникновения во внутренний мир друг друга. Но для такого удачного опыта понадобилось, чтобы семиотик сам был поэтом.
Наконец, третий подход создавал Михаил Леонович Гаспаров. Согласно Гаспарову, искусство шифрует данные реального мира, и для правильного понимания произведений искусства достаточно их дешифровки. Само искусство дешифровки сводится к знанию всех редакций произведения: например, в искусстве встречаются случаи «отброшенного ключа» – сокращений, которые не дают сразу понять, каков внутренний сюжет сложно организованного произведения. Если этот ключ найти в черновиках, то мы лучше поймем, что перед нами – рассказ о любовных переживаниях под видом исторического анекдота, или же, наоборот, размышления о прошлом, где любовь только уточняет их аспект. Этот подход от противного сходится с изучением точек зрения, просто в поэзии, по Гаспарову, эта точка зрения везде и нигде.
Б.А. Успенский основывает изучение искусства на понятии «точка зрения». В искусстве может быть несколько точек зрения в одном произведении: точки зрения автора, героя и читателя или идеального наблюдателя расходятся. При этом семиотика не затрагивала вопроса ни об имплицитном читателе, который подразумевается произведением как одна из его целей, ни об эксплицитном читателе, чья позиция и реплики приводятся в самом произведении («Читатель ждет уж рифмы розы»). Важно было другое: показать, как именно ценность приобретают все позиции: например, у Пушкина Онегин сначала человек из круга Пушкина, автор и герой стоят примерно на одной позиции, потом Онегин – предмет изображения Пушкина, а потом он увиден критическим взглядом Татьяны, который подается почти как нормативный взгляд, «Уж не пародия ли он». Все три точки зрения несовместимы, но только они делают Онегина и живым человеком, и живой эпохой. В иконе преобладает точка зрения Бога – здесь Успенский развивает идею «обратной перспективы» Флоренского, но могут быть и точки зрения героев: например, в продолжение принципов римского монументализма в иконе стена изображается колоннадой: можно сказать, что здесь точка зрения всевидящего Бога, которому не помеха никакие стены, но также, памятуя светское происхождение этого стиля, что здесь и точка зрения героев изнутри помещения, когда стены и так само собой разумеются и взгляд падает только на колонны, или извне, когда по колоннаде узнаем важное здание.
Такую сложную организацию точек зрения мы находим и в независимой русской поэзии тех же лет, с центром в Ленинграде, у таких поэтов, как Виктор Кривулин, Елена Шварц и многие другие. Например, у Виктора Кривулина часто в повествовании есть и точка зрения маленького человека, сатирически изображенного, и точка зрения интеллигента, презирающего маленького человека, и наконец, точка зрения, близкая автор-скои, для которой позиция интеллигента суетлива, хотя это не значит, что маленький человек во всем прав. Заметим, что у Кривулина эта матрешка точек зрения очень напоминает строение слова по Флоренскому.
Толкуя русскую историю, Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский вводят представление о том, что фатум русской культуры – в ее бинарности, противостоянии крайностей без наличия средней нейтральной области официальной и приемлемой для всей культуры. Символом такой бинарности они видели отсутствие учения о чистилище в русской вере, признание только крайностей рая и ада. Но здесь сразу возникает вопрос: ведь официальная культура, даже если она приемлема для всех, вовсе не нейтральна – ее нормы подразумевают оппозиции, например, оппозицию приемлемого и неприемлемого.
В конце 1970-х годов Лотман продумывает понятие «семиосфера», которому посвящена статья 1983 г. Семиосфера (термин создан по образцу «биосферы» и «ноосферы» В.А. Вернадского) – это область семиозиса, охватывающая не только знаки и их отношения, но и целые знаковые миры, включая такие не поддающиеся формализации, как «жизнь» и «история». Эта идея была предвосхищена в ряде статей второй половины 1970-х, например, о театральном поведении, где говорилось, что театр стал моделью поведения только тогда, когда распалось само моделирование театра живописью, когда театр перестал пониматься как мир выразительных жестов, а стал восприниматься исключительно как место условностей, которые как-то срабатывают сами по себе. Такая трактовка перехода от классицизма к романтизму интересна как тем, что отказывается от локализации этого перехода, обозначения поворотных событий в художественной или идейной жизни, так и тем, что жизнь оказывается таким же предметом семиозиса, как и любая система условностей, например, система костюма, этикета или карточной игры, – чем Лотман так много занимался.
В идее семиосферы главным стремлением было опрокинуть лингвистические рамки семиотического анализа: Лотман, ради эффектности речевого жеста, одним махом отвергает и Пирса, и Соссюра, обвиняя их в сведении семиозиса к действию простейших явлений. Язык как лингвистическая реальность построен на принципе обмена, обмена информацией, тогда как культурная коммуникация, настаивает Лотман, всегда неоднородна и потому всегда хочет вытеснить механизм хоть какой-то органикой. В конце концов, образом семиосферы в этой статье оказывается палиндром (или палиндромон, как предпочитал писать М.Л. Гаспаров, исходя из правил греческой грамматики), текст, который побуквенно можно читать одинаково слева направо и справа налево, иначе говоря, текст с определенностью границ (ясно, где первая и последняя буква), но при том производящий смысл всегда как переживаемый, а не излагаемый сюжет. Эти переживания в последней книге Лотмана «Культура и взрыв» обернутся «взрывом», резкой сменой всего состояния системы.
Тартуско-московская семиотическая школа в чем-то вела себя как конфессия, часто отвергая тех, кто занимался вполне продуктивными семиотическими исследованиями, но исходя из других предпосылок, чем Лотман. Например, театральная семиотика М.Я. Полякова была отвергнута в Тарту, и поэтому театроведение не получило своего «тартуского» варианта. Равно как и ряд культурологов, например, В.П. Руднев и М.Н. Эпштейн, тяготели к тартускому структурализму, но рассматривались как совершенно неортодоксальные его представители.
Но эта ортодоксальность тартуской семиотики была важна не только для того, чтобы соблюдать чистоту эксперимента, – то самое порождение новых смыслов из четко продуманных знаковых систем, – но и для того, чтобы сама жизнь наконец стала жизнью. О.А. Седакова вспоминает:
«Впервые я оказалась в ней [среде структуралистов] в феврале 1974 года в Тарту, сразу по окончании Университета, на конференции, с правоверно структуралистским докладом «О структуре обряда». Среди рабочей недели, в день рождения Пастернака и день гибели Пушкина был устроен вечер у камина. Лотман очаровательно рассказывал об истории карточных игр (в связи с «Пиковой Дамой»), пили вино. И вдруг Н.И. Толстой, мой университетский учитель, сказал мне: «Я посоветовал Ю.М. попросить Вас прочесть стихи (Толстой один из всех там знал об их существовании). Вы не отказывайтесь». Это и был мой дебют. Наверное, никогда после мне не было так страшно читать вслух. Мои кумиры, мои учителя, умнейшие люди России, перед ними я должна была это делать! Вообразите».
В этом описании замечательно, как семиотики благословляют новую поэтику: соблюдаются все правила социального ритуала дискуссии и совета, совета богов, и это приводит к появлению совершенно нового небывалого явления искусства.
Критики у семиотики появились довольно рано. Некоторые из них, как В.В. Кожинов и П.В. Палиевский, понимали задачу литературоведения и литературной критики как обоснование проекта национальной литературы, они упрекали семиотику в том, что этот метод больше подходит к стандартизированным произведениям массовой литературы, чем к вершинным достижениям литературы, которые, по их мнению, могут изучаться только на основании глубинного проникновения, т. е. особой ритуализованной практики их восприятия, и при этом терминология их описания никогда не будет устойчивой, именно потому, что она должна передать груз великих впечатлений, что идет вразрез со стремлением семиотики быть одной из точных наук, hard sciences, как сейчас говорят.
Другие критики, как эмигрантский поэт и искусствовед В.В. Вейдле, были недовольны тем, что сходные структуры и принципы смыслопорождения оказываются у совсем разных произведений, подразумевающих и разные эффекты, и разные процедуры их прочтения. Для Вейдле искусство было прежде всего уникальной процедурой, чем-то вроде посвящения, или, если угодно, приключения, и ему не нравилось, что при семиотическом исследовании остается только какой-то один механизм смыслопорождения на всю поэзию. Структурно-семиотическому подходу он противопоставил свою «эмбриологию поэзии»: исследование того, как смысл в искусстве возникает как необходимый по внутренним причинам, а не по структурным.
Еще одним центром критики стала школа А.И. Зайцева, ленинградского антиковеда, верного идеалам старой немецкой науки об античности. Для Зайцева главная заслуга античной культуры – в создании рациональных правил «агона», азартного спора, и тем самым преодолении мифологических санкций речи: теперь речь может говорить каждый, кто способен спорить и доказывать свою позицию. Поэтому в семиотике, на равных исследующей семантику мифологических структур и семантику, как он считал, более цивилизованных структур литературы и философии, он усмотрел отказ от рациональной критики и поэтизацию первобытного состояния умов. Ученики профессора Зайцева издавали машинописный журнал «Метродор», по эстетическим установкам близкий концептуализму и соц-арту, но в научной части представлявший собой резкую критику всех экспериментальных подходов в гуманитарных науках. Так, семиотику бранили в «Метродоре» за громоздкий аппарат исследования, поспешные типологизации, скудость специфичных наблюдений над уникальными произведениями, выведение форм искусства из форм мышления (сами метродоровцы отрицали наличие особого мышления до победы античного рационализма, считая, что оно может быть описано только отрицательно – как господство суеверий и фантазий при естественной предрасположенности человека как биологического вида к рациональным операциям с самого начала возникновения), а также слабые текстологические достижения.
Борис Гройс, будущий известный в мире искусствовед и эстетик, а вначале религиозный философ, также выступил в самиздате с критикой тартуской семиотики, под псевдонимом «Игорь Суицидов». Эта критика была, пожалуй, наиболее радикальна: Гройс уже порицал тартусцев и москвичей за то, что они всегда пытаются создать универсальную модель культуры, но создают всегда очень частные модели, нейрофизиологические или семантические, не объясняющие, как именно культура заявляет себя в качестве культуры.
Наконец, отдельный вопрос – отношение семиотики и крупнейшего русского гуманитария XX века Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975). В Тарту Бахтина всегда очень чтили, но его теория «речевых жанров» не очень вписывается в семиотику, так как подразумевает, что речь по своему усмотрению подключает к себе знаки и может развертываться и не в мире знаков, но в мире этических решений и этического самоопределения. Бахтин, за что его так и оценили на Западе, предпринял метакритику культуры, включая и ее знаковую сторону, и в этом смысле оказался в чем-то впереди среднего тартуского уровня, как и Аверинцев с его тончайшим герменевтическим методом. Но об этом мы тоже как-нибудь поговорим.
Лекция 3 От нуля до текста
Ю.М. Лотман, как и Вяч. Вс. Иванов, и Другие представители тартуско-московской семиотики, настаивали на двуязычии или даже многоязычии системы как необходимой предпосылки семиозиса. Лотман даже приводил анекдот о том, как иностранец был опознан в городе по тому, что слишком хорошо говорил на местном языке: решив быть одноязычным, слиться с жителями города, он оказался многоязычным, причем его «иностранность» оказалась для него языком притворства, а для окружающих – языком непритворного поведения.
Это противоречит первоначальному догмату тартуско-московской семиотики о естественном языке (причем обработанном наукой лингвистикой) как метаязыке, который позволяет непротиворечиво описывать Другие, искусственные языки, например, языки программирования или языки разных искусств, языки быта, религии или философии, а сам не может быть описан этими искусственными языками. Впрочем, идея «вторичной моделирующей системы» уже подразумевала, что описывать можно либо функционирование этих систем, либо процесс моделирования в них, но не то и другое вместе, а значит, невольно придется признать это производство поведения, а не только производство смыслов. Попутно замечу, что в жизни, по множеству свидетельств, от участников семиотического круга требовалось особое поведение, прежде всего, включающее способность к ведению длительных дискуссий, к доверительному принятию правил и рефлексии над этими правилами.
Близкие наблюдения высказал еще в 1968 г. Умберто Эко в книге «Отсутствующая структура», а потом – в своей литературной критике вроде «Шести прогулок в литературных лесах» (1994). Он обратил внимание на несколько вещей, которые семиотики поначалу не замечали. Во-первых, очень многие знаки указывают не только на денотат и референт, но и на сами условия их восприятия: скажем, иконические знаки требуют иного чувства и иной вдумчивости размышлений, чем индексы или символы. Далее, способность знака указывать на предмет семиотика прежде мыслила как само собой разумеющуюся, но при этом не уточнялось, идет ли речь о «видимом» в объекте или «известном»? Вспомним пример из первой лекции о мужской и женской обуви: нужно знать, какую обувь какой пол носит, чтобы считать этот знак, но для этого нужен другой язык считывания. Как раз отсутствие знаний, невежество как причина неправильного считывания знаков стало предметом всех романов Умберто Эко: в «Имени Розы» неясна инстанция, которая устанавливает правила считывания знаний как вида знаков, в романах от «Маятника Фуко» до «Пражского кладбища» невежественная конспирология возникает как из-за отсутствия некоторых кодов и языков считывания знаний, языков, приносящих нам язык, так и из-за наличия разного рода паразитических языков, вроде бытовой или публицистической речи. Различие между Лотманом и Эко лишь в том, что Лотман верил в возможность непритворного поведения, тогда как в романах Эко все ведут себя притворно, просто потому что отождествляют свои речевые установки с теми знаниями, которые только еще предстоит извлечь из действительности – это образует их характеры, но блокирует семиозис истины.
Наконец, Эко оспаривает простую модель кода, построенную по образцу кибернетических операций на ранних компьютерах или системы дорожных знаков, на что обычно и ссылались семиотики. Ведь внутри каждого кода тоже есть код: так, если мы считаем погоны и петлицы кодом воинских званий, то, например, уже внутри этого кода есть ветеранский мундир и мундир действующей армии. Поэтому, даже если мы отличаем генеральский мундир как действительный символ военной власти и генеральский мундир как часть театральной постановки, нам нужно проделать не только операцию декодировки, но и ту операцию «анализа и синтеза» кода, которая позволяет узнать код внутри кода. Ранний Лотман просто исходил из того, что код декодируется на фоне каких-то совершенно далеких от него ситуаций: например, костюм в бане радикально неуместен, а костюм на светском рауте столь же радикально уместен. Но влияние западной семиотики Ролана Барта и Умберто Эко потребовало ввести понятие «текст в тексте», имея в виду механизм как раз анализа и синтеза, контроля над собственными эмоциями и когнитивными привычками, сопровождающего декодировку. Этим занимался в тартуско-московской школе, например, математик Юрий Иосифович Левин (1935–2010), впервые в СССР занявшийся такими авторами, как Борхес и Набоков, и писавший доклады и статьи, каким-то чудом проходившие советскую цензуру (некоторые доклады так и остались частью квартирных семинаров). Например, он изучал как универсумы (метаязыки, ложно претендующие на описание всей окружающей действительности) советскую матерную брань и советские лозунги и показал, что их декодировка включает в себя анализ и синтез, бытовой и географический: понять мат можно только исходя из советской структуры власти, а лозунги – из советского зонирования городов при размещении официальных и промышленных сооружений. Такая дистанция по отношению к привычному открыла перспективы и взаимодействия научных языков, как мы увидим сейчас, также управляемые резкими сближениями явлений и тут же резкой критикой самой мысли об универсальности.
Так, пример взаимодействия научных метаязыков в тартуско-московской школе – вышедшие посмертно в 2012 г. книги В.Н. Топорова «Пиндар и Ригведа» и М.Л. Гаспарова «Двойной венец» с переводами эпоса и драмы латинского Средневековья. В.Н. Топоров с большим удовольствием цитирует предисловие Гаспарова к Пиндару, а Гаспаров явно учитывает подход Топорова, умение исследовать, как смысл приходит к своему воплощению, сначала оспаривая собственное многоязычие, а потом и доверяя ему. Топоров хвалит Гаспарова за то, что в своем переводе он добавил слово «мера» там, где в оригинале оно отсутствует: тем самым, раскрыв поэтику Пиндара как поэтику ощутимой меры, торжественной выдержки, наполненной мифологической образностью, и одновременно спортивного состязания, где отмерена дистанция. Но сразу зададим вопрос: ведь идея меры может содержаться не только в общей поэтике текста, но и в предлогах. Скажем, русское «по мере развития» показывает тяготение меры скорее к предлогу, а «пока» в значении предлога можно понять, только имея в уме идею меры. Топоров это чувствует, когда, например, говорит не «однокоренные» слова, а «подобные», тем самым переводя вопрос от лингвистического анализа к умозрительной идее подобия. Но далее он просто пишет, что во времена Пиндара мир постоянно менялся и поэтому нужна была «некая мера» – в этом «некая» вся соль замечания: не просто мятущееся сознание находит себе действительное или мнимое твердое основание, но неопределенность мира, где поэту Пиндару еще нужно изобрести терминологию для конных состязаний, избегая омонимии, но вписывая триумфальность не только в приход к финишу, но и в соблюдении меры на всех этапах состязания. Напомню, что в античных состязаниях не было понятия рекорда, а было представление, что на данных состязаниях данный избранник богов пришел к финишу первым. Поэту трудно воспевать просто данность, но он может воспеть способность избранника богов возвыситься не только над соперниками, но и над самим путем – тем самым невольно желая превратить путь и меру в самостоятельный предмет, в самостоятельное «поведение», как мы говорили. Интересно, что такое понимание меры и самостоятельности не раз было предвосхищено антикизирующим русским символизмом: например, Федор Сологуб считал, что как древние греки на основе мифов создавали трагедии, так и современные писатели могут создавать повести на основе романов Ф.М. Достоевского, тем самым превращая состоявшееся языковое выражение в меру жизненности и жизнетворчества художественных форм (что потом спародировано в комических судьбах героев «Козлиной песни» К. Вагинова). Или в наши дни, например, исполнение симфонической музыки в виде «флешмобов» явно больше воздействует на публику и культуру вообще, чем исполнение в обжитом симфоническом зале, каким бы прекрасным ни было выступление в последнем случае.
В отличие от современного сознания, для которого мера – лишь условие, которое надо выполнить и забыть о нем, для античного сознания – это основание искусства преодоления опасностей, это сама субстанция искусства. Поэтому Пиндар, замечает Топоров, всякий раз упоминает меру, где идет речь о множестве дел; иначе говоря, об умении искусства, в том числе, искусства жизни, порождать множество вещей. Но ту же меру привнес и Гаспаров в свои переводы: например, он перевел слова оригинала «Берите и ешьте как пожелаете» как «В самую меру готов обед». Но Гаспарову важно передать классическое понимание желания не как импульса, ничтожного в сравнении с желанным предметом (или, наоборот, в европейском либертинаже, дискредитирующего желанный предмет, превращая его в объект манипуляций и насилия, как в случае, скажем маркиза де Сада), но как той начальной меры искусства, которая и позволяет ему состояться, несмотря на все риски повара или участника состязаний. Так получается, что многоязычие оборачивается еще и учением о желании.
Раз мы уже говорили о богах у Пиндара, колесницы которого Топоров и сравнил с колесницами Ригведы, то отступим в сторону того, как в Античности сложился материал для этого семиотического исследования многоязычия. Уже у Гомера есть указания на то, что язык богов отличается от языка людей прежде всего набором названий: боги называют Ксанфом ту реку, которую люди зовут Скамандром. Имя Ксанф означает «рыжий, желтый», и получается, что расхождение между языком богов и языком людей не столько в наборе слов, сколько в способе их употребления: боги говорят о реке как о приятеле, знакомом, которому можно дать прозвище, тогда как люди утверждают просто «извилистость» реки, на которую указывает слово Скамандр. Не только слова людей и богов, но и меры людей и богов различаются. Здесь уже можно увидеть зачаток мысли Платона и Аристотеля о способности дружить как божественном качестве свободного человека. Интересно, что оратор римского времени, Дион Златоуст, хвалит в «Олимпийской речи» Гомера как «поэта слов», а не только поэта стихов, который мог брать даже варварские слова, если они казались ему «сладкими и меткими», – тем самым двуязычие отождествляется с божественной привилегией поэта, понятой уже не просто как создание форм (для Диона эту привилегию присвоил себе ритор), но как создание того, что существует независимо от них.
Такая ситуация присвоения привилегий несколько раз повторялась в культуре, скажем, если в ранней Византии армейские команды и некоторые названия должностей оставались латинскими, то испанский гуманист Х.-Л. Вивес говорил об уродстве латинизмов в греческом языке: хотя казалось бы, какое ему дело до греков и их языка, если он писал только по-латыни. Но ему было важно, что греческий язык столь же техничен, сколь и латинский, столько же несет на себе следов божественной привилегии искусства; и если он менее востребован, то лишь в силу исторических обстоятельств, а не его собственного содержания. Можно сравнить это с многочисленными перекодировками Византии на Западе начиная от времени символизма до наших дней: отождествление византизма то с претенциозной изысканностью, то с растянувшимся упадком, то со сказочным Востоком, то с не очень понятным соседом – тем самым Запад сохранял свою привилегию на поэтическое изобретение «исторических обстоятельств».
История нашей культуры знает и взаимопроникновение языков, и их принципиальную изоляцию друг от друга. Например, в раннем христианстве для обозначения любви утвердилось греческое агапе, означавшее первоначально восторг, но по созвучию с еврейским и сирийским словом для любви приобретшее новое значение. С другой стороны, суеверное чтение Библии не давало произнести хулы, даже если она принадлежит героям, поэтому жена Иова советует: «Благослови Бога и умри» вместо «похули» – подстановка слова должна была исключить власть языка над тем, кто повторяет эту формулу. Но и взаимное проникновение, и изоляция исходят из того, что языковая способность – продолжение природы, и дав этой природе вполне проявиться в соблюдении всех правил коммуникации, мы тогда и только тогда дадим сработать содержанию. Так на практике и создавалась первая семиотика многоязычия: многоязычие не нарушает правила и не создает их, но позволяет проконтролировать, соблюдены ли все правила, и одновременно разрешает содержанию заявить о своей действительной мере. Только развитие романного жанра позволило героям сообщать свои содержания независимо от того, как структурировано развертывание природы, просто потому что они выговаривают ту природу, которая задумана в них – именно таково понимание романа, предложенное М.М. Бахтиным как своеобразной лавки уцененных жанровых форм, благодаря уценке которых и возможен семиозис отдельного человека как переизобретающего всем на радость свою природу.
Сам Бахтин, вероятно, под гнетом наступающей на него советской «народности», рассматривал становление романа с точки зрения народного юмора, преломившегося в сложно устроенном, но просто считываемом романе Рабле. Но был и другой источник сложения романа, а именно, переводческая культура Европы.
В основу этой культуры легло искусство памяти: умение запоминать большие тексты, опираясь на прямо не связанные с текстом намеки. Мы знаем это искусство по узелкам на память, хотя они совершенно не сходны с упоминаемыми ими событиями, или по календарным зарубкам на необитаемом острове или стене тюрьмы, по которым возможно не только высчитать дату, но и вспомнить сам ход важнейших событий. Античность научилась искусственно создавать эти ситуации запоминания, которые в приведенных выше примерах как будто естественны, ведь естественно оставлять след, но неестественно планировать саму структуру памяти. В Античности объясняли, как можно на прогулке запоминать речь, а после ее воспроизводить, или как можно, глядя в разные концы наполненного публикой зала, вспоминать разные идеи. Афанасий Кирхер, наш уже Друг, считал, что египетская архитектура вся из искусства памяти, что там все было организовано так, чтобы быть учебником – чуть не сказал «учебником для неграмотных», но ведь, по Кирхеру, египтяне были совершенно грамотные, архитектура им передала все знания. Потом эта идея архитектурной книги появилась в романе Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), бестселлере, благодаря которому этот собор и достроили, где как раз история архитектуры описывается как создание таких книг опыта и созерцания, и в том же 1831 г. Н.В. Гоголь написал статью «Об архитектуре нынешнего времени» (вероятно, Гюго и Гоголя равно вдохновил Вальтер Скотт), где потребовал прямо превратить город в такую полку каменных книг:
«Пусть в нем будут видны: и легко выпуклый млечный купол, и религиозный бесконечный шпиц, и восточная митра, и плоская крыша италианская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелиск».
Гоголь, как видите, считает, что причудливые архитектурные формы достаточно идеальны, чтобы вписаться в любой пейзаж, и поэтому позволяют приобрести не только узко практические, но и какие-то идеальные знания, в которых нуждается весь современный мир.
Такое создание модели искусственной памяти имело огромные последствия для европейской культуры: от регулярных парков (моделей одновременно Эдема и ренессансных математически распланированных войн в открытом поле, предвестие «виртуальной реальности») до анатомических театров – все они не могли бы быть созданы простым любопытством или любовью к природе, но зато созданы пространственной реорганизацией запоминания, из которой вытекает применение технологий в пространстве. Главное, что в этой модели возможно было не только дополнение разными новыми событиями, как в узелках на память, но и вычеркивание событий, которые тебе не нужны: скажем, заучивая речь, ты разделил театр на 20 секторов, но для твоей речи тебе нужно только 10 идей, значит, ты должен мысленно вычеркнуть часть секторов. С тех пор искусство литературной работы становится искусством вычеркивания (что предвосхищено слухами о том, что якобы Платон сжег труды Демокрита, а Лютер – Фомы Аквинского).
Эстетический смысл вычеркивания тартуско-московская семиотика очень хорошо разработала в концепции «городского текста» В.Н. Топорова, прежде всего, «петербургского текста» – в Петербурге (когда Топоров писал свои труды, это был еще Ленинград) любое здание и даже любая деталь значима, потому что попала в литературу, но именно связность литературного повествования делает мир достижений и утрат Петербурга таким эмоционально значимым. Есть даже концепции, в которых такое «вычеркивание» доходит до того, что остается один автор с одним воспоминанием: Топоров к этому подходит в работах о малоизвестных поэтах и писателях, а очень хороший пример я недавно встретил такой – Светлана Александровна Макуренкова, моя добрая знакомая, написала о «Золотом Петушке» Пушкина, что на самом деле здесь пушкинская тема конфликта Поэта и Царя – это не конфликт Звездочета и Царя, как обычно думают, но Петушка и Царя, и золотой нужно понимать метафорически, исходя из рисунков Пушкина, где от петушка никакого сияния не идет – как лучший. Тогда Петушок является настоящим «памятником нерукотворным» и знаком, который свое значение реализует не только как полноценное напоминание, но и как полноценную поэзию, которой не выдерживает прозаическая власть. До Макуренковой о статуях у Пушкина, в частности, Петушке, писал Р.О. Якобсон, но для него были скорее важны способы обхода Пушкиным цензуры и способ запустить этих механических кукол назло ей. Но мы видим в культуре, что субверсивная аффирмация, превращение обзывания в самоименование, много раз осуществлялась в контексте более широком, чем деятельность цензуры: христиане, галлы, гёзы, импрессионисты – все это оскорбительные называния, ставшие самоназванием. Тут уже перевод точно совпадал с самореализацей.
Были в истории европейской культуры целые проекты, в которых любой перевод должен был стать самореализацией науки. Таковы переводы на латынь греческой философии, которые осуществил в кваттрочентистской Флоренции Марсилио Фичино, ученый священник, умеренный маг, любивший платонизм за умение созерцать не только причины, но и общее движение всех причин к какой-то цели, созерцать, как сказал русский поэт, «тяжелый некий шар, на нежном волоске висящий», вроде Звезды смерти в «Звездных войнах». Поэтому в своей переводческой программе он не различал то, что мы бы назвали оригинальными произведениями, от того, что мы бы назвали вариациями, комментариями или дополнительными материалами, тем самым за много веков до Ролана Барта осуществив его завет «От произведения – к тексту». Он переводил «Диалоги» Платона и рядом – трактат византийца Михаила Пселла «О демонах», и тут же «Сивиллины оракулы», в принципе непонятные без комментариев, и Плотина, который понимается как мистик, сам себя таинственно объясняющий. Тут «Сновидения» Синесия Киренского, христианского епископа, ученика убитой чернью Гипатии, и тут же геометрические построения Прокла, первого полноценного неоплатоника-диалектика, и Ямвлиха, первого феноменолога действия. Фактически Фичино создавал догматику той «древнейшей теологии», которая и существовала в древности.
Это желание создать догматику для того, что было уже давно, приводит к пониманию перевода не как средства передачи смыслов, но как средства их исправления, чтобы опыт истории предстал перед нами правильным и правленным. Поэтому вместо «исполнять» переводчик легко пишет «исправлять», «живое существо» оказывается «живым телом», а «входит в совершенный Ум» заменяется на «приходит к совершенному уму», чтобы было инструктивнее, чем в безыскусно-впечатляющем оригинале. Даже знаменитый тезис Плотина «Что есть философия? Самое ценное (почтенное)» переведен как «…Самое выдающееся без всякого сомнения», чтобы уже мы доверились риторическому искусству, которое тоже умеет помочь философии направлять в нужную сторону нашу мысль. До Фичино так действовал Николай Мефонский в средней Византии: желая доказать, что христианский неоплатонизм лучше языческого, хотя вроде бы первый вторичен по отношению к последнему, он обращал внимание на наличие определенных и неопределенных артиклей и делал из этого вывод, что языческие неоплатоники сами не знают, что говорят, тогда как христианские – еще как знают. Только вот в латыни артиклей нет, поэтому Фичино доказывал ту же возможность христианского неоплатонизма просто его сознательным эклектизмом: если он может включить в себя несовместимые учения древних философов, значит, он знает, что с ними нужно делать. Мнимого Дионисия Ареопагита Фичино тоже переводил, в основном ради идеи богоизбранности, подтверждаемой правильно организованными библейскими видениями, так что можно этим оправдать и упорядочение созерцательной философии, – только в широкий оборот его перевод не вошел.
В 1970 году Вяч. Вс. Иванов сделал доклад о значении идей М.М. Бахтина для семиотики, еще при жизни героя доклада: в этом докладе впервые Бахтину были атрибутированы книги, выпущенные под именем его ближайших друзей В.Н. Волошинова и П.Н. Медведева (в начале 1920-х все трое преподавали в одной литературной студии и осуществили тот идеал, о котором мечтали вместе Флоренский и Андрей Белый – писать по итогам бесед друг с другом так, чтобы было не важно, кто написал, а важно, что написано). В этом большом докладе, поместив Бахтина в контекст формализма и авангардного кинематографа, Иванов увидел главную его заслугу в переосмыслении отношений между знаком и высказыванием: высказывание оказывается не просто употреблением знака, а определенным жестом, обращенным к нему, ко всему грузу его жанровой памяти, ради правильной организации не только смысла внутри знака, но и смысловых законов того явного или скрытого диалога, в котором любые смыслы только и могут до конца заявить о себе. Получается, что Бахтин сделал в теории примерно то же, что Фичино в переводе: перекодировал разные стратегии интерпретации текстов или действительности как разные жанры, чтобы потом показать приоритет философского диалога, который всегда здесь и сейчас, над жанровой неопределенностью между текстом и действительностью.
В последующие эпохи, конечно, на перевод уже не возлагается тяжесть всей предшествующей интеллектуальной истории: переводчик сам волен выбирать, как ему обходиться с историей. Например, два великих греческих поэта XX века, Иоргос Сеферис и Одиссеас Элитис, оба нобелиаты, перевели на современный греческий язык написанное на не вполне правильном греческом койне Откровение Иоанна Богослова. При этом если Сеферис руководствовался принципом композиции, то Элитис – принципом, который он сам называл «рекомпозицией», пересборкой из фрагментарно воспринимаемого того, что складывается в связное повествование. Сеферис связывает вещь и действие, а Элитис – действие и другое действие. Например, «стоящих лицом к престолу Его» Сеферис перевел просто «пред престолом Его», а Элитис – «охраняющих престол Его»; или «кто блюдет до конца дела Мои» Сеферис – «кто пребывает посвящен в дела Мои», Элитис – «кто верен и посвящен в дела Мои». Сеферису важно поскорее обратить действие к предмету, чтобы оно стало прямым и непосредственным к нему отношением, – а Элитис не хочет, чтобы действию было так неуютно, и одно действие оказывается родным домом для другого действия: бытие – для охранения, верность – для посвященности, они добрососедствуют, а предмет просто любуется этим добрососедством.
Но в случае перевода мы имеем дело пока что с двуязычием, даже если при этом наравне с привычным нам языком переводимого или переведенного текста возникает язык добрососедства или какой-то еще. Город, согласно Лотману, треязычен: у него есть имя и связанные с ним мифы и образы; у него есть пространство; у него есть время. Обратимся умом к Петербургу. Его имя «Петербург», «Петрополь», «Петроград», «Северная Венеция» и т. д. (все первые три имени есть в «Медном Всаднике» Пушкина, а четвертое подразумевается его сюжетом). Это язык, на котором Россия объясняется с Западом и с собой. У него есть пространство – край, приморье, крайность, заброшенность и причудливость: на этом языке уже объясняется с собой и другими русская культура с ее порой «крайностями» и необычными достижениями. Как сказала Елена Шварц о родном городе: «Простудный, чудный, нудный, судный, Как алхимический сосуд». Наконец, время – это время прибытия кораблей, время строительства, время наводнения – на этом языке уже объясняется русская история, в которой немало разрушений и созиданий, непредсказуемых событий и прекрасных примеров сотрудничества. Как только история проникает в культуру или культура в политику, начинается такой перевод с языка на язык: например, «приморский» начинает вообще значить «торжественный», а «пышный» – «привлекательный», а не только поражающий воображение.
Исходя из этого, можно истолковать «Медный Всадник» не как историю конфликта между частным лицом и авторитарным государством, а сложнее. Евгений, как и все маленькие люди, люди своего времени, хочет возвышаться над стихиями, быть малым Наполеоном, пусть даже формулирует это в мещанских словах, а царю хочется отдохнуть от штормов и бурь большой политики. Но если можно договориться о новом распределении полномочий между властью и людьми в центре, то на краю – нет. Там должен был бы быть поэт как третий член треугольника, но таким поэтом может быть либо Петр I, как преобразователь, либо сам Пушкин. Но Петр I преследует как призрак маленького человека из-за того, что вместо равновесного треугольника у нас неустойчивое противостояние, тогда как Пушкин пытается быть летописцем и тем самым дать совет царю, но показывает невольно, что этот совет не может быть дан: город царей для него привлекателен, но для всех остальных он только пышен даже в самом разрушительном наводнении, они заворожены разгулом стихии, как царь, так и Евгений, как были заворожены его красотой. Так перевод трех языков не складывается, и край пространства срывается в крайность катастрофического времени.
Треязычие Петербурга очень напоминает ряд учений литературоведов и лингвистов, например, учение только недавно умершего Жерара Женетта, ученика и союзника Ролана Барта, о трех «фокализациях», иначе говоря, фокусировках в организации повествования. Нулевая или всезнающая фокализация происходит от первого лица, но такого, которое обладает всезнанием (тогда как эмпирическое первое лицо, как мы выясняли, даже не может сказать многие фразы, по выводам Бенвениста). По сути, всезнание такого повествователя происходит из того, что он всякий раз себя представляет в качестве повествователя, предъявляет документ со своим именем, из которого следует, что сейчас он может повествовать так, а не иначе. Вторая, внутренняя фокализация, речь в произведении от лица героя, то, что мы в нашей традиции называем «сказом» (хотя сказ включает в себя и внешнюю фокализацию, западная наука только начала осваивать этот термин, например в «Антологии сказа» Даниэлы Джонс), соответствует второму лицу и пространственному опыту: герой знает, как выстроено его пространство, и говорит только тогда, когда спотыкается о собственное пространство существования. Наконец, третья, внешняя фокализация, соответствует третьему лицу и опыту времени, когда каждое событие равно непредсказуемо, и только равномерность объективирующего повествования может с этой непредсказуемостью хоть как-то разобраться.
Получается, что в «Медном Всаднике» все построено на смещении: слово поэта тяготеет к внутренней фокализации, к стилизации высказывания, а слово главного героя – к внешней фокализации, к саморазоблачительным характеристикам себя и саморазо-блачительному поведению. В пушкинском «Домике в Коломне» смещение идет в обратную сторону: рассказывание анекдота (или как сказал бы Женетт, «повествовательной метафоры») склоняется к обсуждению разных возможностей стиха по реорганизации пространственного опыта, а любые реплики оказываются лишь репликами всезнающего и при этом пародийно данного автора, добровольно надевающего и добровольно снимающего с себя маску. Также мы не будем сводить пожелание домику сгореть, вслед за Якобсоном, к прорыву подсознания, но лучше вслед за Женеттом будем считать его таким же переходом от судьбы героев к личному высказыванию, как бывает переход от непредсказуемого развития событий в историческом бытии к закономерному их изложению как закономерных в историческом повествовании.
Незаметно для себя мы уже пришли к семиотической поэтике, дисциплине, которая для наших краев еще только разрабатывается. Нужно заметить, что слово «Поэтика», от серии книг формалистов до «Поэтики ранневизантийской литературы» С.С. Аверинцева, употреблялось расширительно: не просто правила построения художественного текста, а правила функционирования литературы, реконструированные таким же образом, как реконструируются правила языковой деятельности в лингвистике – как устройство языка позволяет в нужный момент производить смысл. Тогда поэтика вбирает в себя грамматику и риторику так же, как лингвистика вбирает в себя изучение исторической семантики (как меняются значения) и функциональной прагматики (как производятся эффекты). Над этим смеялись в машинописном журнале «Метродор»: мол, поэтика – синоним слова «всё», «Всё о византийской литературе». Но такой недоброжелательный отзыв уловил главное: действительно, изучая как срабатывает что-то, то или это, нужно узнать, и как срабатывает все.
«Поэтика ранневизантийской литературы» (1977) – книга вроде бы в ряду других книг о семиотической насыщенности предметов средневековой культуры вообще очень многим поразительная для нашей темы, но прежде всего тем, что все три языка города оказываются там сбывшимися. Переименование Византии в Новый Рим и Константинополь – это первый прагматический жест соответственно Константина и его продолжателей и почитателей. Пространство Константинополя – это пространство метафор, катахрез, метонимий земного и небесного, загадок и разгадок, головокружительных сравнений: истинным или ложным оказывается не текст, а само бытие, но бытие вещей надо считывать как текст. Наконец, время Византии построено как время сложных церковных поэтических произведений, с остроумными контрастами, возвращениями, магистральными темами – и речь вовсе не о выстраивании социального опыта по литературным образцам, как в эпоху романа, а наоборот, только литература с ее смелостью (дерзновением, умением выступать публично) может хоть как-то дотянуться до этой причудливости времени; и это обязывает нас, как исследователей культуры, к трезвости.
Хотя в чем-то мы можем поспорить с этой великой книгой. Например, в одном месте Аверинцев пишет, что «цвет нетления» как эпитет Богоматери – это «церемониальный жест», вроде геральдического цветка, а не характеристика. Но смысл за этим жестом стоит очень большой – как еще передать «естественность» нетления, кроме как назвать «цветком»? Получается, что неуместное для нас слово «цветок» для нетления – единственный способ принять догмат об обожении плоти как часть не только жизненного опыта Богоматери, но и как часть нашего опыта, требующего признать, что если все отвлеченные явления имеют свою чувственную сторону, так как знают собственный расцвет, то и нетление имеет чувственность как приятный всем чувствам «цветок». Тогда нужно признать, что если это церемония, то увлекаемая догматом, который как бы обо всем знает. Но это очень мелкое замечание в сравнении с большой конструкцией книги.
При этом результаты семиотической поэтики могут быть потрясающими, например, проанализируем самое известное стихотворение Блока, которое про фонарь и аптеку. Чаще всего в нем видят просто заявление безнадежности: «Исхода нет». Но ясно, что «Живи еще хоть четверть века» – обращение живого к живому, обращение к себе как к подкупающему своей жизненностью, но тем более разочаровывающему, – тогда как «Умрешь – начнешь опять сначала» – это осуждение смерти исходя из возможности смерти, что смерть отдельного человека может быть сколь угодно значима и для этого одного человека, и для вселенной, но она незначима для мировой рутины. Тогда сразу становится понятно и что пейзаж ночной улицы в первой и второй строфе различны: в первом случае перед нами городской пейзаж, в котором предметы равномерно освещены и равномерно светят, по сути, пейзаж равномерного связного повествования, тогда как во втором – рваный пейзаж, увиденный не то возможным самоубийцей, бросающимся в канал, не то алкоголиком, который чувствует сначала, что темно и холодно, и видит дверь ближайшей аптеки, а потом уже соображает, что улица. Разные варианты помутненного сознания могут тут быть, важно, что это не сознание, которое упорядочивает себя рассказыванием историй. Таким образом, стихотворение должно читаться, исходя из фокусировок, примерно так: «Совесть меня тревожит, когда кажется, что все благополучно, но отчаяние приведет лишь к тому, что ты будешь нетрезво и позорно видеть мир». При этом личные высказывания, к лицу же обращенные, смешивают всезнание автора и всемогущество пространства, показывая, что всемогущество автора оборачивается всезнанием пространства. Тогда как ощущение времени растворяется в сказе, который сначала звучит как история, авторитетно и властно рассказанная как связная, а потом оказывается полным устыжением того, кто пытается продолжать сказ.
Можно разобрать это стихотворение и по-другому, исходя из того, что лирика к каждому известному слову или состоянию стремится сообщить множество новых слов и состояний, и тогда «ночь… тусклый свет… четверть века», а «повторится… начнешь сначала… рябь» – иначе говоря, иконически получается, что сама ночь готова длиться сколько угодно, пока не потухнет, а повторение начинает повторять само себя до ряби в глазах, и что кроме одной безысходности есть и другая. Равно как «всё» оказывается «хоть», «так» и «нет», годным или негодным, а «и» во второй строфе «опять» и «всё, как», со скучным равенством себе каждого нового действия, так что даже невозможно уже догадываться о его негодности, настолько оно потусторонне ужасающее. Конечно, все эти смыслы мы могли угадать без разбора, но только выяснив, кто говорит и какие речевые жанры здесь получаются, мы смогли восстановить настоящий сюжет, через который проходит повествователь, становясь и лирическим героем, и читателем собственной судьбы.
В конце лекции всегда хочется немного оспорить уже сказанное. Вот так мы и сделаем. Например, вспомним, что Петербург – это еще и Питер, как его именуют по-простому, и также это не только северная Венеция и северная Пальмира, но и новая Александрия – имея в виду и представительства всех религий, и традиции учености, и многообразие видов при суровости их нравов, и библиотечный «эллинизм» утонченной эрудиции и небывалых сюжетов. Тогда каков статус таких прозвищ, простоватых или, наоборот, многоученых? А ведь уже упоминавшаяся «Козлиная песнь» Вагинова, весь этот роман построен на том, что Петроград – Ленинград – новая Александрия, со своими Филостратами. Помните, там девушка не понимает стихотворения, почему в статуях «вина очарованье» (то есть чем древнее, тем лучше) и «высокой осени пьянящие плоды» (пьянит обилием идей при попытке подвести итоги античности), а герой-поэт отвечает, что в этих стихах слишком много поднимающихся и исчезающих смыслов. Получается, что читатель заведомо понимает стихи и лучше героя, а не только лучше героини, раз герой только переживает их. Героя метафора (буквально – «перевозка») везет по жизни, а читатель уже знает, как орудовать метафорами и когда их можно отложить в сторону. Ведь читатель властвует над именами и прозвищами, заранее зная, почему как кого прозвали, и поэтому оказывается, что чувственный мир не потревожит его выводы. Оказывается, можно не только считывать знаки, но и закрыть эту прочитанную книгу, – и это будет не столько жест, сколько эмоция. Как раз с семиотики чувств и эмоций начнем следующую лекцию.
Лекция 4 Семиотики во множественном числе
Основатель биосемиотики, Якоб фон Икскюль, в 1889 г. закончил тот самый Дерптский университет, который нам уже хорошо известен как Тартуский, потом работал на биостанции в Неаполе. Он обратил внимание на то, что поведение животных диктуется не только инстинктами и средой, но и некоторыми ожиданиями: например, клещ может ждать многие месяцы, прежде чем попасть на тело животного, при этом он не реагирует ни на какие другие раздражители. Получается, что для нас клещ, млекопитающее и весна – окружающий мир, но для самого клеща – это не окружающий мир, а поле деятельности, на которое он приходит со всем своим бытием и всеми своими инструментами. Получается, что мир не просто по-разному используется нами и клещом, но и значит разное для нас и клеща; что мы не только по-разному видим мир, но и по-разному считываем его готовые смыслы, всякий раз сами будучи наготове. Сходные идеи высказаны, например, в книге Л.С. Берга «Номогенез» (1922), в которой он пытается доказать, что естественный отбор не может быть фактором прогресса, а прогресс, как и регресс, объясняются некоторыми задатками организма, некоторыми смыслами, которые в нем уже есть и которым только надо раскрываться в веществе существования организмов – и тогда эволюция действительно идет. По сути, Берг пытался представить генетическое содержание эволюции одновременно как ее материальное содержание.
Биосемиотика возникает в биологии везде, где речь идет о правилах перевода или переноса информации, начиная с деления клетки и кончая сложными взаимодействиями организмов и форм существования. Например, фитосемиотика исследует взаимодействие растения с бактериями, а зоосемиотика – способность животных не просто подавать сигналы, но и устраивать свою жизнь как систему сигналов и их связи с окружающей действительностью. Недавно в русском переводе вышла книга немецкого теоретика Александра Пшеры «Интернет животных», в которой он предлагает создать такой же массив природной информации, как существующий массив человеческой информации в обычном Интернете, что поможет животным разумнее относиться к своим собственным взаимодействиям. Интернет животных очень напоминает ту самую поэтику городского пространства и времени, о которой мы говорили на прошлой лекции: Пшера исходит из того, что животные могут не замечать особенно время, раз они не знают о своей смертности, но именно поэтому они сделают наше пространство прекрасным, как никогда в этом интернет-семиозисе.
Семиозис времени стал важен в другой семиотике – семиотике кино, наиболее интересным из создателей которой был Бела Балаж (1884–1949), венгерский марксист из круга Брехта и Лукача (и сценарист дебютного «Голубого света» Лени Рифеншталь). Как Лукач считал, что роман – это эпос буржуазной эпохи, эпохи отчуждения рабочего от средств производства, в котором тело и чувства человеку до конца не принадлежат, так и Балаж полагал, что кино – создание Америки, хотя технически оно изобретено во Франции, потому что именно смена планов, на которой построен художественный кинематограф – лучшее выражение американского капитализма с его инженерным продумыванием как пространства, так и способов его освоения. Например, лицо показывают крупным планом: мы видим уже не жизнь самого лица, а жизнь мысли, для которой лицо стало только временным носителем. Или Балаж сравнивает тишину в театре и в кинематографе: в театре мы не можем расслышать тишину, потому что это как реплика среди других реплик, тишина что-то сказала, а звук лопнувшей струны у Чехова сказал еще больше – а вот в кино тишина слышна не как часть действия, но как общее переживание всего зала, общее экранное переживание, которое заставляет иначе посмотреть на весь фильм (это напоминает «формулы пафоса» Аби Варбурга). Может быть, Балажа на его рассуждения об американизме крупного плана вдохновило известное понятие «американский план», поясная съемка героя, отличающаяся и от крупного, и от обычного (во весь рост) плана. Но кажется, никто лучше чем Балаж не объясняет, скажем, американскую культуру супергероев, которые по их смыслу как бы всегда крупным планом для самих себя, и поэтому по определению могут быть носителями и сверхспособностей, и сверхкостюмов, и сверхоружия.
Теория Балажа несовместима с русской теорией кино, прежде всего, с идеей «монтажа аттракционов» С. Эйзенштейна, иначе говоря, с убеждением, что в кадре может быть несколько формул пафоса, задевающих и поражающих зрителя. Поэтому когда Лотману, Вяч. Вс. Иванову или Юрию Цивьяну пришлось создавать киносемиотику, соединяя наследие Балажа с наследием Эйзенштейна и формалистской кинокритики Тынянова и Эйхенбаума, они просто расширили смысл понятия «кадр», истолковав его не в техническом смысле «24 кадра в секунду», одного проецируемого фотоснимка, но как вообще состояния экрана, на котором можно наблюдать предметы и действия, пока они не сменились другими предметами и действиями. Синхрония образов оказалась важнее технической синхронии (Лотман даже сравнил в работе «Семиотика кино и проблемы киноэстетики», 1973, кадры с клеммами житийных икон), что прямо противоречит враждебности формалистов и Эйзенштейна к понятию «образ» и замене его соответственно «приемом» и «аттракционом». Но Эйзенштейн был легко привлечен к целям семиотики из-за близости его концепции медиации (посредничества между разными социальными ролями) к концепции медиации в структурно-семиотической антропологии Клода Леви-Стросса (посредничества между миром живых и миром мертвых) – и Эйзенштейн, и Леви-Стросс говорили, например, о травестии, переодевании, как о необходимой части медиации. Об этом подробно писал Вяч. Вс. Иванов в своей книге «Очерки по истории семиотики в СССР» (1976).
Связь травестии и медиации отметил также Аверинцев в статье об античной эпиграмме, в которой он увидел краткость не эмоционального отношения, а отношения загадки и разгадки. Рассмотрев эпиграммы на Афродиту Книдскую Праксителя, скандализировавшую своей обнаженностью, равно как и на скульптуру Афродиты в доспехах, Аверинцев заметил, что такое раздевание или переодевание не могло быть понято как метафора внутренних душевных движений, вроде романтической «открытости души», но могло объясняться только медиацией, впрочем, в отличие от медиации мифических персонажей, ничем не ограниченной: вслед за Аресом, как мужем, видевшим Афродиту нагой, ее так мог увидеть резец Праксителя, потому что он тоже железо, то есть Арес, а мог и сам Пракситель, потому что чем он хуже Анхиза или кого-то еще из возлюбленных Афродиты (надо было только не забыть всех перечислить, иначе бы именно такая медиация была бы неубедительной, медиация эпиграмматического типа начинается с учета – инвентаризовали резец Праксителя, вот он и может участвовать в медиации).
Интересно, что Лотман, говоря о мимике и жесте в кино как «иконических» знаках, а вовсе не индексах или символах внутренних состояний, руководствовался опять же опытом Эйзенштейна и формалистов, для которых было важно смещение плана, неестественность ракурса съемки, и следовательно, умение представить любое внутреннее душевное движение как говорящее о самом человеке, о том, из чего он сделан. Это прямо противоположно подходу к кинематографу Ролана Барта, который, скажем, в «Мифологиках» описывал лицо Греты Гарбо как почти вегетативное, растительное, только с двумя черными точками глаз, а топосы пеплумов, исторических фильмов про римлян, такие как челка и пот, характеризовал как способ избежать как поверхностной пестроты характера, так и глубины передачи человеческой природы, оставив только приятные публике знаки – хотя пот от жары, римляне на экране потеют якобы от работы мысли и совести, но эта работа мысли никогда не поднимается выше низового понимания работы мысли как усилия. Так в кино, по Барту, повышенная физиологичность создает общий интеллектуальный жаргон, который Барт потом разоблачает, – а у Лотмана интеллектуален подход к иконическому изображаемому, которое раскрывает себя в диалоге.
Такое представление Лотмана о возможности прямо перейти к иконическому знаку поддерживалось лингвистической и математической семиотикой, развивавшейся в СССР. В частности, Ю.А. Шрейдер обратил внимание на то, что в некоторых случаях знак вполне может заменять денотат: например, «кирпич» как дорожный знак останавливает все машины, и в этом смысле поведение машин сводится к смыслу самого знака, а не к смыслу обозначаемого им. Конечно, знак не может во всех случаях так себя повести: например, какой-то водитель въехал под кирпич и теперь ждет штрафа; получается, что в референт этого знака входит система штрафов, тогда как денотат оказывается уже не просто остановкой машины, а устройством дороги. Исходя из этого, Шрейдер ввел важный термин «знаковая ситуация»: способность знака относиться к высказыванию и денотации и референции высказывания. Этот термин «знаковая ситуация» ключевой для математической семиотики, где знак вполне заменяет значение, знак «плюс», скажем, или другой оперант. Способность знака не только иметь значение, но и значить что-то значительное, например, всю инфраструктуру дорожного движения, он назвал «концептом», почерпнув этот термин из средневековой схоластики (Шрейдер был также католическим богословом-неотомистом, начав в жестких цензурных условиях СССР), где концептом называлось не просто понятие о вещи, но способность ума составлять настолько устойчивое представление о ней, что вещь всегда будет к нему подходить. В результате Шрейдер и создал своеобразную семиотику-богословие, в котором впервые связка «значение» и «значительности» обоснована не только из общего корня, но из того, что сами концепты могут быть в конце концов концептуализированы чем-то значительным.
Для дальнейшего понимания особенностей отечественной семиотики вспомним еще один эпизод: исследование семиотики зеркальности. В 1986 г. выходит статья Умберто Эко «Зеркала», и в этом же году в Тарту проходит симпозиум по семиотике зеркала, который должен был заявить и одну из побед в институционализации семиотики: в университете официально стала работать Лаборатория истории и семиотики. Эко в статье обозначил две важные мысли. Во-первых, зеркало не иконический знак, а такой же продукт биологической эволюции, как и восприятие изображения на хрусталике глаза, которое даже не обернутое, как в зеркале, а перевернутое. Ведь всякое содержание зеркала не существует в нем самом, а приписывается нами вопреки нашему опыту: когда мы утверждаем мену правого и левого в зеркале, мы при этом не путаем, какая рука сейчас потянется к зеркалу и на какую надеть часы – происходит лишь вторичная семиотизация несемиотического объекта. В конце концов, и все культурные ассоциации, связанные с зеркалом, как, например, «искренность», «призрачность» или «множественность», могут также быть сочтены вторичной фрустрирующей семиотизацией. Не будем, замечает исследователь, мы считать все листы бумаги, которую я сейчас исписываю, зеркалами друг друга, сама организация линейного повествования (письма) этому воспрепятствует – тут Эко близок Деррида, хотя подробности «грамматологии» в духе Деррида не рассматривает, ему важно, что письмо больше скажет о случившимся, чем любые произошедшие по дороге совпадения. Эко идет вразрез с магистралью континентальной философии XX века, утверждавшей в противовес предшествующей философии приоритет различия над бытием, необходимость отличить себя от себя, чтобы вообще как-либо отнестись к бытию, – вспомним Хайдеггера, Делёза или Лакана, на которого Эко много раз ссылается в статье, но смыкается с ней, когда держится линии Лакана и Деррида.
Если бы Эко ограничился утверждением только этого, то был бы не Эко, а Докинз, для которого религия – такой же сбой эволюции, как для Эко – семиотика зеркальности. Но Эко гораздо проницательнее, и он заявляет, что теория значений С. Крипке как раз имеет в виду зеркальность: если, согласно Крипке, имена не могут быть определены ни через ситуацию, ни через содержание высказывания, то тогда просто одно употребление имени отзеркаливает другое употребление того же имени; причем, как остроумно замечает Эко, такое отзеркаливание должно совершаться нечетное число раз, чтобы привычные нам право и лево оказались на месте, что вряд ли можно обеспечить в реальном функционировании языка. Получается, что значительная часть аналитической философии, по сути, держится на одном допущении, на допущении того, что дупликация употребления позволяет смыслу сохранить свою способность быть таким же привычным, и тем самым наша привычка к языку абсолютизируется. Так что Эко, упрекнув континентальную философию, еще больше упрекает аналитическую в совершенно произвольном допущении.
Тартуский симпозиум, материалы которого были опубликованы двумя годами спустя в выпуске 22 «Трудов по знаковым системам», объявил зеркало «семиотической машиной описания чужой структуры». Зеркало наделяется в культуре волшебными, таинственными или торжественными свойствами не потому, что срабатывает суеверный страх человека перед собственной натуральностью. Нет, здесь, наоборот, зеркало оказывается первым подручным способом схватить Другого, который не дается долго потому, что у него все не так, и эта инаковость только умножается непредсказуемостью обстоятельств, как в страшной сказке. Но зеркало, все переворачивая и искажая своей искаженностью, любой, от формы до запыленности, вдруг ухватывает этого Другого. Как Иосиф Бродский сказал про то, что он еще не умер: «Смрадно дыша и треща суставами, пачкаю зеркало» (имеется в виду старинный способ фиксировать дыхание по запотеванию стекла – тут уточняется, что стекло зеркальное, в которое только и может посмотреться живая душа).
Например, один из авторов, С.А. Золян, разбирает вопрос, что могло появиться в волшебном зеркале как гадательном приборе. Как сказала О. Седакова: «Гадательный прибор повсюду крылья пробует, горит и в зрении, как бабочка, сорит» – имеется в виду, что не только мы гадаем о том, что будет в будущем, но и сама жизнь, отражаясь в ясности удивления перед собой, изумляясь своей непредсказуемости, придает некоторый смысл и непредсказуемости нашей жизни. Вероятно, только картинки, и в фильмах и мультфильмах монтажное наложение позволяет изобразить, как в чудесном зеркале видны иные земли и иные события. Но тут же приводится замечание участвовавшего в симпозиуме киноведа М.Б. Ямпольского (жаль, о его последующих книгах, например, «Ткач и визионер», мы не успеем поговорить в этом курсе, ну на теории искусства поговорим), что в немом кино могли бы в этом зеркале появиться титры. Это разрушило бы иллюзию сказки, так как в сказке герои по большей части неграмотны, грамотность для них такое же сокровище, как золотое яблоко, дар, а не приобретенное свойство – но зато погрузило бы всех нас в общую иллюзию зеркальности, переживания необычности и зыбкости нашего мира. Было бы примерно то же, о чем писала Н.В. Перепелова в своей диссертации о семиотике зеркала:
«Яркий художественный образ Зазеркалья представлен в „Баре в Фоли-Бержер“ Э. Мане. Зеркало „Бара“, не отсылая к обычно предполагаемой за ним стене, становится воплощенной метафорой границы двух миров: царства девушки за стойкой и мира парижского светского общества, или шире – мира одинокой души и мира многоликой толпы, реального и иллюзорного, естественного и искусственного, спокойствия и суеты, прелести и гротеска. Мир ясных линий и четких форм пространства перед зеркалом в отражении превращается в текучий, преходящий, мерцающий и зыбкий».
В характеристике, предложенной Перепеловой, очень интересно, что зеркало уже погрузило в этот эффект, и мы можем дополнить сказанное, что бар уже поименован, что он мог быть узнан по надписи, все его посетители, как парижане, заведомо грамотны. Поэтому такая зыбкость и стала возможна на картине Мане, как и в предполагаемом немом кино, где титры вдруг появились бы на волшебном зеркале. По выводам Перепеловой, после Магритта портрет как «отражение души» больше невозможен, ведь зеркальность имеет у Магритта те же права, что и реальность, и значит, невозможно отразить душу по иным правилам, чем душа отражает себя. Но заметим, что у Магритта исключено и то свойство зеркала, которое признают и Эко, и тартусцы – возможность многократного отзеркаливания, значит, вывод сделан несколько поспешный.
Еще один замечательный эпизод тартуского симпозиума: Ю.И. Левин говорит о зеркале в поэзии Ходасевича, что оно легко превращается из тропа в часть сюжета и наоборот: глядение в зеркало принципиально отождествляется с вглядыванием в себя, чтобы потом утвердить фабульную несовместимость этих двух взглядов: в зеркале оказывается только двойник, стареющий человек, тогда как в душе – только возможность вглядывания в нее. Такое двойничество не как подробность фабулы, но как ее парадокс занимает Левина и в связи с Борхесом, и в связи с Набоковым. Но заметим, что возможность фабульного совмещения двух взглядов была доказана тогдашним и дальнейшим развитием русской поэзии, например, в стихах Елены Шварц: «И зеркало к губам мне поднесут, И в нём я нового увижу постояльца». Местность у Шварц глядится в «заоблачные зеркала», а рипарографическая свалка – в прокаженные зеркала.
Ю.И. Левин трактует строки В. Ходасевича:
Когда в стихах, в отображеньи малом, Мне подлинный мой облик обнажен, — Мне кажется, что я стою, склонен, В вечерний час над водяным зерцалом —таким образом:
«Еще важнее горизонтальность: это зеркало меняет верх на низ, высоту на глубину, как бы нейтрализуя соответствующую оппозицию, совмещая ее полюсы, – что в точности соответствует известной в мистической традиции модели души, именно глубины которой причастны „божескому началу“, – внешним выражением которого выступает отражающийся в воде „венок из звезд“. Использовано и то свойство горизонтального зеркала, что над ним надо склониться, т. е. принять молитвенную позу, чтобы увидеть свое отражение. Мы видим таким образом, что здесь с исключительной полнотой (и редкой эстетической убедительностью) использованы „естественные^ свойства водного зеркала».
Но сразу сделаем несколько критических замечаний. Во-первых, горизонтальность вовсе не является «естественным» свойством зеркала: идеальных горизонталей в природе нет, да и неидеальных тоже, это мы проводим горизонтали, чтобы отличать одно от другого. Во-вторых, созерцание Бога на глубине души не имеет никакого отношения к оппозиции высоты и глубины, так как исходит не из их оппозиции, а из их тождества. По мысли мистика, Бог вездесущ, и поэтому так же властвует высотами неба, как и глубинами души – сближение высоты и глубины исходит не из их геометрического соположения, но из догмата о всемогуществе Божием. Наконец, склоняются над водным зеркалом не «чтобы увидеть свое отражение», но уже видя свое отражение, завороженные этим зрелищем. Поэтому лучше говорить о позиции Ходасевича не как об использовании всех свойств зеркала, а как о разоблачении иллюзорности, причем и иллюзорности зеркального отражения, и иллюзорности собственного отношения к себе, которое всегда только кажущееся.
А сейчас от разговоров о зеркале, которым я во многом обязан своей прекрасной коллеге В.Я. Малкиной, перейду к разговорам о еде, тут я вдохновлялся проектом моей тоже прекрасной коллеги О.А. Джумайло «Текст и вкус». На примере еды мы объясним, что такое этносемиотика. Обычно этот раздел семиотики определяют двумя-тремя словами: исследование тех знаковых систем, которые используются у такого-то народа, а у другого могут не использоваться, причем сам народ не подозревает, что он этими знаками пользуется. Так очень многие разделы семиотики могут быть объяснены в двух словах: скажем, семиотика рекламы вся построена на одном принципе – креолизации, иначе говоря, принципиальном и беспорядочном смешении нескольких языков.
Причем если в рекламе полувековой давности использовались гэги, отмечавшие столкновение этих языков, то современная реклама тем эффективнее, что она вычитает гэги, использует, как говорили формалисты, «минус-прием» гэга. Например, рекламируется недорогой автомобиль, но претендующий на люкосовое качество и репутацию. Сюжет рекламного ролика, построенного на классическом принципе звукового кино ретардации (вы понимаете, почему его не могло быть в немом кино? Там не регулируется скорость прокрутки, а в звуковом он действительно может позволить проникать в события за «зеркало» звукового сопровождения) таков, что автомобиль едет по улице, на которой все фонари заменены хрустальными люстрами богемского бидермайера, а в фастфуде рабочие едят омаров. Сообщение просто: всем нужна роскошь, но так как представленная наглядная картинка фантастична, роскошь как принцип реальности (по Фрейду) или «реальное» (по Лакану) доступна только владельцу автомобиля. Таким образом, происходит креолизация языка роскоши как языка визуальных впечатлений и языка оценки как языка критического рассуждения, так что в самый момент критики, когда мы говорим, что этого не только не может быть, но что это нам навязывается, и что недопустимо не только в плане воображаемого, но и в плане символического (Лакана все вспоминаем), как мы оказываемся пойманы в ловушку рекламы и потребления.
Или в двух словах можно объяснить семиотику моды, как и сделал Ролан Барт в «Системе моды», заявив, что шифтеры в моде работают не между тремя лицами, но между тремя видами знаков по Пирсу (как хорошо нам в конце курса все вспомнить!). Поэтому мода и может так соединить профессионализм дизайнеров с невзыскательностью вкусов публики и при этом создать свои необычные решения, потому что, что для дизайнера символ, то для исполнителя индекс, а для потребителя икона. Качество материала, или ассоциации произведений высокой моды с искусством – так как «описываемый предмет в моде уже актуализован», все развоплощается в иконическое, тогда как тяжесть удержать все эти иконы на единстве индексации берет на себя система моды.
Так вот, этносемиотика и еда. Мы, да, все помним «сырое и вареное» Леви-Стросса, их различение как первый антропологический акт. Но как раз у Леви-Стросса невозможна ситуация, что различающий сырое и вареное не осознает, что он или она делает. А вот этносемиотики скажут, что если один народ при входе в дом снимает шапку, а Другой – ботинки, то это не осознается, а только воспроизводится. Как будто, если вспомним зеркало, это действительно удвоение до бесконечности, причем не считающееся с правым или левым, но только с тем, что что-то похожее повторилось.
Но как раз и в том, будет ли еда жариться или томиться в печи, и в том, снимается ли шапка или ботинки, есть не столько удвоение того, что заранее уже дано, сколько определенный способ прибавления смысла, определенное «письмо». Например, снятие ботинок подразумевает определенную операцию со своим ростом, так что твой рост оказывается ближе к росту хозяина, который без ботинок, и обобщение роста переходит в индекс – указание на то, что рост значим, но и указание на ситуацию гостеприимства. Или снятие шапки имеет в виду другое – готовность равно совершать поклоны или иные жесты, – здесь уже скорее символизация жестов, сведение всех жестов к их удобству, которое символизирует вообще дальнейшее удобство совершать любой жест. Письмо может работать со знаками, индексами и символами, и не всегда границы их ясны, ясно только, что этносемиотика даже бесписьменных народов не может не учитывать того, что эта работа проводится.
Лотман считал, что у бесписьменных народов есть искусство памяти, но естественное, созданное впечатлениями от природы: для них семиотически значима роща или река. Но остановиться на таком пасторальном понимании памяти мы не можем, потому что верить в естественность впечатлений здесь так же неуместно, как верить в естественную «горизонтальность» водной глади.
Также и с едой. Например, жарка – это принципиальная нарезка, от жареного надо будет отрезать куски, а значит, основа еды как деления, выделения доли, а значит, и определенной договоренности между людьми. Иисус мог и умножать, и делить печеный хлеб, а жареную рыбу – только умножать, потому что Благая Весть требует именно умножения доли. А тушение – это размягчение еды и тем самым определенное слияние с едой, испытание ее мягкости. Причем в обоих случаях постижение еды произойдет не сразу, будет медленным и постепенным.
Только вот путь всегда будет от символа (запаха) через индекс (обработку) к иконе (приятности самой еды), и никак иначе – поэтому еда, в отличие от обычаев, подразумевает скорее беседу, которая всегда по накатанному, чем письмо, которое стало бы по-своему распоряжаться видами знаков: за едой точно беседуют, а не пишут письма.
Или еще пример: значение соуса, который может быть и «аристократическим» (соус как способ превратить одну еду в другую, полная власть над статусами), и «низовым» (соус как грубая приправа). Здесь семиотика уже смыкается с социологией, о чем мы поговорим в другом курсе, по социологии искусства.
Итак, мы выяснили, что если что-то и не сознается, то именно такая «накатанность», тогда как все прочее вполне сознается и в еде, и в обычаях, хотя для «перевода» этого осознанного могут понадобиться переводчики и понимающие перевод. Этого всем и желаю.
Послесловие
Русский язык связал не только знак и знамя, но и знак и знание, значение, значительность. По сути, в книге разобран сюжет избирательного сродства, напоминающий сюжет другой моей книги этой серии – «Красота. Концепт. Катарсис», где я показывал, как античная культура породнила эпифанию бога, петрушечный театр, риторическое воображение и живописный образ. Только в этой книге родство принадлежит не классической культуре, а прошлому, XX веку с его вниманием к философии языка. Эта игра корнями дала свои преимущества отечественной семиотике, смотреть на вещи очень теоретически, не забывая, в тени какого созерцания они только и могут расти. Но она же наложила и некоторые ограничения на семиотику: кое-где отвлеченные рабочие параметры стали считаться свойствами самого предмета, причем как, например, «горизонталь», так и «несознательность». Развитие семиотики поэтому немного подтормозило последние два десятилетия, но сейчас, произведя хотя бы в этом кратчайшем курсе лекций ревизию сделанного, мы можем уже увидеть, как давно семиотика отпустила нас на свободу. Она не требует разбирать, что в нашей речи от грамматики, а что от риторики, но показывает, что и грамматика и риторика – это тоже знаковые реальности. И главное, она учит, что свободу не надо отождествлять с ее отдельными гарантиями, скорее, нужно говорить о том, что любые устанавливаемые нами для свободы параметры могут быть разомкнуты новым большим семиозисом. Если после чтения книги стало понятно, каким он должен быть, – то ее цель достигнута.



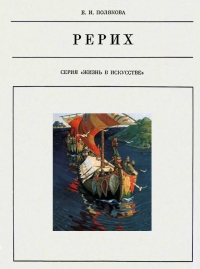

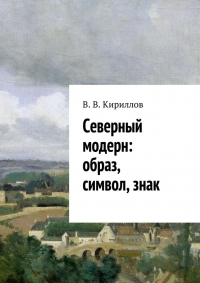


Комментарии к книге «От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир», Александр Викторович Марков
Всего 0 комментариев