М.М.Дунаев Православие и русская литература. Часть II
Рецензенты: кандидат богословия протоиерей Максим Козлов (Московская Духовная Академия),
доктор филологических наук профессор В.А.Воропаев (филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова).
Издание второе, исправленное, дополненное.
Впервые в литературоведении предлагается систематизированное религиозное осмысление особенностей развития отечественной словесности, начиная с XVII в. и кончая второй половиной XX в. Издание выпускается в 6-ти частях. Ч.II содержит осмысление творчества М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, а также обзор литературного процесса середины XIX столетия. Представляет интерес для всех не равнодушных к русской литературе. В основу книги положен курс лекций, прочитанный автором в Московской Духовной Академии.
Глава 5. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841)
Как часто силой мысли
в краткий час
Я жил века и жизнию иной,
И о земле позабывал. Не раз
Встревоженный печальною
мечтой,
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! всё было ад иль небо в них
(1, 353)1.
Эти строки Лермонтов написал в неполных семнадцать лет, а жить ему оставалось ровно десять. «Ад иль небо», кромешный мрак и божественный свет, две столь противоположные крайности в душе, между которыми разрывается она, всякий раз являя в своих стремлениях и состояниях то хаос смятения, то гармонию устремлённости к Творцу; но чаще парадоксальное смешение того и другого, искусство избрало его для себя предметом эстетического исследования. Соединение света и теней создает порой причудливые сочетания, оттенки полутонов, обманчивые конфигурации — искусство любит всматриваться в них.
У Лермонтова — всё резко, контрастно. Без игры светотени. В его созданиях не: ад и небо, но — «ад иль небо». Он весь из крайностей, он любит крайности — в поэзии, в себе самом, в своей индивидуальности. Он любит привлекать на помощь себе, своим созданиям идеи полярно несовместные — и совмещать их, творя особый мир, где всё резко очерчено, всё несомненно. Противозначные полюса создают мощно напряжённое пространство внутри лермонтовских эстетических фантазий — их громовые разряды так влекут к себе приверженцев поэтического слова.
Клянусь я первым днём творенья,
Клянусь его последним днём,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством,
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грядущею разлукой;
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братьев
мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой;
Клянусь твоим
последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоим дыханьем,
Волною шёлковых кудрей;
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей… (2, 107)
Это полярное напряжение не успокаивает душу, но способно лишь сильнее взорвать боль, страдание, муку, терзания страстей. Любимые лермонтовские слова: страдание, страсть, мука… Святые Отцы учат, что крайности — от бесов. Так ведь и приведённые только что строки из монолога Демона. А бесам человек подчиняется добровольно.
Душа сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна,
но и смерть страшна,
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинять нельзя ни в чём (1, 360).
В семнадцать лет он понял это. Но слишком часто потом отказывался от такого понимания. И всё же к чему бы ни склонялся он мыслью и душою, источник всех мучений человека он видел в совмещении резких противоположностей.
Я к состоянью этому привык,
Но ясно выразить его б не мог
Ни ангельский, ни демонский язык:
Они таких не ведают тревог,
В одном всё чисто, а в другом всё зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. Все его
Мученья происходят оттого (1, 360).
Правда, вскоре он и демона захотел поймать на противоречиях, когда писал свою поэму о нём. Но откуда же столь обостренное восприятие бытия? Почему именно в душе Лермонтова сопряглись, вызывая сильнейший разряд, полярные начала, отчего он так болезненно порою тяготился существованием, отчего «жизнь ненавистна» (в семнадцать-то лет!)?
По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли (1, 407).
1831
Многие находили разгадку лермонтовских метаний в этих строках. Можем ли мы проникнуть в эту тайну — в определенные Промыслом Божьим изначальные свойства души? Не слишком ли памятливая душа досталась поэту, так что отзвуки неземного, несомненно звучавшие в нём, наполняющие его внутренний мир, не могли не контрастировать с резкой грубостью и томительной скукой «песен земли»? И значит — этой душе было назначено такое испытание? А может быть, и предназначено ей было — донести до людей, насколько под силу им воспринять, те «звуки небес»?
1. Романтизм в поэзии Лермонтова
Лермонтов, подобно Пушкину и вслед за Пушкиным, сознавал своё пророческое служение. Даже тоску свою он именовал порою именно пророческой:
Когда твой друг с пророческой тоскою… (1, 292).
1830
Не смейся над моей пророческой тоскою… (1, 540)
1837
Правда, то была тоска больше о собственной судьбе. Но всё же… Незадолго до своей таинственной гибели поэт создал стихотворение — оно стало для него последним, — в котором он прямо заявил о себе как о преемнике Пушкина в исполнении «долга, завещанного от Бога». Внутренняя связь этих строк с пушкинским «Пророком» несомненна: Лермонтов избирает не только то же название, но и тот же ритмический рисунок стиха (четырехстопный ямб с усечённой пятой стопой в четных строках, с чередованием мужской и женской рифм), а главное — он делает своего «Пророка» как бы продолжением того рассказа, который начат и не завершён Пушкиным. Младший подхватывает повествование там, где его предшественник остановился: ведь мы не знаем, как именно распорядился лирический герой Пушкина Божиим даром и как исполнял он сообщённую ему Верховную волю. Лермонтов рассказал, что же происходило далее:
С тех пор как Вечный Судия
Мне дал всеведенье пророка…
Да, вот это мы знаем, но что затем?
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
А тут уже и сомнение: продолжает ли Лермонтов именно Пушкина? Сюжетно — да. Но неужто лишь злобу и порок можно узреть в людях, используя дар всевидения (когда «отверзлись вещие зеницы», когда весь мир оказывается доступным пророческому постижению, от Горнего до потаённого земного)? Для Пушкина, можем мы утверждать, зная его творчество, то был бы слишком ограниченный, слишком упрощённый взгляд на мир. Для Лермонтова — с его «или-или», с его тяготением к крайностям — подобное восприятие оказывается возможным. Но: если вначале Лермонтов как бы сужает, ограничивает пушкинский смысл, то во второй строфе нарочито расширяет:
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья…
У Пушкина же ничего подобного не было: его лирический герой вовсе не получал такого задания. Ему возвещалась воля иная:
Глаголом жги сердца людей.
И не более того. А это, как уже отмечено было прежде, лишь начальный этап пророческого служения, подступ к «провозглашению
любви и правды». Пушкинскому пророку заповедовано было выжигать грех из душ людских, высвобождая место для дальнейшего. Лермонтов именно на это дальнейшее и претендует, тем подразумевая, что чистые учения ему открыты. То есть ему-то сионские высоты оказались доступны. Так ли? Вот загадка личности и души Лермонтова. Может быть, он таил в душе то припоминание ангельских песен, какое она получила в дар при начале её земного бытия? Итак, пророку открыта высшая истина. Привычные же к
грубым песням земли души ближних его истину эту принять
отказываются, отвергают её:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Восприятие, должно признать, стереотипное: Писание сообщает нам о резком неприятии пророческого слова — слишком часто. Пушкин также поведал нам о противодействии толпы, но, вспомним, в его конфликте с нею, он слышал порицания, брань, суд глупца, толпа холодно смеялась, даже плевала на алтарь жреца истины, «в детской резвости» колебала его треножник — но и не более того. У Лермонтова и здесь — крайность. Каковы ответные действия пророка?
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи…
Пророк возвращается туда, где начиналась его духовная жизнь («в пустыне мрачной я влачился»), к истоку событий. Мотив нежелания осуществлять пророческое служение — из-за недостоинства тех, на кого оно должно быть обращено, — у Лермонтова и до «Пророка» уже слышался: в стихотворении «Журналист, читатель и писатель» (1840). Писатель, сознающий свою речь именно пророческой, отвергает призывы собеседников к исполнению долга:
К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлёк
В свой необузданный поток?
О нет! преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжёлою ценою
Я вашей славы не куплю (1, 82).
Соображение слишком житейского свойства — для пророка. Подобная аргументация недостойна исполнителя Божьей воли, его не должна останавливать и угроза гибели от неблагодарной толпы, ибо он возведён на уровень более возвышенного понимания цели и смысла бытия, нежели уровень «мудрости мира сего». Пророк служит Богу, а не толпе, и её реакция не должна им восприниматься вовсе. Попытки отказа от исполнения долга мы замечали и у Пушкина («Поэт и толпа»), Лермонтов, как ему свойственно, доводит отказ до крайности. Пророк изменяет себе. Хуже: он отвергает волю Творца. Вот «безумие перед богом». Впрочем, своего дара он не утрачивает, осуществляя его в общении со всей прочей тварью земной, с безграничным миром природы:
Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звёзды слушают меня,
Лучами радостно играя.
Мир же людей не способен воспринимать мудрость от Бога:
Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:
«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»
(1, 131–132)
Но слишком пристальное внимание к подобному — не есть ли также отказ от восприятия Божественной мудрости? Порицающие пророка самолюбивые старцы, не учуяли ли они столь важное в его натуре: гордыню? Не несёт ли он в себе того же себялюбивого начала?
Лермонтов погиб вскоре после написания своего «Пророка», громко объявленного отказа от пророческого служения. Что хотел сказать нам Создатель словом этого события?
В «Пророке» Лермонтова мы ясно чувствуем прежде всего гордыню презрительного к миру одиночества. Мотив одиночества слишком слышится и во всей его поэзии. Это одиночество обусловлено конфликтом с окружающим миром, конфликтом, в котором постоянно пребывает поэт. Мир предстоит слишком неприемлемым для него, одиночество оказывается вынужденным, и едва ли не постоянно звучит в лермонтовских стихах:
Один среди людского шума
Возрос под сенью чуждой я (1, 192).
Вверху одна
Горит звезда,
Мой взор она
Манит всегда… (1, 193)
1830
Любил с начала жизни я
Угрюмое уединенье (1, 206).
1830
Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье — все готовы:
Никто не хочет грусть делить.
Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как, судьбе послушно,
Года уходят, будто сны;
И вновь приходят, с позлащенной,
Но той же старою мечтой,
И вижу гроб уединенный,
Он ждёт; что ж медлить над землёй? (1, 219)
1830
Я здесь стою близ моря на скале,
Стою, задумчивость питая,
Один, покинув свет, и чуждый для людей,
И никому тоски поверить не желая (1, 243).
1830
Один я в тишине ночной… (1, 285).
1830
Я здесь больной,
Один, один,
С моей тоской,
Как властелин (1, 308).
1830
Я несчастлив пусть буду — несчастлив один (1, 326)
1831
Разве нету
Примеров, первый ли урок
Во мне теперь даётся свету?
Как я забыт, как одинок (1, 331).
1831
Другой заставит позабыть
Своею песнею высокой
Певца, который кончил жить,
Который жил так одинокой (1, 338).
1831
Я одинок над пропастью стою,
Где всё моё подавлено судьбою… (1, 345)
1831
И я влачу мучительные дни
Без цели, оклеветан, одинок… (1, 354).
1831
Живу — как неба властелин—
В прекрасном мире — но один (1, 413).
1831
Белеет парус одинокой… (1, 488).
1832
Никто моим словам не внемлет… я один (1, 511).
до 1837
Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнём… (1, 37)
1837
Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя… (1, 124).
1841
Выхожу один я на дорогу… (1, 127).
1841
Лермонтов создал истинные шедевры, подобные стихотворению «Утёс» (1841) — ёмкой развёрнутой метафоре, возносящей мимолётную зарисовку до уровня щемящего сердце символического образа:
Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утёса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне (1, 113).
Интересно сопоставить два лирических шедевра — два переложения одного стихотворения Гейне:
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосн
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
В том крае, где солнца восход.
Одна и грустна на утёсе горючем
Прекрасная пальма растёт (1, 105).
1841
Кто не знает этого лермонтовского шедевра? Менее известен перевод другого великого поэта, который не только точнее по смыслу, но и по самому звучанию стиха ближе соотносится с метрическим своеобразием подлинника. Вот как перевёл то же стихотворение Тютчев:
На севере мрачном, на дикой скале
Кедр одинокий под снегом белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его вьюга лелеет.
Про юную пальму всё снится ему,
Что в дальних пределах Востока,
Под пламенным небом, на знойном холму
Стоит и цветёт, одинока…
1823–1824
У Тютчева — кедр. У Лермонтова — сосна. В подлиннике у Гейне— ein Fichtenbaum— слово мужского рода. У Тютчева поэтому перевод точнее, поскольку он сохраняет грамматическую категорию. Как и у Гейне, у Тютчева мы видим то же противопоставление мужского и женского начала (кедр — пальма), в котором отражено безнадежное одиночество неразделённой любви. Лермонтов это противопоставление снимает. У него — полное и абсолютное одиночество вообще, не связанное с любовью или каким-то иным чувством. По сути, у него не перевод, но вариация на тему, предложенную немецким поэтом. Задержим внимание еще на одном слове. У Тютчева: «на знойном холму». Слово поэтически неожиданное, хотя и точно передающее ощущение немилосердного зноя пустыни, дополняемое ещё и этим пламенным небом. У Лермонтова — парадоксальное видение: «на утёсе горючем». Поэт дерзко использует постоянный эпитет известного сочетания «горючие слёзы». Он обращает этот эпитет на слово, с которым то никогда не сочетается, да, на первый взгляд, и не может сочетаться: «горючий утёс» —! Совмещение поразительное. Вот виртуозное владение языком, гениальное и наивное одновременно.
Горючее одиночество — никто не выразил его в русской поэзии сильнее Лермонтова. Здесь и жар горящего пламени, и горе безысходности. Одиночество Лермонтова именно безысходно. Это важно не упустить сознанием. Ведь само по себе уединение не так и страшно: мы знаем, что отцы-пустынники специально уединялись для духовных упражнений, для более полного единения с Творцом. Греховно уныние в одиночестве. Такое уединение безблагодатно. Не таким ли состоянием поэта объясняется появление в его стихах странного образа одинокого «властелина неба», с которым поэт себя сопоставляет. Кто это? По смыслу слов — Бог. Хотя, даже если принять такое значение, то нужно признать явную неуклюжесть подобного определения. Но у Лермонтова это скорее демон — что можно вывести из сопоставления со всем образным строем лермонтовской поэзии, где именно дух зла символизирует абсолютно одинокое начало. Да и странно было бы говорить об одиночестве Бога, греховно и кощунственно. И всё же недоумение остаётся: демон — скорее властелин преисподней, но не неба, у Лермонтова порою встречаются такие неопределенные, туманные образы (что отмечал ещё Белинский). Лермонтов ощущает себя одиноким и во времени.
Гляжу назад — прошедшее ужасно;
Гляжу вперёд — там нет души родной! (1, 255)
1830
Он не видит отрады в памяти о прошедшем, но ещё более страшится будущего.
О! если так меня терзало
Сей жизни мрачное начало,
Какой же должен быть конец?.. (1, 271)
1830
Моё грядущее в тумане,
Былое полно мук и зла… (1, 512).
до 1837
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть… (1, 127)
1841
Хотя, справедливости ради, нужно отличить от прочего и другой мотив:
Если, друг, тебе сгрустнётся,
Ты не дуйся, не сердись:
Всё с годами пронесётся —
Улыбнись и разгрустись (1, 218).
1830
Сравним с пушкинским:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
1825
Но это когда совет обращён на другого. В себе Лермонтов такого утешения найти не может.
Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной… (1, 39)
Лермонтов отдал несомненную дань романтизму, и не избыл его полностью в своей поэзии. Только романтиком он оказался своеобразным: ни прошлого не жаловал, и на будущее не уповал, как видим. Байрону он близок был в этом, который тоже порою чересчур мрачно на жизнь смотрел. Недаром же имя английского поэта время от времени в стихах лермонтовских встречается.
Не думай, чтоб я был достоин сожаленья,
Хотя теперь слова мои печальны, — нет,
Нет! все мои жестокие мученья —
Одно предчувствие гораздо больших бед.
Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки,
О, если б одинаков был удел!..
Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой.
Любил закат в горах, пенящиеся воды
И бурь земных и бурь небесных вой.
Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад — прошедшее ужасно;
Гляжу вперёд — там нет души родной! (1, 255)
В строках этих, и в иных, как уже приведённых здесь, так и оставленных за пределами нашего внимания, — всюду мы то явно, то догадкою ощущаем одну из главных причин душевного голода поэта: неутолённое вожделение любоначалия. Он и одиноким-то потому лишь, пожалуй, себя воображает, что едва ли не одного Бога видит способным душу свою постичь.
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитый груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или Бог — или никто! (1, 459)
1832
Пусть стихи детские отчасти, и гордыня ещё невызревшая: гордецу всего восемнадцать. Но всё же перед нами Лермонтов, натура которого определилась достаточно рано. Он лелеет гордыню в пятнадцать лет, как и в двадцать три.
Один среди людского шума
Возрос под сенью чуждой я.
И гордо творческая дума
На сердце зрела у меня (1, 192).
1830
Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, как я страдал,
Тому судья лишь Бог да совесть!..
Им сердце в чувствах даст отчёт,
У них попросит сожаленья;
И пусть меня накажет Тот,
Кто изобрёл мои мученья;
Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит;
Пускай шумит волна морей,
Утёс гранитный не повалит;
Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый,
И, кроме бури да громов,
Он никому не вверит думы… (1, 35).
1837
С кем ни сравнить, у Лермонтова всегда больше горечи. Больше безнадёжности. Он опускается до глубочайших глубин безверия, бросая упрёк в своих муках не кому иному, как Творцу. И гордыня поэта — не сокрытая змея (как, помним, у Пушкина), а слишком на виду. Одна и та же страсть жжёт его и при начале и под конец недолгой жизни. И часто сквозь гордыню проступает то, с чем она близка, особенно в романтизме подобного толка, — тяготение к богоборчеству. Вот одно из ранних стихотворений — «Смерть» (1830).
Поэту снится сон, что душа его, встретившись с полусгнившим телом, которое она когда-то оживляла, пытается вновь возвратить тленное к жизни. С натуралистическими подробностями описывает автор собственное видение:
И я сошёл в темницу, длинный гроб,
Где гнил мой труп, и там остался я.
Здесь кость была уже видна, здесь мясо
Кусками синее висело, жилы там
Я примечал с засохшею в них кровью.
С отчаяньем сидел я и взирал,
Как быстро насекомые роились
И жадно поедали пищу смерти.
Червяк то выползал из впадин глаз,
То вновь скрывался в безобразный череп.
Но чем одержима, какою мыслию движима душа, тщетно пытающаяся нарушить предначертанное? Навязать бытию свою волю, осуществить собственное стремление. «Да будет воля моя» — эта молитва как бы слышится сквозь «мрачную надежду» на бессмертие. Осознав тщету чаемого, лирический герой стихотворения проклинает и творение, и Творца:
Тогда изрёк я дикие проклятья
На моего отца и мать, на всех людей.
С отчаяньем бессмертия долго, долго,
Жестокого свидетель разрушенья,
Я на Творца роптал, страшась молиться,
И я хотел изречь хулы на небо,
Хотел сказать…
Но замер голос мой, и я проснулся (1, 210–211).
В Творце поэт усматривает некую силу, не позволяющую мрачному гордецу осуществить именно его собственную волю. И вот поразительно: высказав ту же мысль в стихотворении «Гляжу на будущность с боязнью…» (1838), Лермонтов невольно (скорее всего так: неосознанно, интуитивно) воссоздаёт начальную ситуацию пушкинского «Пророка», но в собственном, разумеется, осмыслении: «духовная жажда» оборачивается тоской одиночества, соединённою с вопрошающим ожиданием вестника, посылаемого Всевышним:
Придёт ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать — что мне Бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.
Земле отдал я дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую.
Молчу и жду… (1, 39)
Вот главная загадка: явился ли тот вестник? Но тут одно важнейшее обстоятельство: поэт ждёт узнать, почему Бог «прекословил» воле человека, отразившейся в его надежде. Готова ли такая душа, обуянная страстью своеволия, услышать: «Исполнись волею Моей» —? Шестикрылый серафим является лишь несущему в себе готовность к тому. А между тем с твёрдым постоянством Лермонтов говорит о необходимости пророческого служения для поэта. И с горечью сознаёт утрату поэзией высокого своего назначения:
В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Своё утратил назначенье,
На злато променял ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?
……………………………………
Проснёшься ль ты опять, осмеянный пророк! (1, 49)
1838
Но своеволие, замешанное на гордыне, и пророческое служение — несовместимы. Поэт как будто готов оставить сокровища земные («земле отдал я дань земную…. готов начать я жизнь другую»), но всё последующее из им созданного свидетельствует об ином: гордыня и своеволие остаются теми же. Так значит, вестник небес не явился в том ожидании? И о каких же «чистых ученьях любви и правды» сообщает Лермонтов в своём «Пророке», если они не были открыты во всей полноте даже Пушкину — при несомненности его встречи с посланником Божьим? А между тем понимание губительности своеволия Лермонтову было дано. О том повествуют изумительно прекрасные стихи «восточного сказания» «Три пальмы» (1839), составляющего собою большую развёрнутую метафору, ясную аллегорию. Здесь же, вслед за Пушкиным, Лермонтов отвергает и прагматическое понимание поэзии, навязывание ей служения примитивной практической пользе.
В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зелёных листов,
От знойных лучей и летучих песков.
Но пальмы — гордые — возроптали, отвергая справедливость воли Творца:
И стали три пальмы на Бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»
Их мольба оказалась услышанной, им дано было принести пользу: сжигаемые в костре, они дали тепло проходящему каравану. Но оказалось: их предназначенность была — хранить источник в знойной пустыне. Своеволие отвергло именно высший смысл, отвергло Промысл, постигнуть который ему оказалось неподсильно.
И ныне всё дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскалённый заносит
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним (1, 55–57)
Ропот на Бога отразил (и отражает всегда, скажем в который раз) непонимание Его воли и оттого неприятие её. Вспомним снова мудрую мысль Жуковского: «Бог хочет от нас не нашего, а Своего дела». Желание именно своего, человеческого, проистекающее из гордыни, оборачивается уничтожением источника Жизни. Своеволие чревато гибелью, смертью. В этой поэтической легенде — не средоточие ли всей жизненной коллизии Лермонтова, раскрытие его внутренней трагедии? Художник на уровне образном, эстетическом сознаёт то, чему отказывается следовать в жизни реальной. И оттого: так зыбко, так неверно всё порой и в пространстве, где властвует лермонтовская поэтическая стихия.
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слёзы разлуки,
В них трепет свиданья.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рождённое слово;
Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу (1, 65).
1839
«Мы рождены… для звуков сладких и молитв», — утверждал Пyшкин. «Не кончив молитвы, на звук тот отвечу», — разлучает Лермонтов молитву и поэтическое «из пламя и света рождённое слово». И далее: «брошусь из битвы ему я навстречу» — утверждает поэт, для которого сама «битва» представляется порою едва ли не высшей целью его существования. Тут опять противоречие, ускользающее от понимания. Его не переложить в сухие строки прозаического комментирования, ему потребно молчаливое поэтическое сопереживание, без которого поэзия оказывается недоступной для постижения. Даже отвергнуть можно лишь то, что найдет хоть некоторый отзвук во внутреннем самоощущении того, кто воспринял слово поэта. Иное отвержение неполноценно, а то и вовсе неистинно.
Что стоит за этим странным противоречием: между сознаванием пророческого долга и вырвавшимся наружу стремлением осуществить его вне молитвы, то есть вне общения с Богом? Но услышит ли тогда душа: «исполнись волею Моей» —? А может, она и не хочет того услышать? Может быть, тайное, от самого себя скрываемое желание утвердить: «да будет воля моя» — всему причиной? Один невнятный образ (каких, к слову, достаточно у Лермонтова) становится причиной всех недоумений. Что означает — «из пламя и света рождённое слово»? Если символика света в православном богословии вполне определённа (Бог Слово есть свет), то каков смысл, какова природа сопрягаемого в одной строке со светом пламени? Если оно одноприродно свету, то стихотворение обрело бы высочайшее духовное содержание. Преподобный Серафим Саровский утверждал непреложно: «…Когда, при всемогущей силе веры и молитвы, соизволит Господь Бог Дух Святой посетить нас и приидет к нам в полноте неизреченной Своей благости, то надобно и от молитвы упраздниться»2.
Но можно ли отождествить состояние, переданное в стихах Лермонтова с тем, о каком сказал преподобный? Такому отождествлению препятствует начало стихотворения: «…значенье темно иль ничтожно». Но тогда вывод, единственно возможный, печален: поэт приравнивает тёмное и ничтожное к явлению света, вероятно, сам не сознавая, что творит. Он затевает слишком опасную игру словами, создавая кумира из земного, пусть и поэтического, слова, обожествляя сомнительное по природе явление. Ибо образ пламени, в символике своей, неоднозначен. У Лермонтова пламя как художественный образ чаще инфернально по природе своей (об этом мы ещё вспомним при разговоре о поэме «Мцыри»), И тогда соединение света и адского пламени в одном образе — соединение непостижимое, на какое способно, пожалуй, лишь воображение Лермонтова. Такое создаётся лишь безудержною своевольною гордынею. Но ведь недаром понятия уныния и гордыни, любоначалия — недаром соседствуют в великопостной молитве: они в душе человека неразлучны. Неудовлетворённость гордыни порождает отчаяние и тоску. И все ценности бытия обесцениваются:
Но тот, на ком лежит уныния печать,
Кто, юный, потерял лета златые,
Того не могут услаждать
Ни дружба, ни любовь, ни песни боевые!.. (1, 139)
1829
Написавшему это нет ещё и пятнадцати лет. С летами всё лишь усиливается, углубляется.
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — всё лучшие годы!
Любить… но кого же?… на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно…
Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка… (1, 68)
1840
Это пострашнее пушкинского «Дар напрасный…». У Лермонтова не только больше горечи, но больше и безнадёжности. Он опускается до крайних глубин безверия. И не просто бездумного безверия, которое легко переносится его носителями, но безверия сознаваемого в отчаянии. Для Пушкина — жизнь всё-таки дар, пусть и отвергаемый им в какой-то момент. Для Лермонтова — шутка. Но кто может так шутить? Только Тот, Кто эту жизнь создал. «Пустая и глупая шутка» — это кощунственный вызов Создателю.
Но Лермонтов и на этом не останавливается. Но вдруг обращается к Творцу с молитвой, напитанной ядом насмешки, с прошением, где избыточно ощущается злобное неприятие воли Его:
За всё, за всё Тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слёз, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За всё, чем я обманут в жизни был…
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я ещё благодарил (1, 86).
1840.
«В основу стихотворения положена мысль, что Бог является источником мирового зла», — пишет в комментарии к стихотворению И.Л.Андроников, цитируя затем вывод иного исследователя (Б.Бухштаба): «Основной тон стихотворения — ирония над прославлением «благости господней»: всё стихотворение как бы пародирует благодарственную молитву за премудрое и благое устроение мира» (1, 582). Куда же дальше? Мысль, как мы помним, утверждаема была в кальвинизме. Лермонтов неосознанно прикоснулся к нему в увлечении богоборческим романтизмом, в следовании прельщающему романтическому мироощущению. Форма, как видим, не столь безобидна для человеческой души. Нe имея для того подлинной духовной основы, применяя к себе лишь романтический шаблон, поэт оказался в плену и у той богоборческой идеи, какая определяла наполнение чужеродной заимствованной формы там, где эта форма вырабатывалась. Форма и содержание слишком зависимы друг от друга, чтобы пытаясь освоить форму, не заразиться тем, что ей всегда привычно содержать.
Впрочем, лермонтовская «благодарность», эта кощунственная антимолитва, определяется и психологически — воздействием присущего повреждённой природе человека стремления переложить вину за все беды, страдания и несовершенства свои на какие-то внешние обстоятельства, прежде всего на волю Создателя. Собственное своеволие всегда хочется оградить от обвинений. Такое самооправдание в лермонтовских строках в скрытом виде присутствует. В ранней юности он, вспомним, был мудрее:
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинять нельзя ни в чём.
Теперь вот обвинил, присовокупив презрительную просьбу о скором прекращении «пустой и глупой шутки». Не эта ли просьба была исполнена у подножия Машука в июле 1841 года? О смерти он, впрочем, помнил и размышлял постоянно — с юных лет.
Пора уснуть последним сном,
Довольно в мире пожил я;
Обманут жизнью был во всём,
И ненавидя и любя (1, 415).
1831
Настроение, как видим, весьма устойчивое.
Я счастлив! — тайный яд течёт в моей крови,
Жестокая болезнь мне смертью угрожает!..
Дай Бог, чтоб так случилось!.. Ни любви,
Ни мук умерший уж не знает… (1, 435)
1832
В семнадцать лет подобные мысли душою овладевают — и не у одного Лермонтова. Они по-детски наивны и со стороны даже смешны. Но не смешно лермонтовское постоянство и какая-то провидческая сила его стихов:
Настанет день — и миром осужденный,
Чужой в родном краю,
На месте казни — гордый, хоть презренный—
Я кончу жизнь мою… (1, 419)
1831
Лермонтов слишком даже в рабстве у этой мысли.
Оборвана цепь жизни молодой,
Окончен путь, бил час, пора домой,
Пора туда, где будущего нет,
Ни прошлого, ни вечности, ни лет;
Где нет ни ожиданий, ни страстей,
Ни горьких слёз, ни славы, ни честей;
Где вспоминанье спит глубоким сном
И сердце в тесном доме гробовом
Не чувствует, что червь его грызёт.
Пора. Устал я от земных забот (1, 311).
Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать…
………………………………….
Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне (1, 361).
Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдёт;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдёт… (1, 540)
Мысль о смерти никого не обходит стороной. Память смертного часа, при духовном его осмыслении, может стать ориентиром человеку на жизненном его пути — о чём многократно говорили Святые Отцы. То ли видим у Лермонтова? И для него смерть как будто не страшна: она есть для него переход в «новый» для него мир:
Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый… (1, 540)
Его лирический герой не просто ждёт, но торопит приближение смерти:
Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронёю мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдёрну с лица я забрало (1, 83).
1840
А ведь и тут, в этом нетерпении, всё то же своеволие, стремление навязать судьбе собственное желание. Если и можно усмотреть в лермонтовских мыслях о смерти духовность, то духовность эта темна и лишена благодати: ибо слишком подчинена душа поэта ненависти к миру, к человеку:
И, полный чувствами живыми,
Страшуся поглядеть назад, —
Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою,
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки,
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит всё печаль проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет (1, 324).
Сколь много ненависти к земному бытию вообще! Так он чувствует в шестнадцать лет, встречая 1831 год, но так же и в двадцать пять, на пороге 1840 года, когда, окружённый пёстрою толпою, не находит ничего лучше тёмной страсти стремления
…дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!.. (1, 67).
Вообще, вероятно, что на уровне эмоционально бездуховного восприятия это бездуховное же общество иного и не заслуживало, нежели такое холодное презрение, но те горечь и железная злость, что раздражали душу поэта, могли лишь увеличить общую сумму зла и порока, какие свойственны повреждённому грехом человеку (и обществу). На ненависти ничего нельзя основать доброго — это ведь самый простенький трюизм. Железных стихов Лермонтов разбросал вокруг себя немало. Самый знаменитый — «Смерть поэта», в котором ясно можно увидеть, как горечь и злость застилают автору взор и мешают истинно осмыслить трагедию Пушкина, сводят всё к банальной брани, к обличению пёстрой толпы, к разогреванию мстительных чувств. Да и стихи-то во многих местах слабые — мы всё как-то боимся об этом сказать.
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов! (1, 22)
Написано в явной запальчивости, темно, невнятно, раздражённо…
Он и в любви, кажется, более лелеет в душе то мстительное чувство, какое для него соединяется с ощущением неверности любви, её обманчивости. Создаётся впечатление, что поэту милее измены и равнодушие, поскольку это даёт возможность упиться мстительным горделивым презрением.
Соседка есть у них одна…
…………………………….
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит! (1, 100)
Какая отрада в этом предвкушении пустых слёз! Но почему и откуда такая уверенность в пустоте того сердца? Потому что его обладательница не ответила на чувства лирического героя «Завещания» (1840)? Так ведь то не довод. Не довод для кого угодно, но не для того, кто лелеет в своём сердце пустое мстительное упоение.
А вспомним знаменитейшее
Я не унижусь пред тобою:
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор… (1, 446)
И т. д.
1832
В этих стихах не только уязвлённое самолюбие отразилось, но и странное наслаждение собственным страданием и возможностью выказать гордое презрение. И одновременно — предъявление счета:
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убеждён,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он! (1, 446)
Что за торговля? И что за гордынные претензии! Конечно, в таком укоре много еще детски-незрелого, да слишком заразительно то по силе выражения. Однако зрелый ум непременно возразит вопросом: да почему кто-то, к кому лирический герой воспылал чувствами, должен это чем-то компенсировать? Любовь, замешанная на таких претензиях, уже не любовь, но деспотический эгоизм. Тут далеко до светлой гармонии любовного переживания, какие видим мы в пушкинских стихах:
Я вас любил, так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
Или:
Что в имени тебе моём?
……………………………
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его, тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я…
Для Пушкина любовь самоценна, её светлое достоинство не зависит от ответности или безответности любовного переживания. У Лермонтова же не видно никакой любви в его упреках и счётах. Конечно, здесь речь идет не о полноте духовного опыта любви, о котором читаем мы в Писании, но даже и в том ограниченном, частном понимании, какое в данном случае разумеется, критерием истинности должно сознавать слова Апостола:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла» (1 Кор. 13, 4–5).
Лермонтовские герои именно своего ищут, а не найдя, услаждают себя злобою и одновременно раздражают душу страданиями неразделённого одиночества. Безответная любовь здесь как будто для того и необходима, чтобы упиться одиночеством ещё полнее. Лермонтов, как мало кто, сумел выразить с подчиняющей себе читателя силою всё то соединение разрушающих душу тёмных эмоций, какое прямо противоположно заповеданной человеку любви к ближнему (Мф. 22, 39). Потому соприкосновение с такого рода поэзией для неискушенной и неопытной души может оказаться небезопасным. Но эти же стихи, осознанно воспринятые как откровенное и беспримесное проявление тёмной духовности, могут помочь выявлению того же в себе — и тем вернее очистить душу. Лермонтов ясно сознавал природу и источник подобных эмоций и состояний.
Я не для ангелов и рая
Всесильным Богом сотворён;
Но для чего живу, страдая,
Про это больше знает Он.
Как демон мой, я зла избранник,
Как демон, с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой;
Прочти, мою с его судьбою
Воспоминанием сравни
И верь безжалостной душою,
Что мы на свете с ним одни (1, 417).
1831
Недаром же слишком притягательно было для поэта демоническое начало: сам образ демона в скрытом и явном виде у него едва ли не постоянен. Koнечно, лермонтовский демон это не в прямом смысле сатана, поскольку если бы так, то был бы тут непростительный грех. У Лермонтова скорее мы видим в художественном образе символизацию тёмных состояний души человека. Демонических, богопротивных состояний. Поэт откровенно обратился к поэтическому осмыслению «своего демона» в неполных пятнадцать лет. Скорее, он оттолкнулся от пушкинского стихотворения, впервые опубликованного под названием «Мой демон», — Лермонтов ставит над своими строками то же обозначение. Но его демон, пожалуй, пострашнее пушкинского.
Собранье зол его стихия.
Носясь меж дымных облаков,
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров.
Меж листьев жёлтых, облетевших,
Стоит его недвижный трон;
На нём, средь ветров онемевших,
Сидит уныл и мрачен он.
Он недоверчивость вселяет,
Он презрел чистую любовь,
Он все моленья отвергает,
Он равнодушно видит кровь,
И звук высоких ощущений
Он давит голосом страстей,
И муза кротких вдохновений
Страшится неземных очей (1, 177).
1829
Эти строки отметили начало работы над поэмою «Демон» (разговор о ней впереди) — и то уже знаменательно, что десять лет не отпускала поэта работа над этим мрачным созданием. Да и не только в поэме — тема демона постоянно его мучит.
Две жизни в нас до гроба есть,
Есть грозный дух, он чужд уму;
Любовь, надежда, скорбь и месть:
Всё, всё подвержено ему.
Он основал жилище там,
Где может память сохранять,
И предвещает гибель нам,
Когда уж поздно избегать.
Терзать и мучить любит он;
В его речах нередко ложь;
Он точит жизнь, как скорпион.
Ему поверил я… (1, 236)
1830
К стихотворению «Мой демон» автор через два года возвращается: повторяет первые четыре строки, а затем сочиняет новые строфы — видимо, начальное осмысление темы не вполне удовлетворило юного поэта. Особая роль назначена демону в судьбе лирического героя:
И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда (1, 352).
Демон Лермонтова парадоксален: соблазняет предчувствием блаженства едва ли не райского, которое, по самой сущности злых духов, не в их власти. «Луч чудесного огня» способен в таком контексте смутить ещё более, ибо напрашивается отождествление его с проявлением Божественной энергии. Демоны соблазняют сокровищами земными, тогда как у Лермонтова они как будто манят счастьем неземным. Лермонтовская демонология вообще странна, запутанна, так что поверять ее святоотеческим пониманием бесовского начала не имеет смысла: между ними не столь много общего. Может быть, тому виною присущая поэзии Лермонтова неопределённость многих образов и поэтических фигур. Детская же незрелость мысли всё усугубляет — что и в поэме также проявится отчётливо.
Расплывчатость подобных образов, помимо прочего, связана и с романтическим настроением автора, особенно в ранний период его творчества. Он — романтик, и его строками так легко иллюстрировать всякий разговор о романтизме. Собственно, всё наследие лермонтовское, включая и роман «Герой нашего времени», переполнено романтическими шаблонами и стереотипами. Так ведь и вообще всё искусство перенасыщено избитыми приёмами, схемами и штампами, хотя у великих мастеров мы этого просто не замечаем. Литературный гений в том и проявляет себя, что преобразуя устоявшиеся стереотипы, создает иллюзию новизны и оригинальности художественной мысли, заставляя забывать:
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1, 9-10).
В ранний период Лермонтов не всегда умел одолеть сопротивление коснеющего романтического материала, следуя наработанным приемам сложившегося метода. Например:
Нет, я не прошу твоей любови,
Нет, не знай губительных страстей;
Видеть смерть мне надо, надо крови,
Чтоб залить огонь в груди моей.
Пусть паду как ратник в бранном поле.
Не оплакан светом буду я,
Никому не будет в тягость боле
Буря чувств моих и жизнь моя (1, 349).
1831
Или:
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берёт (1, 470)
1832
И романтически шаблонно воспевая страсти, он парадоксально мнил себя при этом вольным — несмотря на рабство у страстей:
Я волен — даже — если раб страстей! (1, 402).
Заблуждение нередкое. И сам же потом все эти страсти отверг — когда создавал в духе уныния «И скучно и грустно…».
Романтической шаблонностью определено многое в лермонтовском демоне. Точно так же в шаблон превращается назойливое возвращение поэта к романтизированной фигуре Наполеона, которому неизменно сопутствует описание стихии, безмерного океана, якобы сопоставимого с натурою героя. Наполеону Лермонтов посвятил едва ли не десяток стихотворений, черезмерно приспосабливая своё перо к романтическим клише.
Но недаром же причисляем мы Лермонтова к сонму великих русских поэтов: он сумел подчинить себе образный строй поэзии, так что его творчество в своих высших проявлениях неизменно влечёт неповторимостью отображённого и преображённого мира. Однако следует сказать ещё раз и сознать твёрдо: форма, в которую художник облекает своё эстетическое постижение бытия, оказывается небезразличной к содержанию, она начинает влиять на него, и порою определяющим образом. Да, обычно считается: содержание первично, форма вторична и определяется содержанием. Печальное заблуждение. Форма может стать агрессивной, подчинить себе художественное мышление поэта. Не без подспудного влияния богоборческого романтизма, которым так увлекался Лермонтов, пришёл он к попытке отыскать источник мирового зла в Боге, бросить вызов Творцу, погрузившись в стихию безверия, то есть нежелания видеть в Создателе высшую правду как онтологическую основу мироздания.
Романтизм во многом подчинил себе мирочувствие поэта и навязал ему те противоречия, какие усугубили внутренние терзания его. Православный человек может впасть в уныние: по слабости своей, от осознания своей греховности, своего бессилия, своей неспособности постичь смысл собственного бытия. Но мысль о Боге всегда останется в нём как последнее прибежище в тоске, в отчаянии, как утешение в скорбях. «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28). Усмотревши в Боге источник мирового зла, Кальвин, по сути, выбил из-под ног человека единственно несомненную опору, сделал человека абсолютно несчастным, обрёк на безысходность страдания. И Лермонтов отразил это состояние сильнее кого бы то ни было в русской литературе, вряд ли сознавая религиозную основу своих терзаний. Чуждые идеи действовали неявно — через романтический соблазн. Лермонтовский романтизм в русской литературе — явление вершинное. Никто, включая Пушкина, не дал столь совершенных образцов романтической поэзии. Романтизм Лермонтова заражает, несомненно, сильнее пушкинского. Но этот романтизм заразил сильнее и самого поэта. Признавая несовершенство своих ранних поэм, Пушкин точно указал и на их причину: «… я не гожусь в герои романтического стихотворения» (10, 49). И это спасло его от многих проблем и противоречий — в отличие от Лермонтова. Не обойдём и важную идею Пушкина: он говорит о непригодности своей именно в герои романтической поэмы. В романтическом произведении, каковы бы ни были сюжет и персонажи, сам поэт, его внутреннее состояние, являются главным предметом отображения. Художественная ткань, образная система произведения лишь проявляют, персонализируют, символизируют страсти и терзания автора.
Натура Лермонтова слишком совпала с общим романтическим настроем времени не просто в неудовлетворённости бытием, но в подпадении под власть бесовских соблазнов, идущих извне. Внутренние терзания Лермонтова, его трагедия — не в противоборстве душевных страстей (это вторично), но в борьбе между духовной истиной, вкоренённой Православием, и чужеродным искажением истины. Ошибочно было бы утверждать, что такую борьбу знал лишь Лермонтов — тогда не находили бы столь многие отклика в душе своей на его поэзию, — но он сумел с гениальной силою выявить то, что иные лишь смутно ощущали, что неясно брезжило во многих умах. В этом духовная ценность лермонтовского поэтического творчества.
Что становится отчётливо ясным, тому легче противостать. У Лермонтова поистине всё — «ад иль небо». Ощущая в себе сильное действие зла и соблазна, он осмысляет и глубоко переживает идею добра, стремление человека к блаженству, святость чувств. Поэт приводит своего рода онтологический аргумент, обосновывая существование абсолютного добра и блаженства:
Когда б в покорности незнанья
Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил,
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться,
Он не позволил бы искать
В себе и в мире совершенства,
Когда б нам полного блаженства
Не должно вечно было знать.
Но чувство есть у нас святое,
Надежда, бог грядущих дней, —
Она в душе, где всё земное,
Живет наперекор страстей;
Она залог, что есть поныне
На небе иль в другой пустыне
Такое место, где любовь
Предстанет нам, как ангел нежный,
И где тоски её мятежной
Душа узнать не может вновь (1, 399).
1831
Но ведь тут же, рядом, не даёт покоя иная мысль: что блаженством манит демон, отнимающий у человека возможность его. Роковое столкновение. Он ведь понимает и то, что именно его страстная поэзия отделяет его от Бога. Он сознает, что поэзия его становится часто молитвою бесовской силе. Поразительно: этим знанием он обладал, лишь вступая на соблазнительное поприще пятнадцатилетним отроком. Право, приходится поражаться столь ранней зрелости этого поэтического ума.
Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С её страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей Твоих струя;
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далёко от Тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К Тебе ж приникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, Боже, не тебе молюсь.
Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костёр,
Преобрази мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопения
Пускай, Творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К Тебе я снова обращусь (1, 191).
1829
Поэт сознает существование «тесного пути спасения», как мы это видели и у Пушкина. Но если у старшего собрата этот путь сопряжён с неким божественным светом, то для Лермонтова «чудный пламень» есть помеха обращения на этот путь. И вновь, в который раз возникает всё тот же вопрос: какова же природа пламени, всесожигающего душу Лермонтова. Какова вообще природа его поэтического дара, дара пророческого, как он сам его определяет? Если то дар Божий, то почему он препятствует спасению? Если это дар Божий, то почему он заставляет видеть вокруг, вспомним ещё раз, лишь злобу и порок?
Или этот пророческий дар — от лукавого? Нет: от Вечного Судии, по утверждению самого поэта. Недоговоренность, неясность, непросветлённость мысли и образа… Пожалуй, все противоречия и неопределённости можно снять лишь в одном случае: если признать то, что поэт страшится выговорить, то, что спит в душе, — блуждание ума вокруг идеи Бога как источника зла. Тогда нет в его образах многих противоречий. Но такая определённость страшна для души и сознания, и поэт невольно укрывается за туманными недоговорённостями. Но при таком восприятии Бога — душа не сможет успокоиться никогда. Оттого и мечется она, а всё для нее и всюду — «ад иль небо». И не может быть пристанища ни там ни там. Стихотворение, приведённое последним, называется «Молитва». Но Лермонтов и иные молитвы знает. В рубежном для себя 1837 году он пишет «Молитву», полную самоотречения любви:
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного:
Но я вручить хочу деву невинную
Тёплой Заступнице мира холодного (1, 33).
Вот где — «любовь не ищет своего». Особенно известна лермонтовская «Молитва», написанная в 1839 году:
В минуту жизни трудною
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко—
И верится, и плачется,
И так легко, легко… (1, 58)
Подобные строки рождаются не холодным рассудком, но душевным жаром того, кто знает, что такое сладость молитвы. Об этом говорил своим духовным чадам оптинский старец Варсонофий, и он же указал на недостаточность молитвенного опыта поэта: «К сожалению, молитва не спасла его, потому что он ждал только восторгов и не хотел понести труда молитвенного»3. Отметим также невольный (то есть, скорее всего, не осознанный автором) оксюморон: святая прелесть. Это даже поразительнее пушкинской чистейшей прелести, настолько великий поэт оказывается здесь глух к слову. Не это ли бессознательное нечувствие, родившее столь невероятное словосочетание, обусловило противоречивое рождение тёмного по значению слова из пламя и света? Но если к Богу поэт испытывает всё же молитвенное стремление, то ближнего своего он чаще просто презирает, а то и ненавидит. Порою создаётся впечатление, что лирический герой Лермонтова принял бы мир, когда бы он не был населен столь презренными и жалкими людьми. Там, где нет человека, там всё гармонично для поэта
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит (1, 127).
1841
В стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…» (1837) Лермонтов дает как бы развёрнутую картину мира Божьего, но этот мир — опять-таки «пустыня» — как понимали это слово русские люди ещё в средние века: место, пустое от людей. Столь острым ощущением противопоставленности человека и природы обладал во всей русской поэзии после Лермонтова едва ли не один только Бунин.
Человек у Лермонтова внеположен природе, поскольку он чужд её гармонии и заложенной в ней истинной свободе:
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?» (1, 97)
Поэт и обществу несносному, тому самому, какому он жаждет дерзко бросить в глаза железный стих, противополагает в своём внутреннем мире именно обращение к природе:
Зеленой сетью трав подёрнут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею тёмную вхожу я: сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и жёлтые листы
Шумят под робкими шагами (1, 67).
1840
Он даже самоё любовь к родине намеренно и резко отграничивает от всего, что связано с человеком:
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
1841
В этих строках поэт клевещет на себя, ибо и история, и военная история в частности, и неколебимая мощь страны не столь уж безразличны ему: то доказывает его же поэзия. Лермонтов здесь скорее опровергает классицистические шаблоны, узость государственников, в запальчивости впадая в крайность, опять в крайность. Но природе он в своем патриотизме отдаёт всё же явное предпочтение:
Но я люблю — за что, не знаю сам—
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Просёлочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз.
1840
Едва ли не первым среди отечественных поэтов обратился Лермонтов к образу берёзы как к поэтическому символу русской земли. Впрочем, народная поэзия этот образ знала издавна. Так ведь народную-то жизнь он знал и любил как редко кто. И когда он выказывает своё презрение к человеку, он простого человека, мужика, «народ» — к тому не относит.
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
Ему и «пьяные мужички» милы. Такая любовь родилась у него в раннем детстве, когда он заставлял безмерно любящую его бабушку строить избы для этих самых мужичков. Оттого и отрадна ему картина мужицкого довольства:
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу покрытою соломой,
С резными ставнями окно… (1, 102)
1841
Как немногие умел Лермонтов проникнуть в душу простого человека и раскрыть её изнутри, раскрыть всю неброскою красоту её — и в том явно сказывается чувство соборного сознания, которому он был не чужд и которое парадоксально контрастирует с чувством замкнутости и одиночества, столь свойственным поэзии Лермонтова. Так у него всё в контрасте. Лермонтов сделал художественное открытие, обычно сопрягаемое с именами Стендаля и Льва Толстого: он впервые показал военное сражение не общим планом («Швед, русский колет, рубит, режет…»), но крупным, как бы глазами одного из его участников, простого солдата. И сколь сложным, многомерным представляется характер этого безвестного ветерана, вспоминающего про день Бородина. Он и мудр и простодушен, скромен и немножко хвастлив, бесхитростен и благороден, ему присущи гордость (не гордыня!) и смирение, он простоват по мироощущению своему, готов жизнь отдать за ближних, готов смириться перед Божьей волею.
Соборное восприятие душевных состояний человеческих, тончайших внутренних движений — позволили Лермонтову раскрыть в совершенной художественной форме все оттенки святой материнской любви в «Казачьей колыбельной песне» (1838). Глубокое религиозное чувство в основе этой любви поражает силою своею, неколебимостью, молитвенным смирением.
Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да, готовясь в бой опасный,
Помни мать свою… (1, 51)
Всё же недаром заканчивает Лермонтов свою «Песнь про купца Калашникова» (1837) возглашением славы народу как народу христианскому. Это не этикетная формула, не бездумная стилизация. Поэт выводит основное качество народной жизни именно из народной веры. Всматриваясь во временную даль, он отмечает исконно присущее русскому человеку стремление: постоять за правду до последнева. Именно эта формула, эта мысль высвечивает смысловое содержание всей поэмы, является её энергетическим узлом. Нетрудно увидеть: русский человек ради правды готов пожертвовать самою жизнью, смиренно склоняясь перед Промыслом, — именно так поступает герой поэмы, купец Калашников, не желая неправдою купить себе спасение от царского гнева. В самом деле: на вопрос Грозного, намеренно ли убил он в кулачном бою любимого царём опричника, Калашников мог бы и слукавить, поскольку подобные схватки порою кончались и гибелью одного из бойцов — таков уж варварский обычай времени. Но Калашников вышел «постояти за правду», он и стоит за неё «до последнева», а значит: не может лгать даже перед неминуемостью царского гнева.
Напомним ещё раз, что именно такой тип поступка Достоевский называл «русским решением вопроса»: подчинение правде — собственного интереса, собственной выгоды. «Песня про купца Калашникова» интересна не только своей формою, тонкой стилизацией, проникновением автора в самый дух народной поэзии — но и тем ещё, что в этой поэме Лермонтов сумел не подчиниться, но подчинить себе романтические стереотипы, соединить романтический по природе характер с народной правдою и христианским смирением.
В вершинных же своих романтических созданиях, поэмах «Мцыри» и «Демон», Лермонтов не преодолел сопротивление материала, да вряд ли и ставил перед собою такую задачу — как, впрочем, и при работе над «Песней…», где сама народная натура героя не вместилась в привычные рамки сложившейся формы. В этом смысле натуры и Мцыри, и Демона для романтического произведения весьма характерны, обычны, по-своему заурядны, ибо строятся по давно известным образцам, соответствуют выработанным клише, — и лишь могучий гений Лермонтова не позволяет заметить этой шаблонности и романтической заурядности.
2. Поэмы «Мцыри» и «Демон»
Всё, что составляет душевный мир лирики Лермонтова, отпечатлено и в поэмах его. В иных — даже с большею силою и страстью, нежели в стихотворениях, здесь разобранных (с большею или меньшею подробностью). И важно: в ранних поэмах («Черкесы», «Кавказский пленник», «Корсар», «Преступник», «Исповедь», «Последний сын вольности», «Ангел Смерти», «Измаил-Бей», «Боярин Орша» и др.) пыл страстей порою неистовее, чем в поздних шедеврах. Но мы задержим внимание именно на этих, самых у Лермонтова совершенных поэмах — «Мцыри» и «Демон», — на признанных вершинах русского романтизма. В отличие от Пушкина, Лермонтов весьма годился в герои романтической поэзии. Но само погружение в романтическую стихию парадоксально обнаруживает, сколь несамостоятельной и даже заурядной становится личность, стремящаяся к свободе и проявлению собственной неординарности, когда она пытается осуществить это проявлением и действием своей исключительной воли, бросая вызов воле Божией. Романтический герой всегда «молится» безбожной «молитвою»: «Да будет воля моя».
Пусть монастырский ваш закон
Рукою неба утверждён;
Но в этом сердце есть другой,
Ему не менее святой… (2, 185)
— утверждает герой «Исповеди» (1830), прямо, как видим, не
сомневающийся в святости (то есть истинности и праведности) некоего собственного закона, противоположного тому, что дан «рукою неба», Божией волею. Герой этой ранней поэмы есть прямой предшественник Мцыри. Он также претендует на исключительность страстей, и страсти его впрямь сильны и терзают душу муками нечеловеческими. Правда, у героя «Исповеди» терзания основаны на слишком земном чувстве, но само вознесение этого земного даже над спасением— весьма красноречиво.
Я о спасенье не молюсь,
Небес и ада не боюсь;
Пусть вечно мучусь; не беда!
Ведь с ней не встречусь никогда!
Разлуки первый, грозный час
Стал веком, вечностью для нас!
И если б рай передо мной
Открыт был властью неземной,
Клянусь, я прежде чем вступил,
У врат священных бы спросил,
Найду ли там, среди святых,
Погибший рай надежд моих?
Нет, перестань, не возражай…
Что без неё земля и рай?
Пустые звонкие слова,
Блестящий рай без божества!
Увы! отдай ты мне назад
Её улыбку, милый взгляд,
Отдай мне свежие уста,
И голос сладкий, как мечта…
Один лишь слабый звук отдай…
О! старец! что такое рай?.. (2, 187)
Тут незрелая ещё приземленность страсти. Не таков уже герой поэмы «Мцыри» (1839). Его страсть кажется воспарившею над всем земным, она неистова и всепожирающа:
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Её пред небом и землей
Я нынче громко признаю
И о прощенье не молю (2, 54).
Герой «Исповеди» выразился сильнее «Я о спасенье не молюсь», но он не мог ещё отыскать подобных слов для своей страсти. Мцыри также отвергнет спасение, и его отречение окажется страшнее, ибо слишком пламенно нечеловеческие муки его раздирают. «…Что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполинская натура у этого мцыри»4, — воскликнул когда-то в бессознательном восторге Белинский, но нам следовало бы ещё раз задуматься об источнике этой огненности. Мцыри противопоставляет свою страсть— кельям и молитве, то есть аскезе, тому, что, по слову Спасителя, может единственно побороть любую бесовскую силу (Мф. 17, 21).
Не забудем, что поэма представляет собою исповедь её героя (в ранней поэме это явно обозначено названием), и пусть для автора то лишь условность, позволяющая герою «словами облегчить грудь», но всё же слишком вольное обращение с избранной формой недопустимо. Ибо вольное обращение с таинством есть нарушение третьей заповеди. Исповедь же юного послушника странна; перед лицом близкой смерти он полон гордыни, но не смирения, он превозносит как истинное душевное сокровище свою страсть, не желая примирения с Богом даже на смертном одре. А он и не может иначе: пафос борьбы, бунтарский дух, тоска о вольности — не более чем жёсткая программа, преодолеть которую романтический герой не в состоянии.
Я мало жил, и жил в плену,
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог (2, 53).
Только поэтический гений Лермонтова, скажем опять, заставляет нас забыть, что тут не иное что, как романтический шаблон. Жёсткая схема стремлений и действий подобного героя запечатлена была поэтом ещё в знаменитом стихотворении «Парус» (1832):
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Романтический герой — в рабстве у подобных страстей пребудет вечно. И это уже достаточно тривиально. Пафос борьбы становится в романтизме самодовлеющей ценностью. Сама обстановка, в которой действует герой, также, скажем ещё раз, слишком однообразна в романтических произведениях. Он не может, к примеру, убежать из монастыря, находящегося в средней полосе России на берегу тихого пруда, и легким летним вечером отправиться в путь по тихой полевой тропе, овеваемый ленивым ветерком, — ему подавай скалы, бурю, грозу…
О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнии ловил…
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?.. (2, 58)
Вот романтический герой в своей стихии. Так же, как и в борьбе с барсом, самом отрадном для пего эпизоде во всей истории его побега.
И мы сплелись, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рождён
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык… (2, 65)
У Мцыри было два предшественника — уже упомянутый герой поэмы «Исповедь» и персонаж другой ранней поэмы, «Боярин Орша» (1835–1836), некий Арсений: оба изъясняются порою большими периодами исповеди-монолога Мцыри, позднее прямо перенесёнными автором в лучшее свое поэтическое создание. Лермонтов как бы очистил героя от некоторой «прозы жизни», что особенно заметна в «Боярине Орше», отбросил все житейские побуждения в действиях его, абстрагировался, насколько возможно, от конкретности бытия и быта. Романтический герой предстал перед читателем в незамутнённом соответствии романтическому канону. По этому канону натура героя раскрывается не только через соответствие обстановки бушующим страстям его, но и в контрастном противопоставлении противоположным началам и характерам. Мцыри противостал монахам безвестного монастыря, его гордыня возвышена всем пафосом поэмы над их презренным смирением. Недаром же и побег из обители совершается в тот момент, «когда склонясь при алтаре», иноки «ниц лежали на земле» (2, 58). Так сам побег Мцыри превращается в отвержение смирения и в бунт против Вседержителя.
Пламенная страсть Мцыри отвращает его не просто от некоего абстрактного приниженного существования в неволе, но от «келий душных и молитв», то есть от подвига аскезы и молитвы, то есть от стяжания Святого Духа, составляющего, как учил преподобный Серафим Саровский, главный смысл земного бытия человека. Романтическому гордецу недоступно понимание того, что для аскезы и молитвы потребна большая внутренняя сила, большее напряжение воли, нежели для самого яркого обнаружения молодецкой удали и необузданных страстей, — недоступно, ибо он слишком для того недостаточно самобытен. Идеал Мцыри — бездуховен, неблагодатен. Закабаление же любой страстью ведёт душу к гибели — предупреждением о том переполнены святоотеческие писания. (А Лермонтов, напомним, мнил возможность быть вольным и находясь в рабской зависимости от страстей — парадоксальное заблуждение.)
Исповедь Мцыри обнаруживает, что романтически пылкий герой не способен осознать собственной греховности, отчего не видит и духовной пользы от самого таинства: исповедь для него — лишь эмоциональная разрядка:
Всё лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать… (2, 53)
И не странно ли, что некая польза предполагается лишь для принимающего исповедь, да и то при условии наличия злых дел у кающегося. Оттого Мцыри не сознаёт и природу своего душевного огня:
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в душе моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожёг свою тюрьму
И возвратился вновь к Тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой…
Но что мне в том? (2, 71)
И далее Мцыри произносит слова, несущие в себе ужас духовной гибели его:
… пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдёт себе приют…
Увы! — за несколько минут
Между крутых и тёмных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял… (2, 71)
Мцыри, как видим, явно предпочитает земные сокровища небесным. Отчасти здесь проявлено вполне привычное всем понимание проблемы, какое Лермонтов высказал в раннем своем стихотворений «Земля и небо» (1831):
Как землю нам больше небес не любить?
Нам небесное счастье темно;
Хоть счастье земное и меньше в сто раз,
Но мы знаем, какое оно (1, 844).
В ещё более упрощённой форме это звучит так: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Но свести всё значение слов Мцыри лишь к такому примитивному толкованию значит затуманить, скрыть страшный смысл его отречения, ибо Мцыри не просто предпочитает родину райскому блаженству, которого, по его убеждённости, он несомненно достоин (как позднее в более корявой форме выразил это Есенин: «я скажу: не надо рая — дайте родину мою»), но в очень привлекательном — соблазнительном! — виде возглашает не иное что, как отказ от спасения, ведь рай и вечность именно и есть иными словами выраженное осмысление цели земного бытия, спасения во Христе. Мрачное ущелье, предпочтённое Мцыри, обретает черты инфернального смысла. Сатанинский смысл такого предпочтения поистине страшен. Душа героя — на пороге гибели, но в наивном неведении он не страшится, напротив: пребывает в уверенности скорого обретения рая, хотя к нему не стремится и им не дорожит.
Однако вряд ли сам автор сознавал, что его поэма касается проблемы сотериологической.
Проблема спасения ставится отчётливо и в последней лермонтовской поэме — «Демон». Но и тут мы не можем быть уверены, что это было целью автора. Поэма создавалась долго, мучительно, одна редакция сменяла другую — и всего набралось их семь: за двенадцать лет (1829–1840), в продолжение которых жестокие вопросы бесовского бытия не оставляли поэта. Но несмотря на столь долгий срок, поэма не далась вполне её создателю, она не достаточно зрела по мысли, но одновременно коварна в своей прелести, в соблазнительной гармонии стиха. Образ демона, мука души поэта, и открыто, и в непроявленном виде изобилует в наследии Лермонтова. В поэме автор ставит своего демона в ситуацию, изначально парадоксальную, непривычную:
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья—
И зло наскучило ему (2, 85).
Созерцание прекрасной Тамары совершает в демоне внутренний переворот:
На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук—
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!.. (2, 89)
По учению Святых Отцов сатана и его присные настолько укоренены во зле, что примирение с Творцом для них невозможно. Лермонтовская «демонология» — иного рода. Его персонаж готов встать на путь добра, правда, начинает он движение по этому пути с очередного злого деяния: не без его вмешательства гибнет жених Тамары; но тут как бы готово психологическое оправдание центрального персонажа поэмы: он лишь убирает с пути соперника, чтобы тем полнее предаться своей любви. Признаем: для столь могучей натуры поступок по-человечески мелочен. Избрав в персонажи падшего ангела, Лермонтов получил возможность самого полного осуществления романтического требования избрать характер в высшей степени исключительный, и с сильнейшими страстями — пока демон предаётся своим внутренним терзаниям, он, пожалуй, соответствует такому требованию. С другой стороны — романтизм иррационален по природе, и в тяготении к крайностям заглядывает в бездну иррационального — жажда инфернального заложена, таким образом, в его эстетике. Но с первого же поступка персонаж оказывается недостойным замысла, превращается в весьма заурядную фигуру. Устранив соперника, он начинает соблазнение будущей своей жертвы, и ведёт его слишком по-человечески шаблонно, хотя и изъясняется дивными стихами, вложенными ему в уста автором. Смысл же его речей прост: не следует печалиться по умершему, он того недостоин, я смогу утешить получше. Конечно, такой пересказ — издевательство над поэзией, да ведь поэзия слишком способна затуманить и приукрасить банальность иных речей. Пытаясь противиться соблазну, Тамара просит отца отдать её в монастырь, но и там «преступная дума» и томление не оставляют её. Демон тем временем вполне готов к внутреннему перерождению:
И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора (2, 100).
Однако все испортил «посланник рая, херувим», не понявший того, что совершается с демоном, и «вместо сладостного привета» обрушивший на него «тягостный укор»:
«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет,
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след,
Кто звал тебя?» (2, 100–101)
Эти речи вновь возрождают в демоне «старинной ненависти яд» (2, 101). Проще бы сказать: он как-то по-детски обиделся и вознегодовал. К слову, недаром Вл. Соловьёв усмотрел у Лермонтова «какую-то личную обиду», когда тот говорил о Божьей воле, — не отражение ли того же видим и у центрального персонажа поэмы? Демон всё же многое несёт в себе от своего создателя: Лермонтов хоть и в шутливой форме, но признал это в разговоре с В.Ф.Одоевским. Может быть, самою шуткою, смехом — он хотел разрушить подобное мнение в других, да не удалось. Итак, демон слишком по-человечески, как при столкновении пылкого любовника с опасным соперником, возревновал к ангелу и грозно прогнал его с пути. Затем он страстно изъясняет девушке свою любовь и долго, в прекрасно-огненных стихах, жалуется ей на свою судьбу, свои печали, страдания. По тому же шаблону, скажем забегая вперед, действует Печорин в романе «Герой нашего времени», добиваясь любви княжны Мери (но изъясняясь, разумеется, прозою). Преодолевая сомнения Тамары, соблазнитель её дает самые страстные клятвы оставить зло и коварство:
Клянусь любовию моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру (2, 107).
Следуя схеме всех подобных объяснений, демон клянётся в исключительности своего чувства, внушает избраннице, что вне тогo мира, царицей которого он обещает её сделать, счастья и любви для неё быть не может:
О! верь мне: я один поныне
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя своей святыней,
Я власть у ног твоих сложил… (2, 107)
И так далее, по общему трафарету.
Всё завершается «уст согласным лобзаньем» и закономерной гибелью героини. Однако восторжествовать демону так и не пришлось. Тамара оказывается спасённой. Вот тут мы и сталкиваемся с важнейшей проблемой поэмы: в чём залог спасения? С заглавным персонажем как будто всё ясно: его судьба строится по давнему стереотипу, известному нам по многим литературным произведениям: бесу на какое-то время даётся власть над человеком, но затем он оказывается посрамлённым. Примеров предостаточно: от русских Повестей XVII столетия до «Фауста» Гёте. Важнее причины посрамления беса и спасения искушаемого: они у разных авторов осмысляются различно. В поэме Лермонтова всё точно высказывает уносящий душу Тамары ангел:
Но час суда теперь настал—
И благо Божие решенье!
Дни испытания прошли;
С одеждой бренною земли
Окопы зла с неё ниспали.
Узнай! давно её мы ждали!
Её душа была из тех,
Которых жизнь — одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Ценой жестокой искупила
Она страдала и любила—
И рай открылся для любви! (2, 114)
Всякого, кто вдумается в эти слова, не может не охватить сомнение. Прежде всего: любовь Тамары не есть та духовная любовь, которая служит обретению человеком подобия Божия, напротив, тут чисто греховная страсть, притом соединённая с сознательным богоотступничеством, поскольку служитель ада вовсе не обманывает свою жертву относительно своей природы. Остроумно рассуждение Мережковского по этому поводу: «Но если рай открылся для неё, то почему же и не для демона? Он ведь так же любил, так же страдал. Вся разница в том, что демон останется верен, а Тамара изменит любви своей. В метафизике ангельской явный подлог: не любовь, а измена любви, ложь любви, награждаются христианским раем»5. Заметим лишь, что метафизика тут не ангельская, но лермонтовская.
Но всё это оказывается вовсе несущественным: спасение, если быть внимательным к словам ангела, определяется не любовью и страданием, но изначальной, превечной, онтологической избранностью души, деяния которой не имеют совершительной силы и влияния на конечную судьбу её. Такая душа, оказывается, имеет вообще особую природу: она соткана из лучшего эфира— и тем как бы возносится над всеми прочими. Ранее уже говорилось, что на становление богоборческого романтизма решающее влияние оказали сотериологические идеи предопределения конечных судеб людских. Нетрудно заметить, что «лермонтовская сотериология» (если можно так назвать его представление о спасении, отражённое в поэме) имеет точки соприкосновения именно с представлением о предопределении, хотя вряд ли сам поэт то сознавал: скорее здесь cтихийно и бессознательно сказалось увлечение эстетическими плодами одного из религиозных заблуждений — урок для желающих осмыслить духовно творческий опыт великого поэта, гений его позволил отчётливо, хоть и невольно, проявить то, что в действиях и идеях многих прочих остается невнятным и туманным.
Трудно сказать, укрывается ли в исповедании подобной идеи об избранности некоторых редких душ человеческих какая-либо личная корысть поэта, несомненно причислявшего себя к созданиям особого рода, но многие позднейшие истолкователи жизни и поэзии Лермонтова склонялись к подобному же пониманию его судьбы. Как бы сотканный Творцом из лучшего эфира — Лермонтов явился созданием не для мира сего, оттого и не слишком задержался в этом мире. Не станем всерьез разбирать концепцию Мережковского, основанную на гностических заблуждениях, но осмысляя судьбу поэта, не отвергнем и того, что для самого Лермонтова отражением его души в поэме оказывается вовсе не демон, но — Тамара. Тоже своего рода парадокс. Поэтому можно принять идею Вл. Соловьёва, указавшего на то, что Лермонтов как мыслитель оказался предшественником, не для всех явным, ницшеанских идей о сверхчеловечестве. Подобные сопоставления способны навести на многие любопытные размышления, но они выходят за рамки наших интересов. Должно лишь заметить, что на уровне низшем, уровне обыденного сознания, все подобные идеи оборачиваются простеньким выводом: избранным людям всё позволено, в их действиях всё оправдано, их нельзя оценивать по общим критериям, Бог оправдает их независимо ни от чего. (Достоевский опроверг это как «наполеоновскую идею» Раскольникова.) Уверен ли был в том сам Лермонтов? Кажется, он колебался. Действиями своими испытывал судьбу. Сомнения же выразил в вершинном создании — в романе «Герой нашего времени» (1838–1840).
3. Роман «Герой нашего времени»
Что за название — «Герой нашего времени»? В чём его смысл?
Напрашивается привычное: типичный представитель своего времени, характернейший характер, характеризующий уровень развития общества, точнее — поколения молодых людей времени. Так ли? Печорин более похож на исключение: свойствами своей натуры. Правда, сквозь исключительность вернее всего проясняется именно присущее многим, так что не пренебрежём и расхожим толкованием. Но социальное прочтение всем уже наскучило, если не сказать сильнее. Да и что нам социальные характеристики давно ушедших времён? Надо учитывать и иронию, в чём сам автор настойчиво наставлял читающую публику и в основном предисловии, и в предисловии к «Журналу Печорина», — а авторскими предупреждениями пренебрегать не следует, хотя они порою сознательно обманчивы. Ирония же, как известно, есть употребление слова в противоположном значении. Слово «герой», стало быть, может обрести противозначный смысл: антигерой. Перед нами как-никак художественный текст.
И вообще разгадывать загадки, заданные Лермонтовым, плодотворнее и интереснее, подбираясь к ним с иной стороны: не занимаясь социально-историческими изысканиями, но пытаясь постигнуть художественное совершенство произведения. Всё-таки роман этот есть литературный шедевр. Лермонтов явил себя в литературе не только как великий поэт, но и как гениальный прозаик. Лермонтовскую прозу ещё Гоголь определил поэтически: благоуханная. Чехов восхищался: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, по предложениям, по частям предложения… Так бы и учился писать»6.
Правда, Набоков, также тонкий стилист, отказывал прозе Лермонтова в высоких достоинствах, но он и вообще любил ниспровергать авторитеты и уничижительно отзывался о многих литературных классиках. Да каждый художник субъективен, не всегда умея возвыситься над собственными эстетическими пристрастиями, признать иные художественные критерии, нежели его собственные. Но чтобы меньше спорить, нужно не мудрствуя лукаво обратиться к самому предмету обсуждения. Пусть в данной работе то побочная цель, но задержим внимание хоть на нeкоторых образцах прозы Лермонтова.
Лермонтовский синтаксис, мастерство построения фразы, завораживающий ритм всей прозы — всё же бесспорны. Вот образец, на котором, следуя совету Чехова, следует учиться писать: «И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частию была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лёд от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяною корою, то с пеною прыгая по черным камням» (4, 28).
Подобная конструкция, бессоюзное сложное предложение, сочетающее ряд сложноподчинённых, включающее обособленные второстепенные члены и иные усложнения, — представляет немалую трудность, ибо помимо выразительной ясности смысла, сама выразительность описания должна раскрываться в чётком ритме составных частей, лишённом однообразия, но строго выдержанном. Ещё более замечательна единая завершающая фраза повести «Княжна Мери», синтаксис которой можно определить как виртуозный: это тот уровень владения пpoзою, когда никакие технические препятствия не существуют для мастера, достигшего совершенства: «Я, как матрос, рождённый и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани…» (4, 125). На подобное достаточно лишь молча указать, не разрушая того впечатления гармонии, какое не может не испытать всякий, хоть сколько-нибудь восприимчивый к совершенству художественного языка.
Справедливости ради нужно указать и на один существенный недостаток архитектоники романа: слишком навязчивое употребление некого условного приёма, без которого развитие событий просто не могло бы осуществляться. Этот приём отмечен давно: в романе «Герой нашего времени» основные персонажи слишком часто — «случайно» — подслушивают и подсматривают, сообразуя в дальнейшем свои поступки с обретёнными подобным образом сведениями о ситуации, о характерах и намерениях тех, с кем им приходится сталкиваться в ходе развития действия.
Например, в повести «Бэла» Максим Максимыч ненамеренно подслушивает разговор Казбича с Азаматом, предлагавшим в обмен на коня украсть собственную сестру, а затем узнавший о том Печорин организует само похищение. В «Тамани» Печорин опять-таки случайно становится незримым свидетелем разговора контрабандистов, что роковым образом изменило их судьбу. В «Княжне Мери» Печорин же скрытно присутствует при заговоре его недоброжелателей, вознамерившихся жестоко посмеяться над ним во время дуэли. И так далее. Приверженность такой условности объясняется у Лермонтова, скорее всего, некоторой невыработанностью приёмов, побуждающих сюжетное движение повествования, — в литературе того времени.
Встречаем в романе и некоторые отголоски романтического мироотображения: прежде всего в построении характера Печорина, несомненно родственного некоторыми чертами стереотипным натурам, какими изобилует романтизм. Это ощутимо хотя бы в той приведённой здесь завершающей фразе повести «Княжна Мери», где главный герой сравнивает себя с «матросом разбойничьего брига»: корсары и разбойники слишком часто появляются в романтических поэмах (да и у того же Лермонтова), чтобы такое сопоставление возникло случайно. Исключительная индивидуальность с сильными страстями — это не новость для литературы. Но заслуживает восхищения мастерство, с каким Лермонтов вплетает такой, отчасти построенный по шаблону характер, в ткань реалистической психологической прозы — без фальши и натяжки — прозы, основы которой он же и заложил (правда, не без влияния литературы западной).
«Герой нашего времени» — первый в русской литературе психологический роман, и один из совершенных образцов этого жанра. Психологический анализ характера главного героя осуществляется в сложном композиционном построении романа, архитектура которого причудлива нарушением хронологической последовательности основных его частей. И пусть это стало уже общим местом всех критических разборов «Героя нашего времени», не пренебрежём вновь обратиться к осмыслению композиции произведения как одной из важнейших его художественных особенностей. Роман состоит из пяти повестей: вслед за общим предисловием идет «Бэла», затем «Максим Максимыч», следующие же три повести, «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист» образуют единый «Журнал Печорина», которому предпослано также особое предисловие.
Истинная хронология иная. Молодой офицер Печорин после некой случившейся в его судьбе истории, разрушившей честолюбивые замыслы героя (ничего более подробного мы о том не узнаём), следует к месту нового назначения, остановившись на пути в небольшом и «скверном» городишке Тамани (повесть «Тамань»), затем на Кавказе он участвует в военных действиях и знакомится с юнкером Грушницким, с которым затем встречается на Водах, где он живёт сначала в Пятигорске, а затем в Kиcловодске («Княжна Мери»), после убийства Грушницкого на дуэли Печорин отправлен в крепость под начало штабс-капитана Максима Максимыча («Бэла»). Во время двухнедельной отлучки в казачью станицу случается история, рассказанная в повести «Фаталист». Не вполне ясна последовательность событий двух этих повестей. Скорее, пари с Вуличем в «Фаталисте» произошло ранее истории похищения Бэлы — и это имеет принципиально важное значение. Вскоре после гибели Бэлы Печорин переведён на новое место, а затем выходит в отставку. Через пять лет после описанных событий Печорин отправляется в Персию и во Владикавказе мимоходом встречается вновь с давним сослуживцем («Максим Максимыч»). Из Персии ему не суждено было вернуться: на обратном пути он умирает (о чем сообщается в Предисловии к «Журналу Печорина»).
Повествование ведётся от имени трёх рассказчиков: некоего странствующего офицера (которого не следует путать с самим автором), штабс-капитана Максима Максимыча и, наконец, самого центрального героя, молодого прапорщика Григория Александровича Печорина. Зачем понадобились автору разные рассказчики? Ясно: чтобы осветить события и характер центрального героя с разных точек зрения, и как можно полнее. Но у Лермонтова ведь не просто три повествователя, но три различных типа рассказчика — вот важно. Какие это типы? Их и всего-то три встречается: сторонний наблюдатель происходящего, во-первых, второстепенный персонаж, участник событий, во-вторых, и сам главный герой, в-последних. Над ними главенствует создатель всего произведения, Автор, разгадать личность которого, основываясь на разборе его творения, занятие самое увлекательное.
Со всеми тремя мы сталкиваемся в романе. Но тут не просто три точки зрения, но три уровня восприятия характера, психологического раскрытия натуры «героя времени», три меры постижения сложного внутреннего мира незаурядной индивидуальности. Присутствие трёх типов рассказчика, их расположение в ходе повествования — тесно увязывается с общей композицией романа, определяет и хронологическую перестановку событий, одновременно находясь в сложной зависимости от такой перестановки. Начинает рассказ о Печорине Максим Максимыч, человек нам безусловно симпатичный, добрый, но простоватый (чтобы не сказать: недалёкий). Он много наблюдал Печорина, но разобраться в его характере решительно не в состоянии: Печорин для него странен, о чём он простодушно заявляет в самом начале своего рассказа: «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьёшься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвёшь со смеха… Да-с, с большими был странностями…» (4, 13).
Стоп. Не столь наивный читатель тут же заподозрит неладное: человек вздрагивает от резкого звука не из трусости вовсе, но выведенный из состояния глубокой задумчивости, погружённости в себя, о чём свидетельствует и следующее замечание: порою «слова не добьешься». Но Максим Максимычу такое состояние неведомо и оттого непонятно, он и прибегает, как то делают всегда подобные лица, к упрощённому разумению, им доступному.
Но всё же странности некоторые в характере молодого офицера не могут не заинтересовать читателя. Из рассказа Максима Максимыча вынесет он впечатление о главном герое как о человеке чёрством, даже жестоком. Ради прихоти своей Печорин разрушает судьбы, делает несчастливыми нескольких человек. А когда уже после похорон Бэлы Максим Максимыч, отчасти соблюдая банальный ритуал, начинает высказывать Печорину слова сочувствия, тот лишь смеётся в ответ. «У меня мороз пробежал по коже от этого смеха» (4, 38), — признаётся штабс — капитан. И впрямь странность какая-то. Сам Печорин, пытаясь объяснить Максиму Максимычу своё состояние, своё поведение, высказывает парадоксальную мысль, принять которую не всякий сможет сразу и безоговорочно: «…У меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. <…> Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления…» (4, 32–33).
И впрямь странный. Но в чём разгадка такой странности? — Максим Максимыч не может помочь нам в наших недоумениях. Далее рассказ переходит к безымянному странствующему офицеру. Он далеко превосходит штабс-капитана в наблюдательности. Так, он делает замечание, на которое Максим Максимыч никогда не был бы способен; недолго наблюдая Печорина, он предполагает: «Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками — верный признак некоторой скрытности характера» (4, 43).
Введение в ткань романа второго повествователя корректирует фокус изображения. Если Максим Максимыч рассматривает события как бы в перевёрнутый бинокль, так что всё в поле его зрения, но всё слишком общо, то офицер-рассказчик приближает изображение, переводит его с общего плана на более укрупнённый. Однако у него как у рассказчика есть важный недостаток в сравнении со штабс-капитаном: он слишком мало знает, довольствуясь лишь мимоходными наблюдениями. Вторая повесть поэтому в основном подтверждает впечатление, вынесенное после знакомства с началом романа: Печорин слишком равнодушен к людям, иначе своею холодностью не оскорбил бы Максима Максимыча, столь преданного дружбе с ним. Да и поистине странный он какой-то, и странность эта явно проступает во всём облике его, противоречивом даже для постороннего встречного. И не только к ближнему своему оказывается равнодушен герой, а и к себе: отдавая Максиму Максимычу свои записки, тот самый Журнал, который окажется основной частью романа. Позднее узнаем мы, что записки эти были для него прежде драгоценны: «Ведь этот журнал пишу я для себя, — наталкиваемся мы среди прочих и на такую запись, — и, следовательно, всё, что и в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием» (4, 87–88). И вот ему едва ли не постыла вся его прежняя жизнь, раз ни в грош не ставит он теперь воспоминания о ней: не может же не знать, что давний приятель употребит драгоценную некогда рукопись скорее всего на патроны. И сам поступок этот усугубляется глубоким наблюдением рассказчика над внешностью неожиданного встречного:
«…О глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но проницательный и тяжёлый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если бы не был столь равнодушно спокоен» (4, 43). (Заметим, что подобный же тяжёлый взгляд наблюдали многие мемуаристы у самого Лермонтова.)
Вторая повесть способна лишь раздразнить воображение читателя: что же истинного в Печорине — злой ли нрав (к чему так легко склониться как будто), или глубокая постоянная грусть? Ко второму ответу подталкивает некоторое сомнение. Но сам рассказчик слишком немного дает оснований, чтобы окончательно принять ту или иную версию. И только после этого, возбудив пытливый интерес к необычному столь характеру, заставив читателя, отыскивающего ответ, быть внимательным ко всякой подробности дальнейшего рассказа, автор меняет повествователя, давая слово самому центральному персонажу: как рассказчик он имеет несомненные преимущества перед двумя предшественниками своими, ибо не просто знает о себе более других (что естественно), но и способен осмыслить свои поступки, побуждения, эмоции, тончайшие движения души — как редко кто умеет. Трудно даже сразу понять, чем он более озабочен: действием или размышлением над смыслом действия. В нём одном — идеальное совмещение и героя, и тонкого наблюдательного рассказчика.
«Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живёт в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его…» (4, 113). Печорин наводит на свою душу увеличительное стекло, и она предстаёт перед всеми без прикрас, без попытки рассказчика что-то утаить, сгладить, дать в более выгодном свете, ибо он исповедуется самому себе, зная, что самого себя обмануть нечего и пытаться: для этого его ум слишком проницателен, «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление» (4, 47–48), предваряет рассказчик наше знакомство с записками Печорина, которые он решился опубликовать, — и тем указывает нашему и без того обострённому вниманию: по какому пути следует устремиться.
Однако первая часть Журнала Печорина отнюдь не рассеивает нашего недоумения, а лишь усугубляет его. Важно: не знай мы начала, не восприняли бы в полноте и парадокса: натура Печорина являет себя перед нами в резком контрасте тому, что мы уже знаем о нём. Важно также: переход от второй повести к третьей сопряжён не только со сменою рассказчика, но и резким хронологическим сдвигом: из самого завершения истории героя мы переносимся в её начало. И видим вдруг, что перед нами не застывший романтический характер, но индивидуальность в её развитии. И оказывается: не был Печорин прежде столь ленив душою и телом, как в конце, — напротив: он подвижен, любопытен, полон внутренней энергии. Его романтический настрой возбуждён некоей тайной (на поверку тайна обернулась заурядной обыдённостью: честные контрабандисты не стремились обнаружить свою деятельность при свете дня, только и всего), он пускается в опасную авантюру и применяет немалые усилия, чтобы остаться в живых. Печорину времени путешествия в Персию, пожалуй, лень было бы лишний шаг сделать ради раскрытия какой бы то ни было загадки. Единственно, что в нём неизменно от начала до конца (видим мы теперь), это способность приносить несчастья всем, с кем его сводит судьба. Добро бы заботился о недопущении беззакония — а то ведь одно праздное любопытство всему виною.
Третья повесть лишь ещё больше озадачивает читателя, следившего не просто за сменою событий, но озабоченного разгадыванием внутреннего развития человеческой индивидуальности. Когда бы «Тамань» стояла в начале романа, как ей и положено во временной последовательности, она не смогла бы возбудить в читателе никаких вопросов, но лишь породила бы поверхностное впечатление: какие только диковинные случаи не приключаются порою на этом свете!
Лишь только после того, как восприятие наше предельно обострено, начинается самораскрытие характера главного героя романа, героя столь давнего уже для нас времени. Печорин постоянно рефлектирует, занят постоянно самокопанием, самоедством — его беспокоят внутренние противоречия собственных стремлений и поступков. И неравнодушный читатель сможет разглядеть, что и его собственное время может стать для него отчасти ближе и понятнее, когда он без лености душевной осмыслит жизненный итог этого никогда не существовавшего персонажа, рождённого вымыслом художника. Никогда не существовавшего в реальности, но вот уже полтора века существующего в умах и воображении всякого образованного русского человека.
Знакомясь с записками Печорина, мы получаем возможность судить его непредвзято и бесстрастно. Именно судить, осуждать, поскольку суждение и осуждение направляется здесь не против человека (его нет, он лишь бесплотный вымысел), но против того греховного состояния души, какое отпечатлено Лермонтовым в образе Печорина.
Печорин проницателен и видит порою человека насквозь. Только обосновавшись в Пятигорске, он иронично предполагает уровень взаимоотношений между местными дамами и желающими привлечь их благосклонность офицерами: «Жёны местных властей <…> менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум» (4, 59).
И пожалуйста: Грушницкий при первой же встрече почти дословно повторяет то же, но уже вполне всерьез и в противоположном смысле, осуждая приезжую знать: «Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?» (4, 62).
Добиваясь власти над душою княжны Мери, Печорин на несколько ходов вперед предугадывает развитие событий. И даже недоволен этим: это становится скучным. «Я всё это знаю наизусть — вот что скучно!» (4, 90). Но как ни иронизирует Печорин над банальными ужимками ближних своих, он и сам непрочь использовать те же высмеиваемые им приёмы ради достижения собственной цели.
«… Я уверен, — мысленно высмеивает Печорин Грушницкого, — что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так просто, служить, но что ищет смерти, потому что… тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнётся! Да и к чему? Что я для вас? Поймёте ли вы меня?..» (4, 61) — и так далее».
Втайне посмеявшись над приятелем, Печорин вскоре произносит перед княжною эффектную тираду: «Я поступил, как безумец… этого в другой раз не случится: я приму свои меры… Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте» (4, 86). Сопоставление любопытное. Он же точно рассчитывает поведение Грушницкого на дуэли, складывая по своей воле обстоятельства так, что по сути лишает противника права на прицельный выстрел, и тем ставя себя в более выгодное положение, обеспечивая себе безопасность и одновременно возможность распорядиться жизнью бывшего приятеля.
Подобные примеры можно множить. Печорин незримо руководит действиями и поступками окружающих, навязывая им собственную волю и тем упиваясь. Он и в себе не ошибётся, не утаив от собственного внимания скрытые слабости душевные. И читатель, способный coпоставить и осмыслить поступки персонажей, узревает неожиданно мелочность и тщеславие, достойное скорее Грушницкого:
«Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая» (4, 75).
Или другое — страсть противоречить, в какой он себе признаётся:
«У меня врождённая страсть противоречить…» (4, 64). Кто знает эту страсть, знает и источник её — то, что современным языком определяется как комплекс неполноценности. Помилуйте, у Печорина-то?! Гордыня — да. Он весь переполнен гордынею, сознавая в самоупоении собственное превосходство над окружающими: он же умный человек и не может такого превосходства не сознавать. Так, конечно. Но гордыне всегда сопутствует тайная мука, утишить которую можно лишь противореча всем и всему, противореча ради самой возможности опровергать, выказывая тем себя, независимо от того, стоит за тобою правда или заблуждение. Само стремление романтической натуры к борьбе есть следствие такого комплекса, обратной стороны всякой гордыни. Гордыня и комплекс неполноценности неразлучны, они борются между собой в душе человека незримо порою, составляя его муку, его терзания и постоянно требуя себе в качестве пищи борьбу с кем-то, противоречие кому-то, власть над кем-то. «Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости?» (4, 87)
Печорин действует исключительно ради насыщения гордыни.
«…Я люблю врагов, хоть и не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на стороне, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть всё огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, — вот что я называю жизнью» (4, 95).
Для того, чтобы так безжалостно обнажать свои пороки, как это делает Печорин, — точно нужно мужество, и особого рода. Человек чаще стремится скрыть от самого себя нечто мучительное в своей натуре, в жизни, — даже убежать от действительности в мир опьяняющей и глушащей сознание грёзы, выдумки, приятного самообмана. Трезвая самооценка — часто дополнительная причина внутренней депрессии, терзаний. Печорин становится поистине героем своего времени, ибо не прячется от настоящего ни в прошлом, ни в мечтах о будущем, он становится исключением из правила, персонифицированного Грушницким, этим напыщенным обманщиком самого себя. Печорин — герой. Но героизм его — душевный, не духовный по природе. Печорин — эмоционально мужественный человек, но он не в состоянии раскрыть в себе самом своего истинного внутреннего человека (Еф. 3, 16). Упиваясь своею силою или терзаясь внутренними муками, он вовсе не смиряется даже тогда, когда видит в себе явные слабости, явные падения, наоборот: он постоянно склонен к самооправданию, которое соединяется в душе его с тяжким отчаянием. Не столь уж он рисуется, когда произносит перед княжной знаменитую тираду: «Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — никто меня не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собою и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди у меня родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой…» (4, 89).
В словах Печорина есть своя истина. Недаром предупредил Апостол:
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15, 33) Это Печорин сознавал вполне. Но далее Апостол произносит слова, которые помогают понять всю неполноту сознания лермонтовского героя: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога» (1 Кор. 15, 34). Печорин готов переложить вину на «дурное сообщество», но своего безбожия сознать не стремится отнюдь. Незнание Бога влечёт в направлении вполне определённом.
«Не уступай врагу, брат, и не предавайся отчаянию, ибо это великая радость диаволу»7, — учил авва Дорофей. «Согрешать — дело человеческое, отчаиваться — сатанинское»8, — предупредил св. Нил Синайский. Святитель Филарет Московский разъяснял: «Отчаиваться значит самому у себя отнимать милость Божию, которую Господь каждую минуту готов подать»9.
Подобными рассуждениями изобилуют труды Святых Отцов. Печорин вряд ли догадывался о том. В нём нет смирения, оттого он не сознаёт в слабости своей натуры глубоко укорененную греховность. Можно сказать: Печорин искренен в своём нераскаянии: он простодушно не различает в себе многие грехи. Oн трезво сознаёт собственные пороки, но не сознаёт в них греха. «Погубляет человека не величество, не множество грехов, но нераскаянное и ожесточенное сердце»10, — эти слова святителя Тихона Задонского можно бы поставить эпиграфом ко всему роману. Да ведь псевдообразованное русское общество святителя Тихона признавать не желало, высокомерно считая всё исконно православное устаревшим и не отвечающим потребностям просвещённого ума.
Если проследить поведение и размышления главного героя лермонтовского романа, то, пожалуй, он (герой, а не роман) останется чист только против девятой заповеди: лжесвидетельством своей души он не пятнает; хотя, должно признать, порою Печорин иезуитски изворотлив и, не произнося лжи несомненной, ведет себя, без сомнения, лживо. Это заметно в его отношениях с Грушницким, то же и с княжной: нигде ни разу не говоря и слова о своей любви (какой и нет вовсе), он не препятствует ей увериться в том, что всеми его действиями и словами движет именно сердечная склонность. Совесть вроде бы чиста, а уж коли кто в чём-то обманывается, тут его собственная вина.
О первых четырёх заповедях, объединённых общим понятием любви человека к Создателю, говорить по отношению к Печорину вроде бы бессмысленно. Однако нельзя его назвать человеком вполне чуждым религиозному переживанию, хотя бы в прошлом. Слабые отблески отошедшей от него веры заметны в некоторых второстепенных деталях, сущиостно важных для понимания его судьбы. Деталями-то пренебрегать нельзя: Лермонтов пользуется ими умело и тактично, и чуткому читателю они немалое раскроют (недаром Чехов, великий мастер художественной детали, так восхищался Лермонтовым). Boт заходит Печорин в лачугу контрабандистов: «На стене ни одного образа — дурной знак!» (4, 50). Впрочем, это можно расценить лишь как приметливость человека, самого к иконам тоже равнодушного. Но полностью равнодушный ничего и не заметит. Печорин оказывается знакомым с Писанием: цитирует, хотя и неточно (скорее, не цитирует, а перелагает своими словами) одно из пророчеств Исайи: «В тот день немые возопиют и слепые прозрят» (4, 50). Ср.: «Тогда откроются глаза слепых… и язык немого будет петь…» (Ис. 35, 5–6).
Другой раз Печорин цитирует Евангелие: «…я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют — только не воду…» (4, 59). Всякий узнает здесь известный эпизод, отмеченный евангелистом (Ин. 5, 3), откуда и взято это выражение чающие движения воды. Правда, оба раза в обращении Печорина к Писанию сквозит ирония, что должно признать греховным нарушением третьей заповеди (обращение к слову Божьему всуе — при расширительном толковании заповеди), однако о лермонтовском герое нельзя сказать, как о его литературном предшественнике Онегине, что он пребывает вне религии вообще. Но в таком случае с него и спрос больший. О почитании Печориным родителей (пятая заповедь) в романе умалчивается, но не красноречива ли сама фигура умолчания? Заповедь «не убий» Печорин нарушил, выйдя на дуэль с Грушницким, при том он заведомо поставил противника (хоть тот и не догадывался) в ситуацию, которая для самого Печорина оказалась относительно безопасна (убить безоружного, нe запятнав чести, нельзя), он же, выдержав выстрел, формально имел несомненное право распорядиться жизнью стрелявшего в него человека — всё было рассчитано заранее с иезуитской точностью. Седьмую заповедь (о прелюбодеянии) Печорин нарушает многократно, вовсе не задумываясь о том ни на миг. Восьмая заповедь («не укради») нарушается вопиюще, ибо выкрадывается не вещь, но человек (княжна Бэла), да и к похищению Карагёза Печорин причастен непосредственно. В зависти (десятая заповедь) он признаётся себе сам, хотя и без раскаяния: «Признаюсь ещё, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу; это чувство — было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всём признаваться; и вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нём отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдётся такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать своё самолюбие), который бы не был этим поражён неприятно» (4, 64).
Весь этот перечень необходим вовсе не обличения ради. Важно сознать: Печорин как бы исповедуется перед самим собою, но исповедь эта остаётся безблагодатною — не только потому, что нецерковна. У него и наедине с собою, со своею собственной совестью — застлан взор. Он не различает откровенной греховности. Почему?
Важнейшим энергетическим узлом всего романа должно признать следующее рассуждение Печорина: «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое моё удовольствие — подчинять моей воле всё, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание даёт понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить её к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновничьему столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара» (4, 86–87).
В завершающем рассуждении явственен отголосок псевдонаучных вульгарно-материалистических идей Просвещения — но не в них дело.
Печорин рассуждает о честолюбии, но так изъясняется обыденное сознание. На языке святоотеческом то обозначено точнее: перед нами грех любоначалия. Откровенный, ничем не прикрытый. Гордыня слишком мощная. Можно ли более очевидно, нежели это сделал Печорин, возносить «бесовскую молитву»: да будет воля моя! Он этим живет, это движет всеми его действиями. Конечно, Печорин мелочен в своих побуждениях и действиях, но бесовское начало не перестанет оттого быть менее губительным, лукавым и мрачным, менее бесовским по природе своей. Да ведь в исходе — смерть и страдания человеческие, как ни презирай он Грушницкого и ни пожимай равнодушно плечами перед слезами княжны. Пусть тут частный случай, да ещё в мелочном проявлении, однако в нём как в капле отражён общий бесчеловечный закон сатанинского разрушающего начала.
Лермонтов, хотел он того или нет, показал закономерный итог, к которому вынужденно приходит человек эвдемонического типа культуры — кто раньше, кто позднее. Раньше приходят именно герои. Ведь в изначальном своем стремлении к счастью человек начинает осмыслять его в категориях чувственного удовольствия. Такое понимание находим мы и в русской культуре XVIII столетия, в этот период русского Ренессанса (при всей его специфике, о чём шла речь во второй главе этой книги). С гедонистического понимания счастья начинает и Печорин, в чём он весьма зауряден: и по начальному намерению и по неизбежному итогу: «В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. <…> Тогда мне стало скучно» (4, 32–33).
О неизбежности пресыщения, об опасном развитии гедонизма цинично рассуждал ещё маркиз де Сад, предупреждая о конечном следствии стремления к удовольствиям: «Никакого ужаса, это самая обычная вещь на свете: когда вам надоедает одно удовольствие, вас тянет к другому, и предела этому нет. Вам делается скучно от банальных вещей, вам хочется чего-нибудь необычного, и в конечном счете последним прибежищем сладострастия является преступление»11.
Печорин и завершает всё преступлением, становясь своего рода нравственным садистом, находящим особое удовольствие от созерцания внутренних мучений тех, кто вверял ему душу (прежде всего женщин, любви которых он добивался). «… Я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания — и никогда не мог насытиться». И каков итог? — «…остаётся удвоенный голод и отчаяние!» (4, 110).
Всё то же отчаяние, услада дьявола. Именно пресыщение чувственными удовольствиями рождает в нём иное понимание счастья, откровенно сатанинское по природе своей: «А что такое счастье? Насыщенная гордость» (4, 87). Христианство учит несомненно: именно гордыня есть основа того зла, в котором пребывает мир. Гордыня дьявольская, и гордыня человеческая. И она слишком откровенно превозносится Печориным как высшая и самодовлеющая ценность человеческого бытия. Он творит себе из неё кумира и подчиняется ей безусловно. Печорин всё осмысляет и оценивает в категориях первенствования, господства, желания получить, а не отдать. Он во всём ищет своего: в любых взаимоотношениях с ближними. «…Я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого…» (4, 65).
Это о дружбе. А вот к чему свелось желание любви: «…теперь я только хочу быть любимым…» (4, 74). Однако счастья это не даёт. Недаром же преподобный Ефрем Сирин в своей великопостной молитве ставит рядом два безблагодатных состояния: дух уныния и дух любоначалия. Печорин пребывает в духе уныния — несомненно. Он познает высшую степень уныния — отчаяние и тоску. Созидание фальшивых кумиров, установление неверных целей может лишь обессмыслить жизнь, что и ощущает и конце концов Печорин — с неизбежностью. Печорин — «лишний человек», это известно. Пусть сей предмет и кажется кому-то скучноватым, но и банальная истина — всё же истина, и не годится ею совершенно пренебрегать. Знаменитый внутренний монолог Печорина в ночь перед дуэлью большинство знает едва ли не наизусть: «Пробегаю в памяти всё мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлёкся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел твёрд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни» (4, 110).
Печорин же и указывает важную причину всех своих бед: «Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия…» (4, 110) Вспомним ещё раз: любовь не ищет своего. Человек произносит слово, но оно не наполняется для него истинным смыслом — он не знает любви. При том любовь-страсть ему хорошо знакома: вспомнить хотя бы его бешеную скачку вслед навсегда расставшейся с ним женщине… зачем? — «одну минуту, ещё одну минуту видеть её, проститься, пожать руку…» (4, 121). И сколь бурно прорывается наружу его отчаяние, когда оказалось, что он лишён и этого малого утешения: «…я думал, грудь моя разорвётся» (4, 121) Вот неистовство страсти. Печорин не знает истинной любви. Но:
«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Для Печорина закрыта возможность богопознания. Для Печорина источником любви мыслится удовлетворённая гордыня: «…если бы все меня любили, я в себе нашёл бы бесконечные источники любви» (4, 87). Любовь же других, не забудем, для него есть лишь пища, питающая его любоначалие. Сознаёт ли он свой парадокс: сатанинское начало якобы должно породить состояние души, приближающее её к Богу? По по истине — Печорин изгнал Бога из своей души, обуянной гордынею, а взамен получил лишь пустоту отчаяния. Мы видим здесь более глубокое осмысление проблемы, поставленной Пушкиным, нежели то возможно было при анализе судьбы Онегина: там мы могли строить лишь логические догадки, здесь — всё сказано вполне ясно.
Вот так и входит в человека ощущение неполноценности: он оказывается одиноким, ему не на что опереться в самом себе. Поэтому его внутреннее страдание может родить только зло: «Зло порождает зло; первое страдание даёт понятие об удовольствии мучить другого» (4, 87). Этот нравственный садизм есть явный результат отсутствия Бога в душе: в душе, полной любви, собственное страдание рождает возможность со-страдания к ближнему, и только это. Там, где поселяется бес, — «зло порождает зло». Как и всякий человек, смутно сознающий свою вину во всех собственных (и не только собственных) бедах и стремящийся оправдаться хотя бы перед собою, и прежде всего перед собою, своей совестью, Печорин старается отыскать для себя какие-то смягчающие обстоятельства, если не полное избавление от всех обвинений и укоров совести. Это не может не подтолкнуть его к размышлениям о судьбе как о внешней силе, определяющей его поступки и снимающей с него хоть какую-то долю вины. В записках Печорина заметна эта явная склонность к отысканию возможности самооправдания. «С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда прицепила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?» (4, 93).
Или: «И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упадал па голову обречённых, часто без злобы, всегда без сожаления…» (4, 110). В самом деле: не виновны же палач и топор в том, что являются лишь орудием некоей высшей воли. Порою мысль о судьбе способна уязвить печоринскую гордыню:
«Неужели, думал я, моё единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? <…> Уж не назначен ли я судьбою в сочинители мещанских трагедий и семейных романов — или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить её, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?..» (4, 93).
Фатализм, к которому так заметна склонность Печорина, мог иметь для него вполне определённые последствия, что и случилось. Прежде всего, существование непреложной судьбы снимает с человека всякую ответственность — а Печорин к тому весьма склонен. Но фатализм порождает и безволие, бездействие, безысходность. И впрямь: чего ради суетиться и чего-то желать, когда всё определяет посторонняя воля, безликая ли судьба, всемогущий ли Бог? А это и крах всех честолюбивых притязаний: нечего тешить себя иллюзией, мнить себя творцом развивающейся драмы: судьба заставляет лишь участвовать в пошлой мещанской истории. И ты сам становишься лишь послушной марионеткой в руках неведомого кукловода. И каков смысл в той страстной мольбе: да будет воля моя—? Поэтому спор, что разгорелся между персонажами повести «Фаталист» относительно предопределения, для всех участников объясняется обычным любопытством, но в душе Печорина он обретал значение величайшей важности. Заметим: герой принимает решающее участие в ходе события: держит пари с Вуличем; подталкивает его намеренно провоцирующей репликой, лишь только возникло подозрение, что испытание судьбы не состоится; внимательно следит за всеми действиями поручика, И как не убедиться (хоть на миг) в существовании судьбы, когда размышление об участи несчастного Вулича с такой парадоксальной убедительностью склоняет к тому. Затем Печорин уже на себе испытывает судьбу, и снова с тем же итогом: что иное, как не судьба спасает его от неминуемой, казалось бы, гибели, когда пуля пьяного казака срывает его эполет. Под конец даже не склонный к метафизическим прениям Максим Максимыч бесхитростно повторяет тот же вывод: «Видно, уж так у него на роду было написано!..» (4, 133).
Повесть «Фаталист» недаром завершает роман: в ней подводится итог, разъясняющий окончательно все загадки характера героя. Хотя само описанное в ней событие отнюдь не последнее в хронологии романа. По многим признакам пари с Вуличем случилось до истории с Бэлой: после неё Печорин недолго пробыл в крепости, был подавлен и нездоров, что не согласуется с его двухнедельным выездом в казачью станицу и внутренним самоощущением героя в тот период. Печорин в станице не похож на человека, только что пережившего душевную трагедию. (Следовательно: похищение Бэлы, любовь и охлаждение к ней завершают «историю души человеческой», определяя состояние этой души на весь остаток времени. В «Бэле» рассказано было, догадываемся мы теперь, о последней предпринятой Печориным попытке полюбить истинно, бросить вызов судьбе, разорвать порочный круг, в котором томилась отчаянием душа его. И: безуспешно.
Только в самом конце становится понятен тот жестокий смех, каким ответил герой на утешения Максима Максимыча: то был смех холодного отчаяния. Отчаяния, которое создатель Печорина выразил в полных безнадёжности строках:
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка… (1, 68).
Вот этой-то шутке смеётся лермонтовский герой. Или сам автор?..
Нам же должно осмыслить это роковое заблуждение безблагодатного восприятия бытия. Печорин, предавшись соблазну фатализма, отрекается от собственной виновности во всём происшедшем и проникается иллюзией бессилия воли вообще. Грех двойной. Абсолютизация человеческой воли («да будет воля моя») ни к чему иному и привести не может, как только к разочарованию в каких бы то ни было возможностях этой воли. Фатализму христианин может противопоставить единственно — подлинное понимание действия Промысла Божия в земном бытии. Промысла, который всегда направлен на создание наилучших условий для человека в деле его спасения, но который всегда же требует от спасаемого непременного напряжения собственной воли в устроении своей судьбы. Однако для такого понимания требуется подвиг веры. Вот чего недостаёт всякому «лишнему человеку». Печорин трезво и мужественно разглядел источник многих своих бед, но не распознал природу их:
«В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив её уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге» (4, 129–130), — недаром помещены эти мысли героя на последних страницах романа. Печорин, повторимся, узрел причину зла, но не природу своего соблазна.
Преподобный Григорий Синаит писал, что мечтательность есть следствие обольщения ума злыми силами, мечтающий ум «бывает совершенно мёртв», ибо теряет доброе устремление, дарованное Создателем. Самолюбие же, поработившее душу Печорина, преподобный назвал «прелюдией страстей». Состояние души Печорина может вообще стать показательной иллюстрацией ко многим рассуждениям Святых Отцов о гибельности для человека страстей, уныния, самомнения, мечтательности и т. д. Лермонтов почерпнул подтверждение святоотеческой мысли в современной ему жизни, хотя, без сомнения, непосредственно такой цели перед собою не ставил, ибо, можно предположить, вряд ли был знаком с мудростью Святых Отцов. И вот важно: сам Лермонтов, как и его герой, мучительно переживал своё одиночество, парадоксально ощущая в том единство с современниками, со всем поколением своим — в грехе.
Связь со временем человек не может не ощущать. И зависит не от него, сколько бы ни противился неоспоримой власти времени, сколько бы ни отрицал её. Человек не может своей волею противостать власти внешних обстоятельств, в ряду которых пребывает и время. Только призвание на помощь Божией воли способно одолеть эту власть. Религиознo аморфное поколение, к какому принадлежал и Лермонтов, могло лишь безвольно следовать за мерным течением времени — и утолять потребность в единстве, данную нам Творцом, в одном лишь ложном, навязаным лукавыми силами сознании общей бесцельности бытия. Впрочем, не все и сознавали это. Сознать — значило сделать первый шаг на долгом пути изживания безблагодатного состояния.
Этот подвиг взял на себя Лермонтов, может быть, не имея даже и смутного представления о конечной цели. Нельзя и то упускать из виду, что такое сознавание может обречь слабые души на ещё большее уныние, тоску. Печорин многих заразил своею тоскою. Но всё же «болезнь времени» нужно было обнаружить, даже не зная средств к исцелению. Тут Лермонтов пошёл дальше Пушкина — в установлении диагноза своему поколению. Пушкин остро переживал лишь собственную греховность, безверие как нечто прежде всего лично ему присущее.
Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
Пушкин говорит: я. Лермонтов: мы.
И жизнь уж нас томит,
Как ровный путь без цели…
Как сходна лексика! Но у Лермонтова поразительное продолжение:
«Жизнь томит… как пир на празднике чужом». Вполне вероятно, что образ пира навеян евангельской притчей о званых на пир, но пренебрегших приглашением (Мф. 22, 1-14). Либо притчей о разумных и неразумных девах (Мф. 25, 1-13). Если так, размышление Лермонтова обретает дополнительный оттенок — эсхатологического предощущения. Чтобы избыть грех, следует для начала его сознавать. Стихотворение «Дума» (1838), откуда взяты приведённые строки, есть акт осознания общего греха поколения.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны,
И перед властию — презренные рабы.
…………………………………………..
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови (1, 46–47).
Это состояние можно и должно назвать теплохладностью (Откр. 3, 16). Над тем же с горечью размышляет и Печорин, придавленный правдоподобием доказательств всесилия судьбы: «А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределённого, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою…» (4, 129). Скажем опять: подобные стихи и подобное совершенство прозы (отметим в который раз мастерство построения фразы) таят в себе и опасность: они могут стать и началом избавления от наваждения сходных дум, и, напротив, началом подпадения под их власть. Искусство коварно. Оно не только отражает, оно и заражает.
Внося противоречивые стремления в душу, искусство может обречь её на долгую внутреннюю борьбу. Полярные противоречия, заложенные в лермонтовские создания, не могут не вызвать сильнейшего разряда… очищающего либо губительного. Эти противоречия суть отражение душевного состояния самого поэта.
Противоречивость внутренняя отразилась даже во внешнем облике его, в поведении. Известно, как по-разному воспринималась внешность Лермонтова современниками, как различно понимали натуру его. Даже один и тот же человек в оценке Лермонтова в разные периоды мог противоречить самому себе. Вот без комментария два отзыва Белинского. «… Я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светской пустотою»12. «Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и часто непосредственный вкус изящного!»13
Тяжёлая внутренняя борьба стала содержанием всей недолгой жизни Лермонтова — это очевидно. Она усугубилась в последний период особенно. «Смерть прекратила его деятельность в то время, когда в нем совершалась сильная внутренняя борьба с самим собою, из которой он, вероятно, вышел бы победителем и вынес бы простоту в обращении с людьми, твёрдые и прочные убеждения…»14. Вероятнее всего, душа Лермонтова пребывала накануне духовного перерождения. А мы знаем — снова вспомним Святых Отцов, — как опасно такое состояние: бесовские силы тогда становятся особенно активны. Сама дуэль с Мартыновым стала следствием, несомненным следствием такой активности, которой Лермонтов не смог противостать. То было духовное поражение самого поэта, а вовсе не результат происков неких реакционных сил, как заблуждаются иные почитатели Лермонтова. Он бросил вызов судьбе, в последний раз захотел утвердить: да будет воля моя. Как и главный герой его. Оставим в стороне вопрос, насколько индивидуальность Печорина совпадает с авторской, — в той или иной степени подобные совпадения неизбежны. Печорин завершил свой путь духовной гибелью.
«Конец Лермонтова и им самим и нами называется гибелью, — писал, осмысляя итог лермонтовского пути Вл. Соловьев, — <…>…Мы знаем, что как высока была степень прирождённой гениальности Лермонтова, так же низка была его степень нравственного усовершенствования. Лермонтов ушёл с бременем неисполненного долга — развить тот задаток великолепный и божественный, который он получил даром. Он был призван сообщить нам, своим потомкам, могучее движение вперед и вверх к истинному сверхчеловечеству, — но этого мы от него не получили»15.
Оговоримся: говоря об «истинном сверхчеловечестве» философ разумел нечто, противопоставляемое им сверхчеловечеству в ницшеанском смысле, безблагодатном и соблазнительном, к которому тяготел Лермонтов — по мнению Соловьёва. (Собственное же соловьёвское понимание этого термина оставим пока за пределами нашего внимания.) Вл. Соловьёв сумел точно осмыслить долженствование нашего восприятия литературного творчества великого русского поэта — так что даже тёмные его стороны могут послужить ко благу в трудном делании нашего собственного духовного развития: «…У Лермонтова с бременем неисполненного призвания связано ещё другое тяжкое бремя, облегчить которое мы можем и должны. Облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает ещё их привлекательными для неопытных, и если хоть один из малых сих вовлечён им на ложный путь, то сознание этого, теперь уже невольного и ясного для него, греха должно тяжёлым камнем лежать на душе его. Обличая ложь воспетого им демонизма, только останавливающего людей на пути к их истинной сверхчеловеческой цели, мы во всяком случае подрываем эту ложь и уменьшаем хоть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой душе»16.
Глава 6. Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)
На Гоголя предъявляли права многие — из тех, кто считал себя его наследниками, а его самого — родоначальником традиции, к какой они полагали себя принадлежащими. Наследие Гоголя оказалось в центре весьма несходных интересов, стремлений, мнений, притязаний, даже амбиций. Вначале Гоголя приняли за своего революционные демократы, узревшие в гоголевских произведениях прежде всего те идейно — эстетические начала, которые они считали важнейшими в зарождающемся реализме: как они его восприняли. Поскольку в литературе они видели важное средство социально-политической борьбы, то и все силы употребили для того, чтобы реализм понимать как сугубо критическое направление. А уж у Гоголя сатиры и критики по отношению к реальной действительности, кажется, предостаточно. Чернышевский ввёл понятие — «гоголевский период русской литературы», едва ли не основу всего усматривая в «энергии негодования», посредством которой Гоголь якобы воспитал в обществе сознание обречённости самодержавно-крепостнического строя. Ранее в той же убеждённости пребывал и Белинский. Но не только прогрессивная критика (мало ли чего могут натеоретизировать критики), а и молодые писатели-реалисты признавали себя последователями Гоголя: недаром же кто-то из них произнёс знаменитую фразу: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Чаще это высказывание усваивают Достоевскому, хотя прямые доказательства того отсутствуют, — но сказать так мог, пожалуй, любой из начинающих русских классиков в середине XIX века. Признавал же Тургенев, свидетельствуя о Гоголе: «Для нас он был больше, чем просто писатель: он раскрыл нам нас самих»17.
Но чем далее, тем настойчивее стало проявляться мнение, что собственно реализма-то у Гоголя и нет вовсе: слишком порою фантастична та якобы-реальность, какую мы встречаем в гоголевских созданиях. Наследниками Гоголя мнили себя многие творцы «серебряного века», настаивая именно на нереалистичности всей эстетической системы того, кого традиционно называют одним из основоположников реализма как ведущего направления в отечественной словесности. Окончательный итог подвёл уже в середине XX века В.Набоков, утверждавший, что Гоголь занимался новотворением некоей фантасмагорической псевдо-реальности, лишь его воображением порождённой и в нём реализующей своё бытие.
В условном гоголевском мире и впрямь может происходить что угодно — именно там «редкая птица долетит до середины Днепра» («Страшная месть»), а не в невыдуманной же действительности.
Сказочность, фантастичность, гиперболизованность описаний, резкий гротеск во всём — от «Вечеров…» и «Миргорода» до «Мёртвых душ». Про повесть «Нос» и говорить нечего. Или вспомнить знаменитое описание из «Невского проспекта», на которое так любят ссылаться стойкие противники концепции гоголевского реализма: «Тротуар нёсся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались неподвижными, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз» (3, 15)18. Вот зримый символ гоголевской ир-реальности, гоголевского абсурда, гоголевской фантазии, гоголевского мифического мира.
Обе названные концепции имеют каждая свою систему обоснования, своих сторонников, своих ниспровергателей. Но… Но: не вторично ли всё это, хоть и интересно до крайности, не вторично ли по отношению к важнейшему — к религиозной направленности творчества Гоголя? Гоголь искал ответы на вопросы более важные, нежели проблемы художественного творчества, пусть даже весьма утончённые, — хоть они и не могли не завлекать его воображения: всё-таки он был художник. Он был художником высочайшего уровня, но он обладал и обострённой религиозной одарённостью, и она возобладала в нём над чисто художественною жаждою творчества. Гоголь сознавал: искусство, как бы высоко оно ни возносилось, останется пребывать среди сокровищ на земле. Для Гоголя же всегда были потребнее сокровища на небе.
Это с раздражением почувствовал ещё Белинский. Об этом позднее говорили и писали многие и многие, кто пытался осмыслить судьбу Гоголя, — по-разному, разумеется, оценивая. Религиозное странничество Гоголя не обошлось без блужданий и падений. Одно лишь несомненно: именно Гоголь направил русскую литературу к осознанному служению православной Истине. Кажется, первым это чётко сформулировал К. Мочульский: «В нравственной области Гоголь был гениально одарён; ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть её с пути Пушкина на путь Достоевского. Все черты, характеризующие «великую русскую литературу», ставшую мировой, были намечены Гоголем: её религиозно-нравственный строй, её гражданственность и общественность, её боевой и практический характер, её пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы»19.
Вот главное сокровище, завещанное Гоголем, наследовать которое мог и может каждый — при внутренней потребности. Случилось так, что слишком многие прельстились ценностями менее значимыми. Вина в том — отчасти и на самом Гоголе.
1. Смех в искусстве: pro и contra
«Причина той весёлости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому не объяснимой, которая происходила, быть может, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать самого себя, я придумывал себе всё смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза» (6, 210), — признавался Гоголь в «Авторской исповеди» (1847), мучительно пытаясь сознать проблемы собственного творчества, когда писательский путь его был близок к концу.
Вот и первый парадокс: гоголевская весёлость (а он едва ли не самый смешной писатель во всей литературе) порождалась состоянием крайнего уныния. Оно же есть явление духовной жизни, безблагодатной духовности. И сам Гоголь под конец это прекрасно понял: «Во всех наших начинаниях и поступках больше всего мы должны остерегаться одного наисильнейшего врага нашего. Враг этот — уныние. Уныние есть истое искушение духа тьмы, которым нападает он на нас, зная, как трудно с ним бороться человеку. Уныние противоположно Богу. Оно есть следствие недостатка любви нашей к Нему. Уныние рождает отчаяние, которое есть душевное убийство, страшнейшее всех злодеяний, совершаемых человеком, ибо отрезывает все пути к спасению, и потому пуще всех грехов оно ненавидимо Богом. От того и в молитвах просится ежедневно, дабы дал нам Бог сердце трезвящееся, бодр ум, мысль светлу и отогнал бы от нас дух уныния» (6, 284).
Следование святоотеческой мудрости угадывается здесь несомненно, да и написано было «Правило жития в мире» (1844), откуда извлечено это суждение, под непосредственным воздействием чтения Святых Отцов. Но вот что важно: значит, где-то на том пути, на какой вступил oн, пытаясь побороть этот свой дух уныния чисто эстетическими средствами, — где-то неизбежно было ему, достигшему некоторой высоты духовного видения, столкнуться с роковыми недоуменными вопросами, совладать с которыми одним лишь напряжением духа творческого (в ограниченном художественном проявлении) уже невозможно. Да и весёлость сама нередко становилась у него весьма сомнительной. Гениально чуткий Пушкин уловил это, когда после искреннего смеха при авторском чтении первых глав «Мёртвых душ» вдруг «начал понемногу становиться всё сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» (6, 79). И сам Гоголь, рассказавши одну из самых смешных своих историй, закончил её весьма нерадостным замечанием: «Скучно на этом свете, господа!» (2, 398).
Только не Россия была грустна, и не свет скушен — гоголевский дух был помрачён: из всего, что понамешано в русской жизни, извлекал он порою уродливо-смешное, а парадоксальное и мощное его воображение творило из отобранного неких монстров, населяя ими создаваемый писательской фантазией и порою весьма далёкий от реальности мир. Но этот мир обладал и подлинной иллюзией реальности, что изумляло самого автора: «Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что всё это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света» (6, 67).
Дело, взятое из души, омрачённой унынием, уныние же и порождало, хоть и облекалось покровом внешней весёлости. Не так уж и неправы были все теоретики и практики модернистского толка, притязая на гоголевское наследство. Беда, что кроме этого ничего иного узреть в Гоголе они не захотели, и не смогли. Гоголевской религиозной одарённости этим наследникам явно недоставало.
Можно сказать: ведь сам же Гоголь даёт основания для такого его восприятия. Несомненно. Точно так же и Белинский с Чернышевским вовсе не нафантазировали ту социальную критику, какую они обнаружили у Гоголя. Творчество писателя, как заметил один из самых глубоких исследователей его, о. Василий Зеньковский, своеобразно своею многоплановостью. Поэтому нельзя выделять проявления лишь одного плана, одного уровня: картина выйдет плоскою, лишённою объёма.
«Нельзя, выхватывая ту или иную сторону в идейной жизни Гоголя, ставить всё ударение на ней, — справедливо утверждает о. Василий Зеньковский, — надо всегда иметь в виду, что у Гоголя в его художественном творчестве и в его идейной жизни всё гораздо сложнее, чем это обычно кажется»20.
Не станем упускать этого из виду, о чём бы ни довелось рассуждать, неизбежно упрощая при этом общую картину: ибо любое рассуждение задерживается, хоть ненадолго, лишь на одном из уровней многообъёмности целого.
Свое раннее печатное произведение, поэму «Ганц Кюхельгартен» (1827), Гоголь безжалостно подверг сожжению после первых же уничтожающих отзывов критики — и поступил справедливо: поэма скучна, маловыразительна, бесталанна. Когда бы её не Гоголь написал, никто бы не постеснялся назвать её бездарною. И впрямь: что это как не бездарное следование Жуковскому и, через него, — немецким романтикам? Нынче поэму эту читают по обязанности лишь литературоведы да, может, чрезмерно любопытные поклонники гениального писателя. И как это угораздило его занестись мечтою в неведомый германский край и воспевать туманно-романтические грёзы немецкого худосочного юноши? Разумеется, в восемнадцать лет кто не подвержен туманным романтическим томлениям — и это соединяет внутренне молодых людей едва ли не всех времён и народов, так что в герое поэмы много от личного авторского настроя душевного, но всё же чуждая немецкая форма, в какую поэт попытался облечь собственные переживания, ему явно не далась. Нет, бездарная, недостойная имени Гоголя поэма… Но ведь Гоголь же писал, Гоголь! Неужто всё вовсе безнадёжно? И вот мы пристально вчитываемся в поэтические строки — и за неуклюжестью слога начинаем различать движение ещё не умеющего себя выразить таланта:
Светает. Вот проглянула деревня,
Дома, сады. Всё видно, всё светло.
Вся в золоте сияет колокольня,
И блещет луч на стареньком заборе.
Пленительно оборотилось всё
Вниз головой в серебряной воде:
Забор, и дом, и садик в ней такие ж.
Всё движется в серебряной воде:
Синеет свод, и волны облак ходят,
И лес живой вот только не шумит. (7, 11).
И наивно, и смешно немножко, и трогательно… Если бы это чуть-чуть иначе — и не в стихах написать, то всё обернулось бы той неповторимою бесподобною прозою, какую никогда и ни с чем не спутаешь: гоголевская. «Вся в золоте сияет колокольня, и блещет луч на стареньком заборе», — в такого рода подробностях позднее явит себя великим мастером Чехов, во многом наследник Гоголя (хоть и не из «Шинели» непосредственно вышедший). Исследователи, биографы соблазнены обыграть замкнутую кольцевую композицию творческой судьбы Гоголя: начал с поэмы — и завершил ее поэмою же («Мёртвые души»); первую сжёг, и значительную часть второй, до конца не доведя, также уничтожил. Вокруг этого нагромоздили много разных домыслов, часто сводя всё к пошленькой мысли о безумии предсмертном. Чтобы более к этому не возвращаться, скажем решительно: безумие в Гоголе видят лишь те, кто недоступное пониманию спешат принизить до собственных посильных упрощений. В безумии мы и вообще должны Гоголю отказать, не сводя к этому примитивному шаблону гоголевское обострённое восприятие бытия, нестандартность его мышления, утончённую чуткость к неуловимым для огрубевших натур движениям человеческой души. И довольно об этом. В ранней гоголевской поэме уже заметно обнаружил себя тот мучительный вопрос, какой роковым образом отзовётся на всей писательской судьбе его, определит основной сюжет жизненного пути Гоголя. Да и не одного Гоголя: важнейшая проблема самого бытия искусства, хотя он то, конечно, и не сознавал вначале, была затронута им, пусть ещё вскользь, смутно. Какова природа эстетического начала в жизни человека, общества, всего человечества от сотворения мира и до его конца? И в чём смысл существования искусства, на этом зиждущегося? И есть ли смысл в самом посвящении себя занятию искусством? И не губит ли человек самоё жизнь свою, предаваясь этому занятию, подчиняя себя кумиру земной красоты? Давно заметили неравнодушные скептики: искусство, искус, искушение — слова одного корня. И не одна ли природа у обозначенных этими словами понятий?
Вот вопросы, которые станут мукою всего творческого бытия Гоголя. Они взволнуют всю русскую литературу, расколов ее на два противоборствующих направления в середине XIX столетия. Через соблазны «серебряного века» они дойдут и до сего дня, так и не освободившись во временах, ими одолеваемых, от того беспокойства и той жестокости своей, каких спешили избегнуть едва ли не все художники. В XIX веке безжалостнее прочих поставили эти вопросы перед собственной совестью два великих художника: Гоголь и Лев Толстой — различно решив их для себя, ибо слишком разно осмысляли религиозное своё бытие.
Но в восемнадцать лет молодой поэт лишь робко прикоснулся к проблеме, обнаружив всё же некую внутреннюю неправду искусства — при всём его благотворном влиянии на жизнь. Что до мысли о благодатности искусства — тут не обошлось без влияния эстетического идеализма Шиллера и вообще немецкого романтизма и немецкой философии. Сама «немецкая» поэзия «Ганца Кюхельгартена» не могла же не быть сопряжена с идеалистическими внутренними блужданиями души автора. Европейский романтизм, как мы знаем, вообще заметно воздействовал на развитие нашей отечественной литературы — на большинство её творцов в начале XIX столетия. Но его яркая вспышка была недолговечной, ибо он не имел для себя религиозной почвы, искушая скорее внешними эмоциональными и эстетическими соблазнами, не затрагивая сердцевины творческого поиска русских литераторов. И всё же какие-то шрамы романтизм в душе многих оставил; поэтому когда Гоголь признавался Шевырёву позднее (11 февраля 1847 года), что «пришел ко Христу скорее протестантским <…> путём» (9, 362) — такое свидетельство важно: пусть и неглубоко, но царапнул его душу протестантский соблазн, отразившись и на романтическом увлечении гоголевской музы.
Сказалась и некоторая рационалистичность начальных шагов Гоголя в вере. Он сам признался (в «Авторской исповеди»): «Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно» (6, 214). Разум и необходим, но и опасен, если его требованиями увлечься. Пример Толстого — тому подтверждение. И Гоголя это, вероятно, невидимо мучило. Вечная проблема противостояния веры и рассудка.
О романтизме Гоголя приходится говорить не только из-за ранней поэмы. Принесшие ему славу «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832) являют собой диковинную смесь из малороссийского фольклора, и немецкого романтизма, и гоголевского собственного юмора, соединённых вместе его же виртуозной фантазией. Уже в «Вечерах…», и именно в «Вечерах…», Гоголь, предоставляя простор своей фантастической фантазии, начинает творение той особой реальности, которую на новомодном языке рубежа XX–XXI веков именуют виртуальной, а мы назовем проще: вымышленной, нереальной. Именно в этой гоголевской реальности, где так вольготно чувствуют себя гипербола и гротеск, редкие птицы долетают до середины Днепра, а стол, за которым пирует нечистая сила, равен длине дороги от Конотопа до Батурина («Пропавшая грамота»), что в прозаическом измерении равно тридцати верстам. Даже для сказочного мира это слишком. Гоголевская вымышленная реальность нередко мало совпадает с реальностью обыденной (а это в реализме, даже с поправкой на все условности искусства, просто необходимо), она самоценна, замкнута в себе, она, в известном смысле, противостоит обыдённости и творится по особым, ей внутренне присущим закономерностям, — вот то, чем так привлёк Гоголь художников, абсолютизировавших ново-творение в искусстве как его самодостаточную цель. Это ещё не было так ярко заметно в «Вечерах…» (да и самим автором не осмыслено) в силу самой их сказочности, специфической условности приёмов образного мышления — но позднее стало настолько явным, что уже и сам Гоголь не мог не задуматься над природою подобного отражения бытия. Из тех, кому Гоголь невольно подражал в ранних своих опытах, ближе всего был ему, несомненно, Гофман, резко противопоставлявший обыденную реальность, доступную грубому нечуткому восприятию, и своего рода мета-реальность, воспринимаемую лишь обострённым, почти мистическим чутьём, прозревающим бытие сквозь его материальную оболочку. Но то, что у Гофмана становится откровенно обнажённым приёмом, Гоголем как бы укрывается, не выставляется как приём и оттого не всеми угадывается и замечается. Гоголь загадывает загадки, не все и разгаданные до сих пор, загадки, к которым необходим особый ключ— понятие, так настойчиво, почти навязчиво обыгранное писателем в «Развязке Ревизора» (1846):
Петр Петрович.…Что ж за пьеса, которая без конца? Я спрашиваю вас. Неужели и это в законе искусства? Ведь это, по-моему, значит принести, поставить перед всеми запертую шкатулку и спрашивать, что в ней лежит?
Первый комический актер. Ну да если она поставлена перед вами именно с тем, чтобы потрудились сами отпереть?
Петр Петрович. В таком случае нужно, но крайней мере, сказать это; или же просто дать ключ в руки.
Первый комический актер. Ну, а если и ключ лежит тут же, возле шкатулки?
Николай Николаич. Перестаньте говорить загадками! Вы что-нибудь знаете. Верно, вам автор дал в руки этот ключ, а вы держите его и секретничаете. <…> Нам подавайте ключ, и ничего больше!
Семен Семёныч. Ключ, Михайло Семёныч!
Федор Федорыч. Ключ!
Петр Петрович. Ключ!
Все актеры и актрисы. Михайло Семёныч, ключ!
Первый комический актер. Ключ? Да примете ли вы, господа, этот ключ? Может быть, швырнёте его прочь вместе с шкатулкой?
Николай Николаич. Ключ! не хотим больше ничего слышать. Ключ!
Все. Ключ!
Первый комический актер. Извольте, я дам вам ключ. <…>
Нет, господа, на давал мне автор ключа, но бывают такие минуты состояния душевного, когда становится самому понятным то, что прежде было непонятно. Нашел я этот ключ, и сердце моё говорит мне, что он тот самый; отперлась передо мной шкатулка, и душа моя говорит мне, что не мог иметь другой мысли сам автор. (4, 461–462).
Ключ же, разгадка всего, обнаруживается в том, что ничего подобного изображённому в пьесе не существует в реальной жизни. Изображённое же есть некий символ скрытых движений и состояний в душе человеческой. Такое же понимание можно распространить, как бы по подсказке автора, и на всё гоголевское творчество.
Можно не принимать подобного толкования, можно предположить, как то сделал Мочульский, что здесь перед нами результат позднего авторского переосмысления собственного наследия, что Гоголь просто пытался подверстать своё творчество к изменившемуся мировоззрению. Но уж никуда не уйти от того вывода, что реализма в расхожем понимании у Гоголя порою маловато. Ещё из наблюдений над ранними годами будущего писателя Мочульский сделал парадоксальное заключение: «Здесь мы сталкиваемся с очень важной особенностью гоголевской психики: отсутствием чувства реальности, неспособностью отличать правду от вымысла и наклонностью к преувеличению»21. Может быть, точнее было бы сказать о необычайной мощи воображения Гоголя, с какою он и сам порою не в силах был совладать. Иной раз даже планы собственных действий отличались у него фантастической несбыточностью — позднее он передал эту свою особенность, в комическом её облике, Манилову, отчасти Ноздрёву. Небольшая лишь разница: Манилов мечтал по неспособности к делу, Гоголь фантазировал от переизбытка душевных сил. Правда, в «Вечерах…» это всё ещё в зародыше как бы, а разовьётся после, так что и речь о том впереди. И ещё одна особенность гоголевского художественного творчества слишком проявилась в «Вечерах…»: навязчивое внимание к нечистой силе — это отмечают все исследователи, по-разному трактуя таковую устремлённость образного видения Гоголя. Иногда начинают в этом усматривать едва ли не болезненность душевного настроя Гоголя. И впрямь: слишком много нечистых в образной системе гоголевских произведений, и поминаются бесы чересчур часто не только персонажами, а и самим автором. Кажется, не сходит с языка у него чёрт, поминаемый по разным поводам — и в творческих созданиях, и в жизни, так что иной раз и до кощунства доходит. Мережковский вообще готов был видеть чуть ли не в каждом персонаже Гоголя одно из воплощений беса, а Розанов даже и отождествлял с ним самого автора «Размышлений о Божественной литургии». Оставим эти крайности, они определены не желанием установить истину, а собственным тёмным настроем души названных литераторов. Попытаемся осмыслить всё без предвзятости.
Стремясь объяснить обилие нечистой силы в своих произведениях (в ранних явно, в поздних — в образном переосмыслении), Гоголь писал (Шевырёву 27 апреля 1847 г.): «Уже с давних пор я только о том и хлопочу, чтобы после моего сочинения человек вволю посмеялся над чёртом»22. Эти слова его хорошо усвоены и стали общим местом в рассуждениях о гоголевском творчестве. Их нельзя отвергнуть как неудачную попытку самооправдания: Гоголь не лгал, был правдив, искренен, говоря так. Но: многие же исследователи заметили, что не все бесы под пером Гоголя выглядят смешными, не все и побеждены силою творческого отрицания. Гоголь обращает против сил тьмы самое мощное своё оружие, которым, кажется, никто в мировой литературе не владел с таким совершенством, — смех! — и Гоголь же издаёт поистине вопль бессилия и тоски перед торжеством мирового зла:
«Соотечественники! страшно!» (6, 11). И разъясняет ужас свой:
«Диавол выступил уже без маски в мир» (6, 190).
Да ведь и сам смех вышел же из духа уныния, не сразу и сознан был как средство борьбы со злом — но лишь как средство внешнего отвлечения от тягостной тоски…
Дерзнём предположить, что Гоголю дан был особый дар: столь обострённое видение и ощущение мирового зла, какое редко кому даётся в мире. Это и дар — и испытание души, призыв свыше к внутреннему ратоборству с открывшимся человеку ужасом, ужасом обострённого видения и ведения. Сам смех становится при этом двойственно неопределённым, опасным: это и защита, и оружие против зла, но и парадоксальное средство порождения зла нового — недаром же так ироничен часто бес в созданиях новой европейской литературы.
«…Я увидел, — признался Гоголь в «Авторской исповеди», — что нужно со смехом быть очень осторожным — тем более что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вослед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела» (6, 214).
Отрицающий смех легко становится, таким образом, разрушающим основы жизни началом, он может представить в нелепом виде самые светлые стороны бытия. Нужно было быть Гоголем, чтобы придти к такому пониманию. Но не приговор ли это тому наследию, какое человечество мнит принадлежащим к своему духовному достоянию — от Лукиана и Петрония до Боккаччо, от Рабле до… самого Гоголя?
Там, где современное ему человечество видело лишь обыденную и скучную повседневность, Гоголь в ужасе зрел явление дьявола без маски. И от такого-то знания— как не впасть в тоску? Гоголевский смех становится выражением этой тоски — вот к подвигу преодоления чего он был призван.
Гоголь должен был явить пример одоления тяжких внутренних состояний, отвержения многих и многих фальшивых ценностей — из тех, что человечество числит истинными. Он был избран и предназначен к тому — и о своей избранности начал догадываться очень рано, не сразу и сознавши особый смысл её. Но сама мысль об избранности предполагает и к новому падению: к взращиванию тщеславия, гордыни, духа любоначалия. И с этим также предстояло истинное ратоборство. И сколько поражений и падений ждало его на этой стезе? И что при этом он должен был ощущать в душе, он — так остро и болезненно чуявший близость врага? Не ощущал ли он самого дыхания ада, которое выразил во всех этих ужасающих фантастических образах, преобильно наполнивших его творения?
Можно догадываться, что падения его были страшны. Не был ли он близок даже к тому страшному состоянию, о котором сказал Апостол:
«… И бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2, 19). Ведь вся эта нечисть — не просто его писательская фантазия, но и, можно предположить, отражение некоего тайного духовного опыта, обусловленного тем особым обострённым даром восприятия и ведения злых сил. Он ясно видел то, что было укрыто от других. И это была его мука. Для Гоголя борьба его со злом была усугублена тем, что само его искусство, сам дар сатирического писателя становились источником искушений. В искусстве он сумел достичь высочайших вершин. Гениальный писатель, он с ужасом узрел вдруг в самой природе своей гениальности — её сросшуюся сплетённость с тягою ко многим соблазнам. Но это помогло ему разглядеть и сознать зло не во внешнем мире, к чему он был склонен вначале, а в глубине собственной души. Дар-то был всё-таки свыше.
Конечно, только вступая на литературную стезю, Гоголь не мог предвидеть препятствий и испытаний, какие его ожидают: он простое безудержною полнотою молодости выразил на страницах «Вечеров…» всю причудливость своей фантазии, сплавил заимствованные идеи с усвоенными на родной земле волшебными преданиями.
В «Вечерах…» нечистая сила смешна или страшна, но почти всегда без-образна, отвратительна. Хотя и среди этой нечисти вдруг мелькнёт и вполне привлекательное обличье — исключительно у ведьм: мачеха в «Майской ночи» или Солоха в «Ночи перед Рождеством». То есть красота (чувственная земная) почти не совпадает с внутренней нечистотою — автор не всегда пристально всматривается в это покамест, но держится в основном определённого правила. О бесовщине «Вечеров…» писалось много, но как будто все скользнули вниманием мимо изображения Бога в «Страшной мести». А оно примечательно: «Как умер Петро, призвал Бог души обоих братьев, Петра и Ивана на суд. «Великий есть грешник сей человек! — сказал Бог. — Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты сам ему казнь!» Долго думал Иван, вымышляя казнь, и, наконец, сказал: «… Сделай же, Боже, так, чтобы всё потомство его не имело на земле счастья! чтобы последний в роде был такой злодей, какого ещё и не бывало на свете! и от каждого его злодейства чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил! А Иуда Петро чтобы не в силах был подняться и оттого терпел бы муку ещё горшую; и ел бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землёю! И когда придёт час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, Боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придёт он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки!» <…> «Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! — сказал Бог. — Пусть будет всё так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своём, и не будет тебе Царствия Небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своём!» (1, 163–164).
Петро в своём преступлении, конечно, отвратителен — но не более ли мерзок мститель Иван? Он — воплощение садистского сладострастия мести. За преступление против него он лишает милосердия Божия многие поколения ни в чём не повинных людей. Он отнимает у них свободу выбора, ибо его мстительным чувством они лишены прощения за грех, который сами не совершали. Иван предопределяет их судьбу, оставляет их без веры, без возможности покаяния. Символична сцена между колдуном и святым схимником:
«Одиноко сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги. <…> Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался из очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.
— Отец, молись! молись! — закричал он отчаянно, — молись о погибшей душе! — и грянулся на землю.
Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул — и в ужасе отступил назад и выронил книгу.
— Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! Беги отсюда! не могу молиться о тебе.
— Нет? — закричал, как безумный, грешник.
— Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Ещё никогда в мире не бывало такого грешника!
— Отец, ты смеёшься надо мною!
— Иди, окаянный грешник! не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Недобро человеку с тобою вместе!» (1, 158–159).
Бог же, как он изображён в повести, не есть любовь, милосердие, высшая справедливость. Ему оставлена лишь одна функция: роль исполнителя злобного замысла. Он освящает Своею волею садистскую мстительность Ивана. Он у Гоголя также отвергает возможность покаяния грешника: не Он ли, являя особое внимание, запрещает схимнику молиться за прибегающего к Его покровительству без вины виноватого колдуна, которому предопределено было, лишённому права выбора, стать величайшим грешником на земле? Колдун в «Страшной мести» как бы запрограммирован на грех, он своего рода зомби. Но в таком случае на нём нет и вины, однако он наказан слишком сурово и жестоко. Если кто-нибудь усмотрит здесь соответствие какой-либо христианской конфессии, то его право, но признаем лишь: к Православию боговидение «Страшной мести» не имеет никакого отношения.
Правда, не может не признать автор, что мстительное чувство Ивана — вне правды Горнего мира: оттого и лишён мститель обретения Царствия Небесного. Но наслаждение местью заменяет Ивану райское блаженство — и сила гоголевской изобразительности, гоголевского слова невольно заставляет читателя сочувствовать такому извращённому пониманию справедливости. Искусство начинает служить тёмной силе.
В религиозном мирочувствии автора «Страшной мести» явственно проступает то тяготение к правовому пониманию Божьего Суда, к юридическому принципу в вере, какое свойственно всякому отступлению от Православия внутри христианства вообще. По сути, это было свойством религиозности юного Гоголя, о чём он сам свидетельствует в известном письме к матери (в октябре 1833 года): «Я просил вас рассказать мне о Страшном Суде, и вы мне ребенку так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло меня и разбудило во мне всю чувствительность» (9, 61). В такой религиозности нет ничего необычного: так мыслят и чувствуют многие при начале долгого пути духовного развития. Постижение неизреченного и безграничного милосердия Божия не всем сразу дается — и Гоголю предстояло духовно выстрадать ту непреложную истину, какую в «Страшной мести» он как бы не сознаёт: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8).
Финал повести явно противоречит тому. Без понимания же этой истины не может быть и свободы в вере. Поэтому, когда Гоголь признается в том, что путь его ко Христу лежал для него через протестантизм, не примем его слова, обманувшись, за попытку затушевать тяготение к католицизму: протестантский след в ранних произведениях писателя всё же проступает.
2. Повести сборника «Миргород»
Общий замысел и сквозную самораскрывающуюся идею композиционной организации (то есть последовательного расположения повестей) «Миргорода» (1835) точно определил И.А.Есаулов, так что остаётся лишь воспроизвести его мысль:
«В мифопоэтическом контексте понимания эстетический сюжет рассмотренного цикла повестей — это модель деградирующего в своём развитии мира. Образно говоря, «золотому» веку, в котором жили «старосветские люди» первой повести сборника, находившемуся в гармонии ещё не с обществом, а с природой (это ещё «доисторическое», мифологическое время), приходит на смену век «серебряный» в «Тарасе Бульбе», где герои уже имеют врагов и есть насильственная смерть. «Медный» век представлен в «Вие», главный герой которого находит врага в своей собственной субъективности, и, наконец, «железный» — в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Здесь пустая, бессодержательная вражда становится символом недолжного существования обособившихся от былого «товарищества» людей»23.
Если в «Вечерах…» явил себя несомненный талант автора, то «Миргород» есть создание гениального писателя. Каждая повесть — несомненный шедевр. Каждая из повестей «Миргорода» как бы загадывает читателю особую загадку, разгадывание которой только и может позволить нам проникнуть в замысел автора. Чего это ради так подробно и любовно увлекает нас от слова к слову своим рассказом Гоголь, повествуя о двух— казалось бы (автор сам не даёт нам пройти мимо такого ощущения, задерживая на нём внимание этим казалось) — никчёмных стариках, которые только и делали, что ели и пили, а затем в свой срок, как и положено, умерли? Но какой поэзией истинной наполняет рассказчик каждую незначительную мелочь их неспешного и неслышного бытия.
«Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет, — но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно слышалось: «батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, если мне случится иногда здесь услышать скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озарённой свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящем на столе, майскою тёмною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьём, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей…» (2, 200–201). Незаметно мы проникаемся тем умиротворяющим душу ощущением, какое составляет самую основу жизни старосветских помещиков, — неизбывным чувством покоя, противоречащего бес-покойной суете несущегося к какой-то неведомой ему самому цели всего остального мира.
В христианской традиции покой мыслится как самоприсущее свойство всесовершенства Творца, а также и совершенства святости. Движение же есть, напротив, признак несовершенства, стремление как-то восполнить это несовершенство. Полная удалённость от совершенства покоя проявляется в хаотическом судорожном бесновании. Покой усадьбы старосветских старичков есть символическое отражение покоя Горнего мира — в миру дольнем, земном. «Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении» (2, 197).
Недаром и предстаёт этот рай в облике щедрого и обильного сада: традиция подобной символизации — исконная в вропейском христианском искусстве. Недаром и внешний мир, возмущаемый «неспокойными порождениями злого духа», по отношению к этой райской идиллии представляется хоть и сверкающим, но зыбким видением, бесплотным сном. Мир старосветских помещиков, ограждённый от суеты внешнего мира, — «внематериален» в своем бытовом обустройстве, насколько это и вообще возможно в земной жизни: никакие чисто меркантильные стремления, никакая корыстная суетность не могут озаботить существование добрых старичков. Автор находит тому прозаическое, но и идиллическое одновременно объяснение: «Благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно…» (2, 203). Но как бы то ни объяснялось, жизнь «старосветских людей» пребывает вне пагубного тяготения к земным сокровищам, напротив, сам смысл этой жизни, кажется, сосредоточен был в намерении отдавать всё другим. «Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Всё, что у них ни было лучшего, всё это выносилось. Они наперерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ» (2, 206).
Вот эта внутренняя потребность отдавать есть истинное стяжание ценностей не мнимых. Один из великих Отцов Церкви, Максим Исповедник, сказал об этом так: «Моё есть лишь то, что я отдал».
Но главное, что скрепляет всё бытие старосветского мира, — есть любовь. Эта любовь проявляется и в добром бескорыстии ко всякому пришедшему из мира внешнего, и, главное, в том светлом и чистом чувстве, которое и стало основным содержанием жизни двух стариков, так что они даже и не замечают его как бы; и оттого сам Гоголь целомудренно определяет его как «привычку». Эту привычку автор противопоставляет страстям. Важно, скажем ещё раз: в старосветском мире не властвует злой дух, оттого и нет сжигающих душу страстей. Писания Святых Отцов изобильны поучениями о гибельности страстей и наставлениями о необходимости внутреннего борения с ними.
«Ничто не причиняет нам столько страданий, как действующие в душе страсти, — предупреждал святитель Иоанн Златоуст. — Все другие бедствия действуют отвне, а эти рождаются внутри; отсюда и происходит особенное великое мучение. Хотя бы весь мир огорчал нас, но если мы не огорчаем сами себя (подчинением какой-либо страсти), то ничего не будет для нас тяжким»24.
Любовь добрых старичков лишена примеси всякого плотского начала, она давно бесплотна, оттого не может быть заподозрена ни в какой скрытой корысти, эта любовь уже привычна — в той же мере, в какой привычкою становятся для человека его каждодневное молитвенное обращение к Богу, в храме или дома. В такой привычке, то есть в постоянстве внутреннего настроя, заключена как раз большая духовная ценность, нежели в непривычном — в единичном, редком или случайном. Такая привычная любовь и становится одним из средств богопознания.
Гоголь как бы попутно совершает и важное психологическое открытие: эмоциональному миру человека свойственны глубина и интенсивность чувства — и одно может противоречить другому.
Интенсивность эмоции становится сродни страсти, она проявляется бурно, но в ней нет внутренней правды. Гоголь приводит для сравнения историю некоторого молодого человека, у которого умерла возлюбленная: «Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду…» (2, 213). Несколько раз покушался несчастный на самоубийство. Но… прошло время, и через год он уже весело сидел за игорным столом, а молоденькая жена его подсчитывала выигрыш… Как умеет Гоголь одним штрихом обнаружить пошлость томимого злым духом мира.
Над подлинной же любовью, над привычкой глубокого чувства — не властно время. Через пять долгих лет после смерти Пульхерии Ивановны рассказчик вновь посещает оставшегося в одиночестве старика: «Боже! — думал я, глядя на него, — пять лет всеистребляющего времени — старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла из сидения на высоком стуле, из ядения сушёных рыбок и груш, из добродушных рассказов, — и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее над ним: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей — есть только следствие нашего яркого возраста и только потому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Чтобы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. <…> Это были слёзы, которые текли не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца» (2, 215–216). Глубокость чувства сопряжена с его внешней неброскостью, малозаметностью для неопытного глаза — она и определяет ту привычку, над которой не властно ничто. Ничто не уврачует «едкость боли» истинно любящего сердца.
Никак нельзя согласиться с о. Василием Зеньковским, который заподозрил Гоголя в стремлении «обличить» никчёмность жизни добрых стариков: употреблением слова казалось по отношению к этой жизни: «Но ни один читатель, собственно, не мог бы сказать, что ему «казалась» пустой и бессодержательной жизнь двух стариков.
Это сам Гоголь подсовывает словом «казалось» свой обычный яд, своё «обличение» двух безобидных, но вовсе не пустых, при всей их ограниченности, людей»25.
Гоголь употребляет это «казалось» — имея в виду восприятие далёких от духовного видения читателей. Далеко за примером ходить нечего: таким о-казался сам Белинский, искренне вознегодовавший на писателя именно за то, что он заставляет всех сочувствовать бессодержательной жизни двух никчёмных стариков. Это «казалось» у Гоголя должно восприниматься как знак неистинного восприятия жизни. Например, когда автор «Мёртвых душ» пишет о Собакевиче: «Казалось, в этом теле совсем не было души…» (5, 95), — то эту кажимость он далее оговаривает отсутствием видимого обнаружения этой души на поверхности. Гоголевское «казалось» есть не более чем предупреждение о ловушке, в какую попадаются слишком многие, ищущие лишь внешних соответствий своим поверхностным понятиям.
Итак: старосветский мир есть земное отражение Горнего мира, пребывающая же в нём любовь есть отсвет любви, наполняющей мир святости. Но поскольку это всё же земное по природе бытие, оно зыбко, непрочно, оно обречено на гибель. Уже в самих невинных подшучиваниях Афанасия Ивановича над своей супругою слышатся грозные, хоть и слабые, отзвуки подсознательного ощущения хрупкости их земного счастья: «А что, Пульхерия Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись? <…> А если бы и кухня сгорела? <…> А если бы и кладовая сгорела?» (2, 206). Старик воспринимает всё это, разумеется, лишь как шутку, но более чуткая душа Пульхерии Ивановны воспринимает то же самое серьёзнее и тревожится сильнее. Именно эта чуткость её, большая восприимчивость ко всякому внешнему знаку внешнего мира, грозящего хрупкому старосветскому покою небытием, заставила добрую старушку таким роковым образом воспринять и внешне совершенно незначительное приключение её домашней кошки.
А.М.Ремизов, склонный в этой кошке узреть оборотня, какого-то демона первородного проклятия26, скорее переусердствовал в своём мистицизме. Пульхерию Ивановну погубило именно её внутреннее подсознательное ощущение непрочности старосветского существования. Усматривается ещё одна причина обречённости этого «райского» бытия — хотя не берёмся утверждать, что Гоголь определил её сознательно. Старики бездетны, их жизнь не передаётся во времени никому. Апостол сказал о жене: «Впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2, 15). Из названных выше условий спасения как раз первое в старосветском мире отсутствует. Земной рай обманчив. В этом мире смерть сопутствует любви — повреждённость грехом распространяется и на старосветские оазисы идиллического бытия — и такая мысль, подобное ощущение не могли не потревожить души самого Гоголя хотя бы призраком того ужаса перед этой повреждённостью, какой становится в кризисные для него периоды жизни едва ли не основным чувством, его внутренний состав переполняющим.
Основной пафос «Тараса Бульбы» есть пафос противостояния натиску мира, где царит «злой дух», на истинную веру русского народа.
«Поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа.
Поднялась отомстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле — за всё, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть козаков» (2, 15). Текст «Тараса Бульбы» изобилует выраженными в разной форме утверждениями о необходимости защищать Православие, которое для автора тождественно христианству (недаром же уния и посрамление церквей соседствуют, наряду с прочим, в едином суждении как однородные понятия, недаром же и католики именуются в другом месте недоверками. Важно также: запорожцы в тексте нигде не противопоставлены русскому народу (как ляхам и татарам), но всегда мыслятся относящимися к нему безусловно. Запорожцы — русские, и потому русские, что православные. Для автора «Тараса Бульбы» это аксиома. Так Гоголь предвосхищает Достоевского, отождествлявшего понятия русский и православный.
Православие же связано с понятием соборности, противоположным западническому индивидуализму и эгоцентризму. И хотя учение о соборности было разработано несколько позднее А.С.Хомяковым, но мы вправе этот термин использовать в приложении к товариществу, о котором говорит полковник Тарас в своем знаменитом монологе, не утратившем злободневности и в начале XXI столетия: «Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество…» (2, 289).
Разумеется, товарищество еще не совпадает с соборностью во всей полноте, оно есть своего рода низшая ступень её, но осмысление идеи «Тараса Бульбы» без этой категории останется неполным. Принципиально важным становится вывод И.А.Есаулова: в повести Гоголя ощутимо «совпадение сверхличного «долга» и свободного самоопределения героев. Для Бульбы (равно как и для других запорожцев) долг по отношению к соборному «товариществу» не является чем-то навязанным извне: героической личности присуще единство «субстанционального начала и индивидуальных склонностей» (Гегель). Тарас Бульба именно потому и считает себя вправе нарушить клятву и «пойти на Турекщину или на Татарву», что находит в себе могущественные сверхличные силы»27. Такой вывод родственен суждению другого исследователя, В. В.Фёдорова, на которого также ссылается Есаулов: «Границы личности и «товарищества» просто совпадают. Козак живет не «внутри» родины, как бы замкнутый со всех сторон её границами, границы его существа и границы родины те же самые»28. Вот важнейшая проблема: соотношения личного и сверхличного, проблема свободного осуществления себя личностью в естественном отождествлении смысла собственного бытия со служением сверхличному началу. Это вообще вечная проблема человеческой мысли, при этом западнический тип мышления отрицает свободу в служении индивидуума сверхличному началу, православная же мудрость видит несвободу в отказе от следования надличностным истинам веры. Критерием истины здесь могут служить единственно слова Спасителя, всем так хорошо известные: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).
В любви же и может полнее всего осуществить себя свобода человека.
Именно поэтому утверждает автор «Тараса Бульбы»: «нет силы сильнее веры» (2, 315). Несомненно, опираясь на евангельскую мудрость, писатель символически пророчит утешение душе погибшего за веру воина: «Повёл Кукубенко вокруг себя очами и проговорил:
«Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! пусть же после нас живут лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!» И вылетела молодая душа. Подняли её ангелы под руки и понесли к небесам; хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную Меня! — скажет ему Христос. — Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и оберегал Мою Церковь» (2, 295–296).
Выхождение же из соборного товарищества, напротив, оборачивается несвободою индивида: такова судьба Андрия, младшего сына Бульбы.
И вот еще одна проблема: проблема гоголевского творческого метода. Можно вполне уверенно утверждать, что в «Миргороде» Гоголь начинает осуществлять своё художественное творчество, эстетическую фантазию свою — в системе реализма (при всём этого реализма своеобразии). Впервые он попробовал себя как реалист в «Иване Фёдоровиче Шпоньке и его тётушке», в этой удивительной и загадочной повести, несколько особняком стоящей среди прочих рассказов и повестей «Вечеров…». Реальность, при её исследовании в «Иване Фёдоровиче…», оборачивается у Гоголя безудержно комической стороною своею — так что, быть может, в этом следует поискать причины нарочитой недоговорённости повествования, ибо продолжение как бы грозит обнаружить совершенную без-образность отображённого бытия, — то, к чему пришел в итоге автор в последней повести «Миргорода». За исключением «Ивана Фёдоровича…» все «Вечера…» в значительной мере несут в себе, как уже говорилось, некоторые свойства немецкого романтизма. Романтический отсвет ощущается и в «Тарасе Бульбе», но назвать повесть романтической решительно невозможно. Собственно от романтизма здесь остались лишь некоторая эмоциональная напряжённость и возвышенный пафос повествования в некоторых сценах. «Тараса Бульбу» можно назвать романтизированной исторической хроникой. Важнейшее же в романтизме — превознесение индивидуалистического, обособленного в себе начала, богоотступничество и богоборчество, тяга к безблагодатным мистическим тайнам — у Гоголя в этой повести отсутствуют вообще. Напротив, здесь проявляет себя совершенно иное: осуждение эгоистического отступничества и самообособления, обретение опоры для человека в товариществе и вере, отсутствие какого бы то ни было мистического любопытства.
Андрий внешне как бы осуществил свою индивидуальную свободу выбора (а на деле — безблагодатное своеволие), отрёкшись от отечества, от товарищей, от отца и брата, но, по истине, он превратился в раба своей страсти, а поднимая оружие против бывших единоверцев, он ставит себя в положение их потенциального убийцы. Предательство отечества оборачивается и предательством веры.
Реалистический принцип потребовал от автора признать и горькую правду: религиозность Козаков была отчасти внешней.
Испытание веры совершалось здесь весьма просто:
«Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил:
— Здравствуй! во Христа веруешь?
— Верую! — отвечал приходивший.
— И в Троицу Святую веруешь?
— Верую!
— И в церковь ходишь?
— Хожу.
— А ну, перекрестись!
Пришедший крестился.
— Ну, хорошо, — отвечал кошевой, — ступай же в который сам знаешь курень.
Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать её до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании» (2, 237).
Последнее замечание как маленькая добавка дегтя к торжественному пафосу повести. Отсутствие глубинной религиозной серьёзности, выразившееся в полном отвержении поста (без которого вера лишается внутренней укрепляющей основы), становится причиною ослабленности козачьего духа. Отвержение поста расшатывает внутреннюю самодисциплину, питает своеволие и возможное вследствие этого предательство веры. Гоголь говорит о том несколько вскользь, не вполне внятно, но осмыслить проблему именно так, опираясь на святоотеческую мудрость, вовсе не сложно. Позднее, пристально вчитываясь в тексты Святых Отцов, Гоголь оставил среди своих записей такие обобщающие суждения о посте:
«Пост, говорит святой Василий Великий, современен человеческому роду, и первая положительная заповедь, которую Бог дал человеку ещё в земном раю, была заповедь воздержания. <…> Освятите пост, т. е., наконец, умерщвляя плоть воздержанием, укрепляйте дух всеми делами живоносного и истинного благочестия; вот такой пост, говорит Господь, Мне приятен…» (8, 524–525).
Рушится райская идиллия на земле, рушится вера… Оскверняется и сам храм Божий — в третьей повести цикла — в «Вие». Повесть эта представляется, на поверхностный взгляд, тяготеющею более к «Вечерам…»: так много в ней бесовской мистики и мрачной фантазии, никак не идущих к отчасти бытовому реализму «Старосветских помещиков» и «Повести о том, как поссорился Иван Иванович…». Однако сам реализм как творческий метод допускает любую условность, включая и фантастические образы, если они не нарушают общей направленности реалистического исследования жизни и органически с ним сочетаются. «Вий» начинается с такого сурового реализма в описании семинарских и бурсацких нравов, что невольно начинают мерещиться более поздние сатиры Помяловского. Гоголь показывает разрушение самих основ веры: ведь он описывает будущих духовных пастырей православного народа. Вот что сообщается, к примеру, об одном из таковых: «Богослов был рослый, плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав: всё, что ни лежало, бывало, возле него, он непременно украдёт. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и когда напивался он пьян, то прятался в бурьян, и семинарии стоило большого труда его сыскать там» (2, 324).
А вот как изъясняется другой, философ Хома Брут, главный персонаж повести: «Что за чёрт! <…> Ни чёртова кулака не видно» (2, 325).
Ещё образец речи, уже самого ректора семинарии: «Послушай, domine Хома! — сказал ректор (он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо с своими подчинёнными), — тебя никакой чёрт и не спрашивает о том, хочешь ты ехать, или не хочешь» (2, 231). Там же, где столь неумеренно поминают нечистую силу — ей впору и объявить себя: жестокий реализм безблагодатной обыдённости.
Другая резкая подробность: вид церкви, в которой несчастный философ должен был совершать чтение Псалтири над убитою им ведьмой: «Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправляли никакого служения» (2, 339).
В этом мире, кажется, нет никакой опоры для веры: с церковью сопряжён дух уныния, в ней давно не совершается служба, а в финале она настолько оскверняется всякой нечистью, что «никто не найдёт теперь к ней дороги» (2, 354). Нет к церкви дороги… Вот гоголевская нереальная реальность: никто не может отыскать церкви, хотя она в селе стояла и стоять остаётся, хоть и на краю почти… Но ещё разительнее иное: златоглавые Божии храмы, отразившиеся в прекрасных очах панночки-ведьмы: «Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей» (2, 330). «Показательно, — справедливо заметил Есаулов, — что персонаж видит «золотые главы церквей» не отдельно (сами по себе), а как бы отражёнными в глазах представителя нечистой силы. Это единый «кадр» изображения. Читателю не дано знать, что увидел Хома Брут в глазах самого Вия, но можно предположить продолжение этого немыслимого для бурсацкого (как и для христианского) сознания «соседства» дьявольского и Божественного. Скрытое взаимодействие высших сил, перед которым бессильно любое заклятие, ставшее «открытием» персонажа, пронизывает весь художественный мир этого произведения…»29
Скрытое взаимодействие высших сил?.. Если так, то Гоголь вступает на слишком опасный путь эстетических фантазий. Но он опять-таки предвосхитил Достоевского, раскрывши двойственную природу красоты («дьявол с Богом борется» — скажет впоследствии о красоте герой Достоевского). Красота панночки — из тех, что не спасёт, а погубит мир: «Такая страшная, сверкающая красота!» (2, 345).
Но страшно это всё тем прежде всего, что дьявол не борется с Богом, а взаимодействует… Гоголь, кажется, прикоснулся к ужасной идее — и отшатнулся от нее: «соотечественники! страшно!»
Уже в наше время Булгаков в «Мастере и Маргарите» не сробел, возведя эту идею в перл создания.
Нет, тут не сказки, не фантазия, по жестокий и суровый реализм бытия — отражение того уныния, какое автор, соединив его с ужасом, выплеснул из души своей на страницы повести, чтобы облегчить внутреннюю боль от сознания рушащихся основ бытия.
Завершается повесть комическою бытовою зарисовкою, на которые таким мастером был Гоголь: «На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но, заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошёл спрятаться в самое отдалённое место в бурьяне. Причём не забыл, по прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке» (2, 354). Это было бы смешно, когда бы не было так… страшно.
И точно так же превращается в свою противоположность смех, каким заражает автор всякого читателя последней повести цикла, — о ссоре двух приятелей, превратившейся в содержание и смысл всей их жизни: «Скучно на этом свете, господа!» (2, 398).
Это скучно, по истине, готово прозвучать как страшно. Страшен этот мир, увиденный и отображённый Гоголем, — и не жуткою бесовщиною, а обыденностью и скучною пошлостью бытия.
Пошлость — ключевое слово, когда заходит речь о творчестве Гоголя. Впервые произнес его Пушкин, и Гоголь усвоил и утвердил это понятие по отношению к отображённой им жизни:
«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что ещё ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот моё главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей. Оно впоследствии углубилось во мне ещё сильней…» (6, 77), — так свидетельствовал Гоголь позднее (в «Выбранных местах…»). О.Василий Зеньковский, посвятивший теме пошлости лучшие, пожалуй, страницы своего исследования о Гоголе, писал: «Тема пошлости есть, таким образом, тема об оскудении и извращении души, о ничтожности и пустоте её движенийпри наличности иных сил, могущих поднимать человека. Всюду, где дело идёт о пошлости, слышится затаённая грусть автора, — если не настоящие «слёзы сквозь смех», то скорбное чувство трагичности всего, к чему фактически сводится жизнь человека, из чего она фактически слагается. Пошлость есть существенная часть той реальности, которую описывает Гоголь…»30.
Что есть пошлость в гоголевских персонажах? Для Гоголя это категория (согласимся с о. Василием) эстетическая — он же художник! — но не только. Пошлость для Гоголя есть понятие прежде всего религиозное. Безнадёжно пошлы бессмертные Иван Иванович с Иваном Никифоровичем — но не просто ничтожеством своих дрязг и судебных тяжб. В. А. Воропаев и И.А.Виноградов, комментаторы девятитомного собрания сочинений Гоголя (М.,1994), впервые справедливо отметили, что смысла «Повести…» не понять без сопоставления её с откровениями Писания:
«Мирись с соперником своим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» (Мф. 5, 25–26).
«И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» (1 Кор. 6, 7).
«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3, 12–13).
Гоголевские персонажи нарушают эти заповеди, то есть совершают богоотступничество. Вот что есть пошлость по Гоголю: апостасия, богоотступничество. Богоотступничество, совершённое не на подиуме общественного бытия и не в героическом экстазе, как у какого-нибудь Манфреда или Мцыри, но, лишённое романтического блеска, в рутинной повседневности — и тем оно страшнее для созерцающего его безнадёжность художника, Раскрывая губительность пошлости, Гоголь вкладывает в уста старика Муразова (во втором томе «Мёртвых душ») одну из самых задушевных своих мыслей: «Не то жаль, что виноваты вы стали перед другими, а то жаль, что перед собою стали виноваты — перед богатыми силами и дарами, которые достались в удел вам. Назначенье ваше — быть великим человеком, а вы себя запропастили и погубили» (5, 441). Эти слова, обращенные к Чичикову, без сомненья сознавались автором обращёнными ко всякому человеку.
Поразительное совпадение: в конце XIII столетия святитель Серапион Владимирский обратился к поверженному в рабство народу:
«Господь сотворил нас великими, мы же своим ослушанием превратили себя в ничтожных»31. Причина всех трагических бед народных была обозначена ясно: греховное богоотступничество. Назван был и путь избавления от бед: возвращение к Богу в покаянии. Да Церковь и не могла возвестить ничего иного.
Гоголь же долгое время сосредоточивал внимание на пошлости пребывания вне Бога. Пошлость, безнадёжная пошлость высвечивалась гоголевским смехом, но и так срасталась с ним неотделимо, что сам смех этот начинал как бы творить, воссоздавать пошлость в совершенных эстетических образах — «возводить в перл создания». Не таится ли в том разрушающая опасность самого искусства? Это становится основною проблемою, основною мукою Гоголя-писателя, Гоголя-мыслителя, Гоголя-человека.
3. Фантастическая реальность «Петербургских повестей»
Эту тему — тему человеческой пошлости — Гоголь продолжает развивать с гениальным совершенством в ряде повестей, известных как «Петербургские повести» — название хоть и не собственно гоголевское, но устоявшееся и общепризнанное. Она, эта тема, соединяется, и даже отождествляется в цикле «Петербургских повестей» (будем рассматривать их именно как цикл, опираясь на волю автора, поместившего их в одном томе своего собрания сочинений) с темою новою для русской литературы, но которая станет вскоре едва ли не центральною не только в литературе, но и в развитии общественной мысли, и вплоть до нашего времени. Петербург, давший название циклу, стал для Гоголя символом надвижения на Россию гибельной для нее цивилизации.
Сколькие поздние мыслители и художники русские схлестнутся в яростных и громчайших спорах вокруг этого столь прельстительного для одних и отталкивающего для других слова, понятия. Да споры те уже и начались в гоголевскую пору — в столкновении двух противоборствующих направлений, получивших неудачные названия славянофильства и западничества. Уже было написано, хоть и не сразу явлено читающей публике «Философическое письмо» Чаадаева, где блага цивилизации прямо отождествлялись с чаемым приближением Царства Божия на земле; уже Хомяков в гневных своих филиппиках против западнического соблазна камня на камне не оставлял от губительного рационализма новых идей… Да цивилизацию хоть хвали, хоть обличай, она сумеет приспособиться ко всем резонам, обойти все преграды, заглушить все возражения… «Соотечественники! страшно!» Цивилизация была страшна для Гоголя своей пошлостью. Все споры вокруг самого понятия этого всегда останутся спорами религиозными по сути своей, пусть бы сами спорящие даже о том вовсе и не догадывались. Ибо это будут всё те же споры, пусть и в специфическом преломлении, вокруг всё той же проблемы собирания сокровищ земных. Гоголь первым у нас разгадал в преклонении перед благами цивилизации страшную для него богоотступническую пошлость.
Невский проспект — символ Петербурга — несёт в себе соблазн внешней привлекательности при внутренней порочности и лжи. Он подобен красавице-брюнетке, увлёкшей идеалиста Пискарёва своею «небесною чистотою» и оказавшейся на деле служительницей разврата. Повесть «Невский проспект» (1834) открывается своего рода гимном главной улице северной столицы: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет всё. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных её жителей не променяет на все блага Невского проспекта» (3, 7)… и т. д. Завершающее повесть рассуждение опровергает все обольщения, срывает маску благопристойности, обнаруживает мелочность всё той же торжествующей пошлости: «О, не верьте Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нём, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящейся церковью, судят об архитектуре её? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна его шариком в незнакомого ему офицера? Совсем нет, он говорит о Лафайете. Вы думаете, что эти дамы… но дамам меньше всего верьте» (3, 37).
К слову: вот один из примеров гоголевского парадоксального мышления — он мастер на подобные логические кульбиты, какой проделал в своем наблюдении над размахивающим руками энтузиасте. Ведь от «энтузиаста» как раз естественно было бы ожидать разговоров о Лафайете, заигрывание же жены с незнакомым офицером — тема пошлая. Нe перепутал ли автор местами части этого рассуждения? Да нет: офицер и жена — пошло, да разговоры о Лафайете ещё пошлее. Напомним для сравнения иной гоголевский парадокс, из подобных: в «Мёртвых душах» автор сообщает о жителях города: «Прочие тоже были более или менее лица просвещённые: кто читал Карамзина, кто «Московские Ведомости», кто даже и совсем ничего не читал» (5, 144).
Примечательно, что в «Невском проспекте» Гоголь как бы следует за Пушкиным, воспевшим во вступлении к «Медному всаднику» творение Петра, а затем обнаружившим гибельность этого «на зло» возведённого города. Недаром и разделяет создание этих произведений всего-то год: «Медный всадник» написан осенью 1833 года, «Невский проспект» — осенью следующего.
Неприятие петровских преобразований было мировоззрению Гоголя присуще; символическое же воплощение этих преобразований, Петербург, разоблачается писателем во всей неприглядности — в чём он направил и «натуральную школу», и Достоевского, да и многих прочих. Именно вслед за Гоголем пошли русские реалисты обследовать и исследовать жизнь в «петербургских углах» и трущобах. Да и Андрей Белый, по-своему восприняв гоголевскую традицию, во многом смотрел на Петербург глазами Гоголя. Впрочем, речь о том впереди. Что же до Гоголя, то он в «Невском проспекте» как бы окончательно утвердился в сознании двойственности земной красоты, которая может и споспешествовать возвышению человеческого духа, а может и послужить его гибели. «Горьким смехом» посмеялся Гоголь над эстетическим идеализмом Шиллера и иже с ним — да вкупе и над собственной увлечённостью немецкими романтическими соблазнами. Имя Шиллера и вообще в литературе утвердилось как персонификация надмирности душевных стремлений. И только Гоголь мог ввести это имя в своё повествование столь парадоксальным и прекомическим образом: «Перед ним сидел Шиллер, — не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, — не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле…» (3, 30). Как будто «тот Шиллер» вовсе неизвестен… Да мало оказалось Шиллера — ещё и Гофман за компанию привлечён. Нет, тут не просто комикование: тут пророческое предсказание судьбы славы Шиллера (и лично, и как символической фигуры) в те дни, когда окончательно утвердятся в мире идеи прогресса и цивилизации — революционным провозвестником которых был именно Шиллер. Власть над умами перехватят у Шиллера-поэта — Шиллер-жестянщик да сапожник Гофман (XX век добавит: и кухарка), торжествующая пошлость которых погубит в безвестности славное имя того, кто отстаивал идеал власти средних классов. И как не вспомнить ещё раз, что именно в недрах протестантизма (в кальвинизме как логическом следствии лютеранства) были порождены и революционный романтизм и сам буржуазный тип мышления, буржуазное миропонимание, буржуазный миропорядок. В буржуазности нельзя не увидеть прямой апостасии, в какие бы одежды ни рядились первые носители буржуазного идеала — собирания сокровищ на земле.
Поручик Пирогов и художник Пискарёв, возникшие на Невском проспекте по воле гоголевской фантазии, есть не что иное, как раздвоение единой, но несущей в себе внутреннее противоречие индивидуальности шиллеровского типа. Это две половинки Шиллера (Шиллера-символа), пошедшие гулять по проспекту каждая сама по себе, — в гоголевском мире то не диковина. Нереальная реальность обнаруживает судьбу, уготованную по истине такому типу индивидуальности; неисправимый идеалист-романтик обречён на гибель, ибо не в силах пережить поругание «святыни»; трезвый поборник земных радостей будет просто высечен новым Шиллером, вспыхнет благородным негодованием, а затем утешится слоёным пирожком и отличится в мазурке на каком-нибудь бале. Страшно на этом свете, господа…
В «Невском проспекте» есть одна незначащая сценка, в какой предчувствуется повод для создания новой фантазии: пьяный Шиллер просит Гофмана отрезать ему нос: «Я не хочу, мне не нужен нос! — говорил он, размахивая руками. — У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не держит русского табаку, я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по сорок копеек; это будет рубль двадцать копеек; двенадцать раз рубль двадцать копеек — это будет четырнадцать рублей сорок копеек. Слышишь, мой друг Гофман? на один нос четырнадцать рублей сорок копеек» (3, 30).
А что — ежели и впрямь нос будет отхвачен? В нереальной вероятностной гоголевской реальности всё возможно, и вот уже нос майора Ковалёва (повесть «Нос», 1836) отправляется в самостоятельное странствие по Петербургу и даже получает чин статского генерала. Правда, даровал самостоятельную жизнь носу не сапожник, а, скорее всего, цирюльник Иван Яковлевич — и это, заметим, символично. Сугубая нужда в профессии цирюльника-брадобрея возникла после петровской «реформы брадобрития», так что приключения Носа-генерала есть символическое выражение новых послереформенных порядков. Автор как бы утверждает: в царстве этих новых порядков возможна подобная небывальщина, ибо сама реальность становится неистинной, фантастической, ложной. Недаром же и Достоевский видел в Петербурге что-то фантастическое и нереальное. Гоголь же как бы дразнит читателя: подобная фантастичность существует не только в повести, но и в этом перевернутом мире: «А всё, однако же, как поразмыслишь, во всём этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают» (3, 60).
Персонажи же «Носа» вовсе не воспринимают происшедшее как нечто из ряда вон: чиновник, например, к которому обращается Ковалёв по случаю пропажи носа, совершенно спокойно прилагает услышанное к системе своих понятий и рассказывает иную несуразность: «А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришёл чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принёс записку, денег по расчету пришлось два рубля семьдесят три копейки, и всё объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, чтобы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, нe помню какого-то заведения» (3, 48). Эти два рубля семьдесят три копейки бесподобны! Арифметическая скрупулезность как бы призвана свидетельствовать о полной достоверности происшедшего.
Другой чиновник, частный пристав, на жалобу майора отреагировал по-своему: «Частный принял довольно сухо Ковалёва и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначена, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (из чего коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов), что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам» (3, 50). Для самого же майора пропажа носа огорчительна прежде всего невозможностью продолжения прежних знакомств и осуществления карьерных вожделений. К самому же Носу, как к стоящему на гораздо более высокой ступени в Табели о рангах, Ковалёв преисполнен почтения и даже робеет несколько в его присутствии. Дальше — больше: как о совершенно обычном деле рассказывает о чуть было не состоявшемся бегстве Носа из Петербурга некий «полицейский чиновник красивой наружности»: «Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт был выписан на имя одного чиновника» (3, 52). Доктор, к помощи которого решил прибегнуть майор после возвращения носа для приставления его к законному месту, советует заспиртовать этот нос и «взять за него порядочные деньги» (3, 55).
Бесподобна и реакция жителей Петербурга на распространение слухов об этом небывалом происшествии: «…Скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалёва ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера — и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор почтенной наружности с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которых приглашал любопытных становиться за восемьдясят копеек от каждого посетителя» (3, 57). Не оставим вниманием все эти сопутствующие подробности, на какие Гоголь всегда был великим мастером. Автор не упустит сообщить, для пущей точности, что спекулятор почтенной наружности был именно с бакенбардами, а скамьи его были прекрасны и прочны и цена за стояние составляла именно восемьдесят копеек. Не случайна и одна из мотивировок случившегося ажиотажа: «Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была ещё свежа, и поэтому…» (3, 56–57). Бакенбарды и танцующие стулья оказываются в одном ряду.
Абсурд в системе ценностей апостасийного мира перестаёт быть абсурдом, поэтому Нос может вполне свободно и спокойно приезжать в собор и молиться с выражением величайшей набожности, а обыватели Петербурга если и возмутятся, то скорее тем, что слухи не находят подтверждения. И этот мир готов заменить собою подлинную реальность? Страшно…
Вот здесь литература, искусство вообще — приближаются к опасному краю: производя без-образных монстров, художник способен — и чем совершеннее эстетическое мастерство творца, тем непреложнее его возможность — превращать недолжное бытие в реальность, утверждая как норму пошлость новотворимого художником мира, разрушать веру, укоренять безверие в умах и душах человеческих. Вечная проблема и мука искусства. Гоголь не преступил черты, но подвёл к ней литературу — и сколькие его последователи дерзнули бездумно…
Искусство может творить бесовщину. Гоголь сознал это прежде на художественном уровне. «Экая сила! — размышляет в повести «Портрет» (1835–1842) мастер живописец, работая над изображением ростовщика, с которого он решает списать облик дьявола для церковной росписи. — Если я хотя вполовину изображу его так, как он есть теперь, он убьёт всех моих святых и ангелов; они у меня побледнеют перед ним. Какая дьявольская сила!» (3, 101).
Убьёт святых и ангелов… Сказано страшно, но верно: искусство способно нести зло и беды в мир. Образы же святости этому секулярному искусству в полноте недоступны — вот что стало позднее трагедией Гоголя. Символичен пересказ в повести всех несчастий, какие несёт созданный портрет всем его обладателям. Но портрет тот — в своём роде шедевр.
Примечательна история написания повести. К первой редакции 1835 года автор ещё увлекался религиозно-мистической тайной: в потрете ростовщика оказывается воплощённою душа антихриста — в прямом фантастически-реальном смысле. Вторая редакция этой темы уже не содержит, об антихристе не упомянуто вовсе, а на первый план выступает проблема эстетического аморализма (которую в творчестве Гоголя выделил впервые, кажется, о. Василий Зеньковский). Связь искусства с религией в этой редакции, по мнению С.П.Шевырёва, раскрыта так «как ещё нигде она не была раскрыта» (3, 492). Но читающею публикою это как будто вовсе и не было замечено. Белинский отозвался о повести неодобрительно, но у него были свои критерии, от гоголевской проблематики далекие. Возможность гибельного на душу человеческую воздействия эстетического совершенства творений искусства… Это было слишком ново, необычно, да и неприемлемо для поклонников всего изящного и идеального (а эстетическое совершенство, «перл создания» — не отождествляется ли с идеалом, с некоей идеальностью вообще?). Впрочем, о том напоминает легенда о сладкоголосых сиренах — но ведь Гомера чаще воспринимают как красивую языческую сказку, нежели как выражение глубокой человеческой мудрости: Гоголю позднее специально пришлось разъяснять это читающей публике (в «Выбранных местах…»), да в ряду прочих его поучений и это было отвергнуто просвещёнными россиянами. В «Портрете» же никто не отважился понять всё истинно. Показательно тут непонимание Белинского: как ни относиться к мировоззрению неистового критика, должно признать, что он персонифицировал весьма высокий уровень понимания литературы, и то, чего не понимал Белинский, можно быть уверенным, не понимало и подавляющее большинство читающей публики. Искусство же, выпускающее на волю нечистый дух, само становится жертвою своего перерождения: превращается в средство служения этому духу, как случилось в повести с мастером-создателем бесовского портрета, либо вырождается в бездушное ремесло, что сказалось в судьбе художника Черткова, соблазнённого страстью корыстолюбия, какою заразило его золото ростовщика, обнаруженное в портрете. Все эти проблемы сопряжены с искусством, которое мы называем светским, мирским, пусть даже оно нередко берётся за религиозные темы и сюжеты, как то делали, например, мастера Возрождения. Языку этого искусства, не устанем повторять, — будь его носителем сам Рафаэль, символ эстетического совершенства, или А.Иванов, отмеченный Гоголем в «Портрете» и в специальном очерке как образец истинного художника, — недоступно подлинное выражение Горней истины, этот язык может с высочайшим совершенством выразить лишь истины дольние, «от мира сего». Само двойственное отношение Гоголя к Рафаэлю свидетельствует о том, что он это хорошо понимал. Рафаэль восхищал писателя, да и не могло быть иначе, но Гоголь же, по воспоминаниям Л.О.Смирновой-Россет, прямо ставил всю европейскую живопись, включая Рафаэля, ниже византийской. Стоит задержать внимание на суждении Гоголя, как передаёт его Смирнова: «…Всё это не может сравниться с нашими византийцами, у которых краска ничего, а всё в выражении и чувстве»32. Сила и слабость гоголевского понимания проблемы так ясно выразилась в этом суждении. «Византийцы» здесь — несомненно, иконописцы. Нужно было обладать особой религиозной одарённостью, чтобы оценить и сознать высоту иконописи. Только её языку доступны истины духовные. Но подлинные краски православной иконописи начали открываться, как известно, только в начале XX века — не оттого ли и Гоголь говорит, что у «византийцев» «краска ничего», достоинства же иконы определяет в категориях душевных. И всё же поразительна гоголевская интуиция: даже для Достоевского не было ничего выше Рафаэля.
Гоголь же прекрасно понял, что истина в духовном искусстве есть результат молитвенно-аскетического опыта. Подтверждение находим в «Портрете», в том месте, где рассказывается о судьбе создателя бесовского портрета, ушедшего в монастырь и затем долгим монашеским подвигом очищавшего душу, чтобы оказаться достойным написания иконного образа. «Он удалился с благословения настоятеля в пустынь, чтобы быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрестанно молитвы. <…> Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твёрдо настоятелю: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд» (3, 105–106).
Это описание можно сравнить с размышлениями Гоголя о художнике А. Иванове, о работе его над грандиозным полотном «Явление Мессии»: «Где мог найти он образец для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины, представить в лицах весь ход человеческого обращения ко Христу? Откуда мог он взять его? Из головы? Создать воображеньем? Постигнуть мыслью? Нет, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображенье. <…> Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращенье к Христу, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил Бога о ниспослании ему такого полного обращенья, лил слёзы в тишине, прося у Него же сил исполнить им же внушённую мысль…» (6, 113).
Отголоски гоголевского впечатления от картины А.Иванова обнаруживаются в «Портрете»: «Видно было, как всё извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью» (3, 88). Важно же вот что: искусство А.Иванова всё же основано на использовании языка европейской живописи, который ограничен в своих возможностях. И Гоголь не мог того не ощущать.
Всё оказалось бы проще, если бы то была для писателя сторонняя проблема некоего сопредельного по отношению к литературе виду искусства, но не его личная проблема как литератора. Нет: тут проблема искусства вообще, тут сокровенная мука самого автора «Портрета» и очерка об А.Иванове. Он оттого так глубоко постиг проблему эту, что в себе её переживал не менее остро. Не об Иванове только — он о себе то писал. Подобно всем творцам русской литературы, Гоголь использовал эстетическую систему, ограниченную в своих возможностях. И долгое время не хотел признаваться в том самому же себе. Он силился выразить в своем творчестве неподсильное ему, и когда понял это окончательно, был трагически потрясён своим открытием. Оттого так настойчиво и преследовала его в последний период жизни мысль об уходе в монастырь.
Этого не поняли современники его, друзья, читатели. Не поняли и вошедшие вслед за Гоголем в литературу молодые писатели, которые сознавали себя последователями его. Они сознавали себя последователями именно гоголевского типа отображения реальной жизни. И нельзя сказать, что они вовсе оказались неправы: тут проявилась та самая многоплановость эстетической системы Гоголя, которая позволяет по-разному увидеть его творчество людям с разным типом эстетического и духовного опыта. Из многих планов— а лучше сказать: уровней отображения жизни — молодыми последователями был выбран и предпочтён тот, что заметнее других бросался в глаза, поражал новизною самого принципа изображения жизни. Должно помнить, что зрение писателей «натуральной школы», как стали именоваться они в 40-е годы XIX века, эти почти сплошь будущие классики великой литературы, — зрение их изначально направлялось Белинским, властителем дум своего времени, и оттого они смотрели на Гоголя следуя установкам социального анализа жизни, революционно-демократическим идеям. Среди всего, Гоголем созданного, они прежде всего выделили «Шинель» (1842) — и все дружно как бы и вышли из неё (в чём потом кто-то из них и признался). В «Шинели» же сразу поражала небывалая дерзость автора: выбор совершенно невозможного ещё совсем недавно объекта для эстетического исследования. Кому мог быть интересен ничтожный чиновник с его прозаическими заботами и покупкою шинели? Гоголь заставил читателя сопереживать этой судьбе. Порою сам тип «маленького человека» производят от Акакия Акакиевича Башмачкина, забывая о его предшественниках, станционном смотрителе Самсоне Вырине и бедном же чиновнике Евгении из «Медного всадника». Белинский усмотрел в фигуре Башмачкина мотив социального обличения, что критику было ближе всего — несомненно. Так в основном все и понимают до сих пор: Гоголь стремился пробудить в читателе сочувствие к социально угнетённому маленькому человеку, задавленному внешними обстоятельствами эпохи николаевского деспотизма. Однако если взглянуть непредвзято, то оказывается, что Акакий Акакиевич жертва не внешних обстоятельств, а своей собственной внутренней никчёмности. Вслед за другими исследователями процитируем нетривиальную мысль А.Григорьева, ещё в 1847 году, то есть при жизни Белинского, писавшего: «…В образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеления Божьего создания до той степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и уничтожающего горя, до того, что шинель делается трагическим fatum в жизни существа, созданного по образу и подобию Вечного…» (3, 478).
Григорьев выделяет религиозный уровень осмысления темы и проблемы «Шинели» — но это уже и в середине XIX века было не популярно в передовых кругах русского общества. Так и закостенели литературные оценки на уровне социальном. Да, в том есть доля истины, но расширим круг зрения. Акакий Акакиевич — безнадёжно бездарен и неумён: дали ему бумагу не просто переписать, но чуть переделать в одном месте — и того не сумел. Жизнь Башмачкина вдруг заполняется одной страстью, мелкой, но охватившей всю душу нелепого титулярного советника. Д.В.Чижевский, один из исследователей «Шинели», остроумно заметил, что отношение Башмачкина к шинели эротично по внутренней своей сути (эрос понимается в данном случае не в грубом плотском смысле, разумеется). «…Даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже твёрже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределённые черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник?» (3, 120).
Акакий Акакиевич здесь — и философ, занятый «вечной идеей», и духовный аскет, и романтический герой с огненным взором и твёрдой решительностью в облике… Но восхитительна эта последняя гоголевская подробность: дерзостность в мыслях о кунице на воротник! Вся возвышенность предшествующих восторгов сразу снижается до реального уровня притязаний маленького человека. Можно было бы сказать: страсть к шинели становится подменою подлинной душевной тяги к любви, присущей каждому человеку как образу и подобию Божию, хотя бы и в непроявленном виде. Башмачкин поглощён шинелью и оказывается как бы лишённым самой возможности любви. Гоголь изображает не обретение и утрату шинели бедным чиновником, но «страсть к ничтожному объекту», которая может погубить человека, по мысли Чижевского, так же верно, как и страсть к чему-то великому, значительному. Отчасти соглашаясь с исследователем, заметим, что лучше оценивать страсть не пo «величине» объекта страсти (тут всё слишком субъективно), но по интенсивности страсти. Страсть же Башмачкина к шинели не уступит никакой сильнейшей страсти кого бы то ни было к чему бы то ни было: недаром утрата предмета страсти приводит к гибели героя.
Обращаясь вновь к основной проблеме русской культуры, можно сказать, что Башмачкин отдал себя в абсолютное рабство страстному тяготению к сокровищу на земле— «где воры подкопывают и крадут» (Мф. 6, 19) — ибо шинель для него выше и драгоценнее любых прочих сокровищ. В этом он непоправимо пошл. Не обойдем вниманием и другой суррогат любовного чувства, который владеет душою копииста-переписчика бумаг: «Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что на лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его» (3, 111–112).
Природа душевных движений в Башмачкине подавляет самую возможность знания им любви: «Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всём свои чистые, ровным почерком выписанные строки» (3, 112). Он лишён знания любви, то есть лишён важнейшей возможности богопознания — и пусть не покажется никому натянутым совмещение столь разноуровневых понятий: там, где речь идет о душе человека и её отношении к Богу (или об отсутствии такого отношения), там нет ничтожных предметов и понятий. Да, но какова же может быть «истинная любовь» у этого ничтожного чиновника? Достоевский, выведя в «Бедных людях» своего рода двойника гоголевского Башмачкина, раскрыл возможность возвышенных, истинно высоких душевных движений у самого на внешний вид задавленного и униженного обстоятельствами человека.
Итак, Гоголь судит своего героя? Нет. Гоголь по-христиански сострадает ничтожному и пошлому маленькому человеку. И Гоголь заставляет силою своего гения сострадать Башмачкину, этому обмелевшему Божьему созданию, — всех. Что в основе такого сострадания? Ключ ко всему — в том знаменитом эпизоде из «Шинели», о котором говорили слишком много, но слишком простой истины, кажется, так и не обнаружили. «В нём слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзённый, и с тех пор как будто всё переменилось перед ним, и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых весёлых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу, с своими пронизывающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой» (3, 111).
Я брат твой… Д.Чижевский усмотрел в этом слишком прописную аксиому, чтобы останавливать на ней свое внимание. Но истина хоть и банальна, да нет ничего глубже и значительнее её в «Шинели».
Я брат твой… Всякое понятие братства не имеет смысла вне понятия об отцовстве; есть братство кровное, есть духовное. Акакий Акакиевич Башмачкин брат каждому из нас, поскольку у нас с ним единый Отец Небесный. Гоголь сострадает не жертве социального угнетения, но творению Божию, не сумевшему проявить в своей любви образа и подобия Отца, в нём, в творении, заключённого.
Каков же смысл этого сострадания? Позднее, в «Выбранных местах…» Гоголь писал: «Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. <…> Трудно полюбить Того, Кого никто не видал, один Христос принёс и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос., и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям» (6, 83–84).
«Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» (1 Ин. 2, 10–11).
Опора на новозаветную мудрость у Гоголя несомненна, непрямое цитирование Писания слишком видно.
«Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. <…> Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4, 11–12, 19–21).
«Но как полюбить братьев, как полюбить людей? — проявляет Гоголь тот вопрос, какой может возникнуть у многих, и причина вопроса понятна — Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного!» (6, 84).
Любовь неизбежно явится из сострадания — ко всем бедам России (а беда Башмачкина — одна из частных бед народа), и так совершится дело любви: «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский, для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и всё, что ни есть в России. К этой любви нас ведёт теперь Сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри её и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней состраданья. А состраданье есть уже начало любви» (6, 84).
Гоголь ставит ясные вехи на пути необходимого духовного развития русского человека: «…Не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам» (6, 85).
Вот высший смысл «Шинели» — этого поистине пророческого произведения русской литературы. Религиозный смысл «Шинели» обнаруживается на поверхности, он очевиден, непреложен, но глубоко пронизывает весь состав повести.
…Достоевский, скажем к слову, и впрямь вышел из «Шинели».
Пошлость, однако, многолика. Не всегда вызывает она у автора сострадание, но порою и ироническую (но не злую, никогда не злую) усмешку. Пошлость проявляется и в тяге к самоутверждению какими угодно средствами, даже самыми невинными и ничтожными. Нередкое свойство: человек стремится утвердить высокое значение своё, набить себе самому цену — хотя бы посредством обладания какою-либо особою ценною вещью. На худой конец. Состояние состоянием, но ежели в числе прочего обнаруживается нечто из ряда вон выбивающееся — тогда и значение владельца как бы заметно возрастает. Помещик Чертокуцкий, главный персонаж повести «Коляска» (1835), решил выделить себя и возвысить в глазах окружающих рассказом о своей особенно необыкновенной коляске — даже пригласил всех к себе с визитом, чтобы убедиться в её необыкновенности, да и оконфузился, в хмелю позабывши о своём приглашении. Анекдот, безделица? Да пошлость человека и в безделице пошлостью остается. А с гоголевским умением обыграть любую подробность, возводя её в «перл создания», — шутка гения превращается в подлинный шедевр.
Пошлое честолюбие может обрести совершенно ничтожную форму и обернуться вздором, как в «Коляске», но оно же может довести человека до умопомрачения и стать источником мук не только нравственных, но и физических — как то случилось с Поприщиным в «Записках сумасшедшего» (1834). Как убедительно предположили В.А.Воропаев и И.Л.Виноградов, первоначальное название состояло из трёх, а не из двух слов: «Записки сумасшедшего мученика». Мученик — само слово заставляет предположить в повести смысл религиозный. Но всякое ли мученичество, всякое ли страдание имеет благодатное значение для души человеческой? Нет, но только страдание за Христа, ради стяжания благодати Святого Духа. Всё остальное превращается в пустопорожнее растрачивание внутренних сил, необходимых для духовной брани с бесовскими соблазнами.
«Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7, 10).
Мученик Поприщин такому соблазну и поддался, соблазну весьма распространённому и заурядному: он презрел апостольскую заповедь:
«Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7, 20).
Поприщин внутренне взбунтовался против собственного «призвания»:
«Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков. <…> Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором, или интендантом, или там другим каким — нибудь? Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?» (3, 158–159).
Бунт наказывается сумасшествием, превращением Поприщина в тяжкого страдальца, принимающего на себя и долю авторского сострадания. «Записки сумасшедшего» замечательны и буйством авторской фантазии, поскольку этой игре споспешествует сама избранная тема. Однако и до сумасшествия Поприщина автор вставляет в рассказ бесподобные детали: «Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что учёные уже три года стараются определить и ещё до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю» (3, 149–150). Гоголевская нереальная реальность являет себя в «Записках» во всем великолепии.
Но ведь никуда не уйдёшь и от вопроса: о смысле новотворения подобной реальности (виртуальной, вымышленной — как ты её ни назови). Сторонник «чистого искусства» таким вопросом себя никогда не омрачит: сама причудливость образной игры, да ещё в совершенной форме, уже сама по себе является для него оправданием. Да вот гоголевская религиозная серьёзность такого совершенного легкомыслия не допустит надолго. Одно дело натуральная склонность к чему-либо, другое — мучительное осмысление своего творческого дара.
Гоголь возвращается к проблеме эстетического отображения бытия, к проблеме искусства — в отрывке (из начатого лишь романа «Аннунциата»), которому автор дал скромное, но символическое название — «Рим» (1842).
Отношение к Риму у Гоголя всегда было особым: то его юношеская мечта, его постоянная любовь, его страсть, если угодно. Рим в «Отрывке» противопоставлен Парижу — этому средоточию пошлой цивилизации и низкой роскоши (абсолютизации сокровищ на земле— переиначим на язык привычных нам религиозных понятий). Рим — хранитель «величественной прекрасной роскоши», в существовании которой, по наблюдениям Воропаева и Виноградова, светское искусство обретает для Гоголя своё оправдание. Если так — то не отражение ли это внутренней, давней, органически присущей натуре Гоголя тяги к эстетически совершенной изобразительной форме служения истине в искусстве? Просто отторгнуть то, ограниченность и бессилие чего уже начинает всё яснее сознаваться писателем, — значило бы резать по живому. Больно. Париж — презренное скопище земных сокровищ, это для Гоголя несомненно. Но и Рим — вместилище тех же сокровищ, лишь в иной форме; осознание такой истины не могло не обернуться внутренним трагическим надломом — и время для того настало не вдруг. Следует уточнить, что этот трагизм создавался резким несоответствием уровня гоголевского притязания, слишком высокого, уровню возможностей искусства, в котором он стремился осуществить это свое притязание. В том трагизм исключительно Гоголя-художника, и никого другого. Может быть, впервые его душа была потрясена ощущением такого несоответствия — при смятенном взирании на реакцию общества при постановке «Ревизора» (1836).
4. Комедия «Ревизор»
Другой бы автор, видя приём его детища у публики, мог испытать блаженство, восторг удовлетворённого честолюбия: успех ведь был полнейший. Художественный успех. Гоголь был раздосадован и потрясён. Не того результата ожидал он от постановки комедии. Он уповал, что, как по слову пророка Ионы великий град Ниневия отвратился от своей неправедности, так что Сам Господь Бог отверг намерение покарать его (Иона 3, 1-10), — так и пошлость российская рассеется, если поставить перед нею правдивое зеркало пророческого обличения её. Ни один русский писатель не имел столь несоразмерных его возможностям притязаний — ни одному и не выпало столь жестоко разочароваться. Что перед всем этим какой-то обыденный художественный успех?
Всё непонятное, непостижимое, повторим в который раз, трезвый в своей ограниченности рассудок спешит объявить безумием. Может, и сами притязания Гоголя безумны? Лучше сказать: не-нормальны. Они вне нормы опошлившегося мира, они нереальны в апостасийности бытия. Но Гоголь так тянулся к нереальной реальности. Сам город, в каком совершались невероятные события комедии, нереален, нереалистичен, в чём сам автор признался позднее в «Развязке Ревизора» (1846):
«Всмотритесь-ка пристально в этот город, который был выведен в пьесе! Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России: не слыхано, чтобы где были у нас чиновники все до единого такие уроды: хоть два, хоть три бывает честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет. Не так ли? Ну а что если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас?» (4, 462).
А ведь в реалистическом произведении мы привыкли находить непосредственное отражение реальной действительности — аксиома. Какая-нибудь усадьба Лариных — реальна: не оттого только, что есть у неё известный всем «прототип» — Тригорское, — но и из-за свободной узнаваемости её современниками, достоверности всех происходящих в ней событий, их типичности (как ни затаскано слово, без него не обойтись). И вот: гоголевский городок в «Ревизоре» — недостоверен.
Автору пришлось специально сообщить о том читателям и зрителям.
За полтора с лишним века пребывания «Ревизора» в русской литературе — чего только ни обнаружили в нём дотошные критики, исследователи, интерпретаторы: и выдающиеся художественные достоинства, вплоть до тончайших и мельчайших подробностей, и социальную всесокрушающую критику, и политические разоблачения, и обличения нравственные — и всё справедливо. Только пророческого слова против богоотступничества человека не захотели услышать, даже самому автору не поверили, когда решил он объясниться. Скорее подпадение автора под власть бесовщины готовы были узреть иные не в меру ретивые толкователи — как переусердствовали в том Мережковский и Розанов. Неужто все так слепы и глухи оказались? Отчасти так. В искусстве перевод с языка эстетических образов на язык философских и логических категорий дело трудное и не всегда благодарное. Не зря же не доверял «переводческим» способностям читателей сам Лев Толстой, перенасытивший оттого, по его собственному объяснению, текст «Войны и мира» философскими отступлениями. Гоголь же поставил задачу более сложную: требовал перевода на язык духовных пророческих истин, а когда с недоумением и разочарованием убедился, что публике это не по зубам, осуществил такой «перевод» самостоятельно: так появилось то своеобразное и непривычное драматическое произведение, которое называется «Развязка Ревизора» и которое Гоголь хранил в своих бумагах до смертного часа, не подвергнув уничтожению, как было сделано со многими прочими рукописями. Но ведь и перевода этого тоже не приняли современники, Показательна реакция М.С.Щепкина, исполнителя роли Городничего в Малом театре: «…Я так свыкся с Городничим, Бобчинским и Добчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня… это было бы действие бессовестное… Не давайте мне никаких намёков, что это де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки; это люди, настоящие живые люди, между которыми я взрос и почти состарился. Видите ли, какое давнее знакомство? …с этим десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите отнять их у меня. После меня переделайте хоть в козлов, а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог»33.
Жаль было расставаться с художественностью «Ревизора», с обличительным его пафосом. И ведь писал это Щепкин, тот самый Первый комический актер в «Развязке», который должен был произносить со сцены: «Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждёт нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот — наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по Именному Высшему повелению он послан и возвестится о нём тогда, когда и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса поднимется волос. Лучше же сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце её. На место пустых разглагольствований о себе и похвальбы собой да побывать теперь же в безобразном душевном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, — в котором бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей!» (4, 463)… и т. д.
Не вмещалось подобное осмысление (сознанием того же Щепкина) в содержание «Ревизора». Пророчество не со-вмещалось с образною системою комедии. Гоголь, по сути-то, сам же тому и воспрепятствовал, помешал, помимо собственного желания, должному, с его точки зрения, истолкованию «Ревизора»: он создал чрезмерно выдающееся художественное произведение, и сделал его необыкновенно смешным и испепеляюще обличительным по отношению к реальной реальности — через этот барьер пророчеству пробиться было невозможно. Парадокс? Нет тут никакого парадокса. Искусству земных форм небесные истины в полноте для выражения недоступны. Напомним ещё раз: то, что постижимо для русского средневекового иконописца, находится за пределами понимания даже Рафаэля. Средствами искусства, которые рассчитаны на передачу тварного земного света, пусть даже самую совершенную передачу, Гоголь попытался передать свое видение нетварного Горнего света. Сразу же рождается и важный вопрос: а видел ли он тот свет истинно?
Но обо всех вопросах заставляет забывать удивительное гоголевское мастерство, каждый характер, каждая сцена, каждая реплика. Заставляет и… отвлекает от того, что хотел (или ему казалось, что хотел) вложить в своё создание автор помимо всех этих виртуозных художественных достоинств. О художественном своеобразии «Ревизора» сказано и написано преизобильно — нет смысла повторяться. Для примера вспомним вновь об уникальности сюжетно-композиционного построения комедии: оно основано на переплетении трёх сюжетных линий, каждая из которых в отдельности могла бы стать основою законченной пьесы. В «Ревизоре» же три завязки и три развязки.
Завязка первая: «К нам едет ревизор!». Можно было бы написать комедию о приезде настоящего ревизора, о его взаимоотношениях с чиновниками города, об их попытках, удачных или неудачных, подкупить его и уйти от наказания… По мере развития событий зритель остаётся до самого конца заинтригован: где же этот настоящий ревизор, удастся ли Городничему и прочим выпутаться из беды?
Вторая завязка связана с появлением Бобчинского и Добчинского, сообщивших о некоем загадочном постояльце гостиницы, заглядывающем во все тарелки. У страха глаза велики — его ошибочно принимают за ревизора. И эта интрига способна была бы обрести полную самостоятельность: настоящего ревизора могло бы и вовсе не быть, тревога оказалась бы ложной, автору же оставалось бы обыграть водевильную ситуацию с самообманом персонажей комедии. В «Ревизоре» же зритель оказывается заинтригованным вдвойне: когда же они поймут, что ошиблись?
Третья сюжетная интрига связана с самостоятельной историей Хлестакова. Завязка произошла за рамками действия, но узнаем мы о ней в начале второго акта: некий молодой человек, проигравшись, оказался в отчаянном положении: денег нет, продолжать путь не на что, есть нечего, кормят из милости и плохо, что делать — неизвестно. Да ещё как снег на голову — городские власти со своими назойливыми приставаниями: чего им нужно, непонятно, отделаться от них невозможно, всё неопредёленно, страшно и запутано. К счастью для Хлестакова, он слишком лёгок в мыслях, чтобы морочить себе голову лишними вопросами, плывёт себе по течению, приноравливаясь к обстоятельствам. Должно развеять одно недоразумение, которое постоянно сопрягается с именем Хлестакова: к нему прочно прикреплён ярлык плута, мошенника, обманщика. Между тем, он вовсе не мошенник и никого не обманывает. Он сам обманут, его обманули Городничий с присными.
В самом деле, вообразите: вы приезжаете в неизвестный город и вдруг городские власти начинают вас обхаживать, суетиться вокруг вас, всюду приглашать, угощать, развлекать, давать денег взаймы… Именно взаймы, потому что вы-то хорошо знаете: взяток вы недостойны, поскольку ни чином, ни должностью не вышли: «елистратишка», как презрительно называет вас слуга, то есть коллежский регистратор, стоящий на низшей ступени Табели о рангах. Вникнем: на титулярного советника Башмачкина Хлестаков должен взирать со своей ступени чиновничьей лестницы голову задрав, так что шапка свалится. Так с чего бы вся эта суета вокруг? Единственно ради ваших необыкновенных внутренних достоинств, больше не из-за чего. Ведь к истории с ревизором Хлестаков сознаваемого отношения не имеет и за него себя не выдаёт. Попробовал Осип намекнуть о своей догадке: не за того принимают — да барин легкомысленно отмахнулся. Гоголь психологически убедительно обосновал всё Хлестаковское враньё: как полёт свободной фантазии, подогреваемой всеобщей уверенностью (как он обманывается) в его необыкновенных достоинствах. Хлестаков врёт с подачи Городничего, хотя ни тот ни другой о том не догадываются. Своеобразие характера в сложении со своеобразнейшими обстоятельствами даёт результат феерический. Тут мы находим ещё одно подтверждение глубочайшего психологизма гоголевских характеров, о чём доказательно рассуждал о. Василий Зеньковский, опровергая заблуждение Розанова относительно якобы психологической пустоты характеров в произведениях Гоголя.
Хлестаков, при всём своём легкомыслии, пустопорожности, всё же вызывает некоторое сочувствие к себе, так что зритель следит и за тем, сумеет ли молодой вертопрах выпутаться из опасной для себя ситуации: ведь узнай Городничий об истинном положении дел — не поздоровилось бы «елистратишке», пусть он ни сном ни духом не виновен.
Итак, три интриги завязались и сплелись в одно неослабевающее ни на минуту действие. Развязки следуют в обратном порядке: вначале разрешается беспокойство за Хлестакова, он благополучно отбывает восвояси, так и не догадавшись, что же с ним приключилось; затем чиновники выводятся из заблуждения почтмейстером, принесшим вскрытое им письмо Хлестакова; окончательная развязка совершается явлением жандарма и немою финальною сценою. О каком душевном граде тут ещё помышлять, когда всё так завораживающе интересно, что некогда отвлечься? Да пусть бы и знать всё — да кто же не знает «Ревизора»! — но каждая сцена сколько ни разыгрывается, а всегда как внове, и каждая реплика — восторг.
«…мы удалимся под сень струй…» (4, 265).
Конечно, можно было бы сделать пренаставительные вставки, резонёрские поучения, как было совсем недавно в классицизме, дать разъяснение или что-нибудь подобное — но тут был бы и уже художественный просчёт, дидактика только отвлекала бы и раздражала, а оттого всё равно не была бы воспринята, усилия автора остались бы втуне. Гоголь это понимал лучше прочих; об этом сказал в «Развязке»: «Автор, если бы даже имел эту мысль, то и в таком случае поступил бы дурно, если бы её обнаружил ясно. Комедия тогда бы сбилась на аллегорию, могла бы из неё выйти какая-нибудь бледная, нравоучительная проповедь» (4, 466).
Не мог он этого не понимать.
Но, может быть, ещё более от того над-образного смысла комедии, к какому намеревается склонить российское общество автор, отвлекает гоголевский всепоглощающий смех, всеподчиняющий смех.
«Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во всё продолжение её. Это честное, благородное лицо был— смех, — утверждал Гоголь в «Театральном разъезде… (1842), пытаясь разъяснить значение этого важного для себя эстетического начала — Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, жёлчным болезненно-праздным расположением характера; не тот также лёгкий смех, служащий для праздного развлечения и забавы людей, — но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из неё потому, что на дне её заключён вечно биющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека» (4, 441–442).
Горький, но очищающий смех является героем— как казалось самому автору. И: пугающий — как вынужден он признаться. Вот особое качество у Гоголя — для чуткого читателя. Не оттого ли и воскликнул он, вынуждаемый своим талантом: «Соотечественники! страшно!» Пока же он вдохновенно защищает тот род литературы, к какому более всего был этот талант расположен:
«Побасёнки!.. А вон протекли веки, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось всё, что было, — побасёнки живут и повторяются поныне, и внемлют им мудрые цари, глубокие правители, прекрасный старец и полный благородного стремления юноша. Побасёнки!.. Но мир задремал бы без таких побасёнок, обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души. Побасёнки!.. О, да пребудут же вечно святы в потомстве имена благосклонно внимавших таким побасёнкам: чудный перст Провидения был неотлучно над главами творцов их. В минуты даже бед и гонений всё, что было благороднейшего в государствах, становилось прежде всего их заступником: венчанный монарх осенял их царским щитом своим с вышины недоступного престола» (4, 443).
Смех составлял для Гоголя едва ли не важнейшую духовную ценность, способную, по убеждению его, одолеть любой порок: «Но если хотите уж поступить христиански, обратите ту же сатиру на самого себя и примените всякую комедию к себе, прежде чем замечать её отношение к целому обществу. Уж если действовать по-христиански, так всякое сочиненье, где бы ни поражается дурное, следует лично обратить к самому себе, как бы оно прямо на меня было написано. Вы сами знаете, что нет порока, замеченного нами в другом, которого хотя отраженья не присутствовало бы и в нас самих, — не в таком объёме, в другом виде, в другом платье, поприличней и поблагообразней, принарядимшись, как Хлестаков. Чего не отыщешь, если только заглянешь в свою душу с тем неподкупным ревизором: который встретит нас у дверей гроба! Сами это знаем, а знать не хотим! «Кипит душа страстями», — говорим всякий день, а гнать не хочем. И бич в руках, данный на то, чтобы гнать их. <…> А смех разве не бич? Или, думаете, даром нам дан смех, когда его боится и последний негодяй, которого ничем не проймешь, его боится даже и тот, кто ничего не боится? Значит, он дан на доброе дело. Скажите: зачем нам смех? затем ли, чтобы так попусту смеяться? Коли он дан нам на то, чтобы поражать им всё, позорящее высокую красоту человека, зачем же прежде всего не поразим мы то, что порочит красоту собственной души каждого из нас? Зачем нe обратим его вовнутрь самих себя, не изгоним им наших собственных взяточников?» (4, 468). Знаменитая реплика Городничего — о том именно: «Чему смеётесь? — Над собой смеётесь!.. Эх вы!..» (4, 282). Смех страшен для человека. Сравним у Грибоедова:
Хоть есть охотники поподличать везде,
Да нынче смех страшит и держит стыд в узде…
И всё же сатирический род искусства весьма опасен, как опасно и всякое отрицание вообще. В.А.Жуковский предупреждал: «Искусство осмеивать остроумно только тогда бывает истинно полезным, когда оно соединено с высокостью чувств, неиспорченным сердцем и твёрдым уважением обязанностей человека и гражданина»34. Вполне вероятно, что Жуковский и Гоголь могли обсуждать это и в личной беседе.
Так разве есть сомнения в высокости чувств и гражданских добродетелях Гоголя? Ведь призывает автор «Ревизора» обращать смех прежде всего против себя, своих страстей и пороков. Где опасность? Всё бы так, да при осмыслении любого произведения искусства не след забывать ещё об одном творческом субъекте: о том, кто воспринимает искусство, — о зрителе, читателе, слушателе. Процесс восприятия искусства — творческий процесс, воспринимающий вступает в соавторство с художником. В немалой степени — процесс восприятия произведения искусства есть процесс самораскрытия душевных свойств человека. Воспринимающий проецирует в образную систему то, что заложено в его внутреннем мире. «Во мне, а не в писаниях Монтеня заключено то, что я у него вычитываю»35, — писал Паскаль, и выразил своего рода закон восприятия чужих идей.
То есть: что именно окажется сотворённым в душе воспринимающего — зависит в значительной мере от него самого, а не от одного художника. Каков уровень развития читателя — вот сущностная проблема. Там, где художник со всею силою отрицания обращается против порока, выводя на свет созданных своим воображением монстров, в которых видит отступление от нормы, там воспринимающий может принять эти образы, напротив, за утверждение нормы. Изображение беса может нести в мир бесовский соблазн — независимо от субъективных устремлений художника. Художник может призывать к обнаружении изображаемой страсти в себе, читатель окажется способен видеть её лишь в других. И это подтверждает сам Гоголь, вопрошая: «Зачем один намёк о том, что вы над собой смеётесь, может привести во гнев?» (4, 468).
Смех страшен, следственно, cтрашно и oбращать его против себя.
Другая проблема: к чему был устремлён сам художник в момент создания «Ревизора»? Какие истины ему в тот момент открывались? Может, правы те исследователи, какие утверждали, что более позднее авторское толкование его произведений (а между «Ревизором» и «Развязкой» как-никак десять лет) — не более чем попытка переосмысления собственного творчества, приведения его в соответствие с изменившимся мировоззрением? Не подгонял ли писатель старую задачку под новый ответ? Отрицать это напрочь мы не имеем права. Тут есть доля истины. Самоё комедию от позднейшего растолкования отделяют не только десять лет, но и два глубочайших душевных кризиса, резко изменивших мирочувствие и сам религиозный настрой Гоголя. В то же время нельзя слишком уж категорично разграничивать внутреннее состояние писателя даже на дистанции многих лет: поздним изменениям всегда предшествуют более ранние, незаметные постороннему глазу внутренние перемены, которые по мере накопления могут вдруг резко явить себя, неожиданно для самого человека, — диалектика. Да и сам творческий процесс не рационален, а бессознателен и интуитивен в значительной мере: художник может и сам порою не догадываться о тех глубинных идеях, что являются у него в самодвижущихся образах, — период осмысления наступает гораздо после.
Справедливо наблюдение Воропаева: мысли, выраженные в «Развязке» появились у Гоголя пятью годами ранее, в одиннадцатой главе «Мёртвых душ». Но ведь между созданием «Развязки» и завершением первого тома поэмы пребывает всё же духовный кризис 1845 года… Категоричность любого утверждения всегда окажется уязвимою. Что же касается сопоставления «душевного града» у Гоголя с «божьим градом» бл. Августина, предложенного П.Паламарчуком, то в том видится некоторая натяжка, хотя само по себе такое суждение выглядит приманчиво. Противопоставление же града земного и душевного скрупулезно прослеженное исследователем, целиком укладывается в основополагающее евангельское разделение жизненных ценностей, многажды здесь упоминаемое, — на сокровища земные и небесные. О том, что в человеке идёт борьба между тягою к тому и другому, Гоголь, по сути, и ведёт разговор во всём своем творчестве — и во все его периоды. А что это относится и к «Ревизору» в том числе, свидетельствует, например, такое рассуждение о Городничем: «Он чувствует, что грешен; он ходит в церковь, думает даже, что в вере твёрд, даже помышляет когда-нибудь потом покаяться. Но велик соблазн всего того, что плывёт в руки, и заманчивы блага жизни, и хватать всё, не пропуская ничего, сделалось у него уже как бы просто привычкой» (4, 448). Яснее не скажешь. Заметим, что в Городничем видна склонность к фарисейству: «…Я по крайней мере в вере твёрд и каждое воскресенье бываю в церкви» (4, 120). Его же оппонент, судья Ляпкин-Тяпкин, на упрек Городничего: «Зато вы в Бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите… вы если начнёте говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются» — отвечает: «Да ведь сам собою дошёл, собственным умом (4, 210). Тут несомненное проявление протестантского типа мышления, хотя судья о том, конечно, не подозревает. Не тверды они в вере — вот что. Вот основа их пошлости. Они непрочь обворовать кого угодно, предпочесть земное в ущерб небесному. Не обойдем вниманием такую реплику Городничего: «Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру расскажет, что она и не начиналась» (4, 218).
В одном из чеховских рассказов к вору, укравшему деньги на строительство храма, обращены такие слова: «Ты у Бога украл». Вот то же можно и о Городничем сказать: у Бога крадёт. И вдвойне: церковь-то — при бого-угодном заведении. Зато и является им всем в финале — Бог. Гоголь ведь использует давний приём античной драмы— deus ex machina, — лишь переосмысляя этот приём соответственно собственному мировоззрению. Такой финал освещает пошлость персонажей «душевного града» именно как богоотступничество. Недаром же в 1842 году появился и эпиграф, усиливающий тот же внутренний смысл «Ревизора»: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» (4, 203). В.А.Воропаев относительно эпиграфа утверждает:
«…Эта народная пословица разумеет под зеркалом Евангелие, о чём современники Гоголя, духовно принадлежавшие к Православной Церкви, прекрасно знали. <…> Духовное представление о Евангелии как о зеркале давно и прочно существует в православном сознании. Так, например, один из любимых Гоголем писателей — святитель Тихон Задонский, — сочинения которого он перечитывал неоднократно, говорит: «Христиане! что сынам века сего зеркало, тое да будет нам Евангелие и непорочное житие Христово. Они посматривают в зеркало, и исправляют тело свое и пороки на лице очищают. <…> Предложим убо и мы пред душевными нашими очами чистое сие зеркало, и посмотрим в тое: сообразно ли наше житие житию Христову?» Святитель Игнатий (Брянчанинов) о Евангелии писал: «Вглядываясь в Евангелие, смотрясь в это зеркало на себя, мы можем мало-помалу узнавать наши недостатки, мало-помалу выбрасывать из себя понятия и свойства ветхости нашей, заменять их мыслями и свойствами евангельскими, Христовыми. В этом состоит задача, урок, который должен разрешить, выполнить христианин во время земной жизни»36.
Святой праведный Иоанн Кронштадский в дневниках, изданных под названием «Моя жизнь во Христе», замечает «нечитающим Евангелия»: «Чисты ли вы, святы ли и совершенны, не читая Евангелия, и вам не надо смотреть в это зерцало? Или вы очень безобразны душевно и боитесь вашего без-образия?..»37
Именно боязнь своего без-образия («рожа крива»), то есть искажение в себе образа Божия, определяет частую готовность человека попенять на данное нам Зеркало — в глубокомысленном рассуждении, что евангельские истины де, может, и хороши, да реальная жизнь проще, трезвее, и идеальные требования к ней нельзя прилагать. «Рожа крива» — вот и вся суть.
5. Поэма «Мёртвые души»
«Ревизор», как мы могли убедиться, есть название с многопланным смыслом: это и конкретный ревизор, кого боятся провинциальные чиновники, это и Тот Ревизор, кому каждый даёт отчет в свой срок. Сюжетный и духовный план в названии совмещены. То же и в названии поэмы — «Мёртвые души» (1842).
План сюжетный связан с конкретными обстоятельствами авантюры Чичикова, покупавшего умерших крестьян (мёртвые души), формально по ревизской сказке числящихся как бы живыми. Духовный план раскрыт в предсмертной записи Гоголя: «Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник» (6, 392).
«Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овечий, но перелазит инде, тот вор и разбойник… Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам» (Ин. 10; 1, 7). Всё та же, как видим, проблема: путь ко Христу и путь богоотступнический, апостасийный. Или, в применении к творчеству Гоголя: проблема пошлости как понятия религиозного. «Это свойство выступило с большой силою в «Мёртвых душах». «Мёртвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри её, чтобы они раскрыли какие-нибудь её раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только добрую черту любому из них, читатель бы помирился с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтеньи всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на Божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки» (6, 77–78), — так писал позднее сам Гоголь в «Выбранных местах…».
И впрямь: многие возмутились сатирою: критики такого масштаба Россия до той поры не знала. Предлагалось даже (Толстым-Американцем) отправить автора в Сибирь, да не просто, а в кандалах. Но и жарких восторгов слышалось не меньше. Шевырёв, Плетнёв, К. Аксаков, Белинский — при всем различии подхода к разбору поэмы оценку ей дали высочайшую. Но никто, кажется, в полноте не исполнил то, на что полагался Гоголь, являя миру свой горький смех: никто не обратил этого смеха непосредственно на себя, на пороки своей души. Как с «Ревизором», так и с «Мёртвыми душами» он отрицал реальную отнесённость своего изображения к России («всё это карикатура и моя собственная выдумка» — его признание), но лишь к душевному миру русского человека. Если в «Ревизоре» показывался душевный город, то теперь возникала целая душевная страна.
Гоголевские типы персонифицировали отдельные дурные черты характера человеческого, прежде всего обнаруженные автором в себе самом, в собственной душе. «Вот как это делалось, — признавался Гоголь, — взявши дурное свойство моё, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанёсшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем, чем попало. <…> Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей…» (6, 79–79). Но человеку свойственно переносить такую критику на что угодно вне себя, ублажая собственную душу мыслями: вот как здорово, их всех прохватил автор, хорошо, что ко мне это никак не относится. Пророческие обличения вообще успехом не пользуются, лишь только почувствует человек, что они и к нему имеют отношение. А Гоголь-то сознавал себя пророком, призванным «жечь сердца людей», взывая к Ревизору, какого так боится грешное и падшее человечество. Многие спешили узреть в создании Гоголя клевету, пусть не на себя даже, а на всю Россию — всё равно возмутительно. Разбираться в эстетических тонкостях гоголевской новаторской манеры, видеть в изображении не конкретную Россию, а лишь душевную— кому тогда (да и сейчас тоже) было по силам?
В поэме своей Гоголь усилил тот замысел, какой так хорошо известен всем по «Ревизору» на основании авторского признания: «В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всё дурное в России <…> и за одним разом посмеяться над всем» (6, 211).
— Для чего это нужно?
— «… Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже всё поколение к прекрасному, покамест не покажешь всю глубину его настоящей мерзости» (6, 82).
Смысл, цель и метод осуществления творческого замысла ясен. Каково исполнение?
Предмет и способы сатирического обличения в «Мёртвых душах» известны, и об этом за полтора столетия написано более чем достаточно, так что и тут повторяться не стоит. Необходимо лишь заметить, что социальная критика порядков самодержавно-крепостнической России, усматриваемая в Поэме помимо, быть может, прямой воли автора, для человека, уже заглянувшего в третье тысячелетие, представляет не более чем исторический интерес.
Гоголь ведь и вообще не был противником крепостного права. И не только потому, что есть памятная апостольская заповедь о необходимости оставаться «в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7, 20), но и по глубокому религиозному убеждению своему, что все подобные вопросы внешнего земного обустройства второзначны по отношению к вопросу спасения души. В рассуждении «Чей удел на земле выше» (в «Выбранных местах…») он писал: «Прежде, когда я был поглупее, я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. <…> Но чудна милость Божия, определившая равное всем воздаяние, всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравняются, потому что все внидут в радость Господина своего и будут пребывать равно в Боге» (6, 145). Гоголь также был убеждён в пагубности для мужика жизни по собственному произволению. Гоголь видел в простом народе великое достоинство его способностей и талантов (тут обычно вспоминается характеристика умерших мужиков Собакевича), но и знал также, что народ в массе своей несколько бестолков для того, чтобы жить своим умом. Это народное качество символически проявилось, например, в знаменитой сцене с дядей Митяем и дядей Миняем, взявшимися развести запутавшихся по недосмотру Селифана лошадей, на которых ехали Чичиков и губернаторская дочка, да в результате устроенной суеты запутали всё ещё больше.
Проблема, по убеждению Гоголя, не в свободе мужика, а в добром руководстве мужиком. В «Выбранных местах…» автор специально настаивает на необходимости для помещика быть истинным отцом для крестьян, вверенных его заботам. Для Гоголя то проблема не социальная, а религиозная. Мужик, по Гоголю, не собственность, а объект ответственного попечения, помещик же субъект такого деяния. Манилов, к примеру, не оттого плох, что помещик, а оттого, что не думает о своих мужиках: «Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, подать заработать», — «Ступай», — говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шёл пьянствовать» (5, 26).
Вывод: необходимо воздействовать на совесть всех этих Маниловых и иже с ними, побуждая к должному руководству подопечными. Крепостное право требует не отмены, но внутреннего нравственного совершенствования. Есть во втором томе поэмы символическая сцена, когда к идеальному помещику Констанжогло обращаются мужики некоего соседнего барина с просьбою… купить их, мотивируют же именно неспособностью своей жить вольно: «А ведь теперь беда та, что себя никак не убережёшь. Целовальники такие завели теперь настойки, что с одной рюмки так тебе живот станет драть, что воды ведро бы выпил. Не успеешь опомниться, как всё спустишь. Много соблазну, лукавый, что ли, миром ворочает, ей-Богу! Всё заводят, чтобы сбить с толку мужиков: и табак, и всякие такие…» (5, 394).
Аргументация, как видим, обретает характер свойства нравственно-религиозного, помещику же отводится как бы роль «удерживающего» (2 Фес. 2, 7) от лукавого и его соблазнов. Ответ Констанжогло примечателен: «Ведь у меня всё-таки неволя. Это правда, что с первого разу всё получишь — и корову, и лошадь; да ведь дело в том, что я так требую с мужиков, как нигде. У меня работай — первое; мне ли, или себе, но я уж не дам никому залежаться» (5, 395). Говоря языком борцов за народное счастье, помещик обещает усилить эксплуатацию, предупреждая о том мужика. А тот и рад. Не приложимы тут социальные категории. Мужики хотят, чтобы всё было по совести и по уму, работы же не пугаются. На мужика Гоголь смотрел трезво и признавал необходимость должного наставления и вразумления нерадивых: «Негодяям же и пьяницам повели, — писал он в «Выбранных местах…», обращаясь к помещику, — чтобы, ещё завидевши издали примерного мужика и хозяина, летели бы шапки с головы у всех мужиков и всё бы ему давало дорогу; а который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуважение или не послушаться умных слов его, то распеки тут же при всех; скажи ему: «Ах, ты невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему в ноги и попроси, чтобы навёл тебя на разум; не наведёт на разум — собакой пропадёшь» (6, 105).
Это место, как известно, вызвало лёгкую истерику у Белинского:
«А выражение «Ах, ты, неумытое рыло!» Да у какого Ноздрёва, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру, как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того потому не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей?»38. Белинский здесь явно передёргивает, пафос гоголевского наставления и был направлен к тому, чтобы, указуя на достойные образцы, привить мужику сознание человеческого достоинства. Неистовый Виссарион был одним из тех властителей дум, кто заражал передовое общество экзальтированной идеализацией «народа», по сути-то усиливая тот роковой раскол в полноте народной жизни, какой начался у нас с петровскими реформами. Можно не соглашаться с позицией Гоголя в отношении к крепостному праву (в которой немало утопичного), попрекать его в заблуждениях, но систему его взглядов необходимо сознавать верно, не искажая, подобно Белинскому. Главное: Гоголь знал: отсутствие ответственности за ближнего истекает от недостатка любви к нему, равнодушие есть теплохладность (Откр. 3, 16), — и всё в совокупности разрушает личностное начало в человеке, одну из высших духовных ценностей в христианстве. Абстрактный же гуманизм деятелей, подобных Белинскому, привёл к тому, что через сто лет равнодушные социальные борцы и «немытые рыла» разрушили русскую деревню.
Однако мы увлеклись темою побочной для «Мёртвых душ». В основе же всех соблазнов, так или иначе прослеженных автором, лежит для него тяга к земному и отвержение небесного— что откровеннее всего выражается в «обольщении богатством», по меткому замечанию о. Василия Зеньковского. Вот где пошлость являет себя слишком откровенно. Потому и Чичиков — центральный персонаж поэмы. О.Василий писал: «Гоголь до последней глубины ощущал, что на пути религиозной культуры стоит именно «обольщение богатством». <…> С исключительным психологическим чутьём Гоголь понимал, что это «обольщение» есть определённый факт духовного порядка, а вовсе не простая жадность к деньгам, не искание комфорта и удобств жизни»39.
До какого страшного состояния может довести человека похоть любостяжания, Гоголь показывает на примере Плюшкина. Не стоит проходить мимо и той никем не замеченной, кажется, детали, что содержимое знаменитой шкатулки Чичикова, куда он складывает всё, вплоть до совершенно ненужной ему афишки, что это содержимое свидетельствует: Чичиков делает первые робкие шажки по пути, в тупике которого пребывает Плюшкин. С духом «обольщения богатством» парадоксально соединяется у персонажей Гоголя дух законничества, доведенный до логического извращения. Не забудем, что в 1836 году, то есть тогда именно, когда Гоголь приступил к написанию «Мёртвых душ», Чаадаев опубликовал своё «Философическое письмо», где важною основою созидаемого Царства Божия на земле объявлен именно принцип юридизма. У Гоголя же именно этот принцип ведёт к превращению жизненной реальности в реальность абсурдную: сама покупка Чичиковым «мёртвых душ» совершается на вполне законном основании, ибо юридически, по ревизским сказкам, эти души числятся среди живущих.
«Я привык ни в чём не отступать от гражданских законов, уверяет Чичиков Манилова, — закон — я немею перед законом» (5, 36).
Абсурдность реальной реальности выразилась ярчайше в том, что в этом мире законничества и любостяжания слово «душа» обозначает единицу измерения богатства. (Вспомним хотя бы из «Горя от ума»: «да если наберется душ тысячки две родовых, тот и жених»). Обладание «душами» становится добродетелью в этом вывернутом наизнанку бытии. Вот что приводит к умертвению собственных душ владельцев крестьян, ибо происходит бесовская подмена понятия ответственности понятием собственности. И тут уж вполне допустимою оказывается покупка-продажа каких угодно мертвецов. Однако закон законом, а в душах-то людей, в душах живых живо и чувство противоестественности совершаемого деяния, пусть это чувство даже и еле теплится, — оттого и только оттого все чувствуют недоумение и неловкость, когда суть торговой сделки проглядывает наружу. Формальный закон всё же не всесилен: ему противостоит живая правда жизни.
Дьявольскую природу законничества высветил Гоголь во втором томе «Мёртвых душ», выведя отвратительную фигуру мага-юрисконсульта, вызволяющего Чичикова из тюрьмы, и всё на основании различных юридических уловок и «бумажной» неразберихи.
Всё вместе — сращение законнических вывертов с погонею за богатством — поставило Россию перед гибельной пропастью. «Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже мимо законного управления образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, всё оценено и цены даже приведены во всеобщую известность, и никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чиновников приставлением в надзиратели других чиновников. Всё будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстания народов, вооружался против врагов, так и должен воевать против неправды» (5, 454).
Как будто в конце XX столетия написано. Какое мощное Пророчество!
Гоголь изображает страшных монстров, надеясь, что ужаснувшись этого зла, русский человек вытравит его из души своей. Но никуда не уйти от всё того же вопроса: что посеет в душах людей изображение подобных монстров? Гоголь отстаивал своё право на эстетическое отображение самых отвратительных проявлений жизни — он пишет своего рода манифест, лирическое отступление в начале Седьмой главы: «Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высшее достоинство человека. <…> Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно перед очами и что не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земля, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слёз и единодушного восторга взволнованных им душ; <…> ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовёт ничтожным и низким им лелеянные создания, отведёт ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет у него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стёкла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых; ибо не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую на презренной жизни, и возвести её в перл создания; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха!» (5, 123–124).
Для современников это лирическое отступление стало настолько важным при осмыслении творчества Гоголя вообще, что Некрасов в своём отклике на смерть старшего собрата по литературе — в стихотворении «Блажен незлобивый поэт» (1852) дал, по существу, поэтическое переложение гоголевского текста, Гоголь выразил в этом отступлении муку свою. Не отражена ли здесь всё-таки мысль о возможной безблагодатности возведения в перл создания человеческой пошлости? Не губительно ли то для души? Разумеется, можно, вспоминая ещё аристотелевскую поэтику, толковать об очистительном катарсисе — но то всё же человеческая премудрость.
У Гоголя же мера самая высокая, которой и выше нет: «…Соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль всё величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастающие плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся…» (6, 11). Вот полнота гоголевского мирочувствия: это «страшно» есть выражение страха Божия, и относится он ко всей целостности бытия, в которую включено и литературное творчество — собственное. Смех может стать и опасным духовно, ибо может породить и неведомых «страшилищ», исполински возрастающих. Вот где мука! «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач…» (Иак. 4, 9).
Понять это было сложно современникам, да и потомкам тоже. Нужно помнить, что Гоголь был одарён обострённым религиозным восприятием бытия: то, что для других навсегда недоступно, он ощущал и видел слишком отчётливо. Так для человека с абсолютным слухом слышна фальшь там, где остальные воспринимают лишь гармонию звуков. Такой абсолютный слух может стать причиною мучительного внутреннего состояния. Гоголь обладал таким почти абсолютным религиозным слухом — несомненно. Но как одолеть всю эту ощущаемую фальшь — пошлость? Отчего за полтора века и после Гоголя не только не одолено было наваждение, но и усугубились беды России? Гоголь всё яснее сознавал: одною разрушительною критикою не спасёшься от беды, отрицание может быть так же губительно, как и сам предмет отрицания. Разрушитель общественного здания может погибнуть под его обломками. И закон не спасёт. Спасает Благодать.
И.Есаулов предположил, что на Гоголя, на поэтику «Мёртвых душ» воздействовала центральная идея «Слова о Законе и Благодати» святителя Илариона. Эта идея, без сомнения, ощутима в поэме, но является ли это следствием прямого влияния «Слова…» — сказать трудно. Вернее утверждать, что эта идея могла быть почерпнута автором «Мёртвых душ» из того же источника, что и автором «Слова…» — из православного учения. Единый же вывод обоих писателей только подтверждает единство их веры. Пусть и самостоятельно — но к иной истине православный человек и не может придти. Гоголь, безусловно, сознал, что обжигающее слово обличения — лишь начало пророческого служения. Можно изгнать беса, но нельзя оставлять место пустым: о чём предупреждает Евангелие (Мф. 12, 43–45). Пророк лишь тогда в полноте исполнит своё назначение, когда слово его донесёт до живых человеческих душ благодать Горней истины.
Собственно, целостный замысел «Мертвых душ» и был сопряжён с таким авторским стремлением. Уже в первом томе видим мы попытки автора не только сатирически отвергнуть, но и любовно утвердить нечто иное: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте на дороге, не подымете потом!» (5, 118).
Во втором томе эта особенность усиливается многократно, ибо с ним соединял автор своё намерение перевода пророческого служения в новое качество «…Бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого» (6, 82–83). Вот важнейшая идея замысла всего второго тома, над чем Гоголь бился при его создании. Итак: первый том должен показать «всю глубину настоящей мерзости», второй — дорогу к высокому и прекрасному для всякого. Третий — изображение самого этого «прекрасного»?
Устоялось мнение, идущее, кажется, от Герцена, что общая композиция «Мёртвых душ» должна была соответствовать трехчастному составу «Божественной комедии» Данте: содержание каждого из трех томов символически определялось понятиями Ада, Чистилища и Рая. В таком предположении есть доля правдоподобия: переполненный грешными, отпавшими от Бога «мёртвыми душами» первый том как бы и есть тот «ад», в который погружена народная жизнь; положительные образы дошедших до нас глав второго тома (Костанжогло, Муразов, князь-губернатор), как намечающие способ очищения и оживления души, знаменуют переходное состояние, изживание греха — своего рода «чистилище». О «рае» можно рассуждать только гадательно, поскольку для определённых выводов здесь не имеем никакого основания. Но давно замечено, что такая триада не соответствует православному вероучению и православному типу мышления. Да и не вполне понятна идея (если такое намерение и впрямь было) райской жизни внутренне переродившихся героев поэмы. Тут ощущается какая-то неопределённость, натяжка. Архимандрит Феодор (Бухарев) со слов самого Гоголя утверждал, что вся поэма должна была закончиться «первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни»40. Остальные — также духовно возродятся — «если захотят». Это ещё не «рай», это, если уж продолжать сравнение, лишь приближение к его вратам. Не есть ли тут какая-то особенная черта невидимая, далее которой искусство бессильно? Вспомним, что позднее Достоевский также довел Раскольникова до его «первого вздоха» — и отступил в молчании о дальнейшем. Рай не есть предмет земного искусства.
He вполне ясна судьба второго тома поэмы. Устоявшееся мнение: автор сжёг полный текст второго тома — в припадке безумия. Стоит напомнить, что написанные главы этого тома Гоголь уничтожал дважды: в 1845 году и перед смертью, — и то не было проявлением безумия, но жестокой требовательности к себе гениального художника. О причинах сожжения в 1845 году сам автор сказал определённо: «…Не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мёртвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжён» (6, 82–83). Ясное указание на общую идею замысла «Мертвых душ» может быть извлечено из сопоставления двух отрывков. Вначале — знаменитый вопрос, прозвучавший в конце первого тома: «Русь, куда же несёшься ты? дай ответ» (5, 224). Ответ был дан самим автором в «Развязке Ревизора»: «Дружно докажем всему свету, что в Русской земле всё, что ни есть, от мала до велика, стремится служить Тому же, Кому всё должно служить что ни есть на всей земле, несётся туда же, кверху, к Верховной вечной красоте!» (4, 465). Но как выразить эту Верховную вечную красоту?! Нет, тут было не отчаяние художественного бессилия, нет. Дошедшие до нас черновые отрывки свидетельствуют непреложно: талант Гоголя не иссяк. И в своем движении к истине он продвинулся значительно, далее, нежели был прежде. Возьмём лишь один пример для подтверждения того. Во второй главе второго тома Чичиков рассказывает генералу Бетрищеву о плутах-чиновниках, совершивших ради вымогательства взятки должностное мошенничество. Жертве своей плутни они заявили при конце всей истории: «Нет, ты полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит» (5, 262). Автор затем задается вопросом: «Что значит, однако же, что и в паденье своём гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? или слабый крик души, заглушённый тяжелым гнётом подлинных страстей, ещё пробивающихся сквозь деревенеющую кору мерзостей, ещё вопиющий: «Брат, спаси!» (5,263).
Вспомним это ключевое слово в «Шинели»: «Я брат твой!». Но Акакий Акакиевич, при всей своей ничтожности, был человеком вполне безобидным — и никакая нравственная грязь не препятствовала сострадать ему. Здесь же — преступники, полтора года гноившие свою жертву в тюрьме. Безвинную жертву. Нет, много нужно глубины душевной, чтобы и в них гибнущих братьев своих узреть. Беленьких все любят. Кто полюбит чёрненьких?
«Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 43–45).
Будете сынами Отца… то есть: будете братьями. Гоголь стремился к правде Божией. Гоголь был совершенен в своём мастерстве. Те, кто слышал уничтоженные главы в авторском чтении, не могли вспоминать о том без восторга. Только вот к художественному успеху — мы помним то ещё по истории с «Ревизором» — Гоголь оставался равнодушен. Нет полной уверенности, что второй том был написан полностью: Воропаев, сопоставив многие свидетельства, убедительно утверждает, что незадолго до смерти оказались сожжёнными лишь отдельные тетради неполностью написанного второго тома. Впрочем, в этой истории слишком много загадок, да и вряд ли их возможно разгадать теперь.
Несомненно одно: Гоголь ощутил бессилие не своё собственное, а своего искусства — перед поставленною им перед самим собою задачею пророческого возглашения Горней истины. Иначе никак не объяснить уничтожение второго тома поэмы (целого или части — не столь и важно), не разгадать и той парадоксальной загадки, почему не утративший силы великого таланта писатель за десять последних лет своей жизни не дал литературе ни одной строки художественного текста.
6. Духовные искания Н.В.Гоголя
Чтобы выразить Горнюю истину, сказать как должно о сокровищах на небе, нужно познать эту истину в цельности и глубине её. И иметь в себе стремление к тем сокровищам, духовную жажду.
Среди гоголевских записей находим такую: «Что пользы для корабля от мачты, кормщика, матросов, парусов, якоря, ежели нет ветра? Что пользы в красноречии, остроумии, познаниях, образованности, разуме, если нет в душе Духа Святаго? Бог любит смиренного грешника, который сердечно сокрушается о своих грехах, и отвергает гордого праведника, который не признаёт себя никаким грешником» (8, 558). «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6).
Отметим также родство гоголевской мысли не только с известной притчею о мытаре и фарисее, но и с откровением преподобного Серафима Саровского о стяжании Духа Святого как цели человеческой жизни. Но Гоголь же и сознал, что не только что стяжание Духа, а и истинное познание жизни невозможно без долгого труда души и без познания самой души своей для того.
«Всё, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришёл ко Христу, увидевши, что в Нём ключ к душе человека и что ещё никто из душезнателей не всходил нa ту высоту познания душевного, на которой стоял Он. <…> К этому привел меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движеньях человека нельзя по воображенью: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого, — словом, нужно сделаться лучшим» (6, 214), — признавался Гоголь в «Авторской исповеди». Сам дар, его отметивший, наложил на него и величайшую ответственность — в этом писатель также утвердился умом и душою. Во второй редакции «Портрета» недаром появилось наставление монаха-иконописца сыну, вступающему на стезю искусства: «Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится» (3, 108). «И от всякого, кому дано много, много и потребуется…» (Лк. 12, 48).
Движение к полноте Истины — единственно возможно: через веру, через Православие. Путь же к утверждению в Православии не всегда прост и лёгок. Религиозная отзывчивость Гоголя проявлялась в нём с раннего детства — при решающем воздействии матери, Марии Ивановны Гоголь, от которой передалась ему и некоторая экзальтированность духовных переживаний. Рано сказалось в нём и внутреннее тяготение к строгим наставлениям ближним своим, призывам к душевной твёрдости с опорою на веру. Так, в письме, которое четырнадцатилетний Гоголь обращает к матери после смерти отца, несомненно чувствуется будущий автор «Выбранных мест…»:
«Я сей удар перенёс с твёрдостью истинного христианина. <…> Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести!.. Прибегните так, как я прибегнул, к Всемогущему!» (9, 9-10).
Однако и соблазнов безверия, как и многие в юности, он тоже не избегнул. Повлиял, несомненно, сам дух преподавания в Нежинском лицее, где учился Гоголь и где большинство учителей составляли вольнодумствующие атеисты. А в юности и вообще так влечёт соблазн свободы от какого бы то ни было внешнего авторитета. Конечно, тут действует лукавый самообман: освобождаясь от авторитета веры, следуют при том уже иному авторитету, именно авторитету, и исключительно безверия. Соблазн этот не слишком глубоко задел душу Гоголя, и в годы учёбы он серьёзно читал Святых Отцов, богословием увлекался не поверхностно, однако дерзал не креститься в церкви, бранил духовенство, а в рассуждениях близок был к кощунству. Был также католический соблазн на пути поиска истины.
Весьма поусердствовали польские монахи, с которыми писатель общался в Риме в 1838 году у княгини Зинаиды Волконской, в католичество перешедшей с фанатическим восторгом. Несомненно, сама религиозная экзальтация, Гоголю свойственная, да и вообще сильное влияние католицизма на Украине, где прошло его детство, могли как будто превратить его под воздействием католических усердников в горячего прозелита — но автор «Тараса Бульбы» оказался не столь податлив, а может быть, некоторое религиозное невежество Гоголя в тот период спасло его, помогло устоять — вот парадокс. Любопытно его признание в письме матери (декабрь 1837 г.):
«…Как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому нет надобности переменять одну на другую. Та и другая истинна. Та и другая признают одного и Того же Спасителя нашего, одну и Ту же Божественную Мудрость, посетившую некогда нашу землю, претерпевшую последнее унижение на ней, для того, чтобы возвысить выше нашу душу и устремить её к небу» (9, 107). Это письмо важно в одном отношении: становится безусловно и бесспорно ясно: Гоголь основ вероучения не знал. Не знал в тот самый период жизни, к какому относится его посвящение себя художественному творчеству. Разумеется, можно говорить лишь об относительном незнании: всё-таки, повторим, Святых Отцов Гоголь читал чуть ли не с детства; но и от нежелания его (или неумения) различать Православие и католичество нам никуда не уйти.
Правда высказывается и иная версия относительно этого письма (в частности, В.А.Воропаевым): в общении с матерью писатель не желал распространяться на столь важную тему, тесное же общение с католическими монахами имело целью обращение их в Православие. Возможно.
Исследователи говорят о конце 30-х годов как о времени для Гоголя кризисном, переломном. Называются различные близкие даты (начиная с 1836 года, с отъезда Гоголя за границу после его потрясения неудачею, в его понимании неудачею, «Ревизора»), мы же примем за истинную — 1840 год, памятуя при том, что все даты условны, а душевные перемены совершаются нe в одночасье и часто даже не в один год. Перемену, совершившуюся в Гоголе, заметили многие из его близко знавших.
«Великую ошибку сделает тот, — утверждал в своих воспоминаниях П.В.Анненков, — кто смешивает Гоголя последнего периода с тем, который начинал <…> жизнь в Петербурге, и надумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, когда свершился важный переворот в его существовании»41.
Подобной ошибки не избежал о. Георгий Флоровский, слишком категорично навязавший Гоголю в «Путях русского богословия» неправославные, западнические по духу взгляды и настроения, что отчасти и было присуще писателю (не забудем и протестантский след в его мировоззрении, о чем говорилось прежде) в докризисный период его жизненного пути, но оказалось изжитым после 1840 года.
К выводу колоссальной важности для понимания духовного развития Гоголя пришёл в результате своих исследований В.А.Воропаев: «Если брать нравоучительную сторону раннего творчества Гоголя, то в нём есть одна характерная черта: он хочет вознести людей к Богу путём исправления их недостатков и общественных пороков — то есть путём внешним. Вторая половина жизни и творчества Гоголя ознаменована направленностью его к искоренению недостатков в себе самом— и таким образом, он идёт путём внутренним»42. Если вспомнить важную мысль Гоголя: внешняя жизнь есть жизнь вне Бога, а внутренняя — в Боге, — то вывод исследователя высвечивается особым светом.
Гоголь писал в «Выбранных местах…»: «…Найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдёшь, тогда этим же самым ключом отопрёшь души всех» (6, 36). В «Авторской исповеди» (1847) он свидетельствовал о себе: «…Я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движеньях человека нельзя по воображенью: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого, — словом, нужно сделаться лучшим» (6, 214). Насколько поразительно совпадение с мыслью святителя Игнатия (Брянчанинова): «Недостаточно воображать добро или иметь о добре правильное понятие: должно вселить его в себя, проникнуться им»43. Ведь тут всё та же вековечная мука человеческих исканий: как исправить мировое зло — внешним преобразовательным воздействием (первое, что приходит на ум) или внутренним очищением души (к чему направляет Откровение Спасителя)? Путь Гоголя, согласно выводу, с которым нельзя не согласиться, — отказ от первого и убеждённость в истинности второго. Этот вывод по-новому и истинно выявляет многое и неясное в судьбе писателя. Собственно, всё творчество его является попыткой внешнего воздействия на души людские и на общественное бытие. По сущностной сути своей таковое намерение неправославно как идеология творчества, хотя подобная оценка отнюдь не отменяет всего сказанного ранее о художественном наследии Гоголя: это неправославие, западничество (вот где о. Георгий Флоровский прав безусловно) объективны, при субъективно ином внутреннем стремлении автора «Шинели», «Ревизора», «Мёртвых душ». Взгляд на искусство как на силу сознательного религиозного преображения мира далёк от истины, потому что секулярное искусство таковой возможностью не обладает. Вот, скажем ещё и ещё раз, где была мука Гоголя. Попытка внешнего воздействия на общественное бытие с целью его исправления — вообще очень близка революционному миропониманию. Это и сделало творчество Гоголя таким привлекательным для революционных демократов, узревших в нём своего: обличительною сатирою помогавшего их борьбе с самодержавно-крепостническими порядками. Правда, Гоголь имел в виду сугубо нравственное воздействие на жизнь, но ведь и первые революционеры-демократы (Герцен, Белинский и близкие им, вплоть до Чернышевского) моральных проблем вовсе не чурались. Гневная истерика Белинского в его знаменитом письме к Гоголю (речь о том впереди) объясняется именно отречением писателя от тех взглядов, какие хотя бы формально позволяли видеть в нем союзника по борьбе — с Православием, самодержавием, народностью.
Конечно, смех Гоголя ещё в раннем творчестве очень скоро от простого проявления весёлости обратился к обличению порока. То был не смех-зубоскальство, но смех-высмеивание зла, горький смех, соединенный с «невидимыми миру слезами». Гоголь же сознавал — и в период кризиса это выявилось несомненно — опасность и сатирического обличения, ибо слишком легко переступить опасную грань и от без-образия обратиться и против самого образа Божия в человеке. Гоголь сознавал страшную опасность для души человека — в соприкосновении с теми монстрами, которых может создать творческое воображение. «Если бы кто увидел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся» (6, 78) — такое признание Гоголя знаменательно: если бы… содрогнулся бы… — значит, было нечто, чему автор сам поставил заслон изначально, ощутив опасность подобных образов.
«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 36–37).
К писательскому труду эта заповедь сугубо относится. Гоголю ли, с его-то религиозной одарённостью, не почувствовать было того?
Но как сказать непраздное слово, когда собственная же душа порождает «чудовищ»?
Перед человеком встает двуединая задача: стать лучшим через безусловное вхождение в церковную жизнь во Христе и духовно освоить православные вероучительные истины, без чего и подлинная воцерковлённость окажется невозможной. Сохранилось много свидетельств о церковной жизни Гоголя в 40-е годы. Вот одно из них:
«…Гоголь показался мне уже тогда очень набожным. Один раз собирались в русскую церковь все русские на всенощную. Я видел, что и Гоголь вошёл, но потом потерял его из виду и думал, что он удалился. Немного прежде конца службы я вышел в переднюю, потому что в церкви было слишком душно, и там в полумраке заметил Гоголя, стоящего в углу за стулом на коленях и с поникнутой головой. При известных молитвах он бил поклоны»44. Это воспоминание одного из русских, живших в Риме в середине 40-х годов, — там же тогда был и Гоголь. Он становился усердным молитвенником, ревностно посещавшим службы, припадшим ко Христу со слезами.
«Господи, даждь ми слезы умиления и память смертную», — эти слова, в которых он соединил прошение из многих молитв, Гоголь повторял ежедневно и часто.
«Умиление есть непрестанное мучение совести, которое прохлаждает сердечный огнь мысленною исповедью пред Богом… Достигши плача, всею силою храни его; ибо прежде совершенного усвоения, он весьма легко теряется; и как воск тает от огня, так и он легко истребляется от молвы, попечений телесных и наслаждения, в особенности от многословия и смехотворчества»45.
В особенности от многословия и смехотворчества… Так писал преподобный Иоанн Лествичник — а «Лествица» его была среди любимейших у Гоголя.
Память смертная также слишком заметна в духовной жизни Гоголя. Он порою, можно сказать, существовал в этой памяти. Мочульский вообще выводит и самоё веру Гоголя из страха смерти и «сурового образа Возмездия». И впрямь: подобные переживания, да еще усиленные гоголевским воображением, слишком сильно должны были влиять на его внутреннее состояние. Мочульский считал такое состояние у Гоголя языческим по характерности проявлений. Вероятно, он прав отчасти — в применении к ранним годам Гоголя.
Разумеется, память смертная пребывает среди высших добродетелей христианских, о чём учили Святые Отцы. Но если память смертная соединяется с нетвёрдым в вере состоянием души, она породит в такой душе языческий ужас перед роком, переходящий в постоянство уныния, либо судорожные, языческие же по духу стремления скорее насладиться всеми доступными удовольствиями жизни: carpe diem, лови мгновение (что как проявление бесовщины раскрыл Пушкин в «Пире во время чумы»). Гоголевское уныние — не из этого ли источника истекло? Потребны были многие духовные усилия, чтобы переплавить подобное порождение памяти смертной в состояние внутренней просветлённости. Гоголь то совершил. Вот что писал он матери в январе 1847 года:
«Постоянная мысль о смерти воспитывает удивительным образом душу, придаёт силы для жизни и подвигов среди жизни. Она нечувствительно крепит нашу твёрдость, бодрит дух и становит нас нечувствительными ко всему тому, что возмущает людей малодушных и слабых. Моим помышленьем о смерти я обязан тем, что живу ещё на свете. Без этой мысли при моём слабом состоянии здоровья, которое всегда было во мне болезненно, и при тех тяжёлых огорченьях, которые на моем поприще предстоят человеку более, чем на других поприщах, я бы не перенёс многого, и меня бы давно не было на свете. Но, содержа в мыслях перед собою смерть и видя перед собою неизмеримую вечность, нас ожидающую, глядишь на всё земное как на мелочь и на малость, и не только не падаешь от всяких огорчений и бед, но ещё вызываешь их на битву, зная, что только за мужественную битву с ними можно удостоиться получения вечности и вечного блаженства» (9, 358–359).
Отсвет святоотеческой мудрости в этих строках более чем ощутим — и не случайно: едва ли не единственным чтением его в последние годы стали, помимо Писания, творения Святых Отцов и современных ему духовных писателей. Он завёл для себя специальную тетрадь, куда вносил выписки особенно поразивших его мыслей, настойчиво и наставительно советуя и другим делать то же самое. Достаточно просто просмотреть обозначение этих выписок, чтобы убедиться в широте и серьёзности духовных запросов Гоголя:
«Изложение веры. О церковных преданиях. О почитании священника. О Литургии. О Божественной плоти Иисуса Христа и о нашей. О истинном покаянии и Пасхе. О чудесах. О добродетелях христианских. О Боге Сыне. Пример страдания самого великого. О редко бывающих в церкви. О воскрешении. О присутствии Духа Святаго ныне. О любви к ближнему.»
Впрочем, довольно. Хотя здесь приведена лишь треть необходимых обозначений. Какие же имена встречаются среди тех выписок? Свт. Афанасий Великий, свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий, свт. Григорий Нисский, свт. Прокл Константинопольский, свт. Феодорит Кирский, св. Иоанн Дамаскин, свт. Кирилл Александрийский, свт. Филарет Московский, свт. Тихон Воронежский… И этот перечень весьма неполный.
Одновременно он начинает работу над важнейшим своим духовным сочинением — над «Размышлениями о Божественной Литургии» — завершить которое ему не дано было. Всё сильнее вызревает у Гоголя желание уйти от мирской суеты, стать смиренным иноком и так послужить Творцу. В 1845 году Гоголь переживает новый кризис, усугублённый тяжкой болезнью, которую он сам принял за предвестье стоящей у порога смерти. Выздоровление укрепляет в нём давнее убеждение о собственной нужности Творцу на земле, об избранности своей, убеждение давнее, накладывающее на него теперь ощущение особой ответственности, внутренней обязанности пророческого служения Богу.
«Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышленье мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобресть право удалиться от мира, нужно уметь распроститься с миром. «Раздай всё имущество своё нищим и потом уже ступай в монастырь», — так говорится всем туда идущим. <…> Но что же мне раздать? Имущество моё не в деньгах. Бог мне помог накопить несколько умного и душевного добра и дал некоторые способности, полезные и нужные другим, — стало быть, я должен раздать это имущество неимущим его, а потом уже идти в монастырь» (6, 85). Что мог отдать он людям? Только то, что было даровано ему свыше и что он может вернуть всему миру. Но как раз прежние-то свои творения он отвергал теперь. Символически это выразилось в забвении своего литературного имени. «…Кажется, был когда-то Гоголем», — ответил он однажды на просьбу подписаться под своим портретом46. Это было именно в 1845 году. В том же году, увидев свои книги в одной личной библиотеке, он «воскликнул чуть ли не с испугом: «Как! И эти несчастные попали в вашу библиотеку!»47 Он раскаивался во всём, им созданном — и в первый раз уничтожил второй том «Мёртвых душ». Дать что-то новое в этом же роде… Более чем за год до того, в октябре 1843 года, сообщал он Плетнёву:
«Сочиненья мои так связаны тесно с духовным образованием меня самого и такое мне нужно до того времени внутренне сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений»48.
Всё та же мысль: чтобы сказать «о высших чувствах и движениях человека» — «нужно сделаться лучшим» самому. Необходим, говоря словами Гоголя — «приход Бога в душу», который «узнаётся по тому, когда душа почувствует иногда вдруг умиление и сладкие слёзы, беспричинные слёзы, происшедшие не от грусти или беспокойства, но которых изъяснить не могут слова. До такого состояния, — утверждает Гоголь в письме Языкову в ноябре 1843 года, ссылаясь на Святых Отцов, — дойти человеку возможно только тогда, когда он освободится от всех страстей совершенно» (9, 215).
«Господи, даждь ми слезы умиления…»
Духовные стремления Гоголя, как нетрудно видеть, близки вполне определённому кругу понятий. Он всё более проникается учением Церкви. И приходит к выводу, его ужаснувшему: просвещённое русское общество, формально православное, истинного Православия не знает — как не знал его он сам совсем недавно: «Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времён апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, — и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!» (6, 34).
И уж теперь не обманывается он поверхностным сходством западного и восточного христианства: «Жизнью нашей мы должны защитить нашу Церковь, которая вся есть жизнь; благоуханием душ наших должны мы возвестить её истину. Пусть миссионер католичества западного бьёт себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слёзы. Проповедник же католичества восточного должен выступить так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желания мира, всё бы подвигнулось ещё прежде, чем он объяснил бы своё дело, и в один голос заговорило бы к нему: «Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви!» (6, 34).
Вот задача: пробудить в ближних потребность постижения православных истин. С этого момента, выйдя из кризиса 1845 года окрепшим в своей уверенности, Гоголь становится «пророком православной культуры», как точно определил его о. Василий Зеньковский. Он публикует «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) — откуда и приведены его пророческие слова о Православной Церкви. «Выбранные места…» — это прямая попытка осмыслить жизнь через Православие. Это попытка практического приложения евангельской и святоотеческой мудрости к современной писателю действительности. «Воспитанье должно происходить в беспрестанном размышлении о своём долге, в чтении тех книг, где изображается человек в подобном нам состоянии, круге, обществе и звании, и среди таких же обстоятельств, — и потом в беспрестанном применении и сличении всего этого с законом Христа: в чем они не противоречат Христу, то принимать, в чём не соответствуют Его закону, то отвергать; ибо всё, что не от Бога, то не есть истинно» (6, 284).
7. «Выбранные места из переписки с друзьями»
Можно было бы поставить эпиграфом к «Выбранным местам…» эти только что приведённые слова из «Правила жития в мире» (1843), предшествовавшего созданию книги. Книга Гоголя есть большое поучение о собирании небесных сокровищ. Но поскольку люди «от мира сего» сей мир и возлюбили безмерно, то подобные поучения у них не в чести. Да и не любят человеки поучений, пророческих наставлений — не любят ещё более, нежели обличения и высмеивания. И раздражает, представляется докучливым (если не безумным) запугиванием — вырвавшееся из глубины души пророческое страдание: «Соотечественники! страшно!» Общество «Выбранные места…» отвергло. Редкие люди мыслили так, как П.Л.Плетнев (не забудем: друг Пушкина, которому посвящён «Евгений Онегин», издатель «Современника» после гибели поэта): «Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет, — сообщал Плетнёв Гоголю в начале 1847 года. — Но это дело совершит влияние своё только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Всё, до сих пор бывшее, мне представляется как ученический опыт на темы, избранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет»49.
Слишком смелое суждение. Но до Гоголя больше доходит порицаний, даже от друзей и единомышленников, как, например, от С.Т.Аксакова.
Мешала Гоголю репутация комического писателя. Часто приводятся в связи с этим слова кн. П.А.Вяземского из письма Шевырёву в марте 1847 года: «…Наши критики смотрят на Гоголя, как смотрел бы барин на крепостного человека, который в доме его занимал место сказочника и потешника и вдруг сбежал из дома и постригся в монахи» (6, 406). Всё это, разумеется, следствие узости и негибкости мышления, равно как вздорные мысли об умопомешательстве автора, — и не очень интересно.
Гораздо важнее восприятие «Выбранных мест…» среди духовенства. Благосклонно отозвались святители Филарет (Дроздов) и Иннокентий (Борисов). Безоговорочно поддержал Гоголя архимандрит Феодор (Бухарев). Самым значительным, несомненно, следует воспринять суждение святителя (в тот период архимандрита) Игнатия Брянчанинова, разделяемое, предположительно, и оптинским старцем Макарием. Важнейшая мысль святителя о книге Гоголя: «она издаёт из себя и свет и тьму» — должна быть осмыслена без предвзятости. Свет и тьма? Свет и тьма…
Сам-то Гоголь именно предвзято оценил отзыв святителя Игнатия: он полагал, что для монаха тьмою является вся та область мирской жизни, которая им незнакома. Неправота Гоголя тут более чем очевидна: святитель пришёл в монастырь, одолев некороткий путь через мирскую жизнь, и знал её не понаслышке. Тьма у Гоголя в «Выбранных местах…» не в ошибках мировоззрения, но в самом часто экзальтированно-возвышенном тоне, от какого писатель так и не смог избавиться и какой способен самое правильное содержание исказить, отдалить от Православия даже. Гоголевская восторженность тона идёт от претензии на духовное учительство всего народа, которому он нарочито стремится указать средства к спасению. Жанр отдельных поучений в «Выбранных местах…» можно обозначить как подражание Апостолам и Святым Отцам. Святитель Игнатий, тонко почувствовавший недуховность, фальшь «Подражания Иисусу Христу» Фомы Кемпийского, которое, заметим, Гоголь, равно как и Пушкин, ставили чуть ли не наравне с Евангелием (вот зримое сопоставление уровней духовного развития), точно так же не мог обмануться относительно подражательности «Выбранных мест…»
Если гоголевский смех проистекал часто из духа уныния, то гоголевское учительство порождалось духом иной страсти — любоначалия. Перефразируя самого Гоголя, можно сказать: «Истина, сказанная в гордыне, раздражает, а не преклоняет». (Гоголь в «Правиле жития в мире» говорил об «истине, сказанной в гневе».) Недаром же и К.Аксаков говорил о «внутренней неправде» книги, хотя и выразился, должно признать, слишком категорично.
Ощущение собственного избранничества владело Гоголем, как уже отмечалось не раз, издавна. В моменты духовного перелома оно в нём лишь усиливалось. О.Василий Зеньковский психологически точно указал на связь между духовным ростом писателя и его тягою к учительству: «У Гоголя начинает меняться восприятие жизни, людей
(«Глядите на мир, — писал он в 1843 году, — он весь полон Божьей благодати»). Это чувство «стояния перед Богом» всё чаще рождает у него мысль, что его жизнью руководит Сам Бог (еще в 1836 г. он писал: «Кто-то незримый пишет передо мной могущественным жезлом», или в 1840 г.: «Созданье чудное творится в моей душе — подобное внушение не исходит от человека», или в 1843 г.: «Мне открываются тайны, которых дотоле не слышала душа»). Рядом идёт и другое — то, что мы называли «дидактической тенденцией» в произведениях Гоголя до 1836 г. и что просто было связано с напряжённой внутренней работой, а теперь приобрело черты учительства. Он уверен, что «властью свыше облечено ныне его слово» (1841), — это пока касалось, правда, лишь переписки с друзьями. Гоголь становится почти навязчив в советах друзьям, словно он их старец или духовный руководитель, он часто требует от своих друзей исполнения его советов»50.
Это-то учительство и переходит в «Выбранных местах…» с отдельных лиц на всех.
Периоды духовного подъёма (вспомним еще раз предупреждения Святых Отцов) опасны: человека подстерегает прелесть, распознать которую неопытной душе трудно. Можно утверждать, что Гоголь отчасти именно прелести был подвержен. Но довольно о тьме.
Всё же свет «Выбранных мест…» одолевает тьму. Гоголь создал поистине великую книгу, какою может гордиться русская литература.
В своём труде автор далеко превзошёл многие и многие умы, ему современные, в попытке решения острейших вопросов русского бытия. Труд Гоголя может обнаружить многие несовершенства рядом с творениями великих Отцов Церкви — но не гордецам прогресса было презрительно морщиться и возмущаться: по их бессилию постигнуть новизну и глубину многих поднятых писателем вопросов. В сопоставлении со Святыми Отцами (и этой мерою, несомненно, и пользовался святитель Игнатий) кто не уязвим? Но совершенно иною предстаёт фигура Гоголя, если мы сменим систему критериев и соотношений. Нужно согласиться также с о. Василием Зеньковским, что книга Гоголя ещё не составляет изложения целостного мировоззрения, как то полагал Мочульский, ибо мировоззрение автора «Выбранных мест…» лишь вырабатывалось, отчего и дал он лишь черновой набросок скорее, нежели законченную систему взглядов. Впечатление целостности придаёт книге не системная структура, но неизменность основного духовного стремления автора, о чём бы он ни писал в каждом конкретном случае. Это духовное стремление есть стремление любви к Богу, о какой сам писатель прекрасно сказал, начиная своё «Правило жития в мире»: «Начало, корень и утверждение всему есть любовь к Богу. Но у нас это начало в конце, и мы всё, что ни есть в мире, любим больше, нежели Бога. Любить Бога следует так, чтобы всё другое, кроме Него, считалось второстепенным и не главным, чтобы законы Его были выше для нас всех постановлений человеческих, Его советы выше всех советов, чтобы огорчить Его считалось гораздо важнейшим, чем огорчить какого-нибудь человека» (6, 283). Вот основа всего пафоса «Выбранных мест…»
Нетрудно установить, что в освещении и разработке проблем своего времени Гоголь совпадает, или почти совпадает (позволим себе забежать несколько вперед) со славянофилами. «Выбранные места…» вышли в период разгара споров между славянофилами и западниками, и когда мы разбираем причины неприятия гоголевской книги, не упустим из виду и это. Правда, не принял писателя в новой роли К. Аксаков, но тут было отвержение именно роли, нового облика Гоголя, превращения художника в проповедника. Да и одно дело несогласие между единомышленниками, иное — между идейными не-другами. К славянофилам Гоголь формально как бы не принадлежал (впрочем, странно говорить тут о какой-то формальности, когда никакого внешнего оформления и не было), но в тесном дружестве пребывал и с Хомяковым, и со всеми Аксаковыми, с братьями Киреевскими, с Шевырёвым, Погодиным… — круг общения вполне определённый. Он откликнулся на все споры в «Выбранных местах…», без обиняков заявляя: «Разумеется, правды больше на стороне славянистов и восточников, потому что они всё-таки видят весь фасад и, стало быть, всё-таки говорят о главном, а не о частях» (6, 49).
Но и не преминул он указать и на некоторые недостатки у друзей-восточников: кичливость, нездоровый задор, неумение признать правоту противника и пр. — то есть всё наносное, что вначале нередко примешивается ко всякому начинающему сознавать себя мнению. Гоголь готов признать и частичную правоту западников, но решительно не мог сойтись с ними в их неправославии. Главное, что делало его особенно близким со славянофилами — убеждённость, что вне Православия невозможно решение ни одной проблемы российской жизни, как для отдельного человека, так и для народа в полноте его бытия. Гоголь отказывается принять любую идею — без её воцерковления: «По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведенье в Россию, минуя Церковь, не испросив у неё на то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие-бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым» (6, 69).
Для любого суждения, для любой оценки Гоголь устанавливает единый критерий и этим критерием определяется пафос «Выбранных мест…» вообще: «Кто с Богом, тот глядит светло вперёд и есть уже в настоящем творение блистающего будущего» (6, 128). Обращение к «Близорукому приятелю», откуда взята эта мысль, есть обращение к атеисту-западнику: «Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои — гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, — и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из неё великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие. <…> Ты позабыл даже своеобразность каждого народа и думаешь, что одни и те же события могут действовать одинаковым образом на каждый народ. Тот же самый молот, когда упадёт на стекло, раздробляет его вдребезги, а когда упадёт на железо, куёт его» (6, 127).
Само понятие любви к России является для Гоголя духовной ценностью только потому, что она является средством к спасению души. Тех, кто очарован Европою, Гоголь предупреждает о грядущих её бедах. И утверждает прямо противоположное тому, что десятью годами ранее обнародовал Чаадаев, превознёсший католичество. По Гоголю же, источники западных бед — именно в католицизме: «Зато в нашей Церкви сохранилось всё, что нужно для ныне просыпающегося общества. В ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чем больше вхожу в Неё сердцем, умом и помышленьем, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противоречий, которых не в силах примирить теперь Церковь Западная. Западная Церковь была ещё достаточна для прежнего несложного порядка, ещё могла кое-как управлять миром и мирить его с Христом во имя одностороннего и неполного развития человечества. Теперь же, когда человечество стало достигать развития полнейшего во всех своих силах, во всех свойствах, как хороших, так и дурных, она его только отталкивает от Христа: чем больше хлопочет о примирении, тем больше вносит раздор, будучи не в силах осветить узким светом своим всякий нынешний предмет со всех сторон» (6, 70).
— Что даёт надежду на обновление русской жизни?
— «Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда ещё не всеми видим, — наша Церковь. Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено всё, что нужно для жизни истинно русской, во всех её отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему настрой, всему направленье, всему законная и верная дорога» (6, 69). Правда, всё это не должно составлять повода для гордыни, но, напротив, для сознания недостоинства своему получаемому дару: дано-то много, да ведь и спросится строже, — и по строгости спроса вывод неутешителен: «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь ещё неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы всегда должны говорить о себе»(6, 192).
Как мы увидим далее, славянофилы исповедовали прежде всего необходимость смирения — этой основы православной духовности, — и Гоголь был в том их безусловным единомышленником. На само недостоинство русских людей возлагает Гоголь винy за все те хулы, какие возлагаются на Церковь извне: «Они (католики— М.Д.) говорят, что Церковь наша безжизненна. — Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильным путём: мы трупы, а не Церковь наша, и по нас они назвали и Церковь нашу трупом. Как нам защищать нашу Церковь и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие вопросы: «А сделала ли ваша Церковь вас лучшими? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг?» Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли всё время мимо нашей Церкви и едва знаем её даже и теперь?» (6, 34). Православной Церкви посвящены, быть может, лучшие и вдохновеннейшие строки «Выбранных мест…» — и каждое суждение писателя становится драгоценным для нас. Соблазнённая эвдемоническая западная культура утверждает: человек создан для счастья. Гоголь отрезвляюще отвергает этот постулат: «…Призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битвы мы сюда призваны; праздновать же победу будем там. <…> Всех нас озирает свыше небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора» (6, 147).
Принцип юридизма также подвергается в «Выбранных местах…» жесточайшей критике: ибо закон, выходя за пределы своих ограниченных возможностей, способен лишь порождать новые беды и злоупотребления, ибо он слишком рационален и защищает всегда лишь выгоду, корыстные стремления, входя нередко в противоречия с правдой Христовой. Подробное суждение о том встречается прежде всего в обращении к «Занимающему важное место», но не только. Высшим государственным принципом является для Гоголя монархия, ибо в ней возможность преодоления буквального исполнения закона, жестокого и небратского, основана на данном монарху свыше праве милости, смягчающей закон. В этом Гоголь опирается на авторитет Пушкина, узревавшего в абсолютизации законничества омертвение и выветривание человека «до того, что и выеденного яйца не стоит» (6,40).
Не мог миновать Гоголь и проблемы просвещения, соблазн которого сильно задел русское общество, как мы помним, еще в XVIII столетии. Как истинно православный человек, автор «Выбранных мест…» проблему эту по-православному же и осмысляет: «Мы повторяем теперь ещё бессмысленное слово «просвещение». Даже не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни в каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду её окружающие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей, в торжественном служении своём, подъемля в обеих руках и троесвещник, знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходившее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: «Свет Христов <пр>освещает всех!» Недаром также в другом месте служенья гремят отрывочно, как бы с Неба, вслух всем слова: «Свет просвещенья!» — и ничего к ним не прибавляется больше» (6,70–71).
Европейское Просвещение, как помним, сопряжено было с превознесением разума, с тяготением к жестокому рационализму.
Гордыня ума рассматривается Гоголем как крайнее проявление мирового зла: «И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услыхать благоухание небесного братства? <…> Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явил себя в собственном своём виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеётся в глаза им же, его признающим; глупейшие законы даёт миру, какие доселе ещё никогда не давались, — и мир это видит и не смеет ослушаться» (6, 190).
Вот тот источник самовозвышения человека и сотворения им неправедных деяний, от которых исторгается из недр потрясённой души автора «Выбранных мест…» вопль его ужаса. Страшно!
Но писатель не только ужасается и страдает: он утверждает систему подчинения человеческого рассудка Христовой мудрости: «Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам всё то, что у нас уже есть. <…> Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстьми. Его имели в себе только те люди, которые не пренебрегали своим внутренним воспитанием. Но и разум не даёт полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая ещё способность; имя ей — мудрость, и её может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь её у Бога, возводя душу свою до голубиного незлобия и убирая всё внутрь себя до возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласья во всём. Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, и он постигнет всю чудную сладость быть учеником. Всё становится для него учителем; весь мир для него учитель…» (6, 51–52).
Можно принять или не принимать эту гоголевскую триаду, но с противопоставлением разума земного и мудрости, данной от Христа — должно согласиться безусловно. Впрочем, тут нет ничего собственно от Гоголя, как и в двуступенчатой системе разделения земного рассудка: последнее отмечается уже в некоторых античных философских системах, как и в философии нового времени — термины не суть важны. Гоголь же несомненно опирался прежде всего на важнейшие положения Первого послания к коринфянам святого апостола Павла, а также на Святых Отцов. В получении Христовой мудрости через Благодать Гоголь и видит выход из того тупика, в который влечётся блуждающее человечество гордынею разума. Самоё деятельность человека, движимого мудростью, Гоголь раскрывает как служение под знаком ответственности, как исполнение долга, а не источник получения благ и привилегий. Этими мыслями исполнены все его наставления: помещику; занимающему важное место; жене губернатора; христианину вообще и пр. Вот одно из таких наставлений — русскому помещику: «Собери прежде всего мужиков и объясни им, <…> что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своём месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которой родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога. <…> Во всех упрёках и выговорах, которые станешь делать уличённому в воровстве, лености или пьянстве, ставь его перед лицом Богa, а не перед своим лицом; покажи ему, чем он грешит против Бога, а не против тебя» (6, 104–105).
Подобных выписок можно бы делать еще множество. Постоянная опора на мудрость Христову, на Писание здесь несомненна. На всё Гоголь призывает читателя смотреть как на действие Промысла Божия. Точно так же и всякое посылаемое испытание, бедность, болезни, автор «Выбранных мест…» учит воспринимать как посылаемую милость Божию, направленную на благо человека, на укрепление его души. Таково содержание, например, поучений «Значение болезней» и «О помощи бедным». Всем наставлениям книги можно привести множество параллельных мест из святоотеческих творений — да иного и быть не может.
Значительная часть книги посвящена проблеме, какая не могла не тревожить Гоголя как художника: он размышляет о литературе, об искусстве — и эти его размышления можно назвать апологией искусства. Главную опасность искусства он видит в праздном слове:
«Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших!» (6, 21). В этом опирается он не только на мудрость Евангелия (Мф. 12, 36–37), но и на собственный мучительный опыт.
Гоголь и в искусстве видит теперь также служение, служение Христу — и ничто более. Идея пророческого преображения мира им теперь оставлена. В «Выбранных местах…» автор формулирует важнейшую свою идею, в которой отпечатлелось гоголевское видение искусства вообще (хотя конкретно он сопрягает её с размышлением о театре):
«Развлечённый миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли во все стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко от небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени к христианству, если не возведёшь его на некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства и понятней то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Есть много среди света такого, которое для всех, отдалившихся от христианства, служит незримой ступенью к христианству» (6, 55–56).
Такою ступенью может стать и искусство. Должно стать искусство. Иначе ему не избежать праздномыслия и празднословия.
Отметим один важный вывод, какой можем сделать из суждения Гоголя (хотя трудно сказать, подразумевал ли он его сознательно, или это само собой выговорилось): искусство, в числе прочих ступеней, нужно лишь отдалившимся от христианства. А пребывающим во Христе? Вероятно, нет… Нельзя согласиться с Мочульским, который усмотрел в рассуждении Гоголя о незримой ступени к христианству попытку прибегнуть к искусству как к не вполне честной уловке, к приманке, завлекающей души. Помощь не есть обман. «…Все же дары Божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими собратьям нашим» (6, 67) — и нет в таком служении лжи и фальши. Не стоит лишь упрощённо понимать религиозное служение искусства. И по сей день злободневно предупреждение против тех, кто считает, что «следовало бы всё высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки» (6, 60). И впрямь: с той (и даже с ещё более ранней) поры слишком много сложено бездарных зарифмованных строк, в которые оказались втиснутыми самые благочестивые мысли, но бездарность способна опошлить любую возвышенную идею. Истинная православная религиозность заключается в самом духе отношения художника к любому проявлению бытия, внешне даже никак и нe связанному с религией, а также — в духе восприятия искусства по критериям истинной духовности, пусть даже это искусство и создавалось вне пределов христианства. Этому учил ещё святитель Василий Великий в «Советах юношам, как получать пользу из языческих сочинений». По сути, высказываясь о пользе, какую можно извлечь из чтения языческих (внешних) авторов, святитель высказывает мысль, весьма близкую рассуждению Гоголю о незримой ступени, — а точнее: Гоголь следует принципу, утвержденному святителем, поскольку названное сочинение было издано в числе прочих творений Василия Великого в 20-е годы XIX века и несомненно привлекло внимание автора «Выбранных мест…» Вот что писал святитель: «Красильщики назначенное к окраске приготовляют сперва особыми способами и потом наводят цвет; подобным образом и мы, чтоб добрая слава наша навсегда оставалась неизгладимою, посвятив себя предварительному изучению сил внешних писателей, потом уже начнем слушать священные и таинственные уроки и, как бы привыкнув смотреть на солнце в воде, обратим наконец, взоры к самому свету. <…> Славный Моисей, которого имя за мудрость было весьма велико, сперва упражнял ум египетскими науками, а потом приступил к созерцанию Сущего. А подобно ему, и в позднейшие времена о премудрости Даниила повествуется, что он в Вавилоне изучал халдейскую мудрость и тогда уже коснулся Божественных уроков»51. Христианина не может смутить даже языческое искусство, из эстетического построения которого он также может извлечь духовную пользу для себя. Вслед за святителем Гоголь утверждал эту мысль в принципиально важном для себя рассуждении «Об Одиссее, переводимой Жуковским». Должно ещё раз повторить: подобных совпадений между «Выбранными местами…» и святоотеческими творениями можно отметить немало. В том-то и видел Гоголь своё предназначение, работая над книгой: приобщение к церковной мудрости душ человеческих, от Церкви далёких, — воцерковление культуры. «Создал меня Бог и не скрыл от меня назначенья моего. Рождён я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело моё проще и ближе: дело моё есть то, о котором прежде всего должен подумать человек, не один только я.
Дело моё— душа и прочное дело жизни». (6, 83). Вопрос лишь в том: каким образом осуществить это назначение, каким языком сообщить людям Горние истины — языком прямой проповеди или через посредство эстетической образной системы, то есть оставаясь чистым художником? Всё тот же вопрос, проклятый вопрос не оставлял мучить его: подвластна ли языку мирского искусства мудрость не от мира сего? Ему казалось: в прежней своей писательской деятельности он потерпел поражение на поприще пророческого служения. Но это могло быть его личным поражением, а не свидетельством несостоятельности искусства: ведь даже в поэзии язычника Гомера заключена несомненная глубина — неужто она не доступна истинно православному художнику? К сомнению подвигали размышления над эстетическим опытом А. Иванова, не достигшего того, к чему стремился при создании грандиозного полотна «Явление Мессии». Но сомневаться в своей предназначенности к непосредственной проповеди заставило и подавляющее неприятие «Выбранных мест…» Для Гоголя решался важнейший вопрос жизни.
8. Ответ Н.В.Гоголя на критику В.Г.Белинского
Самым известным отзывом на «Выбранные места…» стало письмо Белинского Гоголю, отправленное из Зальцбрунна в июле 1847 года.
Долгие годы самоё книгу Гоголя вспоминали только в связи с этим письмом, сыгравшим особую роль в истории русской литературы, в развитии русской общественной мысли, — разумеется, прогрессивной. «Выбранные места…» рассматривались порою лишь как повод для написания письма неистового Виссариона. Впрочем, письмо это явилось одним лишь звеном (употребим банальный образ) в цепи некоторых событий, связанных с выходом книги. Так, после выхода её возмущённый Белинский отозвался небольшой рецензией, в которой не смог из-за её подцензурного характера высказать всех своих взглядов. Важно было выявить отрицательное отношение к «Выбранным местам…» — и Белинский это сделал, не имея возможности рассчитывать на большее. Гоголь в ответ на рецензию обратился к критику с письмом, упрекнув того в несколько поспешном и неглубоком прочтении книги, а также в озлобленности и раздражённости того отзыва. После этого и было создано «одно из лучших произведений бесцензурной демократической печати» — как определил письмо Белинского Ленин. Пребывая в тот момент за границей на лечении, Белинский уже мог не оглядываться на цензуру и не опасаться жандармского догляда за перепиской его. Гоголь, в свою очередь, не оставил обвинения критика без возражения и в ответном наброске наголову разбил своего оппонента, однако письма этого не отправил, хотя и не уничтожил вовсе, — позднее оно в разорванном виде было обнаружено среди его бумаг. Отправленным оказалось другое письмо, меньшее по объему и сдержанное по тону, без подробного разбора возражений. Белинский уже не ответил. Такова вкратце история.
Можно присовокупить ещё, что главным пунктом обвинения о приговоре Достоевского к расстрелу — было прилюдное чтение им того самого письма Белинского к Гоголю. Чего же боле?..
Письмо Белинского значительно воздействовало на становление революционных идей в России — бесспорно. В нём были сформулированы некоторые краеугольные постулаты идеологии так называемого освободительного движения. И не то чтобы Белинский самостоятельно произвел идеи эти на свет, высказал их впервые, — его письмо просто пришлось ко времени и прозвучало громко, весьма громко. Громкозвучно. Белинский же, не забудем, был для многих истинным властителем дум. Когда-то его статей ждали жадно, зачитывались ими с наслаждением.
Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) — индивидуальность, из размышлений над судьбою которой можно вынести много поучительного. Это был вполне сложившийся и откровенный безбожник (Достоевский вспоминал, что своё знакомство с ним Белинский прямо начал с разговора об атеизме) — и тем принёс много непоправимого вреда русской культуре. Образно выражаясь, можно утверждать, что многие беды свои Россия претерпела оттого, что просвещённое наше общество отказалось внять православной проповеди Гоголя, но слишком подпала под влияние деятелей (не сказать, мыслителей: мыслили они плохо), подобных Белинскому.
Не стоит всё же одно дурное извлекать на свет. Если бы так — всё оказалось бы слишком просто. А вот послушаем Тургенева, с Белинским слишком хорошо знакомого: «Белинский был, что у нас редко, действительно страстный и действительно искренний человек, способный к увлечению беззаветному, но исключительно преданный правде, раздражительный, но не самолюбивый, умевший любить и ненавидеть бескорыстно. <…> Белинский, бесспорно, обладал главными качествами великого критика; и если в деле науки, знания ему приходилось заимствовать от товарищей, принимать их слова на веру — в деле критики ему не у кого было спрашиваться; напротив, другие слушались его; почин постоянно оставался за ним. Эстетическое чутьё было в нем почти непогрешительно; взгляд его проникал глубоко и никогда не становился туманным. Белинский не обманывался внешностью, обстановкой — не подчинялся никаким влияниям и веяниям; он сразу узнавал прекрасное и безобразное, истинное и ложное и с бестрепетной смелостью высказывал свой приговор — высказывал его вполне, без урезок, горячо и сильно, со всей стремительной уверенностью убеждения. <…> При появлении нового дарования, нового романа, стихотворения, повести — никто, ни прежде Белинского, ни лучше его, не произносил правильной оценки, настоящего решающего слова. Лермонтов, Гоголь, Гончаров — не он ли первый указал на них, разъяснил их значение? И сколько других!»52 Среди других — сам Тургенев. И ещё Григорович, Достоевский, Некрасов…
Итак: страстность, искренность, тончайшее художественное чутьё, некоторое невежество, заставлявшее заимствовать знания, а значит, отчасти и убеждения — от других… Белинский воспитывал и направлял эстетическое чувство многих русских классиков в начале их творческого пути, пытался воздействовать, и небезуспешно, на мировоззрение многих. И последнее, о чём следует предварительно сказать: пора расстаться с предрассудками, будто индивидуальности, подобные Белинскому, были исключительными ревнителями свободы. К.С. Аксаков, вспоминая о кружке Станкевича, куда входил и Белинский, проницательно заметил, что начальная свобода этих молодых людей «перешла в буйное отрицание авторитета, выразившееся в критических статьях Белинского следовательно, перестала быть свободою, а, напротив, стала отрицательным рабством»53. Отрицательное рабство неистового критика захватывало его сторонников. Бесцензурное же письмо, которому власти постарались создать пиетет грубыми гонениями, не могло не поразить склонных к тому умов. Какие идеи содержало это письмо, помимо несдержанной истерической брани? Образчик её — вот хотя бы: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегерист татарских нравов — что вы делаете!»54. Фрондирующей публике подобное всегда нравится, но и забывается скоро. С письмом Белинского обстояло иначе, ибо это был своего рода революционный манифест — эстетический, социально-философский, антицерковный, антирелигиозный. Белинский впервые ясно и четко сформулировал прогрессивное понимание целей и назначения искусства. И с его лёгкой руки такое понимание прочно утвердилось в идеологии революционеров всех разновидностей:
«…Публика <…> видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавии, православия и народности»55. Гоголь, как мы знаем, понимал назначение искусства прямо противоположно, за что и получил свою долю обличения одного из вождей революционной демократии.
Белинский и не мог мыслить и выражаться иначе: его позиция была жёстко запрограммирована ещё европейским Просвещением, которое он превозносил беспредельно. В основе его мировоззрения полный набор стереотипов, составляющий систему ценностей, вполне однонаправленно ориентированную: «…Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещении, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышана их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и соре, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение»56.
Белинский, как видим, дал обычный перечень жизненных ценностей, выработанный секулярной культурой: цивилизация, просвещение, гуманизм, юридизм, рационализм (здравый смысл). Эту систему сокровищ на земле он противопоставил сокровищам духовным, получаемым через проповедь и молитву. Божественному откровению, выраженному в учении Церкви, Белинский противопоставил мудрость мира сего, здравый смысл — и сам того, вероятно, не замечая, совершил грубую подмену понятий. По мысли Белинского, выходит, что в церковной мудрости (она представляет для него невообразимую смесь из мистицизма, пиэтизма и аскетизма) нет ни разумности, ни любви к человеку, ни истинного света знания, ни сочувственного желания обеспечить человеку житейскую устроенность в земном мире. Повторим ещё раз: Церковь видит зло в сотворении из этих понятий и стремлений кумира вне их связи с Творцом и с верою в Него, и вовсе не отвергает их относительною ценность. Именно в Церкви, в этом мистическом Теле Христовом, они, эти понятия, обретают свою сакральную ценность — обезбоженные же, становятся вехами на пути к гибели. Белинский легко разделяет молитву и пробуждение чувства человеческого достоинства. Но именно в стремлении духовно соединиться с Богом — через веру, через молитву — человек только и может сознать своё подлинное достоинство: как образ и подобие Божие.
Можно утверждать, что сумбур взглядов Белинского есть результат его недомыслия и невежества в вопросах веры. Достаточно сильный и неординарный ум, здесь он не мыслит, а пользуется заимствованными на стороне шаблонами. Неистовый критик совершает бездумную рациональную операцию: он отлучает Церковь от Христа (или Христа от Церкви — для него безразлично), то есть разделяет нераздельное:
«Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я ещё понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма, но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью»57.
Это «тем более» — показательно: для безбожного мира Православие главный враг. Опять приходится повторять общеизвестное: Христос пришел в мир прежде всего ради создания Церкви, вне которой нет истинного спасения (Мф. 16, 15–18). Белинский взирает на Христа как на первого революционера, и только с революционным учением сопрягает понятие спасения: «Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии»58. Логика Белинского поражает: «Церковь же явилась иерархией, стало быть поборником неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем продолжает быть и до сих пор»59 .
Да, Церковь есть иерархия, учение Христа вообще устанавливает иерархию ценностей, но эта иерархия есть верное соотношение ценностей духовных и мирских. Механическое равенство мертвит душу человека, идея такого равенства противна всякому духовному движению. Церковь — не порождает неравенство, ибо то определено естественною природою вещей, Церковь лишь ориентирует человека в его духовном поиске, учит видеть в мире не хаос равнозначных понятий, но строгую соподчинённость всех его составных частей. Белинский же, конечно, имел в виду иерархию политическую и социальную, не более, то есть смешивал понятия разных уровней. Впрочем, для него это вполне логично. Церковь не может быть и гонительницею братства, но, напротив, единственною основою для установления такого братства, которое зиждется на идее Богоотцовства и её собственного Материнства для всех верных чад, соединившихся в церковной ограде.
Источник своих взглядов Белинский указывает откровенно: «Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер <…>, конечно, более сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи! Неужели вы этого не знаете? Ведь это теперь нe новость для всякого гимназиста…»60.
Это утверждение настолько неумно, отдает таким невежеством, что не требует разбора всерьёз. Только и остаётся сказать: бедные христиане: семнадцать с лишним веков ждали, пока мудрец Вольтер растолкует им смысл Откровения Спасителя… Особенно усердствует Белинский в брани против Православной Церкви, против отечественного духовенства. В своей ненависти к «попам, архиереям, митрополитам, патриархам» он готов примириться даже с католическим духовенством, которое, по его убеждению «когда-то было чем-то» тогда как православное «никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти»61. Попутно оппонент Гоголя отрицает всякое признание за русским народом хоть какой-то религиозности: «По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! Основой религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себя кое-где. Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ»62.
Вот важнейшие идеи Белинского — некоторые другие, попутно высказанные, не стоят особого внимания. Неистовый ругатель не заметил, что ответ ему содержится уже в «Выбранных местах…» — да не в Белинском дело, но в самом комплексе высказанных им идей.
Признавая несовершенство собственного труда, Гоголь никогда не мог согласиться с тем искажением истины, с надругательством над истиною, какие допустил Белинский. В «Выбранных местах…» писатель указывал на обычную беду многих образованных людей, берущихся судить о русской жизни: они не знали России: «Велико незнанье России посреди России» (6, 91). К Белинскому можно бы отнести ядовитое замечание Лескова: подобные люди судят о народе по разговорам с петербургскими извозчиками. Гоголь указал иной способ познания русского бытия: «Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким. Верно только то, что ещё никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда ещё различие образований и воспитанья не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всём. Сквозь всё это пронёсся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Всё это сбило и спутало до того у каждого его мненье о России, что решительно нельзя верить никому. Нужно самому узнавать, нужно проездиться по России» (6, 87). Вот и ответ Белинскому. Вот своего рода упреждающая краткая рецензия на письмо Белинского. То была беда критика, литературного подёнщика: закабалённый на своей литературной каторге, он лишён был этой возможности — «проездиться», и оттого его суждения не подкреплены авторитетом подлинного знания. Всё усугубила зашоренность критика-революционера — качеству же этому Гоголь дал верную характеристику опять-таки в «Выбранных местах…»: «Односторонние люди и притом фанатики — язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смиренья христианского и сомненья в себе; они уверены, что весь свет врёт и одни они только говорят правду» (6, 60).
Можно в словах этих видеть пророческое прозрение христианского писателя по отношению ко всем последующим борцам за народное счастье. Предвидится одно возражение: а нельзя ли слова эти отнести и к самому Гоголю? Не такой же ли он фанатик, как и его обличитель? Разберёмся.
Белинский пользуется плодами мудрости мира сего, разумения человеческого (собственного, вольтеровского… и неважно, чьего ещё) — такая-то мудрость и односторонности гордыни подвержена. Гоголь опирается всегда на Писание, на Святых Отцов — и эта премудрость не может быть односторонней. Когда человек придумает что-то сам, он всегда близок к соблазну погордиться собою. Когда он пользуется мудростью, которую признаёт выше себя, он тем являет собственное смирение. Метод Гоголя прост: вот есть некая истина, открытая нам Благодать — давайте-ка посмотрим, как можно приложить её к нашей жизни. Если он и гордится, то не тем, как сам мудр и во всём прав, а своей избранностью передавать людям истину высшую. Разница несомненная.
Гоголю, как видим, было что возразить на неистовые обвинения. В августе 1847 года он делает наброски ответного письма. О невежестве Белинского Гоголь сказал без обиняков: «Нельзя, получа лёгкое журнальное образование, судить о таких предметах. Нужно для этого изучить историю Церкви. Нужно сызнова прочитать с размышлением всю историю человечества в источниках, а не в нынешних лёгких брошюрках, написанных Бог весть кем. Эти поверхностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, а не сосредоточивают его» (9, 401). Тут писатель точно определил и вообще европейскую энциклопедическую образованность, обозначил её сопряжённость с раздробленным сознанием. Такое сознание только и может разделить нераздельное: Спасителя и Его Церковь. Гоголь дает отповедь такому поползновению: «Вы отделяете Церковь и её пастырей от Христианства, ту самую Церковь, тех самых пастырей, которые мученическою своею смертью запечатлели истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и наконец утомили своих палачей, так что победители упали к ногам побеждённых, и весь мир исповедал Христа. И этих самых Пастырей, этих мучеников, Епископов, вынесших на плечах святыню Церкви, вы хотите отделить от Христа» (9, 400). На превознесение Вольтера ответ Гоголя так же ясен: «Вольтера называете оказавшим услугу Христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимназии. Да я, когда был ещё в гимназии, я и тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтобы видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека. Вольтером не могли восхищаться полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодёжь» (9, 400).
Щелчок по самолюбию, что ни говори. Гоголь находит опровержение и сближению имени Христа с революционными идеями (что злободневно весьма и в наше время): «Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и бить тех, которые нажили себе состояние? Опомнитесь! <…> Христос нигде никому не говорил отнимать, а ещё напротив и настоятельно нам велит Он уступать: снимающему с тебя одежду, отдай последнюю рубашку, с просящим тебя пройти с тобою одно поприще, пройди два» (9, 400–401). Больно задели Гоголя рассуждения Белинского о безбожности русского народа: «Что мне сказать вам на резкое замечанье, будто русский мужик не склонен к религии и что, говоря о Боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины, замечание, которые вы с такою уверенностью произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих Русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с таким неуваженьем отзывается о Боге, и который делится последней копейкой с бедным и Богом, терпит горькую нужду, о которой знает каждый из нас, чтобы иметь возможность принести усердно подаяние Богу? <…> Теперь позвольте же сказать, что я имею более перед вами права заговорить о русском народе. По крайней мере, все мои сочинения, по единодушному убежденью, показывают знание природы русской, выдают человека, который был с народом наблюдателен и… стало быть, уже имеет дар входить в его жизнь, о чём говорено было много, что подтвердили сами вы же в ваших критиках. А что вы представите в доказательство вашего знания человеческой природы и русского народа, что вы произвели такого, в котором видно это знание? Предмет этот велик, и об этом бы я мог вам написать книги» (9, 401).
Причину заблуждений Гоголь видит всё в том же — в незнании России: «Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятьях лёгкими журнальными статейками и романами тех французских романистов, которые так пристрастны, что не хотят видеть, как из Евангелия исходит истина, и не замечают того, как уродливо и пошло изображена у них жизнь» (9, 401).
Но Гоголь не останавливает своего внимательного взора на поверхности явления. Если бы причина всех заблуждений была только в невежестве, то прав бы оказался любой сторонник стремления к полному рассудочному знанию, к насыщению знанием как единственным средством к истинному пониманию сути вещей, Гоголь же узревает причину глубоко внутреннюю: материалистическое атеистическое сознание, желающее негодными средствами, внешними воздействиями избыть мировое зло: «Я встречал в последнее время много прекрасных людей, которые совершенно сбились. Одни думают, что преобразованьями и реформами, обращеньем на такой и на другой лад можно поправить мир; другие думают, что посредством какой-то особенной, довольно посредственной литературы, которую вы называете беллетристикой, можно воздействовать на воспитание общества. Но благосостояние общества не приведут в лучшее состояние ни беспорядки, ни пылкие головы. Брожение внутри не исправить никакими конституциями. Общество образуется само собою, общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполняла должность свою. Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придёт в порядок и земное гражданство» (9, 402–403).
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Mф. 6, 33), — источник сердечного убеждения Гоголя вновь просматривается легко. Поэтому-то он и утверждает, возражая Белинскому, самую задушевную свою мысль: «Вы говорите, что Россия долго и напрасно молилась. Нет, Россия молилась не напрасно. Когда она молилась, то она спасалась» (9, 403). Оставляя в стороне некоторые побочные вопросы полемики, прямо не относящиеся к нашей основной теме, сосредоточимся на важной мысли: оба литератора отстаивают в споре различные системы сверхличных ценностей. За позицией каждого — не корыстные побуждения, но боль за ближнего. Но ясно сознавая правоту одного, как отнестись к неправде другого? Как к заблуждению, которое искупается чистотою помыслов? Критерием в оценке, как всегда, могут быть единственно слова Сына Божия:«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и было падение его великое» (Мф. 7, 24–27).
Белинский воздвигал, стремился воздвигнуть здание общественного благоденствия по человеческому разумению, но выкрикивая своему оппоненту: «Взгляните себе под ноги — ведь вы стоите над бездною!» — не сознавал, что бездна готова разверзнуться под ногами именно у него; и к этой бездне, движимый самыми благородными побуждениями, он толкал Россию, Белинский предстаёт поистине трагическою фигурою, но это не умаляет зла, какому он объективно служил, отстаивая свои внешне благородные идеи. Не просто служил — жизнью оплатил их утверждение.
Трагизм проблемы в том и состоит, что люди, подобные Белинскому, — были нравственно высоки, чисты совестью. Как часто именно это мы возводим в абсолют — ту убеждённость, которая на обыденном уровне примелькалась расхожею истиною: был бы человек хороший… Вот трагедия: хорошие люди с чистой совестью жертвовали жизнью во имя сатанинского дела. Позже им на смену придут Нечаевы и прочие бесы русской революции. Пока же они горят верою в правду своей борьбы.
«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30), — так Спаситель установил то разделение, при котором по одну сторону оказываются и благородный Белинский, и нравственный выродок Нечаев. Критерий один: они не с Христом, они — против Христа.
Должно помнить о том — не чтобы судить, но уметь избегать подобных заблуждений. И уметь верно испытывать на истинность любое благородное стремление любой эпохи. Белинский сумел увлечь и заразить многих своими заблуждениями. Вообще с этого противостояния Гоголя и Белинского наметилось отчётливо разделение двух направлений в отечественной словесности: духовного и революционно-разрушающего. Да, Гоголь сумел круто повернуть всю русскую литературу и не без его воздействия даже революционное направление обретает в ней свойство религиозного служения. И именно Белинский эту «религию» окончательно обезбожил. Сверхличные же ценности, когда они возводятся на песке, опасны: рухнут неизбежно… Но отчего же Гоголь не отослал своего ответа? Нам не дано этого знать, дано лишь предполагать. Быть может, он ощутил тот гордынный дух, каким веет от иных его возражений. Быть может, предчувствовал, что возражения его станут побудительною причиною для нового неистового и гневного возбуждения у адресата, — а для Белинского, смертельно больного, то было бы губительно.
Отправленный иной ответ — краток, полон примирительного спокойствия, смиренен.
9. Последний период жизни Гоголя. Сочинение «Размышление о Божественной Литургии»
Упомянув в неотправленном ответе Белинскому о неких беллетристах, вознамерившихся воспитать общество, — не мысль ли о себе (в подсознании хотя бы) держал Гоголь? Никуда же не ушёл от него этот вопрос: о предназначенности его писательского дара. Мысль его мечется. Нет, не в сомненьях о смысле своей деятельности. Смысл ясен: служение. Служение Красоте Небесной. Как? Проповедью? Ему представляется, что на поприще проповедника его постигла неудача.
«И в самом деле, не моё дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Моё дело говорить живыми образами, а не рассужденьями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная» (6, 239–240), — пишет он Жуковскому в январе 1848 года. А полугодом раньше, в наброске того самого ответа Белинскому, эта же мысль выразилась точнее: «Я точно отступаюсь говорить о таких предметах, о которых дано право говорить только одному тому, кто получил его в силу многоопытной жизни. Не моё дело говорить о Боге. Мне следовало говорить не о Боге, а о том, что вокруг нас, что должен изображать писатель, но так, чтобы каждому самому захотелось бы заговорить о Боге» (9, 404). Иначе это можно было бы сказать так: необходимо служить Красоте Небесной, изображая красоту земную, в которой Небесная находит свое отражение. Но красота земная двойственна, двусмысленна — это он уже хорошо усвоил. Изображая её, можно не только Богу послужить. Какой-то заколдованный круг… Как удержаться, служа красоте, от служения бесу? И это он постиг уже: нужно самому стать лучше, нужно самому быть прекрасным — творя красоту.
Гоголь теперь несомненно сознаёт, что все выводы его собственного разума часто были и поверхностны и ложны. Когда он ставит перед собой зеркало евангельской и святоотеческой мудрости, то в нём всё высвечивается внутренним светом по-особому, не так, как представлялось в свете земного знания и понимания. «Свет Христов просвещает всех!» Совсем немногим ранее написано было им как собственное откровение глубокой мудрости (может быть, не без мысли о писательском своём призвании) в одиннадцатой главе «Мёртвых душ»: «Но есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рожденья его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им: всё равно в мрачном ли образе, или пронести светлым явлением, возрадующим мир, — одинаково вызваны они для неведомого человеком блага» (5, 221).
Нетрудно разглядеть здесь отголосок протестантской идеи предопределения, хоть и не отчётливо выраженной. После прочтения в Оптиной пустыни рукописной, на церковнославянском языке, книги преподобного Исаака Сирина — Гоголь на полях напротив этого места начертал карандашом: «Это я писал в «прелести», это вздор — прирождённые страсти — зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирождённых страстей — теперь, когда я стал умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирождённых страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравая психология и не кривое, а прямое понимание души встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетённой немецкой диалектике молодые люди, — не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимание природы души» (5, 554).
Вот она — воочию — опасность художественного творчества, не озарённого высшею мудростию. И он всё более стремится вникнуть в мудрость святоотеческих творений, признаваясь в одном из писем, что «после всякого такого чтения становится яснее взгляд на Евангелие, и многие места в нём становятся доступнее» (8, 409). Небесную мудрость стремится почерпнуть Гоголь и в живом общении с истинными духовидцами. Недаром же читал он Исаака Сирина в Оптиной пустыни, которая тянула его к себе в последние годы жизни. Говорить о значении Оптиной в судьбах русской литературы нет необходимости: это ныне общеизвестно. Духовная важность общения Гоголя с оптинскими старцами, прежде всего со старцем Макарием, переоценённою быть не может. После первого своего посещения монастыря в июне 1850 года Гоголь писал А.П.Толстому: «Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унёс о ней воспоминания. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует всё небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами всё. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст подъезжая к обители, уже слышишь её благоухание: всё становится приветливее, поклоны ниже и участья к человеку больше» (9, 482).
А на следующий день по отъезде Гоголь написал иеромонаху пустыни Филарету свою просьбу всей братии монастырской молиться о нём, ибо в молитве этой он надеялся черпать силы для своей работы:
«Путь мой труден, дело моё такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться моё перо, и силы мои не только ничтожны, но их нет без освежения свыше. Говорю вам об этом не ложно. Ради Христа, обо мне молитесь. Покажите эту записочку мою отцу игумену и умоляйте его вознести свои мольбы обо мне грешном, чтобы удостоил Бог меня недостойного поведать славу имени Его, не смотря на то, что я всех грешнейший и недостойнейший. Он силён, милосердный, сделать всё и меня, чёрного, как уголь, убелить и возвести до той чистоты, до которой должен достигнуть писатель, дерзающий говорить о святом и прекрасном. Ради самого Христа, молитесь. Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской пустыне» (9, 482).
Многажды посещал Гоголь Троице-Сергиеву Лавру, припадая к мощам преподобного Сергия. Не только значение Лавры в духовной жизни русского народа его к тому подвигало, но располагало и счастливое побочное обстоятельство: усадьба Абрамцево, куда он наезжал к своим друзьям Аксаковым, находится в нескольких верстах от монастыря. Сохранилось воспоминание о посещении Гоголем Московской Духовной Академии, пребывающей под покровом обители. Знаменательно: в разговоре со студентами Гоголь произнёс: «Мы с вами делаем общее дело, имеем одну цель, служим одному Хозяину… У нас один Хозяин…»63. Произнося эти слова, Гоголь устремил глаза к небу. Архимандрит Феодор (Бухарев) — в те времена наставник студентов, — приведший Гоголя в классы, передаёт слова Гоголя несколько иначе: «Мы все работаем у одного Хозяина»64.
Подобные разночтения в воспоминаниях разных людей об одном событии обычны: они-то как раз и подтверждают истинность свидетельств. Вот важно: Гоголь несомненно указал своими словами, что видит близость своего труда — труду духовного окормления народа. Состоялось же посещение Академии в октябре 1851 года, когда писателю оставалось жить менее полугода. За три же недели до смерти, 2 февраля 1852 года, Гоголь пишет Жуковскому: «Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть сколько-нибудь был удостоен пропеть гимн Красоте Небесной»65.
Едва ли не до последних дней своих он живёт мыслью об особом своем писательском служении. При этом круг общения Гоголя с духовными наставниками русского народа был необычайно широк — от святителя Иннокентия (Борисова) и оптинских старцев до многих безвестных нам сельских священников. Особо выделил он в своей жизни событие великой духовной важности: паломническую поездку на Святую Землю в 1848 году. Духовная радость от этой поездки соединялась с сердечным сокрушением: Гоголь был удручён своею душевною чёрствостью, какую он узрел в себе, не обретя благодатного умиленного состояния, надеждою на которое укреплялся он в своем стремлении в Иерусалим: «Моё путешествие в Палестину точно было совершено мною за тем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика чёрствость моего сердца. Друг, велика эта чёрствость! Я удостоился провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом Гробе вместо алтаря, — и при всём том я не стал лучшим, тогда как всё земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное» (9, 474), — писал он уже после возвращения Жуковскому в феврале 1850 года (попутно же заметим, что в этом же письме Гоголь дал удивительно точное и художественно совершенное описание Святой Земли).
Само это сокрушение внутреннее свидетельствует, что не столь черства была душа Гоголя. Тут он чрезмерно суров к себе. Двумя же годами ранее, из самой Палестины писал он тому же Жуковскому несколько иначе о своём состоянии: о том, как за божественной Литургией у Гроба Господня он утратил ощущение времени — хоть краешком души коснулся вечности: «Всё это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моленья и так расположенного молиться. Молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моления не в силах были угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед Чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщения меня, недостойного…» (9, 433).
Можно предположить, что последние годы Гоголь провёл в борении между желанием удалиться от всего мирского и долгом писательского служения. Над душою Гоголя, несомненно, тяготел долг замысла «Мёртвых душ». Недаром же высказал свою убеждённость Жуковский, узнавший о смерти Гоголя (в письме Плетнёву в марте 1852 года):
«Я уверен, что если бы он не начал свои «Мёртвые души», которых окончание лежало на его совести и всё ему не давалось, то он давно бы был монахом, и был спокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно» (1, 419). Так ли легко? Не просто же так старец Макарий не благословлял Гоголя на иноческий подвиг: ведь это означало несомненное оставление художественного творчества. Но отпустил бы замысел? Сумел бы Гоголь в душевном борении победить его? Трагический конец жизни Гоголя даёт возможность предположить, что внутренняя борьба при любом исходе была неподсильна Гоголю. Каждому художнику знакомо это состояние отягощенности художественным долгом. «…Словесное поприще есть тоже служба» (6, 237). Долг службы, всё более осознаваемой как служение, отпустить его не мог. А ведь намечался уже и иной путь того же писательского служения, иная сфера приложения художественного дара: Гоголь пробовал себя как духовный писатель, трудясь над «Размышлениями о Божественной Литургии», семь лет слагая это единственное в своем роде творение русской классической литературы (сочинения церковных писателей дело особое), но так и не доведя его до конечного совершенства.
Целью Гоголя было: раскрыть перед русскими маловерами (прежде всего) высокий духовный смысл Литургии, а также и церковным людям дать некоторые необходимые пояснения совершающегося в храме. Он писал: «…Для всякого, кто только хочет идти вперёд и становиться лучше, необходимо частое, сколько можно, посещение Божественной Литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно строит и создаёт человека. <…> А потому кто хочет укрепиться в любви, должен, сколько можно чаще, присутствовать, со страхом, верою и любовию, при Священной Трапезе Любви. <…> Велико и неисчислимо может быть влияние Божественной Литургии, если бы человек слушал её с тем, чтобы вносить в жизнь слышанное» (6, 372).
Быть может, открывался Гоголю новый путь на литературном поприще? Не был ли он слишком жесток к себе, налагая на душу свою иго постоянной памяти о «Мёртвых душах»? Не в этой ли внутренней борьбе изнемог он душевно, так что под конец в нём не оставалось силы желания жить? Ведь и в Иерусалим поехал он, как признался Жуковскому, чтобы укрепить в себе художественные силы для одоления неподъёмного замысла. С судьбою «Мёртвых душ» связан и тот отчасти загадочный эпизод последнего посещения Оптиной пустыни по пути на родину в сентябре 1851 года — на свадьбу сестры. Гоголь останавливается в монастыре и настойчиво добивается от старца решения: ехать ли дальше — или вернуться домой в Москву.
Старец советует возвратиться, вероятно, ощущая, невысказанное желание самого Гоголя. Гоголь колеблется. Старец предлагает продолжить путь. Гоголь всё никак не может решиться. Испугался дальней дороги? Нет, не Гоголю, вечному страннику, пасовать перед дорогою, да и не столь уж она и далека. Один современный писатель глумливо недоумевал: чего ради столько тревог, столько беспокойства для старца? Всего-то ради пустячной проблемы: ехать ли на свадьбу сестры? Не безумие ли? А для Гоголя-то тут, пожалуй, судьба решалась: он как жребий бросал, замерев перед выбором. Возвращаться в Москву — возвращаться к работе над той поэмой, которая там была оставлена. Ехать дальше — расстаться с тем навсегда. Старец благословляет писателя образом преподобного Сергия — и оставляет всё на собственное усмотрение. Гоголь возвращается. Ненадолго отправляется он в Лавру к мощам преподобного, как бы укрепляя благословение старца (и именно тогда при посещении Академии говорит студентам об общем Хозяине), и вскоре вновь стоит за конторкой, марая бумагу, — так он всегда писал: стоя.
Не миновать нам разговора и о духовном наставнике последних лет жизни Гоголя, ржевском священнике о. Матфее Константиновском. За ним давно упрочилась репутация изувера фанатика, превратившего в муку творческие метания писателя. Пора с этим недоразумением распроститься. О.Матфей, по отзывам, был вдохновенным проповедником и человеком великой духовной чистоты, чем и привлекал к себе церковных людей. Проповеднический дар его был направлен не на образованную часть публики, но на людей простых и бесхитростных, из каких и состояла в основном его паства, — на души таких простецов сильно воздействовало вдохновенное слово пастыря. Он и сам был простец, не искушенный в богословских тонкостях, но чуткий к внутренним запросам своих духовных чад. Вот как сам Гоголь передал свое восприятие о. Матфея и его наставлений духовных: «Видно, что сердце в нём разговорилось и что он, точно как купец, рад от всей души продать товар свой. Тексты, приводимые им из Св. Писания, показывают в нём полного хозяина, который знает, где, в каком месте нужно что брать. Говорит он о том, как все мы — церкви живого Бога и должны слушаться Духа, в нас живущего, а не земной телесности нашей; что никому из нас не прожить столько, как мы прожили, и потому, оставивши все хлопоты и вещи мира, следует нам поворотить в внутреннюю жизнь» (9, 409).
Сам о. Матфей был человеком великого бескорыстия, без сожаления расточал те немногие материальные средства, какие приходили к нему. Заметим также, что таковым был и сам Гоголь. Сохранилась довольно точная запись одной из проповедей священника — и хоть это не стенограмма, разумеется, а и через несовершенство её можем расслышать мы доносящийся до нашего внутреннего слуха голос далёкого от нас проповедника: он обращается к своим слушателям накануне великого праздника Рождества Христова (запись проповеди сделана Т.И.Филипповым в письме М.П.Погодину из Ржева 25 декабря 1852 года, то есть в сам день праздника): «Мы не будем, братие, говорить о той переписи, которую назначил в своём царстве Август. Ну, был Царь, владел всем миром, хотел узнать, сколько и кто ему принадлежит. — Это всё вещь обыкновенная. Но вы смотрите, как эта перепись напоминает нам об другой, которой нужно быть где-то в другом Царстве. Она, эта Августова перепись, случилась как раз к тому времени, как шёл в мир другой Царь, — и этот Царь тоже будет разбирать, кто Его и кто не Его. И тоже перепись будет делать. Ну, разумеется, такова и перепись, каков Царь и каково Царство! Так как же, братие, Он и к нам идёт с минуты на минуту, мы его ждём; и нас Он будет рассматривать, который из нас к Его царству принадлежит, который нет; и нам ведь нужно попасть в эту запись! Как же быть? Чем убедить Его, чтобы Он не исключил нас из своего списка?
Ах! как бы мы были благоразумны, если бы ещё до Его прихода, забежали ему навстречу и упросили бы Его на перепутье: помните, как Закхей… да! И нам бы, братие, воскликнуть: «Господи! вниди в дом мой (т. е. в дом моего сердца)!» Нужды нет, что твоё сердце — нечистые ясли. Он и яслях ляжет, не погнушается. Ну, прибери, как можешь, скажи: «Господи! я Тебя не потесню, я всё уберу, что Тебе мешает и что Тебе противно: только взойди, не оставь! Ну, ты был до сей поры плут, прелюбодей, грабитель, клеветник, скажи: «Господи! с этой минуты всё оставляю и всё поправлю, как умею!»
Вот для примера стоят там у порога, требующие хлеба, ты им никогда ничего не давал, сей час, как пришел домой, возьми, что можешь, раздай! Там, если жена, или кто, там мать станет говорить:
«что ты это? да к чему? у самих нету!» и т. д. «Молчи, — скажи, — Царь идёт, Он это любит». Да, Он один и не ходит: это всё гости, которые всегда с Ним приходят, Его братья меньшие. А какая награда, кто примет Царя! А! «Елицы же прияша Его, даде им область чадом Божиим быти…» Рассуди ты. Ты был, по мирской-то переписи хоть мещанином например в каком-нибудь городе, или чем другим: тут тебе вдруг Царь предлагает быть Его сыном (к тому неси раб, но сын), да какого Царя-то? Небесного. Так если б так-то случилось, братие, чтоб вы расположились Его принять, как прилично Его чести, тогда если бы волхвы пришли и стали расспрашивать: «где Христос рождается?» я бы указал им: «да вот где, вот! в этих благочестивых сердцах!» Аминь!»66. Эта проповедь лучше всех посторонних комментариев характеризует священника. «Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 11, 15).
С о. Матфеем Гоголя познакомил граф А.П.Толстой, с которым и вообще особою судьбою был связан Гоголь: не имевший своего угла писатель часто останавливался, приезжая в Москву, в доме Толстого, там же завершился и жизненный путь его. Толстой был и одним из главных адресатов «Выбранных мест…» Религиозная серьёзность, нравственная чистота Толстого привлекала к нему Гоголя — их знакомство длилось более десяти лет. Одно время Толстой занимал должность губернатора в Твери, а поскольку Ржев, где совершал своё пастырское служение о. Матфей, находится на Тверской земле, то встреча их не могла не состояться, а затем отношения стали более близкими. При посредстве Толстого с о. Матфеем сблизился и Гоголь — в 1848 году.
Гоголь с духовной серьёзностью принимал наставления священника: его он решил, представляется несомненным, сделать судиёю своего писательского дела, как бы вверить ему свою судьбу в деле художественного творчества. О.Матфей был наставником строгим: многое у Гоголя порицал (в частности — «Выбранные места…»). Именно ему давал для прочтения автор отдельные главы второго тома «Мёртвых душ». Существует предположение, что священник велел полностью уничтожить весь труд. На это в своё время возразил сам о. Матфей: «Неправда, и неправда… Гоголь имел обыкновение сжигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстановлять их в лучшем виде. Дело было так: Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей… Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены были такие черты, которых <…> по мне нет, да к тому же ещё с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить»67.
Примечательно: желая дать светлый образ, противостоявший всем мерзостям жизни, Гоголь решил взять за его основу личность о. Матфея. Но настораживают эти «католические оттенки»… Неизжитое свойство гоголевской религиозности? Скорее можно предположить особую эмоциональность, экзальтированность персонажа, что гоголевской манере было свойственно, иных «оттенков» быть не могло в ту пору. Последняя встреча Гоголя и о. Матфея состоялась за две недели до смерти писателя. Чему была посвящена их беседа? Известно, что Гоголь неприятием встретил какие-то слова священника и даже оскорбил (его собственное признание в письме о. Матфею) того своими возражениями. Разговор произошёл при расставании: о. Матфей уезжал из Москвы. На другой день, 6 февраля 1852 года, вослед ему было отправлено письмо: «…Милость Божия чьими-то молитвами посетила и меня жестокосердного, и сердцу моему захотелось вас благодарить крепко, так крепко, но об этом что говорить?..» (9, 510). Подпись — знаменательна: «Обязанный вам вечною благодарностью и здесь и за гробом весь ваш Николай» (9, 510).
Для гроба того уже и доски были готовы.
За что благодарил Гоголь духовного своего наставника? Мы никогда не узнаем. Но именно после этого разговора вскоре — Гоголь уничтожил созданные главы «Мёртвых душ». О.Матфей последние дни Гоголя так объяснял (в разговоре с Т.Филипповым): «Он искал умиротворения и внутреннего очищения… В нём была внутренняя нечистота… Нечистота была, и он старался избавиться от ней, но не мог. Я помог ему очиститься, и он умер истинным христианином… С ним повторилось обыкновенное явление русской жизни. Наша русская жизнь немало имеет примеров того, что сильные натуры, наскучивши суетой мирской или находя себя неспособными к прежней широкой деятельности, покидали всё и уходили в монастырь искать внутреннего умиротворения и очищения своей совести. Так было и с Гоголем. Что же тут худого, что я Гоголя сделал истинным христианином?»68. Сопоставим с этим суждением слова оптинского иеромонаха Вифимия: «Трудно представить человеку непосвящённому всю бездну сердечного горя и муки, которую узрел под ногами своими Гоголь, когда вновь открылись затуманенные его духовные очи, и он ясно, лицом к лицу, увидал, что бездна эта выкопана его собственными руками, что в неё уже погружены многие, им, его дарованием соблазнённые люди и что сам он стремится в ту же бездну, очертя свою бедную голову… Кто изобразит всю силу происшедшей отсюда душевной борьбы писателя и с самим собою, и с тем внутренним его врагом, который извратил божественный талант и направил его на свои разрушительные цели? Но борьба эта для Гоголя была победоносна, и он, насмерть израненный боец, с честью вышел из нее в царство незаходимого Света, искупив свой грех покаянием, злоречием мира и тесным соединением со спасающею Церковию»69.
Когда два духовно искушённых человека, не сговорившись, изрекают сходные мысли, хотя бы прислушаться к ним — должно. Мирское чувство заставляет нас сожалеть, что, занимаясь устроением собственной души, Гоголь обделил нас радостью эстетического восторга перед новыми его созданиями, из-за того не написанными. Но искупает всё радость надежды на спасение души его.
Издавна бытует версия о душевной болезни Гоголя в его последние дни. Это заблуждение проникло даже в «Настольную книгу священнослужителя» (в 8 том ее, изданный в 1989 г.). Такое мнение основано на недоразумении, на вымышленных фактах. Изыскания В.А.Воропаева, предпринятые в последнее время, убедительно утверждают: никаких признаков душевного расстройства Гоголь перед смертью не обнаружил70. Эти слухи есть продолжение давней сплетни, рождённой непониманием сложных внутренних движений при той тонкой душевной организации, какою отличался Гоголь, — они распространились ещё при жизни его. (Не выдерживает критики и утверждение, будто писатель был заживо погребён, погружённый в летаргию). Высказано было в недавнее время мнение, основанное на некоторых фактах медицинского свойства, что Гоголь стал жертвою неумелого лечения приглашенных к нему докторов. Вряд ли загадка будет когда-нибудь окончательно разрешена. Ясно одно: конец жизненного пути зависел прежде всего от причин духовных, когда «естества чин» не является определяющим. Совершилось должное совершиться. А если не всё нам остаётся понятным, так на то и несовершенен наш разум.
Ни одному биографу не избежать теперь упоминания о предсмертных словах Гоголя: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!»71. При этом не избежать и вспомнить о том, что «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника была любимою книгою Гоголя.
Но вспоминаются также и предсмертные слова Пушкина:
«Ну поднимай же меня, пойдём, да выше, выше… ну, пойдём!»72.
Какое разительное совпадение! И как совпадают описания того, что было отпечатлено на лицах Пушкина и Гоголя в первые минуты смерти. Правда, о Пушкине писал Жуковский, а о Гоголе не столь совершенный во владении словом, менее чуткий духовно доктор Тарасенков, — но с поправкой на это обстоятельство следует признать, что оба свидетельства — тождественны.
Жуковский: «Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нём в эту первую минуту смерти. <…> Какая-то глубокая, удивительная мысль на нём развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание»73.
Тарасенков: «Долго глядел я на умершего: мне казалось, что лицо его выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль, унесённую в гроб»74.
Глава 7. Русская литература середины XIX столетия
В середине XIX столетия в русской литературе завершилась смена основных принципов отображения жизни, утвердился реализм.
Сменилось в некоторой степени и само понимание просвещённым человеком окружающего мира, а также и осмысление им задач искусства. Прежде, какое бы направление ни преобладало, художник накладывал на реальность определенную мировоззренческую схему, то ли в самом искусстве, то ли вне его выработанную. Оттого реальность переставала быть истинной реальностью, но трансформировалась в некую фантазию, почти полностью зависимую от произволения автора, который также не был свободен: его образное мышление жёстко подчинялось заданным схемам.
Всякого художника, стремящегося к полноте эстетического творчества, неизменно влечёт свобода, желание избавиться от установленных над ним схем и канонов. Такое стремление не всегда плодотворно и благодатно: иконописцы Святой Руси были ограничены весьма жёсткими канонами, однако именно отказ от них привёл к оскудению «умозрения в красках». Также и в искусстве нового времени абсолютизация принципа не ограниченной ничем свободы творчества ведёт к деградации художественного постижения бытия. Но в первой половине XIX века до обозначившихся позднее интенций было ещё далеко, высвобождение эстетического воображения представлялось несомненно плодотворным, да таковым и было в реальной художественной практике эпохи.
1. Достоинства, опасности и соблазны реализма как эстетического метода
Тяготение к творческой свободе (в полноте никогда не достигаемой, должно признать) стало катализатором в процессе переориентации художественного сознания деятелей искусства, прежде всего литераторов. Литература в XIX веке вообще становится движущей и ведущей силою во всей русской художественной культуре. Реализм был внедрён в искусство начальными усилиями литературного мышления. Другим побудительным толчком к установлению реалистического типа творчества стал крах революционно — романтических идеалов в начале века — об этом говорили многие исследователи, но никто не отметил, что в несостоятельности романтизма сказались: не только ограниченность одной из эстетических схем, но и крушение связанного с романтизмом мировоззрения, и главное — несостоятельность богоборческого соблазна, мертвящего и разрушительного для внутренней жизни человека. Недаром ведь первые русские реалисты (Пушкин, Гоголь, Лермонтов) прошли через романтические увлечения в раннем творчестве — и отвергли их, каждый по-своему одолевая искус (равно как и основоположник реализма в европейской литературе, Бальзак). От гордынного самообособления просвещённый человек должен был обратиться к Богу, к призыванию Его помощи. Хотя для многих это оказалось не столь и простым деянием. Основоположником реализма — не устыдимся вновь повторить общеизвестное — стал Пушкин. И стал он реалистом именно тогда, когда проникся сознанием своего пророческого служения. Важно понять: возникновение реализма несет в себе, как и всё в искусстве, религиозный смысл, не обязательно осознаваемый самим художником, равно как и теми, на чьё восприятие искусство ориентировано.
Признать это не все готовы, поскольку само обращение к Творцу не для всех оказалось приемлемым, а для иных и неподсильным. Но не зря же Гоголь искал «незримую ступень» к христианству — требуя от искусства исполнить такое предназначение. От искусства ждали пророческого служения — и ожидание отозвалось в русской литературе: становлением реалистического видения мира и человека. Пророчество может осуществлять себя в различных формах и проявлениях. В России пророком часто становится художник. Задумываясь над смыслом собственного бытия, человек неизбежно, каждый в свой срок, задаёт себе вопрос, который с давних пор называют русским, ибо русское сознание настойчивее билось над этим: что делать? Евангельская проповедь прямо начинается с ответа на этот вопрос: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит — Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 1–2). «С того времени Иисус стал проповедовать и говорить — Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17). Но испорченному просветительскими идеями, соблазнённому рационалистическим искушением человеку XIX века уже не хватало благодатной простоты, в которой воспринимают слово Божие люди, не имеющие подобного опыта. Человеку нового времени нужно было многое поверить собственным разумом, нужно было исследовать бытие индивидуальное и общественное, исследовать, как его к тому приучило привитое ему научное мышление. Да и всякому человеку для покаяния необходимо нужно в смирении познать свой грех. Нужно изучить жизнь, свою и всеобщую. Искусство может стать действенным средством такого познания. Но для изучения необходимо наблюдать жизнь реальную, не искажённую никакими схемами. Реализм становится, в известном смысле, методом научного познания реальной действительности. Недаром же классик марксизма утверждал, что чтение Бальзака дало ему более материала для понимания буржуазного общественно-экономического строя, нежели многие специальные научные труды. И недаром Эйнштейн парадоксально признавался, что в открытии теории относительности значительною оказалась помощь далекого от естественных и точных наук Достоевского. Вот свидетельства, пренебречь которыми невозможно.
В 40-е годы XIX века в русской литературе возникло направление, обозначенное как «натуральная школа». Термин предложил Ф.Булгарин, вложивший в такое название заметную долю пренебрежения. Белинский подхватил определение, но уже в значении положительном, объявивши следование натуре достоинством писателей, им идейно опекаемых. «Натуральная школа» испытала сильное влияние творческой манеры и некоторых художественных открытий Гоголя. В понимании многих писателей, к этой школе принадлежавших, — Гоголь явился великим новатором, когда показал, что описание столь незначительного события, как приобретение бедным чиновником новой шинели, может стать важным и интересным, может выявить и поможет осмыслить глубочайшие проблемы человеческого существования. Недаром один из писателей «натуральной школы» произнес знаменательную фразу: «Все мы вышли из гоголевской Шинели». И впрямь: никакому из прежних литераторов — ни классицисту, ни сентименталисту, ни романтику — такая тема не могла бы показаться предметом, достойным эстетического внимания. Разумеется, значение «Шинели», как мы знаем, этим не исчерпывается, но вступающие в литературу молодые писатели вовсе и не могут сразу охватить достижения любого своего великого предшественника в их единстве и полноте: чаще становится предметом подражания то, что заметнее, очевиднее, лежит на поверхности. К.С.Аксаков справедливо замечал: «Долго балы с соответственными княжнами и графами изображались пером наших писателей. Потом, после того, как гениальный художник указал с горьким смехом на действительность русской жизни, возникла так называемая натуральная школа, задающая себе задачею быть естественною, натуральною и оттого принявшая это наименование. Иные говорят, что она создана Гоголем: нет, она возникла вследствие ложного понимания художественного гения, вследствие усвоения себе внешних его приемов, но не идеи и, конечно, не таланта великого художника»75.
Тем не менее именно от Гоголя восприняли современники, хотели они того или нет, важнейшую идею: преодолеть незнание России.
«Жизнь нужно показать человеку, — жизнь, взятую под углом её нынешних запутанностей, а не прежних, — жизнь, оглянутую не поверхностным взглядом светского человека, но взвешенную и оценённою таким оценщиком, который взглянул на неё высшим взглядом христианина. Велико незнанье России посреди России» (6, 91), — так писал Гоголь в «Выбранных местах…», и на долгие времена обозначил перед литературою русскою смысл её бытия: религиозное познание России, православной жизни народа. Хотели того наследники или нет, а завету этому, часто и помимо сознательной воли, следовали. «Натуральная школа» стала начальным этапом развития реалистического направления в русской литературе, когда ученики лишь осваивали новый материал, вырабатывали приёмы письма, а до совершенства им было ещё далеко. Не сознавали они и самого религиозного смысла того дела, за какое взялись. Вначале они прежде всего принялись за освоение новых тем, прежде не характерных для русской литературы. Быт, нравы, характеры, события из жизни низших сословий стали объектом писательского исследования в произведениях «натуральщиков». Ведущим жанром «натуральной школы» стал так называемый «физиологический очерк» (в значении — естественный, правдивый, исследовательский, а не в медицинском смысле, разумеется). Очерк строился преимущественно на точном «фотографическом» воспроизведении быта различных сословий. Молодые реалисты, может быть, подсознательно ощутили, что при утверждении неожиданных и для многих спорных истин обращение к документальной достоверности покажется убедительнее вымысла. Вымысел может вызвать подозрение в неистинности и в искажении действительности. Фотография же воспринимается как документ, с которым нельзя спорить. Позднее, когда материал освоен, надобность в непременной фотографической достоверности отпадает сама собою.
К «натуральной школе» примыкали в той или иной степени Некрасов, Григорович, Салтыков-Щедрин, Герцен, Достоевский, Островский, Тургенев, Гончаров, Панаев, Дружинин и другие писатели — весь цвет русской литературы того времени, постепенно набиравший силу и обретавший мало-помалу художественное совершенство. Писателям-натуральникам нужно было объединиться вокруг какого-то общего литературного дела, сборника, альманаха, им необходим был свой печатный орган. В 1845 году вышли две части сборника «Физиология Петербурга» (само название как бы демонстративно обозначило «научно-исследовательский» подход авторов к жизни, от него же пошло и определение ведущего жанра той поры) — «натуральная школа» громко заявила о себе. Среди авторов сборника — Белинский, Некрасов, Панаев, Григорович, Гребёнка… С 1847 года бывший пушкинский журнал «Современник», откупленный у Плетнёва Некрасовым и Панаевым, становится (как это принято называть) рупором нового направления.
Это краткое припоминание общеизвестных фактов подводит наше внимание к проблеме, весьма важной для уяснения дальнейшего развития русской литературы, её взлетов и падений. Реализм как эстетический метод, как тип творчества — с самого начала укрывал в себе противоречия, слишком опасные для всякого художника: каждая особенность реалистического отображения бытия может очень легко обернуться такою своею гранью, когда достоинство превращается в изъян, даже порок, и то, что обещало как будто творческую победу, может обречь на поражение. Реализм с самого своего начала нёс в себе имманентно присущие ему основы собственного упадка и даже разложения. И дело не только в неизбежно ожидающей всех художников усталости формы, приходящей со временем, но: в неверности самого метода при безрелигиозном осмыслении его особенностей и приёмов. Реализм из явления искусства легко может превратиться в реальность антиискусства. Впрочем, так можно сказать едва ли не обо всех сущностях эстетического бытия человеческой души — теперь же важно понять слабые стороны именно реалистического типа художественного творчества. Изначальное внимание реализма к социальной стороне жизни особенно настойчиво эксплуатировалось литераторами революционно-демократической ориентации — и позднее на этом уровне реализм выродился в соцреализм, ибо само революционное стремление обрекало многих на тяготение хотя бы к начаткам марксистской идеологии: ведь марксизм (повторим общеизвестное) социальный момент абсолютизировал, выводя всё развитие истории из классовой борьбы. Внимание революционеров к социальной стороне народной жизни понятно: из многих внешних обстоятельств бытия coциальному принадлежит не последнее место, отрицать его влияние нельзя. Революционеры же, объясняя причину всех зол на земле исключительно особенностями формы, в которую изливалась народная и индивидуальная жизнь, не могли отказаться от попыток на эту форму воздействовать. Но чтобы это осуществить, форму, особенно ее социальное своеобразие, необходимо пристально исследовать. Революционные демократы видели в реалистической литературе важный и действенный инструмент такого исследования.
Итак, какие бы тому не обретались причины у того или иного писателя, все они обращались к художественному исследованию бытия. И разумеется: чтобы истинно познать жизнь, необходимо отобразить её в формах самой жизни, а не в абстрактных, оторванных от действительности нереальных романтических ситуациях, рациональных построениях классицизма или в сентиментальных пасторалях. Так естественно возникает требование того самого правдоподобия, какое обычно принимается за первый и важнейший признак реализма. Литературный критик М.Щеглов в своё время верно отметил: «Фактически реализм начинается тогда, когда мы обнаруживаем в произведении искусства черты сходства с тем, что нас окружает, что мы знаем, что доступно нашим переживаниям.
Исторически это было именно так»76.
Но такое восприятие может приблизить реализм к понятию натурализма — в широком смысле — и обречь искусство на рабское копирование, фотографирование действительности (в чём упрекал К.Аксаков первых натуральников). Важно и то, что правдоподобие в жизни и правдоподобие в искусстве парадоксально не совпадают: нетворчески перенесённый в произведение искусства обыденный факт реальности часто воспринимается как совершенно нереальный, неправдоподобный, надуманный, неестественный. Это наблюдается даже во внешних событийных формах. Психологическое правдоподобие характера, эстетическое правдоподобие образа от жизненного отличается ещё более. Реалистическое правдоподобие обманчиво. Чтобы понять это, достаточно вспомнить три классицистических единства (по крайней мере, два из них — времени и места), которые воспринимаются с позиции реализма как условности, и притом несколько нелепые, — на деле же они для того и предназначены, чтобы воплотить в произведении наиболее полно тот самый принцип правдоподобия. И как это ни странно, но отказавшись от условности трёх единств, наше реалистическое искусство стало внешне менее правдоподобным, более условным. Ведь, разумеется, правдоподобнее, к примеру, если в три часа сценического времени уложатся не целых двадцать лет (как может случиться в реалистических произведениях), а лишь три часа реальной жизни (как того требует в идеале принцип единства времени). Зато теряется эстетическое правдоподобие, когда события длительного периода в угоду требованию единства времени спрессовываются в ограниченный промежуток, не должный превышать одни сутки.
Кроме того, принцип правдоподобия, создания полной иллюзии жизни никогда не был обязательной принадлежностью произведения искусства. Никогда не может он быть целью искусства вообще. Искусство вообще можно рассматривать как определённую систему условностей, выражающих способ эстетического отображения бытия. Само реалистическое правдоподобие — не более чем одно из проявлений условного восприятия мира. В реализме допустимо и нарушение фотографического следования реалиям жизни: он порою использует элементы фантастического неправдоподобия, и продолжает оставаться реализмом. Хотя сам этот приём используется не слишком часто, ибо требует от мастера совершенного владения образным художественным языком. Напрашивающийся пример — повесть Гоголя «Нос»; да и гиперболизированные типы помещиков в «Мертвых душах» почти вплотную приближаются к такой условной системе образности.
Задача правдиво показать и исследовать жизнь во всей её полноте — определяет в реализме и безграничность приёмов отображения действительности, и неограниченность предмета изображения. Всё в жизни начинает сознаваться достойным эстетического осмысления. Ни один из предшествующих типов творчества такого отсутствия ограничений не знал. И впрямь: кому прежде был интересен жалкий чиновник, слишком ничтожный со своей шинелишкой, чтобы быть воспетым в оде, стать героем высокой трагедии, оказаться источником сентиментальных воздыханий или обнаружить в себе необузданные романтические страсти? Теперь художника могут сдерживать либо масштабы его дарования, либо сама степень выработанности художественных приёмов в конкретный период развития искусства. Конечно, речь идёт именно о возможностях реалистического типа творчества, а не об обязательном использовании всего арсенала средств искусства в каждом конкретном произведении. Но сам принцип утаивает в себе серьезную опасность для творчества, допустимость его деградации. Ибо теперь любому художнику открывается путь ко вседозволенности эстетического воображения. Сдерживать его может лишь нравственное, а ещё вернее — религиозное чувство. Иначе эманации любого бездуховного состояния смогут оказаться запечатлёнными в совершенном по воплощению произведении — и история искусства готова предоставить немало тому подтверждений, начиная с эпохи «серебряного века» русской культуры (начало XX в.) и далее.
При этом всегда сыщутся теоретики, которые будут оправдывать эстетизацию любого извращения, любого душевного вывиха: ведь и их существование объективно, а значит и они имеют право на существование в искусстве. Ограничить этот безудерж отчасти способна одна весьма существенная особенность реалистического искусства, к тому призванная: типизация характеров и обстоятельств, которую обессмертил Энгельс в своём зацитированном до дыр суждении о реализме: «Реализм помимо правдивости деталей предполагает правдивое изображение типических характеров в типичных обстоятельствах»77. Заметим, что Энгельс вовсе не называет типизацию главною, но лишь необходимою особенностью реализма.
Tипизация и связанный с нею отбор деталей, событий, обстоятельств и черт характера вытекает всё из той же задачи изучения жизни, ибо это изучение осуществляется посредством анализа самых характерных, типичных, жизненных проявлений. Об этом точно сказал Л.Н.Толстой: «Задача художника <…> извлечь из действительности типичное, <…> собрать идеи, факты, противоречия в динамический образ. Человек, скажем, за свой рабочий день говорит одну фразу, характерную для его сущности, другую он скажет через неделю, а третью через год. Вы заставляете его говорить в концентрированной обстановке. Это вымысел, но такой, в котором жизнь более реальна, чем сама жизнь»78. Жизнь более реальна, чем жизнь — не более правдоподобна, но более реальна, то есть не более похожа на повседневную действительность, а более соответствует задаче изучения жизни, более соотносится с реализмом, чем с обыденной жизнью (и это ещё раз указывает на условность реалистического правдоподобия). Смысл типизации характеров точно раскрыл Гоголь, приводя в пример своего Хлестакова: «Что такое, если разобрать в самом деле, Хлестаков? Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми. Выставить эти качества в людях, которые не лишены, между прочим, хороших достоинств, было бы грехом со стороны писателя, ибо он тем поднял бы их на всеобщий смех. Лучше пусть всякий отыщет частицу себя в этой роли и в то же время осмотрится вокруг без боязни и страха, чтобы не указал кто-нибудь на него пальцем и не назвал бы по имени, словом, это лицо должно быть тип многого разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается и в натуре. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но, натурально, в этом не хочет только признаться; он любит даже и посмеяться над этим фактом, но только, конечно, в коже другого, а не в собственной. И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым. Словом, редко кто им не будет хоть раз в жизни, — дело только в том, что вслед за тем очень ловко повернётся, и как будто бы и не он» (4, 285).
При недостаточности художественного мастерства у писателя в его произведении становится особенно заметным, что типизация, основанная на отборе, то есть ограничении волею художника эстетизируемого материала, приводит нередко к упрощению отображаемой жизни. Закон всегда беднее явления. Любой живой человек полнокровнее, нежели тип, тяготеющий к выявлению закономерностей бытия, характерных черт того же самого человека. Но это на уровне житейском. На эстетическом уровне самый типический образ богаче и выразительнее отображённого явления. Еще один парадокс искусства. В попытке как можно глубже исследовать жизнь реализм не может не желать полноты объективного её отражения. Реализм сознаёт объективность своей целью, гордится собственной объективностью. «Художник должен быть не судьёю своих персонажей и того, о чём говорят они, а только беспристрастным свидетелем. Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и должен передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, т. е. читатели. Моё дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком»79, — писал Чехов Суворину, и это суждение писателя считается своего рода эталонным при всяком разговоре об объективности искусства. Объективность существования некоторых закономерностей бытия, независимых от воли автора, делает и сам предмет изображения как бы защищённым от её произвола. Писатель теряет власть над своими созданиями, они начинают действовать по законам самостоятельно развивающейся жизни. При всём сочувствии своей героине, Пушкин имеет возможность лишь следить за судьбой Татьяны, но не властен остановить ее действия. «Погибнешь, милая!» — хочется автору предупредить один из роковых поступков героини, но она всё же руководствуется собственными стремлениями, а не мудрыми подсказками своего создателя. И Пушкин же через некоторое время удивляется неожиданной для него самого судьбе повзрослевшей Татьяны: её замужеству.
Обдумывая сюжет романа «Воскресение», Толстой поначалу решает женить Нехлюдова на соблазнённой им Катюше, но логика изображаемых характеров противится тому, и писатель сообщает Софье Андреевне независимый от него итог: «Он на ней не женится!».
И.А.Ильин высказал интересное суждение по этому поводу: «Автор перевоплощается и исчезает; его нет; он растворился в образе, переплавился в нём; вливая в него все свои особенности, он перечеканивал их в чистое, законченное бытие самого героя. Герой, может быть, и чувствует так, как свойственно самому автору, может быть, думает и поступает подобно ему; но он стал самостоятельным, законченным организмом, художественно объективной величиной»80.
Объективное развитие творящейся (и как бы самотворящейся) жизни заставляет художника делать порою некоторые выводы, противоречащие его собственному мировоззрению — новый парадокс реалистического искусства. По поводу одной из коллизий романа «Дворянское гнездо» Тургенев признавался: «Я — коренной, неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не скрываю; однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина (в «Дворянском гнезде») все комические и пошлые стороны западничества; я заставил славянофила Лаврецкого «разбить его на всех пунктах». Почему я это сделал — я, считавший славянофильское учение ложным и бесплодным? Потому что в данном случае — таким именно образом, по моим понятиям, сложилась жизнь, а я прежде всего хотел быть искренним и правдивым»81.
Но вот не пройти бы мимо этой важной оговорки: по моим понятиям. А ведь и Чехов, в ранее цитированном суждении, писал о необходимости отличать важное от не важного. Да кто же станет отличать?.. Нет, никуда не уйти автору от органической субъективности искусства. Сам принцип отбора делает любой реализм насквозь субъективным. Изображая одно и то же явление жизни, разные художники, сообразуясь со своим пониманием бытия, с собственным мировидением, так отберут на свой вкус детали и подробности изображённого явления, что созданные образы могут оказаться вовсе не похожими, хотя и создавались с одного образца. Принцип отбора позволяет художнику и весьма произвольно искажать реальность, навязывая окружающим собственный однобокий взгляд на мир. Можно отбирать одни лишь идеальные проявления бытия, даже исключения превращая в правило, но можно же и находить в жизни и отображать в своих творениях лишь мрачные стороны действительности, непоправимо заражая слишком восприимчивых читателей безнадёжным пессимизмом. Объективный взгляд на мир редок, художник всегда субъективен. Как найти верную меру соотношения доброго и дурного в мире? То вряд ли возможно. У каждого мера своя. Это придаёт жизненность и полнокровность самому искусству, обогащает эстетическое постижение действительности. Иначе все произведения, все образы оказались бы удручающе однообразными, изготовленными на одну колодку. Важный закон восприятия искусства сформулировал Толстой:
«В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?» Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев — мы ищем и видим только душу самого художника. <…> И потому писатель, который не имеет ясного, определённого и нового взгляда на мир, и тем более тот, который считает, что этого даже не нужно, не может дать художественного произведения. Он может много и прекрасно писать, но художественного произведения не будет»82.
Что нового ты скажешь — то есть каков у тебя свой собственный (а значит, и субъективный) взгляд на мир? Искусство необходимо субъективно по природе своей. Но ведь в своих взглядах и выводах художник может опираться на совершенно ложные основания, на извращённые критерии, субъективно полагая их истинными. И реалистическое исследование жизни становится недостоверным в силу этой изначальной субъективности восприятия? Различного восприятия каждого из художников-исследователей.
Испытывая противоречивые чувства по отношению к открытому им же самим типу революционера-разночинца, Тургенев как бы останавливается перед вопросом о значении этих людей для судеб народа, скорее склоняясь к мысли об их ненужности России, и всё же не даёт окончательного и определённого ответа, колеблется («Отцы и дети»), Чернышевский не сомневается ни на миг: они «соль соли земли», без них жизнь обречена на вырождение («Что делать?»). Достоевский также далек от колебаний: революционеры несут народу бесовское наваждение, они — губительное для мира начало («Бесы»).
Где истина?
Человек только тогда истинно познаёт собственное бытие, когда станет поверять выводы своего несовершенного средства познания (разума) и неполного ограниченного опыта откровениями Божественной мудрости. В Православии, несущем в себе полноту Истины, обретаются единственно истиные критерии оценки всех явлений окружающей нас жизни. Единственный (из трёх названных писателей), кто опирался на мудрость Евангелия, был Достоевский — и его пророческой прозорливости не перестают удивляться все, кто соприкасается с нею.
Насколько пагубно пренебрежение словом Божиим, обнаруживает судьба такого могучего художника, каким был Лев Толстой. И вот ещё один парадокс: свои кощунства над таинством Евхаристии (в романе «Воскресение») он облекает в форму подчёркнутой отстранённости от предмета изображения, предельной объективности описания — и остаётся субъективным беспредельно. И обнаруживает ложность своего постижения жизни — в том, что оказалось недоступным его восприятию, при всей его гениальности и всепроникающей силе его художественного мышления и эстетического восприятия. Толстой уподобил себя глухому, вознамерившемуся описать игру симфонического оркестра: всё видимое им он передаёт объективно точно, но его восприятие не перестаёт быть от того ущербным, ибо в его описании не будет сущностного — неуслышанной им музыки. Толстой видит совершаемое таинство, но не воспринимает духовного его смысла. И объективность оказывается мнимой. Самый крайний и последовательный реализм не способен преодолеть субъективности художника. Но наперекор всему любой последовательный реалист всё же стремится к полноте объективной — и в этом стремлении не может не заметить и не отобразить изменчивости жизни, текучести бытия, его развития во времени. А для того он должен исследовать и показать сложную систему причинно-следственных связей, к такому развитию принуждающих всякое жизненное явление, всякий характер человеческий.
«Недуг, которому причину давно бы отыскать пора…» — сообщает Пушкин о важной цели своего художественного исследования — и именно поиску причин «недуга» посвящает значительную его часть (а всю первую главу «Евгения Онегина» — несомненно). Отсутствие ясных мотивировок формирования характера князя Валковского в романе Достоевского «Униженные и оскорблённые» Добролюбов относит к художественным просчётам автора: «Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и волнует серьёзно? Чего он боится и чему, наконец, верит? А если ничему не верит, если у него душа совсем вынута, то каким образом и при каких посредствах произошел этот любопытный процесс? <…> Мы знаем, например, как Чичиков и Плюшкин дошли до своего настоящего характера, даже знаем отчасти, как обленился Илья Ильич Обломов»83.
И вообще исследование жизни часто есть преимущественное исследование причинно-следственных связей в развитии любого явления и характера. Эта особенность исключительно реалистического типа творчества определяется как принцип детерминизма при отображении жизни. «Существенная черта реалистического метода, — отметил один из теоретиков советского литературоведения С.М.Петров, — изображение жизни и личности человека в обусловленности и причинной зависимости как от его собственного внутреннего мира, его субъекта, так и от окружающей его объективной действительности, то, что мы определили как принцип социального и психологического детерминизма»84.
Писателей-нереалистов проблема выработки характеров не интересовала, в лучшем случае находилась на периферии их эстетических интересов. Классицист, сентименталист, романтик имели дело с заданными индивидуальностями, cooтветствовавшими чётким художественным схемам и идеологическим установкам, и погружали их в родственную выбранным характерам ситуацию. Сложившиеся вне художественного пространства произведения натуры его героев не могли в ходе развития событий ни изменяться, ни обнаруживать в себе противоречивые стремления, ни даже обладать значительным многообразием черт характера. Стародум никогда не сможет усомниться в просветительских своих идеалах; госпожа Простакова не отречётся от собственного невежества; Мцыри в голову не придёт мысль, что счастье возможно вне бурь, тревог и битв; Данко самой романтической системою осуждён на неизбежную жертву во имя своей любви к людям; Уж обречён на тёплое и сырое ущелье, а Сокол на стремление к небу; бедная Лиза не в силах избежать сентиментальной любви, страданий и трагической гибели. И никому в голову не придёт, например, вопрос: а почему Данко так любил людей? Да так ему положено по романтическим канонам.
Исследуя причины, влияющие на развитие человеческих судеб, писатели религиозно глубокие стремились высветить прежде всего психологические и духовные основы в каждом характере. Революционные демократы, напротив, требовали едва ли не исключительного социального анализа действительности, и самоё психологию человека пытаясь объяснить обстоятельствами и условиями окружающего бытия. Оттого и Добролюбов упрекал Достоевского: критику требовались социальные мотивировки прежде всего, писатель же психологию характepa не связывал прямо с таким требованием. Абсолютизация социального детерминизма, которою грешили революционные демократы, имеет философское обоснование.
Уже цитированный несколько ранее С.М.Петров пишет об этом так:
«В эпоху Возрождения полагали, что человеку от природы присущи те или иные свойства и качества. Так рассуждал, например, Рабле, рассказывая о добродетельных обитателях Телемского аббатства. Естественно, что и перед литературой не стояла проблема возникновения и изменения характера и человека. Но вот Локк доказывает, что у человека нет прирождённых чувств, идей, качеств характера, что он рождается tabula rasa, и тем, чем ни становится, человека делает опыт жизни, и, прежде всего, воспитание. Это великое открытие передовой мысли не могло не оказать громадного влияния и на метод художественного изображения человека. Английский реалистический роман XVIII века обстоятельно повествует о том, как условия воспитания и общественной среды создают человека»85.
Позволительно усомниться, что английский философ Локк (1632–1704) сделал именно открытие, — хотя этой идеей живёт и действует всё прогрессивное человечество до сей поры. Как мы помним, настойчивее других внедрял подобные взгляды в просвещённое сознание — Руссо. Революционные демократы на том строили все свои теории. И впрямь: если человек есть чистая доскa, на которой внешние обстоятельства оставляют свои письмена, то надо лишь добиться, чтобы благоприятные обстоятельства запечатлевали в душах благие начертания. Да ведь и Маркс о том же твердил: философы объясняют мир, проблема же в том, чтобы его изменить. Революция с целью установить благоприятные внешние обстоятельства — по такой логике необходима. Всё как видим, вращается вокруг одних и тех же проблем, о которых говорилось здесь и прежде. Нового добавилось лишь то, что к делу революционной борьбы приверженцы идеи внешних изменений попытались, не без успеха, приспособить вновь появившееся направление в искусстве — реализм.
Всякий православный человек должен помнить святоотеческую мудрость о том, что душа по природе христианка. И не забывать также, что первозданное совершенство души замутнено первородным грехом. Борьба этих двух начал и составляет всю земную историю человечества. Она же и определяет судьбу каждого человека. Внешние обстоятельства могут влиять на состояние души, тянуть её к добру или злу, но окончательный выбор человек делает всегда сам, поскольку свобода выбора дана нам от Бога, а не от обстоятельств социального бытия. Человек не рождается tabula rasa— иначе всё было бы гораздо проще. Принцип детерминизма без религиозного осмысления проблемы несёт в себе основу ложного осмысления бытия. В развитии реализма возникали порою тенденции абсолютизировать детерминизм, приводившие к механистическому его толкованию. При этом случайное начинало восприниматься на уровне необходимого. Все внешние причины, определявшие поведение человека, рассматривались в одном ряду, как равнозначные. Такое понимание детерминизма низводит реализм до примитивного натурализма. Характерный пример наблюдаем мы в творчестве Золя, который невероятно усложнил систему мотивировок. По Золя, если в твоем роду не все благополучно с предками, то жёсткая наследственность ограничивает твою жизнь такими рамками, выйти за которые не в твоей власти. Абсолютизированный детерминизм полностью лишает человека свободы, опутывая жизнь прочными цепями причинно-следственных связей.
Это же проявлялось, как увидим, и в русской литературе, особенно в конце XIX— начале XX века. Иными русскими литераторами и читателями было как бы принято на веру празднословие Печорина, пытавшегося свалить вину за все свои пороки на какие угодно воздействия извне — в известном монологе перед княжною: «Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве; я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен…» и т. д. Исследованию подобных воздействий посвятило свои художественные произведения немалое число писателей.
Порочность абсолютизированного детерминизма отражается в том вреде, который этот принцип несёт душе пытающегося осознать себя и мир человека. Детерминизм подсказывает заранее неверный ответ на всё тот же «русский» вопрос: кто виноват? Впервые, как мы знаем, этот вопрос ясно поставил Герцен, вынеся его в название своего романа. Идею произведения точно и кратко сформулировал А.Григорьев: отвечая на поставленный вопрос, автор романа не оставляет сомнения, «что никто ни в чем ни виноват, что всё условлено предшествующими данными и что эти данные опутывают человека так, что ему нет из них выхода. <…> Это ясно стремится доказывать вся современная литература, это явно и ясно высказано в «Кто виноват?»86. С души человека вина снимается. Отбрасывая всякую мысль о необходимости борьбы с собственной душевной греховностью, атеист Герцен тем утверждает свою идею бессмысленности покаяния и неизбежности борьбы за изменение внешних пагубных условий общественного бытия (то есть идею необходимости революции).
Должно напомнить, что христианство вовсе не пренебрегает внешними обстоятельствами, в которых суждено пребывать душе человека. Так, остерегая нас от соблазна лжепророчеств (Мф. 7, 15), Спаситель тем и предупреждает об опасности сторонних влияний. То же имеет в виду и Апостол: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15, 33).
Нo христианство — это иерархия ценностей. Бытие «внутреннего человека» (Еф. 3, 14–19) для Православия несравненно важнее взаимодействия с внешними условиями жизни — для делa спасения. Абсолютизированный принцип детерминизма ставит всё с ног на голову. Оттого и односторонне предвзят был Добролюбов к роману «Униженные и оскорблённые», ибо для Достоевского важнее было раскрыть внутреннюю, изначальную, ничем не обусловленную испорченность природы своего героя. Абсолютизированный детерминизм, повторимся, лишает человека свободы, ставит его в жёсткую зависимость от чего бы то ни было, подавляет волю, отнимает возможность сопротивляться любым обстоятельствам. Революционно-демократическая идеология выдвинула теорию «заедающей среды», не оставляющей человеку, по сути, никакого шанса на успешное противлениe этому «заеданию». Под «средой» же всё последовательнее понималась социальная ситуация, которой отдавался приоритет во всех истолкованиях, осмыслениях и предсказаниях событий. «Заедающая среда» подменила собою тот всевластный рок, под знаком которого жило античное языческое общество. Революционные демократы — типичные неоязычники, при всём их убеждённом атеизме.
Одним из проявлений принципа детерминизма становится в реалистическом типе творчества— историзм художественного мышления — изображение человека и общества в соответствии с духом времени, с особенностями исторической эпохи. Индивидуальность рассматривается как порождение истории, влияющей на судьбы общества, нации, человечества. Человек несомненно испытывает «давление времени». Внимание к конкретности исторической эпохи — сущностно важная особенность любого реалистического видения мира. Недаром же ещё Белинский назвал пушкинский роман в стихах «исторической поэмою».
При религиозном взгляде на мир человек в конкретно-историческом бытии видит, старается угадать своеобразное проявление универсальных законов, установленных Творцом. Высочайший пример — пушкинский «Борис Годунов». Взгляд безрелигиозный к тому не стремится, абсолютизируя исторические реалии как самодовлеющие, за частным отказывается видеть всеобщее, за деревьями не замечает леса. Нам ещё не раз придётся столкнуться с этим при разборе и оценке восприятия произведений отечественной литературы передовым общественным сознанием каждого конкретного времени. Вспомним школярскую трактовку характеров Онегина, Печорина или Обломова как неких «продуктов своего времени» и не более. При таком подходе легко, например, признать в бесах Достоевского лишь проявление слабости революционного видения на определённом этапе, воспринять бесовщину не как всеобщее, всеохватывающее свойство революционного бунтарства, но как естественное проявление временных и временных трудностей при становлении освободительного движения, частных недостатков, временем же и преодолеваемых. Детерминизм укрывает в себе ещё одно противоречие реалистического типа творчества: превращаясь сам в жёсткую порой схему, он помогает разорвать схемы иных художественных методов и даёт свободу для развития многосторонних характеров, обладающих одновременно противозначными свойствами. Сопутствующие формированию натуры обстоятельства могут вызывать в ней порою вовсе несходные между собой свойства, сосуществующие одновременно, но в различных обстоятельствах различно и проявляющиеся. Вчерашний храбрец сегодня может оказаться жалким трусом, жестокий скряга вдруг обнаружит щедрость и милосердие — и всё под влиянием меняющихся обстоятельств, приспосабливающих к себе человеческую жизнь. При несоблюдении меры это может привести к излишней размытости характеров.
Приступивши к исследованию действительности, реализм с самого начала вынужден был сделать вывод о существовании в ней многих и многих непривлекательных сторон. Собственно, это было известно и без реалистов, но они предприняли на новой основе эстетическое освоение истины, которую знает каждый христианин: «весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5, 19). Нo человеку-то потребен идеал, и он пытается отыскать его в окружающей реальности, а жизнь заставляет его тут же узреть противоречие между идеальным порывом и значительной трудностью обрести идеал в этой реальности. Дореалистические типы творчества позволяли художнику любой умозрительный идеал прямо проецировать на бытие, организовывая пространство любого произведения по канонической схеме — и никаких реальных проблем возникать поэтому не могло, в крайнем случае от них всегда можно было уклониться. Теперь же это становится невозможным, и отношение к действительности превращается порою в вынужденно критическое. Вначале это вовсе не отрицание жизни, а лишь критика, направленная на утверждение идеала. Реализм всё чаще начинают сознавать и определять как реализм критический. Ныне этот термин закрепился и относится едва ли не ко всему реалистическому направлению. Несомненно, он скрадывает богатство и разнообразие реалистического типа творчества. Однако вряд ли теперь возможен терминологический переворот в этой сфере, хотя некоторые попытки всё-таки предпринимались — безуспешно. Нужно лишь не забывать, что собственно критический реализм есть лишь часть широкого реалистического направления. В русской литературе он занял, впрочем, немалое пространство.
Критический пафос отображения жизни нередко диктовался самим типом эвдемонического стремления человека: мечты о счастье заставляли выискивать и изображать, в чём проявляется несчастье человеческой жизни. Всё усугублялось и внешними идеологическими установками — требованием бичевания пороков самодержавно-крепостнической системы. Ещё при самом зарождении направления Белинский поспешил придать «натуральной школе» обличительный пафос. А вот что писал другой революционный демократ, Добролюбов: «Надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху — для того, чтобы противно стало читателю всё это царство грязи, чтобы он, задетый за живое, вскочил и с азартом молвил: «Да что же, дескать, это за каторга, лучше пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше»87. Далее Добролюбову хотелось бы, без сомнения, чтобы возмущенный читатель взялся за топор — «к топору» эти люди и звали Русь. Но как выдаёт человека слово, хоть он сам о том и не подозревает подчас. Не душу, но душонку видит критик у своего читателя, и вовсе не скорбит о возможной её гибели: «лучше пропадай душонка»…
По сути, мастера критического реализма, если они последовательно его исповедовали, ставили перед собою нереальную задачу: единственно критическим отрицанием избыть то зло, в котором мир лежит. Так они уподоблялись — употребим банальное сравнение — тем воинам, что отсекая очередную голову дракона вынуждены с ужасом обнаруживать на месте отрубленной новые две.
Произведения критического реализма — и чем дальше, тем более — начинают наполняться пафосом пессимизма, безверия. Как будто нарочно отыскивались самые мрачные и безысходные проявления жизни. Подобное изучение, в какой-то степени отражающее истину, всё же слишком односторонне. Одна из причин этого крылась и в том, что исследование не исключало внимания к менее значительным проявлениям жизни, которые были интересны и сами по себе и в то же время могли оказать влияние на ход событий. Внимание к таким подробностям приводило к тому, что за частностями пропадало общее, терялся смысл происходящего. Частные выводы получали характер широких обобщений. Кроме того, обилие всякого рода фактов, подробностей важных и неважных, превращало систему мотивировок в некий хаос, выбраться из которого не представлялось возможности.
Абсолютизация детерминизма заставляла признавать существенным даже несущественное. Каждое обусловленное явление обволакивалось покровом достоверности и значительности, в результате это приводило к признанию якобы объективного существования зла, которое неизбежно, а порою и необходимо. Мир начинает казаться хаосом, а человек — частицей в хаосе. Отсюда вытекает стремление изображать жизнь такою, какова она есть в действительности (что считается основным требованием к реализму), но без попытки разобраться в жизненном хаосе, ибо это представляется заранее обречённым на провал. Рассматривать человека вне среды, вне системы мотивировок, вне влияния обстоятельств становится немыслимым и нежелательным — таково следствие ограниченного познания жизни. Механистически понимаемый детерминизм, повторим это, делает человека рабом обстоятельств. Но при этом многих привлекает, однако, то, что такое положение человека не только объясняется деспотией «среды», но также и оправдывается. Ответственность за всё перелагается на кого и на что угодно. Постепенно всё более укреплялась иллюзия, что внешние «заедающие» обстоятельства можно и нужно отбросить, вовсе не меняя при этом самого человека. Даже толстовское требование самосовершенствования такою идеологией объявлялось в итоге «реакционным»! — о Православии и говорить нечего. Подобные настроения (скажем, забегая вперед) стали одной из сущностных причин возникновения декаданса: одна из побочных тенденций критического реализма превратилась в основную задачу нового типа творчества. Можно сказать, что критический реализм последовательно вырождался — в отражение деградации жизни и человека, в проповедь пессимизма, в отрицание смысла жизни, в утверждение хаоса и лжи окружающего нас мира как его имманентных свойств, в воспевание уродливых проявлений бытия, в тщательные поиски самых отвратительных извращений.
Безнадёжность перед миром, признание бесполезности борьбы с грехом (и ненужности её) — грустный итог критического познания жизни — превращает человека в беспомощную жертву всеобщего хаоса и бессмыслицы. Опасность абсолютизации критического (а тем более сатирического) отображения бытия чувствовали сами писатели, соприкоснувшиеся в своём творчестве с пафосом отрицания и остро воспринявшие противоречивость такого пафоса. Чуткий Гоголь (вспомним), может быть, первым ощутил угрозу, таящуюся в искусстве критического отрицания. Позднее Тургенев о том же писал: «Но в отрицании, как в огне, есть истребляющая сила — и как удержать эту силу в границах, как указать ей, где именно остановиться, когда то, что она должна истребить, и то, что ей следует пощадить, часто слито и связано неразрывно»88.
Должно и важно высветить ещё одну причину критического пафоса отрицания, которое русский реализм обратил против российской действительности XIX столетия. Православие воспитало в душе русского человека стремление к покаянию, и это стремление оставалось живо даже у тех, кто отринул от себя мысль о Спасителе.
Сила покаяния, то есть признание своей сугубой греховности, была в русском сознании столь велика, что это породило на стороне иллюзию об особой, величайшей по сравнению с другими порочности русской жизни. Примером, до какой степени самообличения и самоуничижения может дойти у нас человек, стал Чаадаев (речь о нём впереди), обнаруживший собою поучительное противоречие между любовью к родине и крайним пределом отрицания хоть сколько-нибудь светлого начала в нашем национальном бытии. На русскую литературу указывают часто как на доказательство крайней беспросветности русской действительности. Но в литературе нашей просто больше тоски по духовному идеалу и недовольства человека собою — что контрастно оттенялось всегда западным самодовольством.
И всё же покаяние, если оно бездуховно, принимает, как и всё вообще, уродливые формы и очертания. Безусловно, такие люди, как Белинский, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, субъективно были чисты, их тоска по идеалу отличалась искренностью и стремлением к добру. Но в тоске своей обезбоженное сознание части деятелей русской литературы приводило к абсолютизации того критического пафоса, каким жило в значительной мере искусство революционно-демократической направленности, питаемое всё большей злобою ко всем сторонам русского бытия. Именно эти субъективно чистые люди породили бесовский призыв к топору.
Святитель Филарет (Дроздов) с духовной мудростью завещал всем, кто дерзает обращаться к художественному пророчеству: «Злоречие, которое, как некоторые думают, исправляет зло, не есть верное для сего средство. Зло не исправляется злом, а добром… Описанием порока нельзя очистить людей от порока… Изобразите добродетель в её неподдельной истине, в её небесной красоте»89.
Но может быть, искусство нового времени, с его ограниченными возможностями, и не способно осуществить подобное во всей полноте? Даже Достоевскому не дался вполне замысел показать положительно прекрасного человека. Даже Пушкин воспринял от Бога лишь одно веление: глаголом жечь сердца людей. В искусстве нового времени, а в реалистическом типе творчества прежде всего, усматривается имманентно присущее ему противоречие: необходимым энергетическим узлом всего эстетического замысла может быть в нём только конфликт, а для развития конфликта потребно некое несовершенство (абсолютному совершенству свойственен покой), заложенное в основу отображаемой реальности. (Попытка навязать конфликт хорошего с лучшим привела в искусстве соцреализма к безнадёжной фальши.) Реализм вообще оказывает непонятное до конца сопротивление всякому идеальному изображению жизни: то, что было доступно в предыдущих типах творчества, в реализме оборачивается схематизмом и неправдой. Исключения весьма редки. Идеальные же характеры, если они и удаются авторам, всегда погружены в далёкие от идеала события и обстоятельства (Татьяна Ларина, Лиза Калитина, Соня Мармеладова). При этом заметим: эти характеры неизменно определяются религиозной глубиной их осмысления.
В работе «Христианский пастырь и христианин-художник» святитель Игнатий (Брянчанинов) разъяснил эту особенность отображения бытия: «Большая часть талантов стремилась изобразить в роскоши страсти человеческие. Изображено певцами, изображено живописцами, изображено музыкою зло во всевозможном разнообразии. Талант человеческий, во всей своей силе и несчастной красоте, развился в изображении зла; в изображении добра он вообще слаб, бледен, натянут. <…> Когда усвоится таланту Евангельский характер, — а это сопряжено с трудом и внутренней борьбою, — тогда художник озаряется вдохновением свыше, только тогда он может говорить свято, петь свято, живописать свято. Чтоб мыслить, чувствовать и выражаться духовно, надо доставить духовность и уму, и сердцу, и самому телу. Недостаточно воображать добро или иметь о добре правильное понятие: должно вселить его в себя, проникнуться им»90. То есть: для отображения идеала необходимо взрастить его в себе на основе Евангельской Истины. Но не покинет ли тогда художник своё мирское искусство, перейдя к церковному творчеству?
А если не перейдёт — всё обернётся трагедией. Судьба Гоголя не тем ли объясняется? Но так или иначе, вне православного мироосмысления идеала истинного не обрести. И вот выходит: задача отыскания идеала предполагает исследование реальности, а оно не может обойти то зло, в котором лежит мир, и становится вынужденным сосредоточивать внимание на этом зле, тем более что зло всегда узнаваемо и душою самого художника, этому злу не чуждой, — и творческая мысль часто начинает двигаться по кругу, замыкается в нём. Безрелигиозное сознание не в силах разорвать этот порочный круг, пребывая в безнадёжности безверия. Идеал же социального обновления слишком утопичен, чтобы чуткие души и умы не смогли распознать его ложь. Для иных художников это оборачивается ещё более отчаянной и злой критикой.
Находила ли русская литература выход из этой порочной ситуации? Искала и находила. Иной вопрос: всегда ли внимало этому стремящееся к прогрессу русское общество?
2. Раздвоение образованного общества: славянофилы и западники
Итак, русская литература обратилась, начиная с Пушкина, к изучению жизни, отказавшись применять к ней готовые схемы. Однако стремление к объективности повествования оказалось, как мы выяснили, иллюзорным: принцип отбора, от искусства неотлучимый, деспотически принуждал, даже помимо воли художника, выявлять своеобразие конкретного субъективного видения мира — что шло искусству на пользу. Но не всегда шло на пользу культуре вообще, ибо обществу навязывались порою идеи, источники каковых укрывались во тьме. Когда мы примемся разбирать всё то множество разного рода мировоззренческих систем, что составляют идеологический хаос, в каком осуществлялась русская общественная мысль XIX столетия — да и вплоть до наших дней, — нам не избежать вывода, что в этой видимости хаоса обозначены два вполне oпределённых направления, два пути, между которыми должна была выбирать Россия, и как государство, и как нация. Хаос же возникал оттого, что выбор так и не был сделан, и совершалось метание, а то и вовсе попытка следовать сразу по двум путям одновременно: бестолковая и изнуряющая народный дух трата сил.
Ориентирами на предлагаемых России путях служили два комплекса идейных тяготений, получивших весьма неудачные названия при своём возникновении: славянофильство и западничество. Все прочие идейные направления так или иначе сопутствовали этим двум, имели в них свой исток, от них отталкивались, но к ним и притягивались, хотя внешне создавали порою видимость, будто совершенно порвали с причиною, давшей им начало. В обыденном сознании, принявшем на веру эти слова буквально, смысл их сознаётся просто: западники любят Запад и желают всё западное перенести в Россию, переустроив её едва ли не полностью и способствуя тем самым прогрессу; славянофилы любят славянское начало, превозносят всё русское, идеализируют допетровскую Русь (когда ничего западного якобы и не было), желают повернуть историю вспять, вернувшись чуть ли не к лаптям и лучине, только бы не допускать ничего, что противно национальным началам жизни. Всё это совершеннейшая чепуха, однако в иных умах закрепилась она прочно. Особенно много напраслины возводится на славянофилов: им приписываются несусветные нелепости, а затем всё навязанное опровергается с намерением доказать полную бессмыслицу славянофильства. (Должно заметить, что это продолжается и по сей день.) Один из видных славянофилов Ю.Ф.Самарин, ещё в конце 40-х годов XIX века сетовал, что «так называемым славянофилам приписывали то, чего они никогда не говорили и не думали, что большая часть обвинений, например, в желании воскресить отжившее, вовсе к ним не шли и что вообще во всём этом деле <…> замешалось какое-то недоразумение, умышленное или неумышленное — это всё равно»91.
Доказавши поверхностность и нелепость наговоров Белинского, одного из самых ярых обличителей славянофильства, которые неистовый критик допустил в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», Самарин заметил важнейшее: «Мы, со своей стороны, ни минуты не сомневались в неумышленности его ошибок: мы уверены, что они произошли оттого, что он, подобно другим, судил с чужого голоса, держался на поверхности вопросов и не дошёл до основной причины разномыслия»92. «Не дошёл до основной причины разномыслия» — упрёк не одному Белинскому.
Славянофилам вообще приписывали непростительную узость пристрастия к ограниченно-националистическому воззрению на жизнь, противопоставляя ему необходимость овладевания общечеловеческими ценностями. Порочность тяги к абстрактно-«общечеловеческому» выявил другой видный славянофил, К.С.Аксаков, справедливо напомнивший, что общее всегда проявляется не в какой-то отвлечённой, но всегда в конкретной индивидуальной форме, — так и общечеловеческое реализует себя в национальном: «Общечеловеческое само по себе не существует; оно существует в личном разумении отдельного человека. Чтобы понять общечеловеческое, нужно быть собою, надо иметь своё мнение, надо мыслить самому. Но что же поймёт тот, кто своего мнения не имеет, а живёт чужими мнениями? Что же сделает, что придумает он сам? Ничего: за него думают другие; а он живёт под умственным авторитетом других и сам ничего не может сделать для общего дела. Только самостоятельные умы служат великому делу человеческой мысли. Скажите, спрашиваю я наконец: хорошо ли, если человек не имеет своего мнения?»93.
Стоит заметить попутно, что иные деятели того и желали: лишить человека, народ сознания собственного пути — как о том предупредил Вяземский:
У них на всё есть лозунг строгий
Под либеральным их клеймом:
Не смей идти своей дорогой,
Не смей ты жить своим умом.
Чего же своего хотели лишить русских — мы ещё увидим. Следствием окажется отстранение народа от общечеловеческого дела — вот на что указывали славянофилы: «Отнимать у русского народа право иметь своё русское воззрение — значит лишить его участия в общем деле человечества»94.
Это сознавали не только славянофилы, впрочем. Такой убеждённый западник, как Тургенев, вложил в уста одному из своих героев известный афоризм: «Космополитизм — чепуха, нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица; только пошлое лицо возможно без физиономии»95.
Позднее о том же писал С.Н.Булгаков: «Абстрактных, космополитических всечеловеков, из которых состоит абстрактное же всечеловечество, вообще не существует; в действительности оно слагается из наций, а нации составляются из племён и из семей. Стоит только переложить абстрактный язык науки на конкретный язык действительности, как вся проблема о соотношении общечеловеческого или индивидуального получает полную перестановку и проблематичным становится уже не существование национального рядом с общечеловеческим, как прежде, но, наоборот, возможность общечеловеческого в национальном, всеобщего в конкретном»96.
Показательно, что за эти мысли Мережковский обвинил Булгакова именно в славянофильстве. И всё же: чего же своего находили славянофилы у русского народа? И что своё было у них в отличие от западников? Сколько ни говорили и ни писали о западничестве и славянофильстве, но критерии и признаки отличительные чаще указывали неистинные — то ли по искреннему заблуждению, незнанию, то ли по лукавому умыслу. Так, нельзя различать направления по любви или нелюбви к России и Западу. У самых закоренелых западников встречаем мы множество признаний в любви к родине, укоренённой в глубине их души. Они же нередко указывали на порочность многих проявлений западной жизни, противопоставляя им именно русские бытийственные начала. Напротив, ни у одного западника мы не отыщем столь жестокого обличения России, как у А.С.Хомякова, да и не у него одного; искреннего же уважения к Западу, признания его заслуг перед человечеством славянофилам не нужно было занимать у других. И вообще должно не забывать, что почти все славянофилы начинали свою сознательную умственную деятельность с увлечённости идеями западной философии. Вспомним хотя бы признание Л.И.Кошелева: «…Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, a нe для любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше Евангелия и других священных писаний»97.
Страшное признание. Невозможно разделить западников и славянофилов и по их отношению к крепостному праву: и те и другие оставались его противниками. Указывают порою, что славянофилы, в отличие от западников, искали истинные начала русской жизни в крестьянской общине, идеализируя её. Но ведь и такой последовательный западник, как Герцен, тоже связывал свои надежды на грядущее обновление России именно с общиной, каким-то фантастическим образом пытаясь соединить её начала с основами западной цивилизации. И сколько бы мы ни изыскивали различий в частностях, не касаясь сущностного, мы лишь запутаемся в противоречиях, в хаосе взглядов и мнений. Вдобавок, и в том и в другом лагере можно отыскать немало несогласий и между единомышленниками, хотя и не по самым важным вопросам.
Обобщая стержневые убеждения в среде славянофилов и западников, Кошелев гораздо позднее писал: «Нaс всех, и в особенности Хомякова и И.Аксакова, прозвали «славянофилами»; но это прозвище вовсе не выражает сущности нашего направления. Правда, мы всегда были расположены к славянам, старались быть с ними в сношениях, изучали их историю и нынешнее их положение, помогали им, чем могли; но это вовсе не составляло главного, существенного отличия нашего кружка от противоположного кружка западников. Между нами и ими были разногласия куда более существенные. <…> Они ожидали света только с Запада, превозносили всё там существующее, старались подражать всему там установившемуся и забывали, что есть у нас свой ум, свои местные, временные, духовные и физические особенности и потребности. Мы вовсе не отвергали великих открытий и усовершенствований, сделанных на Западе, — считали необходимым узнавать всё там выработанное, пользоваться от него весьма многим; но мы находили необходимым всё пропускать через критику нашего собственного разума и развивать себя с помощью, а не посредством позаимствований от народов, опередивших нас на пути образования.
Западники с ужасом и смехом слушали, когда мы говорили о действии народности в областях науки и искусства; они считали последние чем-то совершенно отвлечённым, не подлежащим в своих проявлениях изменению согласно с духом и способностями народа, с его временными и местными обстоятельствами и требовали деспотически от всех беспрекословного подчинения догматам, добытым или во Франции, или в Англии, или в Германии. Мы, конечно, никогда не отвергали ни единства, ни безусловности науки и искусства вообще; но мы говорили, что никогда и нигде они не проявлялись и не проявятся в единой безусловной форме; что везде они развиваются согласно местным и временным требованиям и свойствам народного духа и что нет догматов в общественной науке и нет непременных, повсеместных и всегдашних законов для творений искусства. Мы признали первою, самою существенною нашей задачею — изучение самих себя в истории и в настоящем быте; и как мы находили себя и окружающих нас цивилизованных людей утратившими много свойств русского человека, то мы считали долгом изучить его преимущественно в допетровской его истории и в крестьянском быте. Мы вовсе не желали воскресить Древнюю Русь, не ставили на пьедестал крестьянина, не поклонялись ему и отнюдь не имели в виду себя и других в него преобразовать. Всё это — клеветы, ни на чём не основанные. Но в этом первобытном русском человеке мы искали, что именно свойственно русскому человеку, в чём он нуждается и что следует в нём развивать. <…> Мы себе никаких имён не давали, никаких характеристик не присваивали, а стремились быть только не обезьянами, не попугаями, а людьми, и притом людьми русскими»98.
Основываясь на этом свидетельстве человека, живым образом причастного к названному противостоянию, можно сделать непреложный вывод: тип мышления западников был связан с неопределённостью безликого восприятия жизни, с неумением и нежеланием увидеть в ней многоцветную радугу бытия, стремлением подогнать всё под единый, на чужой стороне изготовленный шаблон. Вследствие этого у людей с подобным типом мышления неизбежно развивается скрытый комплекс неполноценности, боязнь собственного мнения, готовность подражать кому бы то ни было, только бы не быть самим собою. И этот комплекс такие люди всегда стремятся деспотически навязать окружающим, ибо ущербность внутреннего самоощущения всегда агрессивна и всегда чужда духу свободы.
Не смей идти своей дорогой,
Не смей ты жить своим умом.
Однако всё сказанное и отмеченное пока ещё не выразило сущностного в противостоянии славянофилов и западников. Кошелев сказал о том вполне определённо, но это до времени было намеренно опущено, ибо требует особого внимания и осмысления: «Они отводили религии местечко в жизни и понимании только малообразованного человека и допускали её владычество в России только на время — пока народ не просвещён и малограмотен; мы же на учении Христовом, хранящемся в нашей Православной Церкви, основывали весь наш быт, всё наше любомудрие и убеждены были, что только на этом основании мы должны и можем развиваться, совершенствоваться и занять подобающее место в мировом ходе человечества»99.
Вот важнейшее.
Сопоставим с мнением человека противоположных убеждений:
«Отношение славянофилов к западникам состояло вовсе не в противоположности учений. <…> У так называемых западников никакого общего учения не было. В этом направлении сходились люди с весьма разнообразными убеждениями. <…> Всех их соединяло одно: уважение к науке и просвещению. И то, и другое, очевидно, можно было получить только на Западе, а потому они сближение с Западом считали великим и счастливым событием в русской истории. <…> Славянофилы, напротив, выработали весьма определённое учение, которое разделялась ими всеми. Это была настоящая секта. <…> По их теории источник всякого просвещения заключается в религии: и наука и искусство от неё получают свои верховные начала. Западный мир развивался под влиянием двух оторвавшихся от истинного корня отраслей христианства: католицизма, свойственного романским племенам, и протестантизма, составляющего принадлежность племён германских. Эти две противоположные крайности одинаково удаляются от цельной христианской истины, хранимой Православной Церковью. Последняя представляет высшее единство противоположностей, вследствие чего она призвана создать из себя новую, высшую цивилизацию»100. Так свидетельствовал последовательный западник, Б.Н.Чичерин, и его краткое изложение основ славянофильского учения можно признать верным. Ощутимая же интонация несогласия для западника естественна.
Различия между славянофилами и западниками — религиозные по смыслу и самому духу своему. В двух этих направлениях сказалось перенесённое на социально-политическую, идеологическую, культурную почву противостояние Православия и западных конфессий.
Это сознавали и умнейшие из западников. Недаром признавался Герцен, поминая недобрым словом славянофилов:
«Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви»101.
И ещё одно, герценское же, парадоксальное внешне, но истинное по существу утверждение: «Всё белое и чёрное духовенство — славянофилы другого рода»102. Герцен откровенно раскрыл причину своего неприятия славянофильства: «Ни византийская церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадут для будущего развития славянского мира»103. Герцен Православия не приемлет, суждения его о Православной (византийской, как он её называет) Церкви полны неприязни и обвинений в раболепном духе. Но может быть, у Герцена (а он ведь не один, у него множество единомышленников) есть своя правота: да и велика ли разница, чему следовать — православным ли догматам, или западной премудрости? И то и другое — не продукт же самостоятельной деятельности русского сознания.
В православных догматах запечатлены откровения Божественной премудрости, но не выводы ограниченного в своих возможностях человеческого рассудка, как то мы видим в западной премудрости. Разница.
Славянофилы и западники искали для себя различные источники света на жизненном пути, и обретали его розно. Для славянофилов — «Свет Христов просвещает всех». Для западника — человеческий ум просвещается светом земного знания. Опять всё то же разделение: в собирании сокровищ на небе или на земле. Характер противостояния славянофилов и западников нетрудно проследить, обратившись к религиозным убеждениям тех и других. Славянофилы активно исповедовали Православие, тогда как западники были религиозно индифферентны (как Тургенев, например), либо вообще деятельно утверждали атеизм (Белинский, Герцен), либо тяготели к западной же вере (Чаадаев). Церковно-православного человека среди западников не было никого. Как не было ни одного безразличного к Православию между славянофилами. Сомнительно оттого утверждение Герцена: «…Мы <…> смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно»104. Скорее, глядели в одну сторону: желали блага России. Сердца же, питаемые разными верами, и бились розно. Из религиозных тяготений славянофилов и западников проистекала и разнонаправленность необходимых средств для изживания казённого, личностного, социального, политического зла, наблюдаемого ими в российской действительности. Если Православие ориентирует человека на особое внимание к внутреннему человеку:
«Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием» (Рим. 7, 22), — если оно побуждает к духовной брани с грехом, то вполне естественен для славянофилов и их призыв к покаянию и смирению. Оттого славянофилы и обращали взор на внутреннее духовное своеобразие Руси (а отнюдь не на Древнюю Русь с лаптями и лучиной). Западники же уповали на внешние сторонние принципы, поскольку их тип мышления определён надеждами на внешние условия бытия;— склонность к революционным стремлениям, то есть к насильственному воздействию на внешние условия с целью подчинить их своим потребностям, оказывалась для любого западника вполне естественной. Они были едва ли не все революционерами — в широком смысле (когда само понятие не сводится к вооруженному бунту, хотя и бунтарей также хватало).
Поляризация двух разнонаправленных стремлений, так явно обозначившаяся в 30-40-е годы XIX столетия, не этим веком была, разумеется, порождена. Если углубиться в историю, то должно признать, что первым перед выбором был поставлен святой равноапостольный князь Владимир (первым в том смысле, что ему пришлось определять судьбу Руси на все времена, возможность же и необходимость личного выбора проявлялись и прежде). Эту же проблему вынужден был решать, определяя государственную политику, святой благоверный князь Александр Невский. Она же грозно напоминала о себе и во все последующие века — кризисными ситуациями в этом смысле стали: борьба против распространившейся повсеместно ереси жидовствующих (рубеж XV–XVI веков), Смутное время (начало XVII века), так называемая эпоха петровских преобразований (начало XVIII века). Проблема судьбы Православия на русской земле проявлялась то в откровенно религиозном облике, то в политическом, то в философско-идеологическом — в XVIII столетии, когда всё облеклось в одеяния просветительского преобразования умов. Но проницателен оказался Пушкин, когда отзываясь об одном из опусов Вольтера, по сути прямо назвал важнейшую тенденцию происходившей идеологической экспансии. «…все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих Заветов обругана…» (7, 313). Пушкин всегда точен в словах: и демоническую природу внедряемых идей указал точно.
Ещё раз повторим: Православие вовсе не против просвещения души и сознания человека, не против разума, напротив. Недаром Церковь воспевает в рождественском тропаре: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…». Но западное Просвещение ориентировалось на мудрость мира сего, то есть на безумие перед Богом» (1 Кор. 3, 19), Свет же Христов, свет Его разума, — «не от мира сего» (Ин. 18, 36).
На рубеже XVIII–XIX веков осмысляемое здесь противостояние переместилось в сферу как будто бы исключительно oтносящуюся к культуре, внешне оказалось сведённым в основном к лингвистическим спорам. Важную роль в формировании национального своеобразия русской литературы сыграла деятельность общества «Беседа любителей русского слова» (1811–1816), его усилия по очищению русского языка от чужеродных влияний. Живая литературная практика отвергла многие крайности, предлагавшиеся «Беседой…», но особое внимание к церковнославянскому языку не осталось бесследным для русской культуры, ибо язык есть не просто средство общения, но носитель духовных ценностей, в нём запечатлённых. Именно со споров о языке началось зарождение и формирование славянофильского направления. Не будем касаться проблемы масонских диверсий и всего, что их сопровождало, — то не наша тема. Не забудем лишь: Православие постоянно испытывало жестокое давление и со стороны государства, и «просвещённого» слоя дворянского общества, и внешних влияний прогрессивной идеологии (и масоны всюду приложили руку) — хотя не всё и всегда обозначалось откровенно в российской жизни, часто таилось скрытно, вызревало незаметно для поверхностного наблюдателя.
Начальная кристаллизация двух означенных направлений общественно-религиозной мысли относится к 20–30 годам XIX века. Декабристы были явными западниками, хотя таковыми себя не сознавали, да и термина самого не существовало. Они, как известно, «разбудили Герцена» — тут с Лениным нужно согласиться, понимая его слова как развернутую метафору, в которой сам Герцен персонифицирует целую группу молодых людей, в 20–30 годы пытавшихся активно осмыслить своё бытие, его цели, задачи и т. д. Молодые люди эти основывали кружки, где единомысленно искали ответа на волновавшие их вопросы. Опору для себя они думали обрести в достижениях западной премудрости (не в рутинном же, отживающем своё Православии!). Вспомним ещё раз признание Кошелева в сугубой любви к Спинозе. Или прислушаемся к свидетельству Чичерина, до конца жизни остававшегося убеждённым западником: «В период политического затишья между Венским конгрессом и переворотами 1848 года умы в Европе были главным образом устремлены на решение теоретических вопросов, особенно в Германии, куда ездили учиться молодые русские. Германская наука царила тогда над умами и давала им пищу, которая могла удовлетворить все их потребности»105. Что именно давала молодым людям немецкая премудрость, тот же Чичерин раскрыл без обиняков:
«Передо мною открылось совершенно новое мировоззрение, в котором верховное начало бытия представлялось не в виде личного божества, извне управляющего созданным им миром, а в виде внутреннего бесконечного духа, присущего вселенной»106. Отрицание личного Бога? Внутренний дух, управляющий вселенной? Явная антихристианская направленность благоприобретенной на стороне премудрости — несомненна. Любопытно, что в выводах своих Чичерин оказался прозорливее самого Гегеля: «И хотя в своей философской истории Гегель признавал христианство высшей ступенью в развитии человечества, однако это меня не убеждало, и я отвергал подобное построение как непоследовательность»107. Отрицать важнейшую духовную ценность христианства (Личность Бога) и превозносить такое обезбоженное христианство — и впрямь непоследовательно.
Самый ранний из кружков искателей истины образовали любомудры (первенство их объясняется просто: им выпало по возрасту быть старше прочих иных). Любомудры (славянская калька слова философы) учились большей частью в Московском университете, затем служили в Московском Архиве Иностранных дел — прозвали их за то «архивными юношами», оказались они весьма заметны как своего рода достопримечательность и даже удостоились упоминания в «Евгении Онегине» (глава Седьмая, XLIX). Меньшая их часть (собственно любомудры) устраивала тайные собрания для чтения и обсуждения западных, прежде всего немецких, философов (Кант, Фихте, Шеллинг и др.), но существовал и более обширный кружок, преимущественно с литературными интересами, который посещал даже московский генерал-губернатор кн. Д.В.Голицын — ничего тайного в заседаниях этого общества не было, как, впрочем, и в узком кругу, но напускная таинственность способна пощекотать молодые самолюбия. Среди самых замечательных имён, так или иначе связанных с любомудрами, должно назвать И.В.Киреевского, Д.В.Веневитинова, В.Ф.Одоевского, С.П.Шевырёва, М.П.Погодина, Ф.И.Тютчева. Как видим, тут многие имена видных славянофилов в будущем. Да, именно о них писал Кошелев (входящий в число «тайных» любомудров), что ценили они вначале Спинозу выше Евангелия. То ли оттого, что они ранее прочих приобщились к умственной деятельности и смогли шагнуть дальше в силу чисто временного преимущества, то ли по иным причинам, но любомудры сумели одолеть западнический соблазн и расстаться с ошибками молодости, успели отказаться от заблуждения, будто религия есть лишь временный удел непросвещённого простонародья. Те, кто следовали за любомудрами, так на том и застряли. Кошелев основную заслугу приписывает А.С.Хомякову, с которым любомудры сошлись позднее: «Все товарищи Хомякова проходили через эпоху сомнения, маловерия, даже неверия и увлекались то французскою, то английскою, то немецкою философиею; все перебывали более или менеe тем, что впоследствии называлось западниками. Хомяков, глубоко изучивший творения главных мировых любомудров, прочитавший почти всех св. отцов и не пренебрегший ни одним существенным произведением католической и протестантской апологетики, никогда не уклонялся в неверие, всегда держался по убеждению учения нашей Православной Церкви и строго исполнял возлагаемые ею обязанности. <…> Безусловная преданность Православию, конечно, не такому, каким оно с примесью византийства и католичества являлось у нас в лице и устах некоторых наших иерархов, но Православию св. отцов нашей Церкви, основанному на вере с полною свободою разума, любовь к народу русскому, высокое о нём мнение и убеждение в том, что изучение его истории и настоящего быта одно может вести нас к самобытности в мышлении и жизни, — составляли главные и отличительные основы и свойства образа мыслей Хомякова»108. Без Хомякова, утверждает Кошелев, любомудры исчезли бы «бесследно с лица земли». Но ведь Хомяков и со многими западниками общался, а они так и остались при своих заблуждениях. Они не успели продвинуться вперёд в собственном развитии настолько, чтобы уже не зависеть от сложившихся политических обстоятельств и усвоенных умственных шаблонов.
Вслед за любомудрами, которые практически прекратили свои «тайные» философские собрания после декабря 1825 года, в среде московского студенчества возникли два кружка «разбуженных» искателей истины. Во главе одного из них стоял Н.В.Станкевич, а входили в него — Белинский, Грановский, Бакунин… В числе прочих — один из видных впоследствии славянофилов, К.Аксаков. Влияние Станкевича на развитие российской общественной мысли отмечают слишком многие. «Кружок Станкевича, — вспоминал К.Аксаков, — был замечательное явление в умственной истории нашего общества. <…> В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир, — воззрение большею частию отрицательное»109.
Воспоминания К.Аксакова помогают уяснить важнейшую особенность выработки типа мышления у русских западников:
«Определяя этот кружок, я определяю более всего Станкевича, именем которого по справедливости называю кружок, стройное существо его духа удерживало его друзей от того лёгкого рабского отрицания, к которому человек так охотно бежит от свободы, и когда Станкевич уехал за границу — быстро развилась в друзьях его вся ложь односторонности, и кружок представил обыкновенное явление крайней исключительности. <…> Скажу ещё, что Бакунин не доходил при Станкевиче до крайне безжизненных и бездуховных выводов мысли, а Белинский еще воздерживал при нём свои буйные хулы. Хотя значение Церкви не раскрылось ещё Станкевичу, по крайней мере до отъезда его за границу, но Церковь и ещё семья были для него святыней, на которую он не позволял при себе кидаться. <…> Но несмотря на всю стройность своего нравственного существа, на стремление к свету мысли, истинной свободе духа, равно чуждой рабства и бунта, Станкевич не стал, по крайней мере до отъезда за границу, на желанную им высоту, и свобода веры, кажется, не была им достигнута»110.
Вот где многое проясняется. Рабское отрицание всякого положительного начала в русской жизни, отрицание Православия — та особенность многих западников, которая может быть сдержана лишь нравственным началом, основанном на чувстве святости Церкви. Нельзя отрицать нравственного чувства у людей, подобных Белинскому, но их нравственность всё же иного рода — она безрелигиозна, и оттого всегда готова перерасти в ложь односторонности.
К.Аксаков коснулся ещё одного важнейшего вопроса, на котором расходятся славянофилы и западники всех времен. В самом деле: можно укорять западников в рабском принятии западных стереотипов и ошибок мысли, в рабском отрицании русской идеи, но не рабство ли точно такое же (и даже худшее) в подчинении себя — пусть и Божией воле, но подчинении? По крайней мере, индивидуалист западник всё же утверждает собственное произволение, а славянофил-православный от своей воли готов отречься, молясь «Да будет воля Твоя!». Западный тип мышления давно уже объявил смирение рабской покорностью всему, чему готов противиться гордый свободолюбивый цивилизованный человек. К.Аксаков называет недостаток, не позволяющий постичь эту проблему в её духовной полноте: он говорит о недостатке свободы веры— и такая свобода может быть постигнута только в глубине религиозного чувства, иначе между понятиями «раб Божий» и «свобода веры» секулярный рассудок усмотрит такое противоречие, какое не поможет ему разрешить никакая диалектика, так вскружившая головы многим русским молодым людям, хоть и с различными для каждого последствиями.
Станкевич, увлекаясь среди прочего и диалектикой, предпочитал сферу чистой мысли, чуждаясь политической деятельности. Не таков был Герцен, равно как и его единомышленники, составившие другой кружок: искавших деятельного участия в политической жизни молодых горячих голов. В 30-е годы XIX века, когда диалектика вошла в моду, Герцен остроумно сознал в ней «алгебру революции» — то есть действия, а не отвлеченного созерцания и размышления. К действию же толкала память о декабристах. Правда, особого простора для активной деятельности такого рода в ту эпоху российская действительность не предоставляла, хотя тот же Герцен успел подвергнуться наказанию — прежде всего за активное выражение собственных революционных стремлений. Времена всё же были суровые. Вспомним, что десятилетие спустя Достоевский был приговорен к расстрелу за одно лишь чтение письма Белинского к Гоголю — власти предержащие с противниками (даже идейными) не церемонились. Люди, подобные Герцену, наследники Радищева и декабристов, принадлежали к той разновидности просвещённых русских людей, что жили под воздействием комплекса вины перед народом, в господстве над которым они сознавали неправедную основу своего благополучия — и это мешало полноте их счастья; поэтому в нравственном отношении их «борьба за народное благо» определялась отчасти и эгоистическим стремлением именно к полноте собственного счастья — ни о чём ином и не может помышлять человек эвдемонической культуры, — хотя в отношении чисто житейском и материальном они ради этого рисковали и жертвовали весьма многим. Недаром Чернышевский позднее попытался обосновать побудительные причины социальной активности «борцов» теорией разумного эгоизма. Тут был именно эгоизм, хотя и высшего порядка, поскольку полное бескорыстие и самопожертвование возможно лишь на уровне духовном, религиозном, тогда как революционные демократы, череду которых открыл в XIX столетии именно Герцен со своими единомышленниками, отличались всегда тяготением к атеизму и материализму — революционерам более и деваться некуда, если они последовательны в своих убеждениях: бунт возможен только на путях измены Православию. Но всё же сострадание народу отличалось у первых русских революционеров искренностью и субъективной чистотою душевных порывов. Так с самого начала в основу революционного движения было положено противоречие, определившее деградацию самого душевного состава русского революционера, в чём истории ещё предстоит убедиться.
А пока всё пребывает в поиске, в брожении, раствор насыщается, но необходим побудительный импульс, толчок. Таким импульсом стала публикация в журнале «Телескоп», в № 15 на 1836 год, первого «Философического письма» Чаадаева. Поэт и критик А.Григорьев точнее прочих определил историческое значение этой публикации:
«Письмо Чаадаева <…> было той перчаткою, которая разом разъединила два дотоле если не соединённые, то и не разъединённые лагеря мыслящих и пишущих людей. В нем впервые неотвлёченно поднят был вопрос о значении нашей народности, самости, особенности, до тех пор мирно покоившийся, до тех пор никем не тронутый и не поднятый»111. Комплекс идей Чаадаева несложен. Мы ещё рассмотрим его подробнее, пока же ограничимся кратким изложением постоянных разговоров Чаадаева в московских салонах и гостиных: «Чаадаев постоянно доказывал преимущество католичества над прочими вероисповеданиями и неминуемое и близкое его над ними торжество, — пишет в своих воспоминаниях Кошелев, — Не менее настойчиво Чаадаев утверждал, что русская история пуста и бессмысленна и что единственный путь спасения для нас есть безусловное и полнейшее приобщение к европейской цивилизации»112.
Вот краткий конспект основных воззрений Чаадаева. Состав слушателей, внимавших Чаадаеву, был неоднороден. Обозначенные здесь кружки не могли оставаться неизменными и постоянными: кто-то из участников менял службу и место проживания, многие на некоторое время уезжали за границу, постигая там пленившую их диалектику из уст самого Гегеля, другие могли появляться то в одном, то в другом собрании: едва ли не все они оставались друзьями, близкими знакомыми. Часто идейные противники сходились в объединявших их салонах, например, у Д.Н.Свербеева или у Н.Ф.Павлова — из самых известных. Так продолжалось долго, пока на рубеже 30-40-х годов не начали складываться окончательно единства славянофилов и западников. Да и после того непроходимой стеною друг от друга они не отделились, сходились всё так же охотно, спорили до хрипоты. Чаадаев не уставал превозносить Запад, перед которым преклонялся.
Первым ответил на вызов Чаадаева Хомяков. Если у многих, недовольных воззрениями Чаадаева, оказались задетым просто их национальное самолюбие, племенная гордыня, то Хомяков до подобных пошлостей не опускался: он увидел в Чаадаеве противника идейного. И был в этом поначалу печально одинок. Ведь Хомякова долго не понимали даже его будущие единомышленники. Не кто иной, как И.В.Киреевский обвинял Хомякова в желании обрядить всех в зипуны и обуть в лапти — мнение, как видим, имеет давнюю историю. Важною причиной было слабое знание русскими образованными людьми своей собственной веры. До курьеза ведь доходило: когда сослуживцы Хомякова заметили однажды, что он строго соблюдает посты, они обвинили его… в католицизме. Как не вспомнить ещё раз Гоголя: имеем сокровище и даже не знаем, где оно лежит.
Православия не знали. За ним не желали признавать Истину. Истина поверялась (как и теперь многими) критериями житейского практицизма, а поскольку западный тип мышления слишком был обращён на земные ценности, то и были все западники по-земному практичнее, нежели устремлённые к неземным сокровищам славянофилы. Этот конфликт выявился с самого начала: убеждённый западник Чичерин недаром с оттенком иронии отозвался о хомяковском призыве к покаянию: «Но нужна была совершенно детская вера в спасительную силу молитвы и исповеди, для того, чтобы вообразить себе, что народ может в одно прекрасное утро покаяться, сбросить с себя все грехи и затем встать обновлённым и разить врагов вручённым ему Божьим мечом»113.
Суждение, достойное осмысления. В одночасье, разумеется, ничто не свершается, Хомяков не был столь наивен. Но он с детскою верою просто следовал заповеди из Нагорной проповеди: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).
Всё — то есть буквально всё, чем озабочено житейское попечение.
Для очистительного покаяния ради Царства Небесного и впрямь нужна вера, и вера именно детская (прав Чичерин): ибо именно о том говорил Спаситель: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18,3).
Трезвые же и практичные деятели западнического толка веры не имели, смотрели на детские призывы по-взрослому свысока, оттого покаяние в грош не ставили, и каяться не собирались. Да и приятную склонность в себе лелеяли: отыскать виновных на стороне, вовне — в порядках самодержавно-крепостнической России, так что и каяться было им как бы не в чем. Разве в одном: в недостаточной борьбе с внешними обстоятельствами. Но и тут виноватыми оказывались скорее те, кто вместо борьбы помышлял о покаянии и молитве. Вспомним обвинение Белинским Гоголя: именно за то и обличал праведный критик изменника-писателя.
Первые же столкновения славянофилов с западниками прояснили важную гносеологическую проблему. Человеку даны два уровня постижения бытия, истины: уровень эмпирического знания, обобщаемого и осмысляемого наукой, и уровень откровения, обретаемого верою. Просветительская мысль, противопоставляя оба уровня (хотя приоритет в том не ей принадлежит), истинным признавала лишь уровень научного мышления. Все противоречия были бы сняты, если за наукою признать ограниченность сферы её деятельности, её возможностей. В таком качестве наука признаётся религиозной мыслью как необходимая и полезная (вспомним взгляды русских просветителей Ломоносова и Болотова). Но наука нередко претендует на обладание полнотою истины (пусть даже не в настоящем, но необозримом будущем), вовсе отказывая в том вере, объявляя истины духовные косными, реакционными, считая их следствием непросвещённого сознания (просвещать надо, просвещать!), следствием своекорыстной религиозной ненависти к прогрессу. Показателен один из споров Хомякова с Герценом, о котором последний поведал в «Былом и думах»: «Ильёй Муромцем, разившим всех со стороны Православия и славянизма был Алексей Степанович Хомяков. <…> Философские споры его состояли в том, что он отвергал возможность разумом дойти до истины; он разуму давал одну формальную способность — способность развивать зародыши, или зёрна, иначе получаемые, относительно готовые (то есть даваемые откровением, получаемые верой). Если же разум оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдёт ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии и проч. На этом Хомяков бил наголову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шёл с ними шаг в шаг и под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их падать в «материализм», от которого они стыдливо отрекались, или в «атеизм», которого они просто боялись».
Метода Хомякова совершенно ясна, но примечательно замечание Герцена: такая логика убедительна только для тех, кто остановился между религией и наукой. Утвердившихся же в научном типе мышления уже ничем прошибить было невозможно, и Герцен то продемонстрировал, когда вступил в спор с Хомяковым: «— Знаете ли вы что, — сказал он вдруг, как бы удивляясь сам новой мысли, — не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося в природе, но не дойдёшь до того, чтобы понять природу иначе, как простое беспрерывное брожение, не имеющее цели, и которое может и продолжаться и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой.
— Я вам не говорил, — ответил я ему, — что я берусь это доказывать, — я очень хорошо знал, что это невозможно.
— Как? — сказал Хомяков, несколько удивленный, — вы можете принимать эти страшные результаты свирепейшей имманенции, и в вашей душе ничего не возмущается?
— Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.
— Ну, вы, по крайней мере, последовательны; однако как человеку надобно свихнуть себе душу, чтобы примириться с этими печальными выводами вашей науки и привыкнуть к ним!
— Докажите мне, что не наука ваша истиннее, и я приму её также откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к Иверской.
— Для этого надобно веру.
— Но, Алексей Степанович, вы знаете: «На нет и суда нет»114.
Диалог знаменательный. Хомяков ясно обнаруживает, к каким страшным результатам ведёт человека рациональное познание, в какой тупик бесцельного существования и безнадёжности оно его заводит. Рационалист Герцен невозмутим: что поделать, выводы разума объективны. Такой индифферентизм Хомяков объясняет просто, а одновременно духовно глубоко: душа свихнулась. Разум подводит её к бездне, но душа не смущена этим безумием перед Богом, и Герцен лишь хладнокровно разводит руками: ничего не поделаешь, логика рассудка от нас не зависит. Впрочем, он готов выслушать рациональные доказательства и иного понимания мира, а если они убедят его, так хоть к Иверской пойти (отметим эту утончённую иронию). Он и знать не хочет, что на уровне откровения рациональные доказательства несостоятельны и неприемлемы. Хомяков даёт единственно возможный ответ: вера нужна. Вера нужна! Но западник Герцен был приверженцем приснопоминаемой мудрости мира сего, не желая даже приступать к осмыслению того, насколько она безумна для высшего уровня познания. Он мог бы и к Апостолу обратиться с тем же требованием: нужны доказательства.
Мудрость мира сего активно утверждала себя в воззрениях западников, и трудно было бороться с нею детской вере. Насколько слаб просветительский рассудок, обнаружил тот же Герцен, в недоумении остановившийся однажды перед таким духовно глубоким рассуждением И.В.Киреевского: «Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные, старики стояли на коленях и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это была не просто доска с изображением, <…> века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из неё, отражающейся от неё на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между Творцом и людьми. Думая об этом, я ещё раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в прахе, и на святую икону, — тогда я сам увидел черты Богородицы одушевлёнными. Она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей <…> и я пал на колени и смиренно молился ей»115.
И что же Герцен? Он лишь с сожалением разводит руками: «что же было возражать человеку, который говорил такие вещи». Он даже не иронизирует, он понимает, что нельзя тут смеяться: «Я смотрел на Ивана Васильевича, как на вдову или на мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто…»116.
Отдадим должное нравственному чувству Герцена: в разговоре с Хомяковым он над Иверской иконою с иронией отозвался, теперь лишь тихо вздыхает, сожалея об обманутом жизнью уме. Киреевский также говорит о детской вере, какую находил у Хомякова Чичерин; и другой западник, Герцен, также отвергает её.
Духовная истина остаётся для этих несомненно умных людей, для Герцена и Чичерина, за пределами их понимания. Это поразительно. Но загадки и нет никакой: вера нужна! А веры нет, и потому все просвещённые умы считают себя вправе высокомерно отзываться даже о великих подвигах веры (а может, в глубине души сознают ущербность собственного безверия и высокомерием своим мстят, мелко мстят имеющим то, чем сами обделены?), как Герцен при упоминании всуе Симеона Столпника, «стоявшего бесполезно и упорно шесть, десять лет на одном и том же месте»117. С точки зрения революционной борьбы и впрямь ведь бесполезно подобное «стояние». Хомяков писал о свойствах и границах рационального познания так:
«Грубый и ограниченный разум, ослеплённый порочностью развращённой воли, не видит и не может видеть Бога. Он Богу внешен, как зло, которому он рабствует. Его веренье есть не более как логическое мнение и никогда не может стать верою, хотя нередко и присваивает себе её название. Веренье превращается в веру и становится внутренним движением к Самому Богу только через святость, по благодати животворящего Духа, источника святости»118.
Говоря о веренье, Хомяков имеет в виду то, на чём основывается всякое научное знание — в том и курьёзность такого знания, — принятие всё же без доказательств некоторых аксиом, на которых строится всякая научная теория.
Рациональное начало устремлено к сокровищам на земле. Вера — к небесным сокровищам. Но в мире, утверждающем себя, господствует и мудрость его. Столкновение славянофилов и западников — лишь одно из проявлений той повторяющейся из века в век драмы веры и безверия, о которой говорил Христос Спаситель:
«Верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.
И видящий Меня видит Пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судию себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя; но Пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец» (Ин. 12, 44–50).
Но человек чаще приземлён в своих повседневных стремлениях, и западнический тип мышления многих более устраивает, поскольку он внешне практичнее, славянофилы же представлялись многим же слишком далёкими от реальной жизни, «Всё это мало соответствовало истинным потребностям и положению русского общества, — писал о славянофильских идеях Чичерин, — до такой степени противоречило указаниям самого простого здравого смысла, что для людей посторонних, приезжих, как мы, из провинции, не отуманенных словопрениями московских салонов, славянофильская партия представлялась какою-то странною сектою, сборищем лиц, которые в часы досуга, от нечего делать, занимались измышлением разных софизмов, поддерживая их перед публикой для упражнения в умственной гимнастике и для доказательства своего фехтовального искусства. Так представлялось не только нам, но и моим родителям»119.
Западники оказались практичнее и в исторической действительности, совершая движение — к прогрессу и цивилизации. Но западническое историческое движение — это та историческая суета, которую Пушкин пророчески противопоставил как неистинную — истории подлинной. Эта история совершалась на Руси подвигами веры, тем стяжанием духовной энергии, какое вершилось вне исторической суеты и наперекор суете. Ослабление, оскудение веры привело Россию к трагическим итогам. И о том было сказано:«Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8). Человек тянется и тянется к земным ощутимым ценностям. Порою только и остается, что повторять вслед за Лермонтовым:
Не осуждай меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С её страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей Твоих струя;
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далёко от Тебя…
Вечная драма человеческого бытия.
«Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего)» (1 Ин. 2, 16).
Вот природа и суть сокровищ на земле.
Само же положение славянофилов окрашено в трагические тона: будучи соучастниками культуры эвдемонической, они стремились творить не только личное (что всегда возможно), но и общественное бытие по законам сотериологической культуры. Они стремились возвратиться не в Древнюю, но в Святую Русь: когда спасение сознавалось всем народом как цель земного бытия. В высшем же смысле — для спасения — внешняя ситуация безразлична. Существование благополучное, пристрастие к мирскому благу, скорее препятствует спасению.
«Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете — и не имеете, убиваете и завидуете — и не можете достигнуть, препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас»? Но тем большую дает благодать; посему и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные; сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль; смиритесь пред Господом, и вознесет вас» (Иак. 4, 1-10).
Вот точное и краткое описание бед эвдемонического общества, раскрытие их причин и указание на способ преодоления. Славянофилы говорили то же самое. Их слова соответствовали православному вероучению, но противоречили обыденному сознанию людей. Западников же это сознание вполне устраивало.
3. Пётр Яковлевич Чаадаев
Под «Философическим письмом», появившимся в «Телескопе» в 1836 году, подписи не было, по автора знали все: Пётр Яковлевич Чаадаев (1794–1856). Всего Чаадаевым было написано восемь «Писем», нас же интересует то единственное его печатное выступление при жизни, которое оказало столь мощное воздействие на состояние и движение российских умов. «Никогда с тех пор, как в России стали читать и писать, с тех пор, как завелись в ней книжная и грамотная деятельность, никакое литературное и учёное событие, ни после, ни прежде этого <…> — не производило такого огромного влияния и такого обширного действия, не разносилось с такой скоростью и с таким неизмеримым шумом»120, — свидетельствовал, может быть, несколько преувеличивая, М.П.Жихарев, современник, родственник и биограф Чаадаева. Первой реакцией стало едва ли не всеобщее возмущение: всколыхнулись патриотические чувства — слишком безжалостно отказал автор русскому народу в самом праве на существование, «прочитал отходную русской жизни» (по впечатлению Герцена). Но постепенно симпатии общества к Чаадаеву возвращались, особенно тому поспособствовала власть, выразившая «Письмом» недовольство. И хотя чувствительнее всего пострадали издатель журнала и дозволивший публикацию цензор, большая доля общественного сочувствия досталась автору. Благородный Хомяков ввиду немилости власти, обратившей к Чаадаеву нахмуренное лицо, решил даже воздержаться от «громового ответа», с каким он поначалу вознамерился выступить, возмущённый философическими откровениями своего постоянного оппонента.
Любопытна реакция радикала Герцена, разглядевшего в «Письме» одновременно «обвинительный акт против России» и «отходную» ей:
«Это был выстрел, раздавшийся в тёмную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — всё равно надобно было проснуться»121. Выходит, именно Чаадаев окончательно разбудил Герцена, поступок, как мы сознаём, важный для истории России.
Среди душевных качеств Чаадаева, существенных для понимания побудительных причин выбранной им идеологии, не упустим из виду чёрствый эгоизм, тщеславие, непомерное честолюбие, высокомерие, а также склонность к сибаритству, привередливость и капризность по отношению к бытовым мелочам. Это отмечает даже Жихарев, с пиететом воспринимавший индивидуальность Чаадаева, приводя множество реальных случаев, подтверждающих такое утверждение. Не отвергнем давнюю истину: человека можно распознать, прежде всего уяснивши себе его понимание смысла и цели собственного бытия. Жестокое честолюбие и тщеславие Чаадаева, подавляемые сложившимися обстоятельствами и вынужденным отказом от блестящей карьеры (уточнять причины которого здесь не станем), — сублимировалось в стремление возвластвовать над умами, утвердив за собою особое место в сфере философической мысли.
«Поселившись в Москве, с совершенно расстроенным здоровьем, почитая свою карьеру невозвратно уничтоженною, он предался некоторому роду отчаяния, — вспоминает Жихарев о кризисном периоде в жизни Чаадаева. — Человек света и общества по преимуществу, сделался одиноким угрюмым нелюдимом. Уже грозило помешательство и маразм, когда прихотливая, полная неведомых ещё могуществ его натура внезапным таинственным усилием вынесла его из этого бедственного состояния и указала ему новое, иное поприще, иные неизведанные пути, прославлением, блеском и пользою более богатые и обильные, нежели все до того его манившие…»122.
Более богатые и обильные прославлением и блеском пути…
Мыслителю представилось, что ему удалось их отыскать: когда он посвятил себя «великой» идее «о слиянии философии с религией». Обращаясь к Шеллингу, в котором, по его разумению, он нашел единомышленника, Чаадаев утверждал, что именно в этой идее «лежит и главный интерес человечества» (207)123. Соединение собственного интереса с «главным интересом человечества» — претензия немалая. Но идея-то сама — ложная: в том виде и в том способе осуществления, в каком она представилась Чаадаеву; и способно на неё лишь расцерковлённое сознание. Чаадаев вознамерился объединить религию и философию как явления одного уровня — Божественное откровение и плод человеческого рассудка в качестве равноправных соработников. Если таков главный интерес человечества, то лишь человечества непреображённого, вне Бога пребывающего. Это одно из проявлений гуманизма, ещё не отошедшего от Бога окончательно, ещё не отвергшего Его, но уже внутренне к тому склонного. Идея философиста оказалась пагубной и по замыслу и по плодам своим. О религии Чаадаев имел особое понятие. Обобщая взгляды мыслителя в этой области, Б.Н.Тарасов, его истолкователь, подчеркнул «нетрадиционность «христианской философии» Чаадаева, которую он проповедовал с «подвижной кафедры» в московских салонах. В ней не говорится ничего ни о греховности, ни о спасении души, ни о церковных таинствах, ни о чем-либо подобном. Чаадаев делал умозрительную «вытяжку» на библейской мистериальной конкретности и представлял христианство как универсальную силу, способствующую, с одной стороны, становлению исторического процесса и санкционирующую, с другой стороны, его благостное завершение как царство Божие на земле» (7). Философист, как видим, предпочитал секуляризированное и прагматически ориентированное христианство. То есть измышленный коснеющим в гордыне рассудком суррогат.
Чаадаев полагал, что христианское учение ведёт к «постепенному установлению такой социальной системы или церкви, которая должна водворить царство истины среди людей. Всякое другое учение уже самим фактом своего отпадения от первоначальной доктрины заранее отвергает действие высокого завета Спасителя: «Отче Святый, соблюди их, да будут едино, якоже и Мы (Ин. 17, 2), и не стремится к водворению Царства Божия на земле» (34). Оговорка: «социальной системы или церкви» — знаменательна. «Экклесиология» Чаадаева строится на чисто социальном понимании христианства, какое уже укоренилось к тому времени в Европе и которое именно Чаадаев впервые громко возгласил в России. После него ещё громче это скажет Белинский, объявивший, как мы помним, Христа Спасителя проповедником и утвердителем идей свободы, равенства и братства. Социалист Герцен, заметим к слову, был в своих идеях трезвее и последовательнее, ибо с социальными идеями имени Спасителя не сопрягал. Заблуждение Чаадаева (и иже с ним) относительно «водворения Царства Божия на земле» имеет истоком хилиастическую ересь, отвергнутую еще Вторым Вселенским Собором. Она, в свою очередь, основывалась на неверном понимании откровения о тысячелетием царстве (Откр. 20, 4–6). Кратко вспомним, что по толкованию Святых Отцов тысячелетнее царство есть земное бытие Церкви Христовой, и оно осуществляется от времени основания этой Церкви, то есть от времени пребывании Спасителя на земле, — до второго Его Пришествия. Слово же тысяча, смущающее многих, употребляется здесь, как и в иных местах Писания, не для количественного обозначения, но как указание на множество в его полноте. Давняя ересь, как видим, со временем вульгаризировалась и преобразовалась в социальную утопию, которую Чаадаев счел возможным подкрепить собственным «богословием»: ссылкою на текст Евангелия, имеющий, если вникнуть, совершенно иной смысл. Это место «Философического письма» заставляет недоумевать над странной логикою автора: из молитвы Спасителя к Отцу о даровании ученикам и последователям, то есть Церкви, духовного единства Чаадаев неведомым образом выводит идею светлого будущего, своего рода земного рая, пренебрегая ясным указанием Бога Сына: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36).
По логике Чаадаева, именно эти слова Спасителя должны бы считаться «фактом отпадения от первоначальной доктрины» (лексика философиста также примечательна, попутно будет замечено). Чаадаев становится большим христианином, нежели Сам Основатель христианства. Итак, христианство превратилось в сознании Чаадаева в социально-утопическую доктрину, в некую теорию исторического прогресса. Не ново и вполне в духе просветительских представлений.
При этом Чаадаев, по свидетельству Бакунина, воображал именно себя «руководителем и знаменосцем» всего прогрессивного движения человека к «совершенствованию на земле» (8). Это, заметим, и впрямь обильнее прославлением и блеском, чем любое положение даже при дворе Его Императорского Величества. Идеи Чаадаева родились из явного греха любоначалия.
Однако о светлом будущем размышляли многие и многие, каждый на свой манер. А что же для философиста Чаадаева представлялось основою всеобщего счастливого прозябания — на земле, на земле и только на земле (ибо идея спасения, обретения Царства Небесного, им в расчет не принималась)? Логика «Философического письма» вовлекает читателя в свою ясную и стройную систему. Оно обращено к некой сударыне — и хотя исследователи называют конкретную, знакомую автору женщину, которую он подразумевал при этом, адресат представляет собою скорее обобщённый образ некоего внимающего сознания. Почему это женщина и почему в единственном числе (а не мужчина или некоторое неопределенное множество)?
Чаадаев избирает любопытный приём, помогающий вернее достигнуть цели, овладеть умами тех, на кого направлена его идеологическая агитация. Психологический расчёт точен: женский ум более податлив, а читая письмо, обращённое к такому уму, каждый невольно станет отождествлять себя с «получательницей письма», невольно подстраиваясь под её воображаемое восприятие, но одновременно не ослабит и собственного внимания, дробя его на множество посторонних внимающих, а сосредоточит ум в едином фокусе — и по этой заданной программе будет проводиться коррекция сознания подсознанием едва ли не каждого читателя. Хотим мы того или нет — но избранный автором приём невольно размягчает хоть ненамного нашу волю к сопротивлению чужим идеям, да и наш рассудок тоже. И вот уже звучит прямо к нам обращённое слово:
«Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно размещаются все события дня и без чего так же невозможно здоровое нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего воздуха, — у вас их нет и в помине. Вы понимаете, что речь идёт ещё вовсе не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринуждённость уму и вносят правильность в душевную жизнь человека» (36). А ведь это утверждение принципа «бытие определяет сознание» — при почти отождествлении бытия и обыденного быта. Но не только сознание, а и нравственность ставится в зависимость от степени благоустройства жизни. Тут надо бы обращаться за поддержкой не ко Христу, а к Марксу, пожалуй. Несколько далее Чаадаев возвращается к этому же постулату:
«Истинное развитие человека в обществе ещё не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более лёгкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи» (37). Говоря современным языком — перед нами философия потребительства. Это то самое, о чём предупреждал Апостол:
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2, 15–17).
Любовь к миру (в апостольском понимании) — вот Чаадаев. Можно бы поразмыслить о том, насколько легка, приятна и благоустроена была жизнь народа… ну, например, во времена преподобного Сергия — и по логике Чаадаева придти к выводу, что истинное развитие всего сонма великих подвижников Святой Руси, да и всего народа, было, пожалуй невозможно… но это уж совсем скучно. Однако пусть не создастся ни у кого впечатления, будто при неприятии мира отдаётся предпочтение первобытной лучине. Речь идёт духовной иерархии ценностей, а не о принципах обустройства быта. Порочен не сам материальный прогресс, а превращение его в идола, что и есть проявление любви к миру. Чаадаев философствует не о религии, но о цивилизации— это его право. Только подменять одно понятие другим, что совершает философист, — для философии неприемлемо. Подменять же народный идеал собственным идолом, делая из него меру всех вещей, — и вовсе преступно. На такой подмене строится чаадаевское отрицание вклада России в общечеловеческую историю. Отрицание русской истории вообще.
«Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствовавшая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишённым силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, всё занимаемое нами пространство, — вы не найдёте ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы нам о прошлом, который воссоздавал бы его перед нами живо и картинно. Мы живём одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мёртвого застоя» (37).
Всё это написано человеком не только предвзято необъективным, но и невежественным в русской истории. Чаадаеву можно и не отвечать: за нас давно ответил Пушкин: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, её движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и кончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели всё это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Пётр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привёл нас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы?» (10, 875).
Правда, для прагматика Чаадаева всё это не аргумент. История может быть какой угодно бурной, но в ней не найдут смысла ему подобные, когда она не завершается лёгкостью и приятностью благоустроенной жизни. У Чаадаева сыщется немало единомышленников. Вот хотя бы Герцен: «Россия никогда не имела этого развития и не могла иметь»124. (Речь идёт о собственном историческом развитии). Кто же виноват во всём этом? Опережая этот непременный «русский вопрос», Чаадаев отвечает определённо: Православная Церковь. «В безжалостном анализе он прямо и неуклонно указывал тому причины, — обобщает Жихарев эту сторону идеологии Чаадаева, — и в их числе главною полагал недостаточность религиозного направления и развития, неправду и растление греческого православия, по милости которого считал Россию страною, находящеюся вне европейского христианского единения, а русских — народом почти нехристианским и таковым гораздо меньше, например, нежели народы протестантские»125. Если вспомнить главный критерий христианства в понимании Чаадаева, то нужно признать его правоту: Православие никогда не ставило бытовой комфорт земной жизни идеалом духовного стремления человека, и даже условием нравственного развития. Но кто же ставил? По мысли Чаадаева: «истинное христианство», отождествлённое им с католичеством. Для утверждения этой идеи философист и пытается осуществить то единение мудрости мира сего с евангельской Истиной, в котором усматривал насущную потребность всего человечества:
«Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нём есть чисто историческая сторона, которая является одним из самых существенных элементов догмата и которая заключает в себе, можно сказать, всю философию христианства, так как показывает, что оно дало людям и что даст им в будущем. С этой точки зрения христианская религия является не только нравственной системою, заключённой в преходящие формы человеческого ума, но вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире и чьё явственное обнаружение должно служить нам постоянным уроком. Именно таков подлинный смысл догмата о вере в единую церковь, включённого в символ веры. В христианском мире всё необходимо должно способствовать — и действительно способствует — установлению совершенного строя на земле; иначе не оправдалось бы слово Господа, что Он пребудет в Церкви Своей до скончания века.
Тогда новый строй, — Царство Божие, — который должен явиться плодом искупления, ничем не отличался бы от старого строя, — от царства зла, — который искуплением должен быть уничтожен, и нам опять-таки оставалась бы лишь та призрачная мечта о совершенстве, которую лелеют философы и которую опровергает каждая страница истории, — пустая игра ума, способная удовлетворять только материальные потребности человека и поднимающая его на известную высоту лишь затем, чтобы тотчас низвергнуть в еще более глубокие бездны» (43–44).
Это несостоятельное «богословие» призвано оправдать потребительский прагматизм, мудрость мира сего (самоё возможность постановки религиозно-меркантильного вопроса: а что вам даст Истина?), пусть автор и полагает, будто такое стремление к земному раю поднимается над материальными потребностями человечества, ибо, по его мнению, совершенный строй социального обустройства людей можно назвать царством добра. Чаадаев понимает, что без одухотворяющего Божественного присутствия любое coциальное совершенство останется призрачным, и человечество низвергнется из него в «ещё более глубокие бездны». Чтобы этого не случилось, он старается богословски обосновать возможность присутствия «божественной силы» при «установлении совершенного строя на земле». Именно претендуя на истинное богословие, философист утверждает, что Крестная Жертва Спасителя совершалась ради земного «нового строя». Такой новый совершенный строй он отождествляет с Церковью, и логически неопровержимо (другое дело, что логика ущербна) относит слова Господа о Своём пребывании в Церкви до скончания века — к собственной социальной утопии. Итак, слова Символа Веры (то есть девятый член Символа) «верую во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь» нужно, по Чаадаеву, понимать так: верую в установление совершенного социального строя на земле. Не иначе. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: — Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: «Вот оно здесь», или «Вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 20–21).
Для автора «Философического письма» — Царствие Божие во внешнем благоустройстве приятной и лёгкой жизни, одухотворённой присутствием Христа Спасителя. Это Царство Чаадаев уже отыскал — в современном ему европейском мире (то есть сказал: «Вот оно здесь»):
«…Несмотря на всю неполноту, несовершенство и порочность, присущие европейскому миру в его современной форме, нельзя отрицать, что Царство Божие до известной степени осуществлено в нём, ибо он содержит в себе начало бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его окончательного водворения на земле» (47).
Ироничный Герцен, сам убеждённый западник, русское чрезмерное преклонение перед Западом разъяснял таким сравнением: «Наши отношения к Западу до сих пор были очень похожи на отношение деревенского мальчика к городской ярмарке. Глаза мальчика разбегаются, он всем удивлен, всему завидует, всего хочет — от сбитня и пряничной лошадки с золотым пятном на гриве до отвратительного немецкого картуза и подлой гармоники, заменившей балалайку. И что за веселье, что за толпа, что за пестрота! Качели вертятся, разносчики кричат, паяцы кричат, а выставок-то, винных, кабаков <…>, и мальчик почти с ненавистью вспоминает бедные избушки своей деревни, тишину её лугов и скуку тёмного, шумящего бора»126. К самой конкретности западного мира Герцен беспощаден: «Мещанство— последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности, — демократизация аристократии, аристократизация демократии. <…> С мещанством стираются личности, но стёртые люди сытее; платья дюжинные, незаказные, не по талии, но число носящих их больше. С мещанством стираются красоты природы, но растет её благосостояние»127.
Западник Тургенев высказался о западной жизни ещё жёстче:
«Я должен сознаться, что всё это крайне мелко, прозаично, пусто и бесталанно. Какая-то безжизненная суетливость, вычурность или плоскость бессилия. <…> Общий уровень нравственности понижается с каждым днём — и жажда золота томит всех и каждого…»128. Так он жаловался на французскую действительность старику С.Т.Аксакову в середине 50-х годов XIX века. И ведь не случайно именно Аксакову — знал, что в среде славянофилов его лучше поймут.
Подобных суждений, основанных на непосредственном соприкосновении с западной жизнью, можно набрать немало — у Достоевского, Л.Толстого, Щедрина и других многих. И проступает картина, Царству Божию не слишком соответствующая. Чаадаев составил своё «Письмо» ещё в 1829 году. Вероятно, потрясения европейской жизни 1830 года больно отозвались в его душе: рушился идеал стабильности и порядка. И может быть, революционные события той поры острее и болезненнее переживались Чаадаевым в Москве, нежели даже большинством французов в Париже. Это ли, другие ли причины, но позднее у Чаадаева встречались и критические высказывания в сторону Запада, в чём он опередил многих, как славянофилов, так и западников. Однако ничто не помешало ему всё же опубликовать свой философический панегирик европейскому миру в 1836 году. Превознося Запад, философист квалифицировал и путь, которым, по его мнению, западный мир шествовал к своему земному эдему — через революции: «Все политические революции были там, в сущности, духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние» (45).
Ещё жива была память о кровавейшей революционной резне нового времени — во Франции конца XVIII века, — но автор «Философического письма» как будто знать не знает и не хочет знать, что истины революция никогда не ищет, да и не может искать (а если бы и захотела, так и не нашла бы — в крови и насилии), и что якобы обретение свободы обернулось ещё большей тиранией на деле.
Сравним мысль Чаадаева с осмыслением французской революции, какое предложил другой западник, профессиональный историк Грановский:
«Свобода, равенство и братство, — вспоминает слова Грановского Б.Чичерин, — таков лозунг, который французская революция написала на своём знамени. Достигнуть этого нелегко. После долгой борьбы французы получили наконец свободу; теперь они стремятся к равенству, а когда упрочатся свобода и равенство, явится и братство. Таков высший идеал человечества»129.
В восприятии революции многие западники оставались, несмотря ни на что, — неисправимыми романтиками.
По поводу знаменитого революционною лозунга Достоевский, наблюдая реальную западную ситуацию, писал не без иронии: «Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать всё что угодно в пределах закона. Когда можно делать всё что угодно? Когда имеешь миллион. Даёт ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает всё что угодно, а тот, с которым делают всё что угодно. Что ж из этого следует? А следует то, что кроме свободы есть ещё равенство, и именно равенство перед законом. Про это равенство перед законом можно только сказать, что в том виде, в каком оно теперь прилагается, каждый француз может и должен принять его за личную для себя обиду. Что ж остаётся из формулы? Братство. Ну эта статья самая курьёзная и, надо признаться, до сих пор составляет главный камень преткновения на Западе. Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы то ни стало. Но оказывается, что сделать братства нельзя, потому что оно само делается, в природе находится. А в природе французской, да и вообще западной, его в наличии не оказалось»130.
Для Достоевского братство является понятием, имеющим религиозную природу. Да иной природы и быть не может (это, мы помним ещё Гоголь в «Шинели» на эстетическом уровне исследовал и утвердил). Братство ведь предполагает общее сыновство по отношению к некоему отцу. Братство в человеческом сообществе может быть основано на одном лишь сыновстве — у Отца Небесного. Ведь и Чаадаев светлого будущего без Христа не мыслил. Революции же, которые борются с христианством, и на социальном уровне не без успеха, хоть и временного, самоё основу братства подрывают. Но идеология западнического толка, порождающая и все революционные стремления, этого почему-то знать не хочет.
Ради торжества своего идеала Чаадаев готов оправдать любое зло:
«Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров, зажжённых нетерпимостью, мы можем только завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины, целый мир идей, которого мы даже представить себе не можем, не говоря уже о том, чтобы перенестись в него телом и душой, как у нас об этом мечтают» (46).
О перенесения телом и душой мы поговорим в следующем разделе этой главы, вспоминая судьбу В.Печерина. Здесь же скажем, что завидовать кострам и пролитию крови может лишь фанатик идеи, для которого — ради вожделенной идеи все средства хороши. Чаадаев по-своему логичен: страсть к католичеству неизбежно должна принуждать к принятию и иезуитского принципа. (Позднее подобный же Чаадаеву рационалист, но с обострённым нравственным чутьём, Иван Карамазов, отвергнет такое пренебрежение средствами в угоду любой цели, даже более великой, нежели комфортное прозябание в земном раю). Чаадаев слишком далеко проследовал, пусть и в отвлечённо-философском смысле, по западному пути. Православие сдерживало движение к революциии иезуитству (хотя позднее усилями западников подобный прогресс всё же осуществил себя), о чём писавший свой панегирик европейской цивилизации философист пожалел не раз: «В то время, как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному Божественным Основателем, увлекая за собою поколения, — мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места» (43).
О предначертании, якобы совершённом Божественным Основателем христианства, Чаадаев упомянул, как мы установили, всуе: движение совершалось в ином направлении (во всяком случае, философист назвал ориентиры этого движения, расставленные явно лукавым соблазнителем), и это тот случай, когда неподвижность нужно оценить как достоинство. В пренебрежении прогрессом и идеей Царства Божия на земле Чаадаев винил неудачный выбор веры, которую Русь восприняла от «жалкой презираемой <…> народами Византии» (42).
К Церкви ведь Чаадаев относится как к социальной корпорации и прилагает к ней оттого соответствующие критерии: «В Европе всё одушевлял тогда животворный принцип единства. Всё исходило из него и всё сводилось к нему. Всё умственное движение той эпохи было направлено на объединение человеческого мышления; все побуждения коренились в той властной потребности отыскать всемирную идею, которая является гением-вдохновителем нового времени» (42). Итак, единство Церкви философист-богослов видит не в единстве стяжания благодати Духа Святого, а в единстве рационального начала, сосредоточенного на отыскании некоей всемирной идеи. Отыскали, если следовать мысли Чаадаева, только старую ересь — чего он сознавать не хочет. Само начало противостояния Православия и католичества Чаадаев объяснил весьма просто: «волею одного честолюбца (Фотия)» (42). И ничем более. Догматическая сторона вероучения для этого религиеведа не существует вовсе, он не хочет вникать в богословские тонкости, знать историю Церкви, уважать православного Патриарха — всё это ему не интересно и не важно. И он, скорее всего, вполне искренен в своём невежестве. Чаадаев утверждал, что православные народы были «отторгнуты от всемирного братства» (42). Ныне принято говорить о «разделении Церквей» — более тактично. Должно напомнить: разделения Церквей не было. Произошло же в 1054 году — назревавшее за много лет до того (и при Патриархе Фотии в IX веке обострившееся, но не совершившееся окончательно) отпадение от единой Святой Соборной и Апостольской Церкви части её народа, соблазнённой земным суемудрием, которое начало искажать Истину Христову и святоотеческое учение. Честолюбием одного человека, если бы оно и было, такое не совершается. Чаадаев вряд ли сознавал важность догматической стороны вероучения. Для него едва ли не абсолютною ценностью в религии являлась обрядовая ее сторона: «…Лучший способ сохранить религиозное чувство — это соблюдать все обряды, предписываемые Церковью. Это упражнение в покорности, которое заключает в себе больше, чем обыкновенно думают, и которое величайшие умы возлагали на себя сознательно и обдуманно, есть настоящее служение Богу. Ничто так не укрепляет дух в его верованиях, как строгое исполнение всех относящихся к ним обязанностей. Притом большинство обрядов христианской религии, внушённых Высшим Разумом, обладает настоящей животворной силой для всякого, кто умеет проникнуться заключёнными в них истинами» (34–35).
Обряды, несомненно, важны в любой религии. Однако по отношению к ним встречаются две крайности. Невоцерковлённое сознание часто отрицает их значение, пренебрегает ими. Этим особенно грешат разного рода протестанты, не знающие Церкви, Соборной и Апостольской. Но нередко можно встретить исключительное внимание лишь к обрядовой стороне, что также губительно для духовной жизни. Преподобный Серафим Саровский предупреждал в беседе с Мотовиловым:
«Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро — вот тебе и цель жизни христианской. <…> Но они не так говорили, как бы следовало. <…> Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения её. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего»131.
Поучение преподобного имеет универсальное значение, но оно помогает и правильно понять смысл обрядовой стороны (хождения в церковь). Прежде всего, великий подвижник рассматривает обряды не отъединённо, как Чаадаев, от других обязанностей христианина, но в целокупности с ними. И он же говорит о подчинённом их значении — по отношению к стяжанию Святого Духа. Так в краткой форме великий святой установил истинную иерархию христианских духовных ценностей.
Отзываясь на слова преподобного Серафима Саровского, церковный писатель Н.Е.Пестов справедливо заметил, что «указанное выше заблуждение у христиан близко к так называемой «юридической теории» спасения у католиков»132, — и тем как бы разъяснил, не имея, конечно, специального намерения, истоки заблуждения Чаадаева.
Исключительное внимание лишь к соблюдению обрядов может привести, как известно, к обрядоверию и фарисейству. Но это для Чаадаева должно быть безразлично, ибо фарисейство угрожает прежде всего духовной жизни, а философист, хотя и рассуждает о духовности, понимает под этим словом исключительно душевное стремление к жизненным благам. Впрочем, Чаадаев допускает и пренебрежение обрядами для особо избранных:
«Существует только одно исключение из этого правила, имеющего в общем безусловный характер, — именно когда человек ощущает в себе верования высшего порядка сравнительно с теми, которые исповедует масса, — верования, возносящие дух к самому источнику всякой достоверности и в то же время нисколько не противоречащие народным верованиям, а, наоборот, их подкрепляющие; тогда, и только тогда, позволительно пренебрегать внешнею обрядностью, чтобы свободнее отдаваться более важным трудам» (35).
Слишком туманно это рассуждение о «верованиях высшего порядка». Каково содержание, какова природа этих «верований»? Ясно лишь одно: сама мысль о них порождена беспредельной гордыней, да и несомненно: к избранным Чаадаев относит прежде всего себя.
Философист сознаёт опасность подобных представлений: «Но горе тому, кто иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего ума принял бы за высшее просветление, которое будто бы освобождается от общего закона» (35). Святоотеческая мудрость определяет такое состояние, как мы знаем, словом прелесть. Чаадаев догадался о её возможности, но не сообразил, что сам пребывает в ней. Находясь в прельщении ума, Чаадаев осмысляет мировую историю с позиции банального универсализма, предполагая существование общезначимых исторических законов на том пути, каким обязаны проследовать все народы, а за ними народ русский: «Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя всё воспитание человеческого рода» (38). Воспитание же он разумеет в католическом духе. Сожалея о том, что Россия всё никак не станет на этот проторённый путь и не плетётся в хвосте у Европы, философист называет причину, назойливо повторяя её раз за разом: «Это — естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса…» (38) Кажется: тут явное противоречие, поскольку и повторение европейского пути есть также заимствование и подражание. Для Чаадаева же противоречия здесь нет: подражание Западу для него не может не быть плодотворным, порочно одно заимствование Православия. Позволительно предположить некоторую самоослеплённость у человека, для которого на Западе всё превосходно: даже в инквизиции и революции он видит благо, поскольку они выражают стремление к прогрессу и светлому будущему, торжеству цивилизации, абсолютному господству сокровищ на земле. Здесь Чаадаев недалёк от марксистов, которые последовательнее его, поскольку не пытаются украсить свой исторический материализм и коммунистическую гипотезу христианскими идеями. Сближает философию Чаадаева с историческим материализмом представление об отсталости русского народа, русской истории: ведь критерием в обоих случаях является исключительно занимаемое народом место на пути прогресса. Поэтому идеолог западничества едва ли не в отчаянии:
«Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменён по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и всё, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь» (41–42).
Опыт православной жизни, разумеется не в счет, к общему закону человечества Православие отношения не имеет. Вывод Чаадаева непреложен: необходимо отказаться от Православия: «Итак, если эта сфера, в которой живут европейцы и в которой в одной человеческий род может исполнить свое конечное предназначение, есть результат религии и если, с другой стороны, слабость нашей веры или несовершенство наших догматов (выделено мною. — М.Д.) до сих пор держали нас в стороне от итога общего движения, где развивалась и формулировалась социальная идея христианства, и низвели нас в сонм народов, коим суждено лишь косвенно и поздно воспользоваться всеми плодами христианства, то ясно, что нам следует прежде всего оживить свою веру всеми возможными способами и дать себе истинно христианский импульс, так как на Западе всё создано Христианством. Boт что я подразумевал, говоря, что мы должны от начала повторить на себе всё воспитание человеческого рода» (45). Откровеннее не скажешь.
Нет смысла опровергать заблуждения Чаадаева относительно исторической бесплодности русской жизни, ибо кто ничего не видит, тот просто слеп. Нет смысла доказывать абсолютное совершенство догматов Православия: такое постигается на уровне веры, а не рациональной философичности. Нужно лишь согласиться с Чаадаевым, что мы часто — и вплоть до сего времени — перенимали на Западе лишь «обманчивую внешность и бесполезную роскошь». Но при взаимодействии с чуждой системой ценностей иного и быть не может. Урок, который русская жизнь может дать истории, не заключается ли в том, что никаких общих законов социальной жизни просто не существует? Их универсализм порождён рассудком человеческим, придавшим некоторым частным закономерностям в одной какой-либо сфере жизни — свойство всеобщих установлений глобального характера. Собственно, «Царство» в чаадаевском понимании на Западе устанавливается как будто. Но ещё великая русская литература XIX столетия показала: в тех условиях, в которых западный человек испытывает полное довольство и к каким стремится всеми усилиями, русский человек томится и недоумевает: «чего мне ждать! тоска! тоска!».
В «Философическом письме» превозносятся абсолютные ценности цивилизации и прогресса: «идеи долга, справедливости, права, порядка» (39). Но разве Православие отвергает эти понятия? Нет, разумеется, но устанавливает свою иерархию ценностей, исходя из евангельского откровения: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).
Долг, справедливость, право, порядок есть для православного человека следствие в движении на пути не к земному блаженству, но к спасению. Для западного человека эти же понятия есть необходимое условие для достижения земного рая. Собственно, эти драгоценнейшие Чаадаеву понятия объединяются общей для них идеей закона, в них — главное содержание принципа юридизма, каким живёт западническое сознание Самое начало русской культуры сопряжено с установлением православной системы ценностей — в «Слове о Законе и Благодати» святитель Иларион точно указал: Благодатью человек спасается, Законом утверждает себя в мире. Для православного человека поэтому закон подчинён Благодати. Для западника подобная иерархия представляется непрактичной. «…В природе <…> вообще западной <…> оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своём собственном Я, сопоставления этого Я всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него»133, — так Достоевский передал своё впечатление от наблюдаемой им западной жизни.
Достоевский, исходя из православного миропонимания, утверждал, что не отдельное Я должно требовать себе прав от остального мира, но этот мир, побуждаемый братской любовью, стремлением к спасению, необходимо должен признать самоценное право каждой личности, основанное на её неповторимом своеобразии.
Порабощённый тщеславием и любоначалием, Чаадаев отдаёт приоритет самодовлеющему стремлению человека утвердить себя в мире, и оттого, ни словом не обмолвившись о спасении как цели бытия (и имея в виду иную цель), не может не превознести закон. Не усматривая подобного же отношения к закону в православном народе, Чаадаев обвиняет русских в «полном равнодушии к добру и злу, к истине и ко лжи» (40). Оторванное от общей европейской (католической) семьи, русское сознание поэтому не смогло «воспользоваться идеями, возникшими у наших западных братьев» (43). Отметим ещё раз, что отвергая те основы, которые только и могут установить братство между людьми, западники не устают твердить именно о братстве. Что же до идей, на Западе возникших, то нетрудно вспомнить: это идеи гуманизма, то есть всё того же самообособления человека, отвержения им Творца (в лучшем случае приспособления Слова Божия для подтверждения собственных социальных вожделений). На протяжении всей истории человек постоянно соблазнялся этой передовой идеей: живи собственной волею, устраивайся с приятностию в земной жизни, утверждай себя своими делами — Сын Божий именно для того совершил искупительную жертву на Кресте.
Жившую иными стремлениями Святую Русь оклеветали, объявили отсталой, косной, оплевали, осмеяли — занимаясь этим особенно рьяно с петровского времени, и в итоге уже в наши дни заклеймили окончательно, обозначили как «допетровский столбняк» (Евтушенко). Чаадаев приложил к тому немалые старания. В нашу задачу не входит исследование эволюции взглядов Чаадаева в их полноте, но справедливости ради должно отметить изменение позиции философа-западника в более поздний период. Опять-таки не наша цель — прослеживать причины и этапы развития убеждений Чаадаева, поэтому ограничимся наблюдениями и выводами исследователя (Б.Н.Тарасова): «…Не без влияния славянофилов, Чаадаев готов был видеть в социальной идее католичества, в его «чисто исторической стороне» «людские страсти» и «земные интересы», искажающие чистоту «христианской истины», а потому и приводящие к такому несовершенству. Более того, он начал сомневаться в самой возможности слияния религиозного и социально-прогрессивного начал в «одну мысль», в возможности установления «Царства Божия» на земле и соответственно переоценивал «религию вещей», «политическое христианство», постигающее «Св. Духа как духа времени». Эта «одна мысль» как бы расщепляется на составные части, которые соприкасаются друг с другом через принципиальную и глубоко косвенную опосредованность».
«…Христианство, — замечал Чаадаев в письме 1837 года к А.Тургеневу, — предполагает жительство истины не на земле, а на небеси… Политическое христианство отжило свой век… должно было уступить место христианству чисто духовному… должно действовать на гражданственность только посредственно, властью мысли, а не вещественно. Более нежели когда оно должно жить в области духа и оттуда озарять мир, и там искать себе окончательного выражения». Это «духовное христианство» oн обнаруживает в России, в тех свойствах Православия (историческая «выдвинутость» из построения «земного царства», слабость теократического начала, аскетизм и т. п.), которые не повлияли на традиционную преемственность социально-прогрессистских идей и, следовательно, воспринимались им ранее отрицательно, а теперь рассматриваются совершенно иначе. «…Христианство осталось в ней (в России. — Б.Т.) незатронутым людскими страстями и земными интересами, ибо в ней оно, подобно своему Божественному Основателю, лишь молилось и смирялось, а потому мне представлялось вероятным, что ему здесь дарована будет милость последних и чудеснейших вдохновений».
Именно традиции «духовного христианства», считал Чаадаев, лежат в основании русского религиозно-психического уклада и являются плодотворным началом своеобразного развития России. «Мы искони были люди смирные и умы смиренные; так воспитала нас Церковь наша, единственная наставница наша. Горе нам, если мы изменим её мудрому ученью! Ему мы обязаны всеми лучшими народными свойствами, своим величием, всем тем, что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши», — писал он Вяземскому в 1847 году. В отличие от католичества, плодами Православия на Руси являются не наука и благоустроенная жизнь, а особое духовное и душевное устройство человека — бескорыстие сердца и скромность ума, терпение и надежда, совестливость и самоотречение. Эти качества Чаадаев теперь обнаруживал там, где раньше он видел только «немоту лиц» и «беспечность жизни», отсутствие «прелести» и «изящества». Именно они, эти качества, а не внешние достижения и успехи культурного строительства на Западе способствуют преодолению индивидуализма и всечеловеческому соединению людей на подлинных нравственных — «великодушных» — началах, являются залогом особого призвания России. Ещё до опубликования «телескопского» письма он в одном из посланий к А.Тургеневу замечал: «Россия, если она только уразумеет своё призвание, должна принять на себя инициативу проведения всех великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы» (15–16).
Однако на общественную мысль эти мнения Чаадаева, высказываемые им преимущественно в частной переписке, влияния не оказали. Уже в конце XX столетия в Чаадаеве разглядели идейного союзника обличители и противники русского патриотизма. Некоторое время едва ли не бесконечно цитировались ставшие почти крылатыми размышления Чаадаева, противопоставившего любовь к родине любви к истине: «Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть ещё нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине рождает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создаёт духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. Не через родину, а через истину ведёт путь на небо. Правда, мы, русские, всегда мало интересовались тем, что — истина и что — ложь…» (134).
Фразы Чаадаева афористически чётки, они дышат пафосом романтически самоупоёниого восторга — ибо именно в себе, несомненно, узревает он приверженца истины. Так писал он в «Апологии сумасшедшего» (1836–1837), незаконченной попытке оправдаться и разъяснить свои взгляды — писал, несомненно, напуганный реакцией власти на публикацию в «Телескопе»: если издатель и цензор, гораздо менее виноватые, понесли серьезное наказание, то автору следовало ожидать большего. Но отделавшись лёгким испугом, Чаадаев, может быть, оттого и бросил «Апологию» на полпути? Чаадаевское противопоставление патриотизма и любви к истине — поверхностно и не истинно. Так истину не любят: ей должно служить даже наперекор собственным убеждениям, преодолевая их, когда они истине противоречат. Комментарием к рассуждениям апологета западничества может стать сопоставление его взглядов с истинною глубиною религиозного осмысления любви к родине — в работах С.Н.Булгакова.
«Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землёй и со всем Божиим творением. Человек существует в человечестве и природе, и образ в его существовании даётся в его рождении и родине»134. «Любовь свойственна лишь духу, я, и любовь к родине есть всё-таки духовное самоопределение я, и поскольку она требует от него жертвенности, однако без обращения предмета любви в кумир, в мнимое божество»135. Последнее замечание особенно важно, ибо оно напоминает об истинной иерархии ценностей. Достоевский точно выразил эту иерархию, когда утвердил: Правда выше России. Как будто он в такой мысли оказался единомышленником Чаадаева? Нет. Ибо для него правда есть не некая истинная идея, рождённая человеческим опытом и рассудком, но Правда Христова— и ничто иное, поэтому и понятие родины лишь тогда священно, когда осмысляется через Божью мудрость. Само понятие отечества (синонима родины) в Новом Завете раскрывается как сакральное:
«Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле…» (Еф. 3, 14–15).
Противопоставление такого понимания отечества (родины) и истины есть отрицание истины, единственным критерием которой может быть лишь слово Священного Писания.
«Отечество, — писал С.Н.Булгаков, разумея под этим словом именно родину, — есть только расширенное понятие отцовства и сыновства, собрание отцов и матерей, породивших и непрерывно порождающих сыновство. Эта идея нации как реального, кровного единства получила пластическое выражение на языке Библии…»136.
Причину и природу своего отношения к родине указал сам Чаадаев:
«Я люблю моё отечество, как Пётр Великий научил меня любить его» (143). Но Пётр-то любил не нацию, не родину в сакральном смысле, но — государство, которое такой любовью превратил в земную ценность. Пётр, несомненный кумир всех западников, положивший своими реформами начало многим бедам Русской Православной Церкви, едва ли не главной целью имевший: навсегда порвать с самой идеей Святой Руси, — какой любви мог научить он? Чаадаев всё же сумел отказаться от многих своих заблуждений (жаль, о том мало кто узнал) и прежде всего — от посягательств на оклеветание Православной Церкви, которые он назвал «преувеличением»: «…Было преувеличением не воздать должного этой Церкви, столь смиренной, иногда столь героической, которая одна утешает за пустоту наших летописей, которой принадлежит честь каждого мужественного поступка, каждого прекрасного самоотвержения наших отцов, каждой прекрасной страницы нашей истории…» (145).
Он пояснил, что указывая на необходимость для России следовать по западному пути он вовсе не подразумевал повторений всех ошибок и заблуждений Запада, но напротив — умение избегать всего дурного, что имеется в инопредельной жизни, умение учиться на чужих ошибках, дабы не повторить их. Чаадаев полагал, что Россия пребывает в более выгодном положении, нежели Запад: где тот, выбиваясь из сил, веками торил неведомый путь, она может бодро и легко пройти к процветанию и благополучию. «Больше того, — уверен Чаадаев, — у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество» (143). Нo не утопия ли это? Может ли чужой опыт стать вполне собственным опытом? История, как давно замечено, опровергает такие предположения. Да зачем отказываться от собственного пути? От собственного взгляда на мир? Славянофилы стояли, как мы помним, на ином: только имея свой собственный, православный взгляд на мир, одолевая собственный путь, можно ответить на вопросы, какие занимают человечество. Да так на практике и было. То, что мудрецы, подобные Чаадаеву, отвергали такой взгляд, скорее беда их, нежели вина. Внутренняя искренность в желании блага своей стране, народу — бросает на их фигуры трагический отсвет. Радищев, многие декабристы, Белинский, Чаадаев, Чернышевский… — жизнью, счастьем жертвовали эти благородные борцы ради творимого ими идола, не различая в туманном для них счастливом будущем чаемого нового «царства» — торжества сатанинской безудержи.
4. Владимир Сергеевич Печерин
Чаадаев стал первым идеологом западничества, обосновал его теоретически. Ничего принципиально нового и оригинального никто после Чаадаева в своих рассуждениях о необходимости для России плестись в хвосте у Запада не обнаружил: все лишь перелагали на свой лад основные чаадаевские резоны. Практически западничество большинства русских патриотов выражалось в увлечении внешними формами жизнеустроения — от одежды, бытовых привычек до неумения грамотно изъясняться по-русски; претендующие же на мыслительную деятельность увлеклись передовыми идеями западной философии, науки, политической экономии, социально-утопическими фантазиями и т. п., то есть в основном тем, что Ленин позднее определил как три основных источника марксизма. Именно западники возделывали почву для укоренения на Руси этого губительного комплекса идей, принесших неисчислимые беды нашему отечеству.
В религиозном отношении западники с самого начала были настроены антиправославно, но демонстративно порывали с Православием немногие. Среди этих немногих нашелся человек, который с переходом из Православия в католичество соединил непостижимую ненависть к России, ко всей русской жизни. Из России он бежал с ужасом и радостью. Свой жизненный путь этот человек запечатлел в предназначенных им к публикации записках, так что мы можем проанализировать их как всякое литературное произведение, осмыслить трагический итог жизни автора — не упуская из памяти, что перед нами не вымышленный герой, порождённый фантазией романиста, но человек с реальными стремлениями, страстями, страданиями: Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885).
На имя это иные современные западники указывают порою как нa своего рода символ истинного типа мышления и поведения. Печерину принадлежат поэтические строки, которые нетрудно воспринять как гимн ненависти к России:
Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать её уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья! (161)137
Их нередко цитируют с восторгом, забывая, что сам автор позднее называл эти строки безумными. Заметим, что жёсткие требования версификации обусловили неуклюжую инверсию в последней строке, придав стихам неожиданный смысл. Разумеется, автор имел в виду денницу (т. е. зарю) всемирного возрождения— да так в размер не втискивается. Вынужденное сочетание «всемирного денницу» невольно заставляет воспринимать слово «денница» в мужском роде, так что в последней строке вдруг появляется всемирный денница (т. е. сатана) возрожденья. И всё четверостишье вдруг обретает совершенно независимый от воли автора смысл: в разрушении России проявляется возрождение власти князя мира сего. Печерин повторил судьбу пророка Валаама (Числ. 22, 5-24, 25): вознамерился проклясть, а по сути благословил, предрекая гибельность падения России — для мира.
Но проклясть всё же — хотел. И поскольку «Замогильные записки» Печерина суть стройное и откровенное литературное повествование о жизненном пути мемуариста, то к ним можно применить обычный литературоведческий анализ, исследовав причины и следствия состояния души, обуянной ненавистью. Автор даже навязывает такой подход к его мемуарам. «Я действительно был поэтом, — пишет Печерин в самом начале своего мемуарного труда, пожалуй, даже не подозревая, к какому итогу он придёт, — не в стихах, а на самом деле. Под влиянием высшего вдохновения я задумал и развил длинную поэму жизни и, по всем правилам искусства, сохранил в ней совершенное единство. Несмотря на разнообразные события одна идея господствует над всем — это непобедимая вера в ту невидимую силу, которая вызвала меня на Запад и теперь ведёт путём незримым к какой-то высокой цели, где всё разрешится, всё уяснится и всё увенчается» (149). Соблазнительно хотя бы попытаться отыскать эту идею печеринской поэмы жизни. Что уяснится, когда мы сумеем прочесть его поэму? «История души человеческой» — к запискам Печерина в большей мере подходит это лермонтовское определение, нежели к дневнику его почти однофамильца. Печорин лермонтовский томился под конец жизни от сознания себя орудием в руках надмирной судьбы. Печерин реальный со стыдом осознал, что долгое время был орудием тёмных сил, когда обманывался, будто осуществляет своё подлинное призвание.
«Замогильные записки» писались долго. Через шесть лет после горделивого рассуждения о высшем вдохновении, под влиянием которого творил он поэму собственной жизни, Печерин ощутил себя на грани духовной гибели: «…Мне непременно надобно оправдаться перед Россиею — но в чём же мне оправдываться? Мне кажется, нет ничего позорного в том, что я носил арлекинские штаны или продавал ваксу на улице: тут нет ничего противного человеческому достоинству <…> Но — добровольно пожертвовать всеми дарами ума и сердца, но — отречься от престола разума и закабалить себя в неволю невежественным и наглым фанатикам и быть в продолжение 20 лет слепым орудием их мелкого честолюбия и ненасытного корыстолюбия — вот это такое пятно, какого ничем смыть нельзя. Я нахожусь в положении мнимо умершего. Он лежит, распростёртый на одре, без малейшего признака жизни. Вокруг него суетятся и хлопочут — распоряжаются его имуществом, толкуют вкось и вкривь о его поступках — входят в самые мелкие подробности его похорон: с необыкновенно тонким чутьём oн всё это слышит — ни одно слово не ускользает от него. Хотелось бы ему протестовать, дать хоть какой-нибудь знак жизни, мигнуть глазами — пошевелить пальцем… нет! невозможно! И тут охватывает его ужасная мысль, что ему придётся быть похороненным заживо! Вот так я связан по рукам и ногам железною цепью необходимости и никакого знака жизни мне подать невозможно. В действительной жизни я остаюсь <…> с живым сознанием, что принадлежу к презренной и ненавистной касте тех людей, коих ещё древние римляне называли врагами рода человеческого, и что <…> это каторжное клеймо останется неизгладимым на вечные веки веков» (235). «Враги рода человеческого» — это о католическом духовенстве говорит человек, который за тридцать лет до того добровольно принял сан, столь откровенно презираемый им под конец жизни. И рад бы избавиться от этой «железной цепи», да время ушло. Так в чём же причина трагедии? Разбирая записки Печерина, можно придерживаться классической «школьной» схемы: происхождение, воспитание, впечатления ранних лет, образование, круг общения, особенности характера, душевные склонности… и т. д.
Родился Печерин в семье армейского офицера и впечатления ранних лет его были весьма однообразны: «Одним моим утешением был географический атлас. Бывало, по целым часам сижу в безмолвном созерцании над картою Европы. Вот Франция, Бельгия, Швейцария, Англия! Воображение наполняло жизнью эти разноцветные четвероугольники и кружки — эти миры, департаменты, кантоны. <…> Сердце на крыльях пламенного желания летело в эти блаженные страны… Так проходили дни, а по вечерам повторялась одна и та же скучная история. В седьмом часу приходит ординарец, или как его звали, и рапортует: «Ваше высокоблагородие! Всё обстоит благополучно, нового ничего нет»; потом пол-оборота направо и марш. Остаются действующие лица: отец, адъютант и я. Отец ходит взад и вперёд по комнате, адъютант стоит в почтительном расстоянии у дверей и не смеет садиться, я сижу на скамье. Переливается из пустого в порожнее. Да о чём же говорить в этой глуши, где не было ни журналов, ни газет, ни каких-либо книг, кроме вышереченных? Сколько тут накипелось скуки, досады, грусти, отчаяния, ненависти ко всему окружающему, ко всему родному, к целой России? Да из-за чего же было мне любить Россию? У меня не было ни кола ни двора — я был номадом (кочевником), я кочевал в Херсонской степи, — не было ни семейной жизни, ни приятных родных воспоминаний, родина была для меня просто тюрьмою, без малейшего отверстия, чтобы дышать свежим воздухом» (160–161).
Читая это, можем мы сказать, что России, которую он столь остро возненавидел, Печерин вовсе не знал, ибо его наблюдению была доступна лишь армейская жизнь, да и то не на исконно русской земле, а больше на южных окраинах государства, не столь давно и присоединённых к нему: в Бессарабии, Новороссии, в южнорусских степях. В зрелом состоянии ума Печерин трезво признавал: «Что такое отечество? Это — земля, семья, родной кров, у меня ничего этого не было. Нельзя же назвать родным кровом какую-нибудь жидовскую квартиру в Новомиргороде или хату, покрытую соломою, в Комиссаровке, где нас однажды снегом занесло, или бивуак под открытым небом в бессарабской степи. Да сверх того, я никогда не жил в собственно России, и всё шатался по Лифляндии, Белоруссии, Подолии, Волыни, Бессарабии, даже до Ясс мы доходили. Какое же тут отечество? Человек без земли не что иное, как батрак-чиновник, наёмник правительства» (278). Что же он тогда ненавидел? — может спросить каждый, прочитавший это. В раннем детстве чистое чувство ребенка было оскорблено несправедливостью отцовского поведения по отношению к матери героя, что также не прошло бесследно: «Эта обида, нанесённая женщине и матери, глубоко запала мне в душу. Какое-то тёмное бессознательное чувство мести овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по загранице, это беспрестанное желание отделаться от родительского дома, искать счастия где-нибудь в другом месте?» (151). Неприязнь к отцу перешла в ненависть к отечеству. Впрочем, тут раздолье для последователей доктора Фрейда, мы же последуем дальше.
Наблюдаемые порядки крепостнической действительности приязни к отечеству в душе Печерина не добавили. При том, на несчастье своё, герой наш получил воспитание по системе Руссо, идеально умозрительной, имеющей мало общего с реальной жизнью. Идеология руссоистская, скажем ещё раз, есть идеология антихристианская, и уже по одному этому она способна принести немало вреда душе человека, особенно юного, нетвёрдого в понимании жизни. Система воспитания по Руссо, известно, воспитывает рафинированный индивидуализм, нередко — при благоприятных обстоятельствах — переходящий в заурядный эгоизм, что Печерин и явил в ранней молодости, предавши своего воспитателя идеалиста, лишь только фортуна от того отвернулась, — и стал тем причиною самоубийства этого далёкого от трезвой действительности руссоиста. Правда, молодой человек переложил вину за своё предательство на врождённое рабство русской своей натуры, но русского-то в нём тогда вовсе ничего и не было, кроме имени и фамилии, да подданства, от которого он со временем поспешил отказаться.
С ранних лет Печерин являл чрезмерную экзальтированность натуры своей, в чём признался на первых же страницах своих записок. Тут мы можем усмотреть и важную причину его начальной склонности к католицизму: нельзя же пройти мимо такого свидетельства мемуариста о самом себе: «История смерти Спасителя сделала на меня чрезвычайное впечатление. Солнце померкло — земля потряслась — мёртвые встали из гробов — завеса храма разодралась надвое, это зрелище потрясло всю душу — какой-то священный трепет пробежал по всему телу, волосы стали дыбом. Никогда, мне кажется, впоследствии, даже в самые пылкие годы юности, я не испытывал подобного ощущения. Умереть за благо народа и видеть мать, стоящую у подножия моего креста, — было одно из мечтаний моей юности. Вот как первые впечатления влияют на остальную жизнь!» (148–149).
Стремление к подражанию Христу, и к подражанию внешне-эмоциональному, весьма характерное для католического мирочувствия вообще, — конечно не могло не сказаться в дальнейшей жизни человека — хотя и не обязательно должно было это выразиться в прямой перемене вероисповедования — да вот выразилось. Отметим и ту словесную формулу, превратившуюся в наше время в назойливый речевой штамп, — умереть за благо народа, — заметим про себя, что и Печерин не избежал социально-приземлённого осмысления Крестной жертвы Спасителя, разделяя заблуждения и более зрелых мыслителей. Склонный к экзальтации с раннего детства, наш герой и в более серьёзном возрасте был готов к некоторым эксцентричным поступкам, к каким влекла его горячечная фантазия. В 33 года, например, он предавался таким странностям: «Жорж Санд! Какое имя! Какие звуки! Они затрагивают в душе моей давно отзвучавшую, онемевшую струну, но от их лёгкого эфирного прикосновения она снова трепещет и симпатично отзывается. Святые отшельники Фиваиды с воображением, разгорячённым уединением и молитвою, часто видели наяву Спасителя, Богоматерь, ангелов и нечистых духов: вот так и я в моей келье у мадам Жоарис, глядя в окно, осенённое густыми деревьями, часто воображал себе, что я вижу Жорж Санд: вот она проходит мимо окна в мужском платье, в соломенной шляпе с широкими полями. <…> Сколько раз я говорил самому себе: «Дай пойду к ней, попрошу её взять меня себе в прислуги, как она взяла того каторжника». <…> Вот возвышенные фантазии! Но из этих-то именно глупостей и составляется истая, неподдельная шекспировская поэзия жизни!» (230).
Нечего и говорить, что понятия о христианской аскетике у Печерина не имелось ровно никакого, природа мистических видений осталась им непонятой, да и вообще странно звучит приравнивание видений Спасителя, Богоматери и даже нечистых духов к фантастическим явлениям Жорж Санд. Для человека православной духовности подобное просто невозможно. В погоне за эмоциональным разнообразием жизни, к чему Печерин был так склонен весьма долгое время, автор «Замогильных записок» устремился в католичество — и как раз в том самом году, когда горячил себя воображаемыми видениями французской романистки: «Определённо ясного ничего не было у меня в голове: переход в католическую церковь мелькал в каком-то отдалённом тумане… «Мне нужны сильные ощущения», — сказал я <…> оправдывая <…> свой поступок. Действительно, я искал новых ощущений, новых приключений, мне надоела однообразная жизнь» (241). В самом стремлении к смене эмоциональных впечатлений выразилось у Печерина его тяга к наслаждению (не грубо материальному, но душевному), преподанная ему ещё в юношеские годы учителем-руссоистом, — что и вообще стало краеугольным камнем западной житейской философии: недаром же с чужого голоса распевал юный Печерин:
Моя философия это наслаждаться,
Улыбаться милому безумству,
Чтобы наслаждаться ещё лучше, быть непостоянным.
Именно так человек весело плывёт по течению
Реки жизни.
Всё это пелось воспитанниками Киевской гимназии. «Вот так воспитывалось русское дворянство» (156), — с горечью заметил позднее сам Печерин по поводу этого «гимна» киевских гимназистов. Для скольких воспитанников не прошло даром такое песенное наставление. Адепт философии удовольствия, беспечной весёлости и непостоянства, Печерин долго хранил верность вложенным в его сознание принципам. С логической неизбежностью это привело его к уяснению важного закона, увенчавшего стройную систему мировосприятия, основанного на вполне определённой системе ценностей: «Вскоре мой катехизис свёлся к простому выражению: цель оправдывает средства» (174). Так что тяготение нашего героя к католичеству и непосредственно к иезуитам, одно время им владевшее, подсознательно жило в нём задолго до непосредственного контакта с отцами иезуитского ордена. Парадокс в том, что все шаги, приведшие его к трагическому жизненному итогу, Печерин постоянно объяснял якобы чисто русским рабством собственной натуры, тогда как — повторим вновь — ничего собственно русского (то есть — православного по природе) во всех его умствованиях и деяниях не было ни на грош: всё оказалось привитым извне — от руссоизма до иезуитизма…
Важно, что не только Православия был чужд Печерин с ранних лет, но и от какого бы то ни было христианства далёк. В 16 лет он «составил собственное нравственное уложение без малейшей связи с христианскою верою» (231), а к 33 годам пришел (под влиянием Жорж Санд) к окончательному убеждению, «что лучшие стороны религии: аскетизм, самоотвержение, любовь к ближнему — могут развиться независимо от неё из чистого разума с помощью стоической философии» (231). В таком убеждении он пребывал в самый момент перехода в католицизм, ещё раз подтверждая тем, что никаких серьезных убеждений и религиозных исканий в основе такого перехода у него и быть не могло. Ко всему добавляется влияние внушаемых его наставниками революционных бредней, в чём он сам с сожалением признается: «Политическая дурь испортила лучшие годы моей юности. Откуда она взялась? Это нетрудно объяснить. Главная часть моего воспитания была на границе Польши и в руках двух политических деятелей, подготовлявших 14 декабря и польское восстание. Мой учитель писал ко мне следующую галиматью:
«Свободная нация изберёт вас своим первым консулом, и я счастливо умру подле вас». Этого было довольно, чтобы вскружить голову 15-летнему мальчику…» (275).
Печально, что эта голова кружилась после того ещё почти двадцать лет. Трезвость мироосмысления пришла к Печерину — увы — поздновато. Не только в России, но и уже после окончательного бегства в Европу, когда он был уже тридцатилетним зрелым мужем, Печерин увлекался идеями социально-утопическими, хотя и начал под конец испытывать некоторые сомнения по отношению к ним. Весьма любопытно и курьёзно звучали рассуждения одного из «апостолов коммунизма» (так определяет его сам мемуарист), проповедовавшего в Цюрихе идеал будущего земного рая: «Он ровно ничего не делал, а только, как ревностный апостол, с утра до вечера шлялся по кабакам, где и проповедовал самый бешеный коммунизм. Это была грубая <…> натура без малейшего понятия о нравственных условиях общества. «Вот видите, пане Печерин, — говорил он мне, — в нашей республике будет такая роскошь и довольство, какие свет ещё не видал. С утра до вечера будет открытый стол для всех граждан: ешь и пей, когда и сколько хочешь, ни за что ни платя. Великолепные лавки с драгоценными товарами будут настежь открыты, как какая-нибудь всемирная выставка, бери, что хочешь, не спрашивая хозяина, — да и где же тут хозяин? ведь это всё наше!» — «В таком случае, — осмелился я смиренно заметить, — некоторые граждане должны будут сильно работать для того, чтобы доставить обществу все эти удобства». — Апостол немножко смешался: «Ну, разумеется, они принуждены будут работать, а то гильотина на что же?» (202).
Теперь, обладающие историческим опытом, мы имеем возможность слишком трезво оценить подобные идеи: земной рай лентяями по натуре изначально мыслился основанным на рабстве и кровавом насилии. Это, впрочем, давно известно, да почему-то забывается теми, кто горазд потолковать о русских истоках коммунистических идей. Печеринский «апостол» как раз думал иначе, назвав русскими предрассудками робкие попытки мемуариста возразить на некоторые слишком уж явные благоглупости. Печерин же отметил весьма свойственное западному coзнанию убеждение, будто все эти безбожные и бесчеловечные идеи есть лишь реальное применение к действительности евангельского откровения: «Ведь правду сказать, — вещал тот же «апостол», — Иисус был один из наших; он тоже хотел сделать, что и мы, но, к несчастью он был бедный человек — без денег ничего не сделаешь, и тут вмешалась полиция: вот так его и повесили!» К этим невежественным бредням Печерин добавил важное присловье: «Впрочем, не первый раз я слышал в Швейцарии подобное мнение, хотя несколько в другом виде. Один благочестивый сельский пастор, с умилением поднимая глаза к небу, сказал мне: «Да! Иисус Христос был первым республиканцем»(204).
Подобные ложные идеи долго бродили по Европе вслед за призраком коммунизма, их же, по-своему осмыслив, подхватили и русские западники, начиная с Чаадаева и Белинского, — вплоть до коммунистических идеологов, приспосабливающихся к изменениям общественной мысли к концу XX столетия. Однако Печерин, с его всё же русским здравомыслием, которое не смогли одолеть все западные влияния вместе взятые, пришел к заключению весьма остроумному:
«Что такое сен-симонизм? Та же католическая церковь, только в новом виде. Верховный отец — тот же непогрешный папа, безотчётно управляющий душами и телами членов церкви: в его руках все сокровища земли: он распределяет работы и занятия, смотря по наклонностям и способностям каждого, и раздаёт награды, соображаясь с нуждами и заслугами каждого» (233).
Если же припомнить, что утопический социализм есть один из источников марксистского учения, коммунистической идеологии, то наблюдение Печерина становится достаточно интересным. Несколько позднее эту же причинно-следственную связь осмыслил Достоевский — на предельно высоком философско-эстетическом уровне. Печерин же интуитивно высказал то, что он наблюдал изнутри и пережил в себе весьма остро. Прослеживая иные свойства натуры Печерина, приведшие его к чуждым для него, по сути, идеям, отвергнутым им в зрелом состоянии ума, должно не пройти мимо некоторой нетвёрдости его души, какую он и сам выделил в своём характере из черт важнейших. Мягкая как воск — говорят о таких натурах. Мягкая — и податливая к внешним влияниям. О Печерине можно было бы сказать некрасовскими стихами:
Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет.
«Надобно заметить, — признаётся мемуарист, — что мне ничто даром не проходило. Какая-нибудь книжонка, стихи, два-три подслушанные мною слова делали на меня живейшее влияние и определяли иногда целые периоды моей жизни» (150). Склонность к экзальтированному восприятию чужих идей облекала увлечения Печерина порою в формы комические, например: «Вот так я по какому-то инстинкту попал на статью Вольтера о квакерах, где он описывает их житьё-бытьё и восхваляет их добродетельные нравы. Я так воспламенился любовью к квакерам, что тут же брякнул по-французски письмо в Филадельфию к обществу квакеров, прося их принять меня в сочлены и прислать мне на это диплом, а также квакерскую мантию и шляпу!!! Какова шутка? Вы смеётесь? «Какова колоссальная глупость!» А мне так плакать хочется. Ведь это просто показывает, что русский человек бьётся, как рыба на мели, не знает, куда ударить головою» (160). Справедливее было бы так сказать о том русском человеке, какой утратил связь с истинно русскими основами жизни, с Православием. Оттого и безразлично ему, к какому берегу прибиться. Отсутствие прочной жизненной основы отдавало нашего героя во власть любой пошлой брошюрки. «Книги имели решительное влияние на главные эпохи моей жизни, — повторяется мемуарист в другом месте. — Да ещё бы ничего, если бы это были настоящие книги <…>, а то нет! Самые ничтожные брошюрки в каких-нибудь сто страниц решали судьбу мою на веки веков» (216).
И не дивно, что увлечённый красноречием католического проповедника, не вдаваясь в глубины вероучения, Печерин в какой-то момент вдруг обратился на новый путь, написавши после девятидневного слушания проповедей такое письмо своему новому наставнику: «Я прошёл через всевозможные философские системы и был гегелианцем, пифагорийцем, фурьеристом, коммунистом и пр.; но после ваших проповедей я убедился в истине католической веры и прошу вас поучить меня и наставить на путь правый!» (240).
Но Печерина можно назвать религиозным плюралистом (и не только религиозным): он релятивистски непостоянен в своих привязанностях, и ни за одной религией не признал в итоге единственного права на обладание Истиною: «До сих пор религия была необходимым элементом человеческого общества. Все религии одинаково истинны, пока они живут. Нет ничего глубже этого вопроса Пилата Понтийского «Что такое истина?» Это совершенно относительное понятие. Религия условливается географическими, климатическими, этнологическими отношениями человека. Впрочем, может быть, мы стремимся к какой-то всеобщей религии, в которой соединяются все умы на востоке и на западе» (309). Последнее замечание весьма знакомо человеку рубежа тысячелетий, ибо сколькие недомыслители являют ныне подобные шаблонные суждения: все религиозные истины относительны, поскольку детерминированы различными внешними обстоятельствами, и следовательно, возможно объединение всех этих относительно истинных верований в одно универсальное и единое. На это было отвечено уже много раз, но не пренебрежём повторением: все религии и впрямь не могут обладать полнотою Истины и зависят от многих внешних условий, ибо все религии порождены человеческим разумением — все, кроме христианства, которое есть Божественное откровение и оттого не может зависеть ни от каких земных условий, обстоятельств и влияний; полноту же христианской Истины хранит в себе единая Святая Соборная и Апостольская церковь — Православная, от которой, соблазнённые человеческим суемудрием, отъединились различные конфессии, хранящие в своих учениях лишь отдельные элементы христианского вероучения. Православия Печерин не знал, поэтому и судить о полноте Истины возможности не имел. Ценность же его духовного опыта в том, что он получил возможность исследовать конфессию, которая открылась ему в его собственном нелёгком опыте. Обладая способностью очаровываться и пьянеть от разного рода внешних эффектов — то очередной брошюрки, то случайно услышанной проповеди, Печерин в то же время был склонен и к постепенному трезвению — так что нам весьма интересны и важны его наблюдения и выводы, его оценки католической жизни вообще. Прислушаемся к словам католического патера, выражающие взгляд не стороннегo наблюдателя, но познавшего предмет суждения изнутри.
«Католическая церковь есть отличная школа ненависти» (247).
«В современной католической церкви везде господствует мишурный вкус. <…> Это напоминает мне польскую графиню, виденную мною в Хмельнике в 1823 году: ей было лет за 70, но она всегда румянилась самою нежно-розовою краскою и с полуоткрытой грудью была одета точно, как девушка лет шестнадцати — вот католическая церковь в её настоящем виде» (272–273). «О, Рим! Я ненавижу тебя: ты арена честолюбий и подлых интриг. Здесь пренебрегают заботой о душе и думают лишь о том, как возвыситься и преумножить доходы, здесь живут только для себя («создадим себе имя»), протирают подошвы в кардинальских прихожих» (294).
Не забудем: это пишет католический священник. Он же приходит к безрадостному итогу: «Больше я не могу питать себя иллюзиями. Мы являемся лишь светской конгрегацией, и жизнь наша совершенно мирская. Мы не можем со всей достоверностью сказать, что мы покинули мир: на самом деле мы живём в мире, и мы тесно связаны со всеми его заботами, со всеми его страстями. Мы не останемся безразличными к повышению и понижению денежного курса. Среди нас есть истинные собственники, ум которых неизбежно занят заботой о средствах сохранения и увеличении своих доходов» (295).
Иными словами можно было бы сказать: католичество усердно занимается собиранием сокровищ на земле— и только. Истинно ли это с точки зрения заповедей Христа Спасителя — пусть каждый решает самостоятельно.
Описывая настоятеля монастыря в Англии, где Печерину некоторое время довелось пробыть, он не сдерживает сарказма: «Этому де Бюгеномсу следовало бы быть кардиналом: он всех дипломатов бы за пояс заткнул. Куда там твои Меттернихи и Талейраны? Он человек был вовсе не учёный и далеко не блестящего ума — но хитрость, но лукавство, но терпеливая пронырливость, но умение подделываться ко всем характерам для того, чтобы достигнуть своих целей, а выше всего особенный дар подкапываться под своего начальника всеми правдами и клеветами и, улучив счастливую минуту, сшибить его с ног и сесть на его место — вот в чём он был неподражаемый мастер». И добавляет под конец столь выразительной характеристики: «Одна католическая церковь может произвести таких великих людей (267).
Печерин внимателен к той стороне жизни католиков, которая является самою сердцевиною так называемой католической духовности, и в своих наблюдениях точен: «Католическое благочестие часто дышит буйным пламенем земной страсти. Молодая дева млеет от любви перед изображением пламенеющего, терниями обвитого, копьем пронзённого сердца Иисуса. «О любовь распятая! любовь, кровью истекающая! любовь, из любви умирающая!» — Св. Терезия в светлом видении видит прелестного мальчика с крыльями: он золотою стрелою с огненным острием пронзает ей сердце насквозь, и она, изнывая в неописанно сладострастном мучении, восклицает: «Одно из двух: или страдать, или умереть! Без страданья жить не хочу! Умираю любя!» Вот женщина в полном смысле этого слова! Итак, столетия прошли напрасно: сердце человеческое не изменилось; оно волнуемо теми же страстями и тех же богов зовет себе в помощь, и древний языческий купидон в том же костюме и с теми же стрелами является в келье кармелитской монашенки 16-го столетия» (242).
Печерин касается, по сути, той особенности католического религиозного состояния человека, какое, как мы помним, было обусловлено утверждением гуманистических идей еще при самом начале Возрождения, отрицанием нетварной природы Фаворского света. Душа католика оказалось обречённой на чисто эмоциональное переживание, на экзальтацию, истекающую из языческого по природе мирочувствия — что так заметно проявилось в ренессансные времена и с чем Печерин соприкоснулся в середине XIX века (хотя и не в столь крайней форме, как у Терезы Авильской) — ничто не изменилось, да и не могло измениться при постоянстве вероучительной основы. С этой особенностью душевной жизни католиков связано, несомненно, и своеобразие католического искусства, отобразившего не углублённую духовную жизнь, молитвенный аскетический опыт, но увлекшегося внешними эффектами, манерными ужимками под видом религиозного экстаза.
«…Везде видно отсутствие простоты, — обобщает Печерин свои наблюдения, — всё как-то натянуто, неестественно, вычурно, везде проглядывает какое-то мелкое тщеславие» (272). Обмирщение церковной музыки стало давней отличительной чертой католического секуляризованного искусства: «В музыке тот же ложный мишурный вкус. В папской капелле и Ватикане поют ещё кое-как сносно; но во всех других местах везде оперная музыка: им недостает только пригласить Штрауса проиграть вальс во время обедни. К чести греческой церкви должно сказать, что она с нерушимою верностию сохранила вместе с древними обрядами и древнее величавое благолепнoe песнопение. На Западе оно совершенно потеряно. Некоторые из здешних священников слушали обедню в русской церкви в Женеве: они в восхищении от нашего песнопения, никогда ничего подобного в жизни не слыхали — да и где же им? С самогo детства они слушают только итальянские рулады да вальсы Штрауса» (273). Отметим это возвышение православного пения над западным (напомним, Православие в XIX веке часто называли греческою верою, что, разумеется, не вполне точно — но так уж повелось), ему бы понять, что тут выразилось не только сохранение древних обрядов и благолепного песнопения, но и отразившаяся во внешней форме внутренняя связь с Истиною. Но на это Печерин оказался неспособен. На собственном опыте убедился он в одной из важнейших отрицательных особенностей католической жизни, в какой особенно преуспели иезуиты (а он долгое время жил среди них): Печерин ощутил отсутствие подлинной духовной свободы, которая должна являться самою основою христианского бытия.
«…Если отнять у человека разумную свободу, то что же останется? — Хорошо дрессированная скотина, лошадь или собака, выкидывающая разные штуки по мановению хозяина. Но к этому именно и стремится вся система иезуитов. По словам св. Игнатия, иезуит в отношении к своему настоятелю должен быть как бездушный труп, как посох в руках старца и пр.» (280). «В духовных упражнениях св. Игнатия человеческий ум похож на осла или быка, который ходит кругом и приводит в движение мельницу. Вечно в том же кругу он вертится, не подвигается вперёд, нет ничего нового, нет прогресса. Эти упражнения — наилучшее средство для скования человеческого ума. Они имеют целью ошеломить человека, лишить его свободного употребления даров природы, смирить его физически и нравственно, т. е. лишить его всякой энергии и сделать его бесчувственным орудием в руках того, кто им управляет. Деспотизм никогда ничего совершеннее не изобретал» (308–309).
Нас не должно смутить упоминание Печериным смирения, ибо он говорит здесь о смирении рабском, о бесчувственной покорности деспотизму человеческой воли. Истинно же христианское смирение есть свободное волевое стремление человека следовать воле Творца. Святитель Василий Великий писал: «…Ты не тогда признаешь служителей исправимыми, когда держишь их связанными, но когда видишь, что добровольно выполняют перед тобою свои обязанности. Поэтому и Богу угодно не вынужденное, но совершаемое добровольно — добродетель, а не от необходимости…» Печерин, по сути, свидетельствует, что католичество пренебрегло этой мудростью. Осмысляя подобную измену слову и делу Спасителя, Достоевский позднее дал глубокое истолкование того: свободу готова отвергнуть повреждённая грехом природа человека, терзаемого беспокойной совестью. «…Нет у человека заботы мучительней, как найти того, кому бы поскорее передать тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладеет свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть»138, — возглашает Великий Инквизитор одну из важнейших идей католичества, обнажая тайный смысл папизма. Печерин опытно прикоснулся к этому нерву католической жизни, заплатив за обретённое знание трагедией жизни собственной. Поэтому-то, узнав о планах проникновения иезуитов в Россию, он воскликнул: «Нет, брат! погоди! У нас на Святой Руси ещё не спятили с ума до такой степени, чтобы пригласить иезуитов» (275). Увы, в конце XX века уже спятили. Указание на причину того мы можем извлечь из печеринских же записок (хотя сам он о том вовсе не помышлял): внешне система воспитания, выработанная иезуитами, основана на предоставлении как-бы полной свободы наставляемым.
Впрочем, по поводу либерализма одного из наставников Печерин заметил: «Он, может быть, потому был так либерален, что сам ни во что не верил»(250).
Подлинное вытравливание свободного духа происходит незаметно, свобода растворяется в механистичности внешних занятий, подменяющих собою подлинное духовное делание. Это особенно заметно в жизни монашеской: «…В настоящем монастыре эти оба труженика, т. е. разум и воля, давным-давно отпеты и похоронены. История монаха — то же, что история карманных часов. Вот ты их завёл, и они идут: стрелка медленно передвигается от секунды до секунды, от минуты до минуты, от часа до часа в продолжении 24 часов. Вот так и жизнь монаха. «Ну, да тут есть разница: у часов нет мозга, нет мысли, а у монаха есть». — Правда, мысль у него есть, но ведь и она тоже заведена и медленно движется от утренней молитвы до псалмопения, от псалмопения до обедни, от обедни до духовного чтения, от обеда до ужина, а потом её кладут спать, а поутру, часу в 4-м или 5-м, опять её заводят. Наконец, мысль превращается в какой-то ржавый механизм, как, например, у траппистов, где не позволяется ни говорить, ни читать, ни мыслить, где вся жизнь проходит в пении псалмов и земледельческих работах, — там мысль <…> совершенно исчезает — человек падает ниже скота и живёт уже какою-то прозябательною жизнью» (253).
Среди важнейших свойств внутренней жизни католической церкви патер Печерин называет действенное любостяжание, с каким он сталкивался всюду — от Ватикана до небольшого провинциального монастыря: «У монаха сердце чёрствое, заплесневшее, заржавленное; у него одна мысль: святая церковь и обитель; единственные движения его сердца — если оно когда-нибудь движется — подобострастие к начальству, мелкое честолюбие и беспредельное, не измеримое, как океан, любостяжание!» (245).
Конечный вывод католического священника Печерина убийствен для церкви, в лоне которой прошло более сорока лет его жизни:
«Вот христианство, доведённое до абсурда! Какое торжество для иудеев! И как они пережили своего лютого врага! Вот этот выскочка из их же семьи! вот это христианство! Оно прошумело несколько столетий, пролило потоки крови в бессмысленных войнах, сожгло миллионы людей на кострах, — а теперь оно издыхает от старческого изнеможения перед глазами этих же самых иудеев. А у них всё осталось по-прежнему: они не устарели — они вечно юны и будущее им принадлежит. Они везде блистают умом — в науке, в искусстве, в торговле, половина eвропейской прессы в их руках. Закон их не изменился ни на одну йоту, они поклоняются тому же единому Богу Авраама, Исаака и Иакова, и на них буквально исполнились слова их пророка: «Вы будете опекунами, отцами-благодетелями, кормильцами властителей мира. Цари вас будут на руках носить» и пр. Какое блистательное исполнение пророчества!» (289).
Своими трезвыми наблюдениями Печерин отвергает мнения Чаадаева, мнившего именно в католицизме найти верного водителя ко всеобщему благосостоянию человечества: «Католицизм с его новейшими развитиями и притязаниями несовместим с порядком и благосостоянием никакого благоустроенного государства»(242).
Печерин, этот якобы идеальный западник, Запад как раз и отвергал многажды, например: «Латинские народы сгнили до корня и нет надежды на их возрождение, потому что они слишком много болтают: во многоглаголии несть спасения» (252).
Не было у него и почтения к Америке, которую он поименовал «прибежищем всех негодяев», «океаном всемирных нечистот» (283).
Не питая, как мы знаем, любви к своему отечеству, Печерин тем не менее отдаёт России явное предпочтение, когда сравнивает отдельные стороны русской действительности (которую он всё-таки почти тридцать лет наблюдал) с тем, что узнано им за пределами оставленной навсегда родины. Даже пресловутое взяточничество российское оказалось нe столь ужасным в сравнении. «…Россия ужасно как отстала. Где же нашим бедным взяточникам, оклеветанным Гоголем, тягаться с американскими взяточниками?
Там почтенные сенаторы торгуют своими голосами в Народном собрании, гуртом продают их за огромные суммы. Где же нам?» (186).
Со временем у Печерина всё более и более развивалась некая бессознательная склонность к России, ко всему русскому, что сказывается у него нередко во всякого рода второстепенных деталях, мимоходных замечаниях — ненатужно, как бы само собою; и вдруг оказывается, что он, человек, который, казалось бы, страстно ненавидит Россию, он безнадежно и втайне от самого себя любит её, не может не любить до скончания дней своих. Отделённый от родины целою Европою, он издает подлинный вопль любви, отчаяния и тоски:
«…у меня необходимо две жизни: одна здесь, а другая в России. От России я никак отделаться не могу. Я принадлежу ей самой сущностью моего бытия, я принадлежу ей моим человеческим значением. Вот уже 30 лет, как я здесь обжился, — а всё-таки я здесь чужой. Мой дух, мои мечты витают не здесь — по крайней мере не в той среде, к которой я прикован железной цепью роковой необходимости. Я нимало не забочусь о том, будет ли кто-нибудь помнить меня здесь, когда я умру; но Россия другое дело. Ах! как бы мне хотелось, как бы мне хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской! хоть одну печатную страницу, заявляющую о существовании некоего Владимира Сергеевича Печерина. Эта печатная страница была бы надгробным камнем, гласящим: «здесь лежит ум и сердце В.Печерина» (311).
Так что же держало его там, на Западе? Когда-то он с такой легкостью менял место и среду обитания, занятия, миропонимание, веру даже… Но теперь былой лёгкости не было. Теперь он ощущает скованность железною цепью роковой необходимости. Да и куда возвращаться? Дома нет, как нет ни близкого человека там, на родине, никакой привязанности. Ещё он боялся политических репрессий за переход в католичество — вероятно, ошибаясь в том. Почвы не было, точки опоры — вот что: «Если бы я теперь возвратился в Россию, то со мною случилось бы то же, что с Ноевой голубицей. После страшного потопа её выпустили из ковчега — чего бы, кажется, лучше? Возвратиться на родную землю, где она родилась и была воспитана, — а вышло иначе. Бедная голубка попорхала, поглядела и, необретши покоя ногами своими, возвратись в ковчег. Вот то же бы и со мною было. На всём неизмеримом пространстве русской империи нет нигде ни пяди земли, где бы я мог найти покой ногами своими, нет ни одной точки, где бы я мог стать твёрдой стопою. <…> Моё появление в России было бы похоже на появление мёртвого после сорокалетнего могильного сна. <…> Все единогласно приговорили бы этого воскресенца к смерти и поспешили бы снова заколотить его в гроб» (278–279). А всё же и это можно было бы одолеть: живи в нем тяга к тому основному, без чего нe может и ощущаться истинно связь со всем, что составляет понятие родины. Была бы тяга к вере отцов. Никуда не деться от вопроса, какой у всякого читателя рано или поздно, да появится: а что же Православие? если человек понял ложь отступления от Истины, то отчего не вернулся к Истине? Да, он сумел разглядеть ложь, да не знал, где Истина. Он ведь, вспомним, не признавал полноты Истины нигде, ни в одной вере. Он допускал появление Истины в некоей новой синтетической религии, сложенной из кусочков относительных истин всех нынешних вероучений. Но может быть, и ощущал бессознательно, что из осколков подобных католичеству, как ни крути, ничего путного не сложишь. Да он как будто и не искал Истины с самого начала, его влекло внешнее даже в религиозных потребностях: «Ну уж! — подумал я, — коли нужна религия, то подавай мне её со всеми очарованиями искусства, с музыкою, живописью, красноречием…» (239).
Это всё слишком поверхностно. А что он знал о Православии? Первые впечатления о нём он вынес в детстве из общения с православными батюшками, которых единственно мог узнать.
«Ведь я всего попробовал — даже православного воспитания. Вот, например, в 19-м году в Дорогобуже, Смоленской губернии, мы стояли на квартире в доме протопопа благочинного. Уж чего бы, кажется, лучше? Вот отец так и отдал ему меня в науку, и старик учил меня всему, что сам знал, — разумеется, когда был трезв. А то ведь он часто так разгуляется, так хоть святых вон неси, так и пойдёт в потасовку с своим сыном, парнем лет 20-ти. Не раз я видел, как этот благовоспитанный молодой человек таскал за бороду своего почтенного родителя. <…> А о нашем полковом священнике так нечего и говорить. Он был разбитной малый, совершенно в уровень с своим военным положением. Как загнёт, бывало, двусмысленную шутку, так что твой уланский вахмистр!» (153).
Конечно, о вероучении нельзя судить по качеству отдельных даже священнослужителей его — да ведь мальчику было всего 12 лет тогда, и он не осмыслял проблему столь глубоко. Он просто жил впечатлениями. Без сомнения, в Православной Церкви можно было встретить истинных светильников веры, подвижников благочестия, просто благочестивых священников — да ему не довелось с ними встретиться. А в контрасте с виденным — разные соблазнительные системы и идеи, все сплошь на благих стремлениях основанные. А перед глазами — пьяный протопоп с одной стороны, и благодетельный добропорядочный руссоист с романтическими бреднями. Кого выбирать? Вот и задуматься ещё раз каждому об ответственности за Православие. Пусть даже один дурной пастырь будет из тысячи, но когда он единственный встретится кому-то, отвращая от истинной веры, — всё остальное как бы не в зачет.
В более зрелом возрасте отвратила Печерина от Церкви та официальная установка, какая касалась каждого чиновника, должного представлять начальству свидетельство об исповеди и причащении. «Идти говеть по указу и причащаться св. тайн без веры и с кощунством, до этого я не мог унизиться; мне это казалось первою подлостью и началом всех прочих подлостей» (175–176). Печерин отвергал несвободу у католиков, так и у православных она не могла его привлечь. Тоже урок.
Православная же духовность, истинная духовность, когда он с нею в немногих случаях соприкасался, не могла его не привлекать. Так, он с презрением отзывался о католических проповедниках, но особо ценил слово святителя Иоанна Златоуста, замечая: «…Тут вся Россия будет на моей стороне» (234). Однако из Святых Отцов он, кажется, более никого не знал (в мемуарах о том ни слова). Приходится поражаться, насколько поверхностны представления Печерина об истинной глубине религиозной жизни. Вот, к примеру, его суждение о смысле монашеского подвига: «Мне кажется, что все обители, начиная с Пифагора до наших времён, были основаны добродушными, но ленивыми философами, которым не хотелось барахтаться в общественной грязи для преобразования человечества; они выбрали то, что было гораздо легче: собравши в кучку единомышленных людей, аристократически брезгуя светом, они удалялись в какой-нибудь загородный дом или подальше в пустыню, для того чтобы там жить во взаимном согласии и любви, подчиняясь ими же самими добровольно избранным законам и начальникам. Это так называемый идеал христианской республики: но это вовсе ничего не доказывает и не решает задачи общественного устройства» (238).
Здесь что ни слово, то ложь и непонимание. Сухой рационализм такого обсуждения неприятно удивляет. Ясно также: истинного критерия иноческой жизни у Печерина не было. Оттого-то отвергая виденную им ложь, он просто не знал, чего же нужно искать истинного, и всё укреплялся в мысли о существовании сковавшей его железной цепи. Вообще Печерина отличает скорее протестантский тип мышления, так что эволюция его взглядов должна бы ещё более отдалить этого католического священника от Православия. Не требует комментария такое, например, его рассуждение: «…Всего более меня поразило, это было, что Лютер в Библии нашёл новую очищенную религию. Вот этого мне и надо! Этого я давно ищу! Ну что ж! Если Лютер мог найти чистую веру в Библии, то почему ж и мне не попытаться!» (232).
По такому пути следуют слишком многие, особенно в наше время, недаром же ныне насчитывается уже более двадцати тысяч сект протестантского толка. Можно сказать, сколько умов, столько возможно и толкований Библии, когда умы эти в гордом ослеплении даруют себе полный произвол в осмыслении слова Божия. Может быть, Печерин последовал бы тем же путём, спохватись он чуть раньше, но ложь католицизма открылась ему слишком поздно, и оставалось лишь следовать тому, на что он сознал себя обречённым до конца дней:
«…Я теперь совершенно хладнокровно и равнодушно смотрю на обстоятельства, приковывающие меня к распадающемуся трупу католицизма. <…> Ах! если бы мне как-нибудь исчезнуть, пропасть где-нибудь так, чтобы и след мой простыл, чтобы и слуху не было о моем священстве и католичестве. Но это тоже мечты, несбыточное дело. Нельзя же человеку совершенно исчезнуть. Надо примкнуть к какой-нибудь партии, какому-либо верованию. А я ни во что не верю» (310). Я ни во что не верю… Что тут скажешь! Печерин же сам ясно указал, что встало на его пути к истине: он заразился тем, чем соблазняло человека нового времени торжествующее безволие, — рационализмом. Изъяснившись отчасти манерно, он обозначил исходный момент своего отступничества, покидая Россию: «Я извлёк из своего измученного сердца несколько капель крови и подписал окончательный договор с диаволом, и этот диавол— мысль» (174).
Слово вырвалось: дьявол. Разумеется, можно обставить это признание многими оговорками, признав не буквальный же, но лишь метафорический смысл его. Однако как ни изощряйся в оправданиях, а понятие обозначилось вполне. Он ведь и «лучшие стороны религии: аскетизм, самоотвержение, любовь к ближнему» выводил из «чистого разума». Оттого-то, порицая католических монахов, он всё сетовал на отсутствие у них свободы мысли, не более, а о молитвенном аскетическом подвиге даже не подозревал, а об умной молитве понятия не имел — без чего никакое суждение об иноческой жизни не имеет смысла, оставаясь лишь поверхностным суесловием. Поэтому все чаяния и упования свои он не распространял слишком далеко, отвергая не только христианские идеалы (в которых разочаровался), но и социальные учения.
«Я просто верую в постепенное развитие человеческого рода посредством науки и промышленности; я уверен, что со временем, постепенно жизнь сделается легче, удобнее, будет менее неприятных столкновений, удобства жизни распространятся на все классы общества, а далее этого я ничего не ожидаю. Но веровать в какой-то земной рай, какую-то жизнь грядущего века, где все будут одинаково богаты, одинаково счастливы, одинаково умны, иде же ни печаль, ни воздыхания, но жизнь бесконечная, по-моему, это тот же фанатизм, только в другом виде, и я это верование представляю поклонникам социализма, коммунизма, нигилизма и пр.» (310). Как видим, Печерину нужно немного: умеренное приращение сокровищ на земле. Скучное, унылое, пошлое и — бессмысленное бытие.
Российская действительность ввергла Печерина при начале жизни в тоску и отчаяние. Не в первый раз уже встречаем мы эти крайние проявления уныния, отражённые русскою литературою, — но теперь лишний человек явственно предстаёт перед нами во плоти, а не в воображении романиста: «…Моим сердцем овладело глубокое отчаяние, неизлечимая тоска. Мысль о самоубийстве, как чёрное облако, носилась над моим умом. <…> Осталось только избрать средство. Я не знал, что лучше: застрелиться ли или медленно погибнуть от разъедающего яда мысли… — так писал он при расставании с Россией. — Я погрузился в моё отчаяние, я замкнулся в одиночество моей души, я избрал себе подругу столь же мрачную, столь и суровую, как я сам. Этою подругою была ненависть! Да, я поклялся в ненависти вечной, непримиримой ко всему меня окружавшему! Я лелеял это чувство, как любимую супругу. Я жил один с моею ненавистью, как живут с обожаемою женщиною. Ненависть — это был мой насущный хлеб, это был божественный нектар, коим я ежеминутно упивался» (173).
Не правда ли: местами это слишком похоже на «Журнал Печорина». И писалось почти одновременно, так что остается ещё раз поразиться художественному чутью Лермонтова, определившего своего героя — героем времени. Тоска, отчаяние, ненависть — вот краеугольные камни, на которых задумал человек возвести собственное бытие, извергая себя из отечества и устраиваясь в западном мире. В четвертом углу лёг камень рационализма. Но оказалось, что основа была непрочной, возводимое здание обрушилось, и под его обломками душа Печерина терзалась в метаниях между желанием бросить упрек Творцу и фаталистическим бесчувствием.
«Вечное правосудие! Я предстану пред твоим престолом и спрошу тебя: «Зачем же так несправедливо со мной поступлено? За что же меня сослали в Сибирь с самого детства? Зачем убили цвет моей юности в Херсонской степи и в Петербургской кордегардии? За что? За какие грехи?» Безумие! Фразы! Риторика! На кого тут жаловаться? Тут никто не виноват. Тут просто исполняется вечный и непреложный закон природы, перед которым все одинаково должны преклонять главу. Никому нет привилегии. Попал под закон — ну так и неси последствия. Это — закон географической широты. Жалоба моя так же основательна, как если бы какая-нибудь русская ёлка или берёзка, выросшая под архангельским небом, вздумала плакаться на то, зачем-де она не родилась пальмою или померанцевым деревом под небом Сицилии!» (162). А ведь это состояние, близкое к богоборчеству. Человеку, проклявшему родину, отрекшемуся от полноты Истины (пусть он и не подозревал о том), устремившемуся к удовлетворению собственного честолюбия — ничего не осталось, кроме бессильных укоров и равнодушия ко всему.
За десять лет до того момента, когда Печерин принялся за свои записки, Тургенев сформулировал закон внутренней духовной связи человека с родиной, с Россией: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без неё обходится»139.
Судьба Печерина тому подтверждение. Хотел он или нет, но вот та «единственная идея», которая определила всю его жизнь. Трагедия Печерина — закономерный итог практического западничества. Тупик самодовлеющей бездуховности, в какой только и может завести трезвый рационализм последовательного антиправославия любого толка.
5. Славянофильский кружок
Для западников Царство Божие — для всех, по сути, как бы они ни понимали это Царство, — оказывалось едва ли не всегда от мира сего. Поэтому и Христос Спаситель мыслился ими лишь как борец за народное счастье — в их логической системе иного и быть не могло. Не могло быть у них и иного стремления, нежели — к земному счастью. То есть в противостоянии славянофилов и западников обнаружила себя и давняя проблема культуры, истоки которой прослеживаются в идеях духовных отцов Возрождения, в идеях гуманизма, отринутого Православием ещё в XIV столетии. Славянофилы предлагали всё земное соизмерять с небесным, временное с вечным. Только при взгляде оттуда можно оценить всё, что обретается здесь.
«Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытывание силы Его обличит безумных. В лукавые души не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо святой Дух премудрости удалится от лукавства, и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды» (Прем. 1, 3–5).
Вот задача: постигать всё премудростию, не порабощённой греху. Легко сказать. И земные-то критерии не всегда умело применяются несовершенным человеческим разумом. Где же ему совладать с небесным… Недаром Гоголь призывал к овладению мудростью, данной от Христа. Недаром и все славянофилы ополчались против возвеличивающего себя рассудка земного, против мудрости мира сего: с нею не обойти тупика. Однако попытка воцерковления культуры, какую предприняли славянофилы, им не удалась. И нe от того, что путь выбран был неверно, но по нереальности вступления на него всем обществом в той конкретной исторической ситуации. Да и в собственных попытках большинства славянофилов (или тех, кто к ним был близок) дать оценки и выводы с опорою на несомненные истины — всё ли было удачным бесспорно? Мы погрешили бы против правды, когда бы вознамерились утверждать подобное. Помимо всего прочего, тяготели над большинством преодолеваемые с усилием заблуждения прошлого: не забудем, что к Истине они все почти пришли отягощённые плодами западной премудрости (вспомним: превозносили Спинозу над Евангелием), а такого в одночасье не избыть. Не напрасно же многие исследователи отметили во взглядах славянофилов издержки романтизма (скорее, не романтизма, но умозрительного идеализирования некоторых сторон земного бытия), несостоятельность их историософии и пр. Учение славянофилов не явилось сразу и в несомненности истины. Оно не оставалось никогда в косном оцепенении, но развивалось в основных своих идеях, одолевало неизбежное начальное несовершенство, противоречия и заблуждения.
Начало собственно славянофильского учения положили статьи 1839 года: «О старом и новом» А.С.Хомякова и «В ответ А.С.Хомякову» И.В.Киреевского. Двух названных вождей славянофильства, а также И.В.Киреевского и А.И.Кошелева относят обычно к «старшим» славянофилам. Позднее к ним присоединились «младшие» — Ю.Ф.Самарии, братья К.С. и И.С.Аксаковы и некоторые другие. Близки славянофилам были также М.П.Погодин, С.П.Шевырёв, Н.М.Языков, Ф.И.Тютчев. Позднее, уже в 60-е годы, славянофильские взгляды развивали так называемые «почвенники» — А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, Н.Н.Страхов и др. Не имея целью дать полное представление о всех взглядах славянофильских в их развитии, об ошибках, о различиях и спорах между единомышленниками — мы сосредоточимся здесь лишь на том наиболее значимом, что принадлежит славянофильской мысли, что обогатило русское сознание, что не утратило своей ценности и к началу XXI века. К слову сказать, славянофилы выступили и действовали, встречаемые неприязнью не только западнически настроенного общества, с его идеями прогресса и просвещения, но многих церковных людей, но и властей предержащих: ибо непримирима вражда всякой казёнщины к живой мысли. «Российское общество» (не народ) их времени, — указывает А.И. Осипов, — уже настолько было далёким от Церкви, а официальное школьное богословие так пронизано схоластикой, что борьба славянофилов за создание своей, русской, культуры, за возвращение к забытому святоотеческому опыту богопознания оказалась одинаково чуждой как тому, так и другому. «Общество» увидело в славянофильских призывах к народности, к Православию, к познанию в единстве любви какое-то ретроградство; для богословия же (официального) призывы к святоотеческому богомыслию явились чуть ли не угрозой …Православию»140.
Империя же отторгала ту критику петровских искажений русской жизни, на каких она зиждела собственное благополучие, спокойствие и уверенность; не могли власти принять и славянофильское обличение многих тёмных сторон современной им российской действительности. Всё вместе привело не только к шельмованию славянофилов, малоизвестности их важнейших идей, но и к прямым репрессиям со стороны правительства. Хомяков, Киреевские, Аксаковы находились под полицейским надзором, Самарин и И.Аксаков испытали пребывание в Петропавловской крепости. Славянофилов не выпускали за границу и даже запрещали им носить русскую одежду и бороду. Немалые трудности испытывали славянофилы и с печатанием своих трудов. Богословские работы Хомякова вообще находились под запретом — и были опубликованы гораздо после его смерти. Неудачей закончилось сотрудничество ведущих славянофилов в журнале «Москвитянин», издаваемом Погодиным, — по несовпадению некоторых взглядов с издателем. «Московский сборник», который Хомяков, Киреевские, Аксаковы намеревались сделать своим регулярным печатным органом, был запрещён в 1852 году (всего он появился трижды: в 1846, 1847, в начале 1852 г.). Лишь в 1856–1860 годах под редакцией Кошелева и И.Аксакова выходила славянофильская «Русская беседа». Направленность журнала точно определила советская «Краткая литературная энциклопедия»: «В «Р.Б.» были отделы изящной словесности, науки, критики, обозрения, смесь, жизнеописания; печатались произв. С.Т.Аксакова, В.И.Даля, «Доходное место» А.Н.Островского, стихи А.С.Хомякова, Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого, И.С.Аксакова, И.С.Никитина, Т.Г.Шевченко, не изд. стихи Е.А.Баратынского, В.А.Жуковского, Н.М.Языкова и др. Наиболее значит. статьями в разделах «Наука» и «Критика» были: «О необходимости и возможности новых начал для философии» И.В.Киреевского, «Предсмертное неоконченное сочинение» А.С.Хомякова, «О правде и искренности в искусстве» А.А.Григорьева, «Два слова о народности в науке» Ю.Ф.Самарина и др. В области философии журнал защищал идеалистич. идеи, пропагандировал православие как абсолютную богословско-философ. истину. Журнал противопоставлял народам Зап. Европы рус. народ, якобы развивающийся по особым законам в силу исконных нац. особенностей. <…> Журнал выступал за свободу слова по формуле: царю — полноту власти, народу — свободу мнений. Передовые круги общества отталкивало в «Р.Б.» её религ. направление, отрицат. отношение к социализму, к революц. движению; консервативные круги относились к журналу с подозрением из-за его независимой позиции по некоторым вопросам»141.
Довольно точно, с претензией на объективность, хотя и не без ощутительной попытки опорочить основную идейную направленность журнала. Но кто помешает переменить знак оценки?
Алексей Степанович Хомяков
Крупнейшим деятелем и идейным вождём славянофильства был Алексей Степанович Хомяков (1804–1860). Он едва ли не единственный из всех не соблазнился даже в ранние годы западническими иллюзиями. «Создаётся впечатление, — пишет о. Георгий Флоровский, — что Хомяков «родился», а не «стал». Как говорит о нем Бердяев, «Хомяков родился на свет Божий религиозно готовым, церковным, твёрдым… В нём не произошло никакого переворота, никакого изменения и никакой измены». <…> То верно, по-видимому, что Хомяков не проходил через сомнения и кризис, что он сохранил нетронутой изначальную верность»142.
Идейный противник Хомякова Герцен с внутренним уважением и не без некоторого удивления признавал: «Хомяков был действительно опасный противник, закалившийся старый бретёр в диалектике, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооружённым»143.
Важнейшие ценности, которым Хомяков рыцарски служил всю жизнь, были: Православие, как полнота Истины Христовой, и Церковь, в которой он видел «единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати»144.
«Самое замечательное в этом определении, — пишет А.И.Осипов, — что здесь, во-первых, решительно подчёркивается богочеловечество Церкви — единство в причастности Богу всех творений, покоряющихся благодати Божией. Во-вторых, не менее решительно отвергается антропоцентрическая характеристика Церкви как общества, то есть собрания лиц «в отдельности», имеющих одинаковую веру, одинаковое крещение, одно священноначалие и так далее, — мысль, ставшая привычной для курсов школьного богословия, ставящая Церковь в разряд партий, союзов, организаций чисто человеческого характера.
Таким образом, по Хомякову, это не общность лиц, объединённых единством воззрений, устава, культа, — нет, не это Церковь, ибо таковые общность и единство имеются и в других религиях, и в христианских общинах, отделённых от Православной Церкви, и в христианских общинах, лишь внешне принадлежащих Церкви (Ср.: Откр. 3, 14–19). Церковь, по Хомякову, есть единство многочисленных членов в живом Теле Христовом, принадлежность которому обусловлена причастностью Духу Святому. «Церковь же видимая, — пишет он, — не есть видимое общество христиан, но Дух Божий и благодать Таинств, живущих в обществе»145.
Православная Церковь есть вообще основа славянофильскогомировоззрения. Профессор Осипов называет это понятие важнейшим в богословии всех славянофилов: «Если одним словом выразить существо и специфику их богословских (и не только богословских) воззрений, то этим словом явилась бы церковность. Во всех их богословских сочинениях мы видим искреннее стремление любую истину веры выразить на основании Священного Предания Церкви, её соборного разума, а не по «стихиям мира сего», увлечению философствующего рассудка или сложившимся схемам школьного богословия, схоластического в своем существе, западного по духу, строю и часто идеям. Критерий церковности — вот тот глубоко осознанный, главный и единственный критерий, которого придерживаются славянофилы во всей своей литературной и практической деятельности и в первую очередь в деятельности богословской. И совсем не случайно, что основной темой их богословских работ был вопрос о Церкви — Единой, Святой, Соборной, Апостольской. Этот вопрос был для них не абстрактно-теоретическим, но глубоко жизненным, без правильного понимания которого они не видели возможности разрешить ни одной существенной проблемы мысли, культуры, истории»146.
С пониманием Церкви как единства Божией благодати в пребывающих во Христе Хомяков сопрягает понятие соборности, как единства духовного, основанного на любви всех, составляющих эту соборность, к Богу и друг другу (Ср.: Мф. 22, 35–40). Принципиально важно замечание по этому поводу о. Георгия Флоровского: «Соборность для Хомякова никак не совпадает с «общественностью» или корпоративностью. Соборность в его понимании вообще не есть человеческая, но Божественная характеристика Церкви. «Не лица и не множества лиц в Церкви хранят предания и пишут, но Дух Божий, живущий в совокупности церковной». «Нравственное единство» есть только человеческое условие и залог этого соборного преображения Духом…»147. Сознавая в Православии полноту Истины, Хомяков видит и в православном народе народ избранный. Проблема избранничества, таким образом, для него, как и для славянофилов вообще, несёт в себе не этническое, не племенное и даже не культурное содержание, но сугубо религиозное. В богоизбранности России Хомяков видит не привилегию, дающую возможность полнее пользоваться благами жизни, но тяжкую ношу ответственности за Истину, и превозмочь неподъёмность этой ноши можно, по его убеждению, лишь смиренным очищением от греха посредством покаяния. Это стало важной темою литературного творчества Хомякова. Хомяков выявил себя прежде всего как тонкий поэт-лирик, хотя ему принадлежит и ряд стихотворных драматических произведений. Не поднявшись до высот Пушкина или Тютчева, он запечатлел себя как автор нескольких шедевров духовной поэзии, а жанр этот вообще из труднейших, и мало кому доступный по самой высоте содержания. В духовной лирике можно впасть в сухую выспренность либо слащавую экзальтацию — отчего способно удержать лишь соединение таланта с истинным горением веры и одновременным трезвением религиозного чувства. Хомяков в лучших своих созданиях добивался такого соединения.
В час полночный, близ потока,
Ты взгляни на небеса;
Совершаются далёко
В Горнем мире чудеса.
Ночи вечные лампады,
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады
Негасимого огня…
В час полночного молчанья
Отогнав обманы снов,
Ты вглядись душой в писанье
Галилейских рыбаков, —
И в объёме книги тесной
Развернётся пред тобой
Бесконечный свод небесный
С лучезарною красой…
Славянофилы, следуя за святоотеческой мыслью постоянно, как мы знаем, указывали на несовершенство земного разума, противопоставившего себя вере. «Один разум, отрешённый от святости был бы слеп, как сама материя»148, — эту свою богословскую мысль Хомяков развил в стихотворении, слишком злободневно звучащем и при начале третьего тысячелетия от Рождества Христова:
Широка, необозрима
Чудной радости полна,
Из ворот Иерусалима
Шла народная волна.
Галилейская дорога
Оглашалась торжеством:
«Ты идёшь во имя Бога,
Ты идёшь в Свой царский дом!
Честь Тебе, наш Царь смиренный,
Честь Тебе, Давидов Сын!»
Так, внезапно вдохновенный,
Пел народ. Но там один,
Недвижим в толпе подвижной,
Шёл воспитанник седой,
Гордый мудростию книжной,
Говорил с усмешкой злой:
«Это ль Царь, ваш слабый, бледный,
Рыбаками окружён?
Для чего Он в ризе бедной,
И зачем не мчится Он,
Силу Божью обличая,
Весь одеян чёрной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землёй?..»
И века прошли чредою,
И Давидов сын с тех пор,
Тайно правя их судьбою,
Усмиряя буйный спор,
Налагая на волненье
Цепь любовной тишины,
Мир живит, как дуновенье
Наступающей весны:
И в трудах борьбы великой
Им согретые сердца
Узнают шаги Владыки
Слышат сладкий зов Отца
Но в своём неверье твёрдый,
Неисцельно ослеплён,
Всё, как прежде, книжник гордый,
Говорит: «Да где же он?
И зачем в борьбе смятенной
Исторического дня
Он проходит так смиренно,
Так незримо для меня,
А нейдёт, как буря злая,
Весь одеян чёрной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землёй?»
1858
Противопоставление понятий смирения и гордыни — важнейшая тема духовной лирики Хомякова. Он ставит проблему особенно остро в связи с судьбою России, богоизбранного народа. Поэт противостал имперскому чванству, гордыне государственников! — за что не мог не навлечь на себя неприязни тех льстецов, которые в самообольщении несут, по убеждению православного мыслителя, пагубу истинной крепости народной жизни:
«Гордись! — тебе льстецы сказали. —
Земля с увенчанным челом,
Земля несокрушимой стали,
Полмира взявшая мечом!
Пределов нет твоим владеньям,
И, прихотей твоих раба,
Внимает гордым повеленьям
Тебе покорная судьба.
Красны степей твоих уборы,
И горы в небо уперлись,
И как моря твои озёры…»
И на это-то вознесение гордынного самодовольства (столь знакомого и человеку рубежа XX–XXI столетий) Хомяков отвечает твёрдо:
Не верь, не слушай, не гордись!
……………………………..
Всей этой силой, этой славой,
Всем этим прахом не гордись!
Пали многие и славные империи, ибо:
Бесплоден всякий дух гордыни,
Неверно злато, сталь хрупка…
Но что же верно и нетленно?
Но крепок ясный мир святыни,
Сильна молящихся рука!
Бог избирает не гордых, но смиренных (1 Пет. 5, 5):
И вот за то, что ты смиренна,
Что в чувстве детской простоты,
В молчанье сердца сокровенна,
Глагол Творца прияла ты, —
Тебе Он дал Своё призванье,
Тебе Он светлый дал удел:
Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел;
Хранить племён святое братство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство,
И правду, и бескровный суд.
Твое всё то, чем дух святится,
В чём сердцу слышен глас небес,
В чём жизнь грядущих дел таится,
Начало славы и чудес!..
Соприкосновение с поэзией Хомякова помогает также отвергнуть тот расхожий стереотип, вышедший из недр западничества, будто славянофильство представляет собою не более чем чванливое бахвальство, превозносящее всё русское над всем иноземным. Хомяков определённо ставит вопрос о внутреннем соответствии современного ему состояния России — её богоизбранности, какое для него несомненно:
Тебя призвал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слепых, безумных, буйных сил.
Но у кого из западников найдутся столь жёсткие обличения российских неправд и пороков?
Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело.
Своих рабов Он судит строго,
А на тебя, увы! так много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой чёрной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мёртвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
Что можно противопоставить всему этому? Чем искупить эту «всякую мерзость»? Православный человек иного не может сказать, как только: покаянием.
О недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!
С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!
Вспомним, с каким недоумением и пренебрежением восприняли этот призыв западники. Но Хомякову ответил и единомышленник— К.Аксаков:
Напрасно подвиг покаянья
Ты проповедуешь земле
И кажешь тёмные деянья
С упрёком гордым на челе.
…………………………
Знакомо Руси покаянье, —
О нём не нужно говорить,
С покорностью свои страданья
Она умеет выносить!..
Каяться, по убеждению Аксакова, должна не Русь, а те, кто изменил ей в гордыне ума своего. Этот грех поэт переносит и на себя самого:
Но есть пленительный для взора,
Несознаниый, тяжёлый грех,
И он лежит клеймом позора
И на тебе, на нас, на всех!
…………………………….
То — злая гордость просвещенья,
То — жалкий лепет слов чужих,
То — равнодушие, презренье
Родной земли и дел родных!..
Мысль, слишком знакомая нам у славянофилов. Заметим также, что славянофилы порицают в России грех отступления от Православия. Западники всегда корили её за излишнюю, по их мнению, приверженность вере. Разница. И.Аксаков, касаясь этой «поэтической переписки», заметил: «Интересно сопоставление этих двух пьес, — этот поэтический поединок, этот живой спор двух друзей, так тесно связанных единством мысли и высоких нравственных требований. Оба гремят укорами, оба взывают к покаянию — и оба правы»149. И впрямь: старший Аксаков отнюдь не отверг необходимость покаяния — он сосредоточил мысль на покаянном отвержении гордыни просветительского ума, пренебрегающего верою, но рабски следующего за чуждыми соблазнами. В смирении, в покаянии, в следовании правде Божией Хомяков видит истинную силу всякого борца с лукавой ложью, и недаром в обоснование своей правоты прибегает к известному библейскому сюжету:
Певец-пастух на подвиг ратный
Не брал ни тяжкого меча,
Ни шлема, ни брони булатной,
Ни лат с Саулова плеча;
Но духом Божьим осененный,
Он в поле брал кремень простой—
И падал враг иноплеменный,
Сверкая и гремя бронёй.
И ты — когда на битву с ложью
Восстанет правда дум святых—
Не налагай на правду Божью
Гнилую тягость лат земных.
Доспех Саула ей окова,
Саулов тягостен шелом:
Ее оружье — Божье слово,
А Божье слово — Божий гром!
Тут поэт следует и давней русской убеждённости, что «не в силе Бог, а в правде», и мудрости апостольской: «Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в оковах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12, 9-10).
Среди лирических шедевров Хомякова особенно известно стихотворение, положенное на музыку П.И.Чайковским:
Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг в терпенье,
Любви и мольбе.
Позднее С.Н.Булгаков той же теме посвятит статью в cборнике «Вехи» — «Героизм и подвижничество». Философ противопоставил понятия подвига и подвижничества — выплеск мгновенной деятельной энергии и долготу смиренного, подкрепляемого молитвою духовного делания во имя любви к Истине, то есть к Богу и человеку. У Хомякова нет такой терминологической чёткости, но развивает он ту же мысль — поэзия же нередко тем видимо отличается от философского рассуждения, что способна выразить глубину идеи в ёмкой, но лаконичной образной форме. Подвиг веры всепобеждающей запечатлевается в терпении, любви и молитве — вот истина, драгоценная для православного сознания.
Если сердце заныло
Перед злобой людской
Иль насилье схватило
Тебя цепью стальной;
Если скорби земные
Жалом в душу впились, —
С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись.
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них
Без труда, без усилья
Выше мраков земных,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
Гордой черни людской.
1859
Иван Васильевич Киреевский
Иным было движение к истине у Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856), которого, наряду с Хомяковым, по праву называют одним из основоположников и вождей славянофильского направления. В исходной точке он как бы сошелся с Чаадаевым, прямо признаваясь: «…Никто больше меня не ценит тех удобств жизни общественной и частной, которые произошли от того же самого рационализма» (120)150. Имел ли он намерение, говоря это «никто», противопоставить себя первому идеологу западничества, трудно сказать, но свою приязнь к Западу Киреевский высказал твёрдо: «…Я и теперь ещё люблю Запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привычками» (120). И все эти «привычки жизни», «вкусы» и пр. Киреевский сознательно противопоставляет неким важнейшим началам, каким он считает долгом подчинить всё в жизни: «Но в сердце человека есть такие движения, такие требования в уме, такой смысл в жизни, которые сильнее всех привычек и вкусов, сильнее всех приятностей жизни и выгод внешней разумности, без которых ни человек, ни народ не могут жить настоящею жизнью» (120). Что же это за движения и требования? Чичерин кратко pаскрыл основные этапы внутренней эволюции Киреевского: «Некогда Киреевский был ярым шеллингистом; в этом направлении он издавал журнал «Европеец», который был запрещён уже с первого нумера и от которого за редактором долгое время оставалось прозвание Европейца. Но затем, вслед за Шeлингом, он совершил эволюцию от философского пантеизма к нравственно-религиозной, и притом догматической, точке зрения. Разница состояла в том, что Шеллинг примкнул к католицизму, а Киреевский остановился на Православии, вследствие чего он и сделался одним из основателей славянофильской школы»151.
Итак: Православие становится для мыслителя той Истиной, которой он жертвует всеми приятностями жизни. «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Гал. 5, 13).
Киреевский так и утвердил свою свободу, отвергнув идеалы западнической премудрости. «Со свойственным ему умом и талантом, — вспоминал Чичерин о Киреевском, — но вместе и со свойственною ему поверхностною софистикою, он громил всю западную философию, как исчадие превозносящегося в своей гордыне рассудка, и указывал спасение единственно в лоне Православной Церкви»152. Задержим внимание на этих словах: поверхностная софистика.
Вот общее место всех западников: собственное неумение распознать смысл в суждениях оппонентов и сознать полноту Православия они выдают за пустоту своих противников. За пустоту именно Православия и славянофильского учения, основанного на нём.
Невежды судят точно так:
В чём толку не поймут, то всё у них пустяк.
Вот ряд отзывов того же Чичерина — как показательный пример. О богословских взглядах Хомякова Чичерин отозвался с пренебрежением: «В этих брошюрах выражается вся изворотливость его ума, но, вникая в них глубже, трудно усмотреть в них что-либо, кроме чисто логической гимнастики»153. О приверженности Киреевского к святоотеческой мудрости: «…Он оклеветанных, по его мнению, мистиков признавал величайшими мыслителями, единственно постигавшими истину в её полноте»154. Высокомерное недоумение перед таким мнением, то есть святоотеческой мудростью в конце-то концов, ощутительнo, и весьма. То же — относительно славянофильской идеи богоизбранности русского народа: «без упорной умственной работы, без исторической борьбы, просто вследствие того, что он от одряхлевшей Византии получил Православие, он становится избранником Божьим, призванным возвестить миру новые, неведомые дотоле начала»155. Полное непонимание вызвали у Чичерина слова Хомякова: «…Дух истины открывается только любящему сердцу. Поститесь и молитесь, и вы узнаете»156.
Киреевский подобную позу кичливого непонимания разъяснил определённо (не имея в виду конкретно Чичерина, ибо его «Воспоминаний» знать не мог): «Находясь на высшей степени мышления, православно верующий легко и безвредно может понять все системы мышления, исходящие из низших степеней разума, и видеть их ограниченность и вместе относительную истинность. Но для мышления, находящегося на низшей степени, высшая непонятна и представляется неразумием. Таков закон человеческого ума вообще» (261). Вот тут, как мы знаем, и обретается один из главных пунктов противостояния славянофилов и западников: одни видят главный источник познания истины — в духовном познании ее верою, другие — в рациональном научном анализе. Для Киреевского это было одной из центральных идей его философии. «По их теории, — писал Чичерин, имея в виду прежде всего Хомякова и Киреевского, — источник всякого просвещения заключается в религии; и наука и искусство от неё получают свои верховные начала»157. Киреевский оттого и усматривает в церковной истории начала двух противоположных подходов к нахождению критерия истины: «Но потому ли, что христиане на Западе поддались беззаконно влиянию классического мира, или случайно ересь сошлась с язычеством, но только римская церковь в уклонении своём от Восточной отличается именно тем же торжеством рационализма над преданием, внешней разумности над внутренним духовным разумом» (119).
Внешняя разумность и внутренний духовный разум — мы узнаем здесь все ту же дихотомию, о которой позднее размышлял Гоголь в «Выбранных местах…». Какими бы словами она ни обозначалась, но противоположение мудрости земной и мудрости, даваемой от Бога, во всех рассуждениях славянофилов и близких им мыслителей — неизменно. Заметим также, что в отличие от Чаадаева (и многих иных) Киреевский всегда точно говорит об уклонении католичества от восточной, то есть Православной Церкви, а не о «разделении» Церквей, тем более не об обособлении Православия от единого христианского народа. Из идеи рационалистического уклонения римского католицизма Киреевский выводит важнейшее различие между двумя типами просвещения: «…Именно по причине рациональности своей западная церковь является врагом разума, угнетающим, убийственным, отчаянным врагом его.<…> Христианство восточное не знало ни этой борьбы, ни этого торжества разума над верою. Поэтому и действия его на просвещение были не похожи на католические» (121–122). «Корень образованности России живёт ещё в её народе, и, что всего важнее, он живёт в его святой Православной Церкви. Поэтому на этом только основании, и ни на каком другом, должно быть воздвигнуто прочное здание просвещения России, созидаемое доныне из смешанных и большею частью чуждых материалов, и потому имеющее нужду быть перестроенным из чистых собственных материалов» (237).
Киреевский, пожалуй, впервые противопоставил западное и православное мышление как два типа: раздробленное и цельное.
«Западный человек раздробляет свою жизнь на отдельные стремления и <…> в каждую минуту жизни является как иной человек. В одном углу его сердца живёт чувство религиозное, которое он употребляет при упражнениях благочестия; в другом — отдельно — силы разума и усилия житейских занятий; в третьем — стремления к чувственным утехам; в четвёртом — нравственно-семейное чувство; в пятом — стремление к личной корысти; в шестом — стремление к наслаждениям изящно искусственным; и каждое из частных стремлений подразделяется ещё на разные виды, сопровождаемые особыми состояниями души, которые все являются разрозненно одно от другого и связываются отвлечёнными рассудочными воспоминаниями. Западный человек легко мог поутру молиться с горячим, напряжённым, изумительным усердием; потом отдохнуть от усердия, забыв молитву и упражняя другие силы в работе; потом отдохнуть от работы не только физически, но и нравственно, забывая её сухие занятия за смехом и звоном застольных песен; потом забыть весь день и всю жизнь в мечтательных наслаждениях искусственного зрелища. На другой день ему легко было опять снова начать оборачивать то же колесо своей наружно-правильной жизни» (229).
Совершенно иной тип сознания — и оттого иной тип поведения во всех жизненных ситуациях у православного человека: «Не так человек русский. Моляся в церкви, он не кричит от восторга, не бьёт себя в грудь, не падает без чувств от умиления; напротив, во время подвига молитвенного он особенно старается сохранить трезвый ум и целость духа. Когда же не односторонняя напряжённость действительности, но самая полнота молитвенного самосознания проникнет его душу и умиление коснётся сердца, то слезы его льются незаметно и никакое страстное движение не смущает глубокой тишины его молитвенного состояния. Зато он нe поёт и застольных песен. Его обед свершается с молитвою. С молитвою начинает и оканчивает он дело. С молитвою входит в дом и выходит. <…> Так русский человек каждое важное и неважное дело своё всегда связывал непосредственно с высшим понятием ума и с глубочайшим средоточием сердца» (229–230).
Такое освящённое и освещённое молитвою сознание должно назвать соборным, целокупным, ибо для носителя такого сознания нет «мышления, оторванного от памяти о внутренней цельности ума, о том средоточии самосознания, где настоящее место для высшей истины и где не один отвлечённый разум, но вся совокупность умственных и душевных сил кладут одну общую печать достоверности на мысль, предстоящую разуму, как на Афонских горах каждый монастырь имеет только одну часть той печати, которая, слагаясь вместе изо всех отдельных частей, на общем соборе монастырских предстоятелей составляет одну законную печать Афона» (262).
В господстве раздробленного рационального начала Киреевский усматривал угрозу всё отрицающей и всё разрушающей пагубы:
«Замечательно, что даже мысль о новом, долженствовавшем заступить место старого, почти не являлась иначе как отрицательно. Эти электрические слова, которых звук так потрясал умы: свобода, разум, человечество, — что значили они во время французской революции?
Ни одно из этих слов не имело значения самобытного, каждое получало смысл только из отношений к прошлому веку. Под свободою понимали единственно отсутствие прежних стеснений; под человечеством разумели единственно материальное большинство людей, то есть противуположносгь тем немногим лицам, в коих, по прежним понятиям, оно заключалось; царством разума называли отсутствие предрассудков или того, что считали предрассудками — и что не предрассудок перед судом толпы непросвещённой? <…> Одним словом, всё здание прежнего образа мыслей разрушалось в своём основании; вся совокупность нравственного быта распадалась на составные части, на азбучные, материальные начала бытия» (63–64).
Именно это отрицательное начало, овладевшее сознанием русских революционных демократов, сказалось в чрезмерности критического пафоса немалого числа произведений русской литературы. К.Аксаков остроумно заметил, что стремление к свободе, замешанное у людей, подобных Белинскому, на «буйном отрицании» всех начал русской жизни, превратилось в итоге в отрицательное рабство.
Итак, если Хомяков более сосредоточивал внимание на идее соборного единства, заложенной в началах веры и Церкви, то Киреевский подробнее и жёстче раскрывал особенности внешней разумности как сознания раздробленного, дискретного, рвущего себя на части. Важнейшими работами Киреевского нужно признать завершающие его литературный путь статьи: «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» (1852), уже обильно процитированную здесь, и «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856). В них он подвёл итог основным своим, самым задушевным идеям. Пристальное изучение Запада и глубокое познание русской жизни позволили Киреевскому сделать важнейший вывод, опровергнув расхожее мнение, бытующее и по сей день, будто «различие между просвещением Европы и России существует только в степени, а не в характере и ещё менее в духе или основных началах образованности» (200). Главный порок западного ума, при всем блеске его внешнего торжества, Киреевский усмотрел в полном обессмысливании жизни, не одухотворённой никакой общей идеей, никаким общим стремлением. Обоготворяя рассудок, западный человек поверил, «что собственным отвлечённым умом может сейчас же создать себе новую разумную жизнь и устроить небесное блаженство на преобразованной им земле» (202). Как мы знаем, полностью повторил это заблуждение Чаадаев, но он всё же был готов прибегнуть к помощи Творца в создании этого «блаженства», даже видел в том необходимость, тогда как ум подлинно западного человека, вследствие собственной дробности, обречён был, в конце концов, на одно саморазрушающее отрицание, и не в состоянии сделать никакой уступки религиозному чувству, утратил «веру во все убеждения, не из одного отвлечённого разума исходящие» (203), — а в результате утратил веру и в своё собственное всемогущество.
Русское сознание, основанное на иных началах, не способно механически переключиться на идеалы западного просвещения — без полного внутреннего перерождения. «Русскому человеку <…> надобно было почти уничтожить свою народную личность, чтобы сродниться с образованностью западною, ибо и наружный вид, и внутренний склад ума, взаимно друг друга объясняющие и поддерживающие, были в нём следствием совсем другой жизни, проистекающей совсем из других источников» (206). Не случайно же, заметим, в западнической среде со временем развивались антинациональные идеи, стремление к космополитическому единству, обезличиванию и усреднению всякого сознания и всякой внутренней жизни. Отсюда и проистекает то активное неприятие (и даже ненавистное отрицание) Православия, какое нередко наблюдается среди западников всех времён. Всё, как видим, имеет неизменную религиозную подоплёку. Чичерин был прав: Киреевский, как и прочие славянофилы, всю мудрость православного народа связывал со святоотеческим учением, утверждая: «Учения Св. Отцов Православной церкви перешли в Россию, можно сказать, вместе с первым благовестом христианского колокола. Под их руководством сложился и воспитался коренной русский ум, лежащий в основе русского быта» (222).
В отличие от западного мира, мудрость святоотеческая, мудрость Православия была тем объединяющим соборным началом, каким жила вся Русская земля. «Обширная русская земля даже во времена разделения своего на мелкие княжества всегда сознавала себя как одно живое тело и не столько в единстве языка находила своё притягательное средоточие, сколько в единстве убеждений, происходящих из единства верования в церковные постановления. Ибо её необозримое пространство было всё покрыто как бы одной непрерывной сетью, неисчислимым множеством уединенных монастырей, связанных между собою сочувственными нитями духовного общения. Из них единообразно и единомысленно разливался свет сознания и науки во все отдельные племена и княжества. Ибо не только духовные понятия народа из них исходили, но и все его понятия нравственные, общежительные и юридические, переходя через их образовательное влияние, опять от них возвращались в общественное сознание, приняв одно общее направление» (222).
Киреевский резко отверг идею этнического, племенного преимущества славянского начала, ибо: «самое свойство плода зависит от свойства семени» (224). Семя же — православная мудрость, данная народу извне, но ставшая его внутренней основою. Приверженность западного сознания к внешней мудрости, православного к внутренней духовной— определили и два различных типа поведения, два типа жизнепонимания вообще: «Западный человек искал развитием внешних средств облегчить тяжесть внутренних недостатков. Русский человек стремится внутренним возвышением над внешними потребностями избегнуть тяжести внешних нужд» (232).
Два типа воззрения на мироустройство определили и различное понимание правопорядка в отношениях между людьми. Как мы помним, Чаадаев, следуя за западными мыслителями, видел в праве, в законе один из краеугольных камней, на котором зиждется общественная жизнь. Принцип юридизма вообще заложен в западническое миропонимание. Для западного человека — право есть одно из внешних средств, облегчающих тяжесть внутренних недостатков. Киреевский основывал понимание права на внутреннем тяготении человека к правде и справедливости. Поэтому: если для любого западника источник права — государство, общество, то для славянофила государство не может распоряжаться никакими правами:
«…Никакая власть никакому лицу, ни сословию не могла ни даровать, ни уступить никакого права, ибо правда и справедливость не могут ни продаваться, ни браться, но существуют сами по себе, независимо от условных отношений» (123). Право, закон всегда в различной степени есть ограничение свободы, своего рода насилие над человеком (во имя общественного блага, разумеется). Внутреннее сознание Божьей справедливости всегда выражает истинную свободу человека, его стремление к Творцу. Так Киреевский понимал и идеал взаимоотношения Церкви и государства: «Управляя личными убеждениями людей, Церковь Православная никогда не имела притязания насильственно управлять их волею или приобретать себе власть светски-правительственную, или, ещё менее, искать формального господства над правительственной властию. Государство, правда, стояло Церковью: оно было тем крепче в своих основах, тем связнее в своём устройстве, тем цельнее в своей внутренней жизни, чем более проникалось ею. Но Церковь никогда не стремилась быть государством, как и государство, в свою очередь, смиренно сознавая своё мирское назначение, никогда не называло себя «святым». Ибо, если русскую землю иногда называли «святая Русь», то это единственно с мыслию о тех святынях мощей, и монастырей, и храмов Божиих, которые в ней находились, а не потому, чтобы её устройство представляло со-пронизание церковности и светскости, как устройство Святой римской империи» (225).
Киреевский здесь точно раскрыл понятие «симфонии», которое является идеалом в православном понимании государственного устроения бытия и которое опирается на хорошо всем известные слова Спасителя: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21). Киреевский строго противопоставил рационализм западной юриспруденции, приверженный «буквальному смыслу формы», понятию права, выработанного на Руси и основанного на святости Предания и православности жизнеустроения, отчего «внутренняя справедливость брала в нём перевес над внешней формальностью» (227).
О том, к каким порою нелепостям может привести вознесение формальной стороны над внутренним содержанием — можно пояснить таким простым примером. Для всякого верующего человека таинство брака связано с освящением будущего союза в храме. Совершающееся таинство требует, разумеется, и формальной регистрации («кесарево кесарю»), но никому в ум не придёт эту бюрократическую формальность связывать с неким подобием священнодействия. Однако в условиях господства светского права в секулярном государстве именно это и происходит: сама регистрация, действие чисто внешнее, малосущественное для смысла события, превращается в своего рода сакральное действо, обставляется порою едва ли не как церковный обряд.
Закон, как он сложился в России, Киреевский рассматривает как следствие соборного согласия народа, тогда как закон в западном понимании для него есть логическое оформление деятельности отдельных индивидов: «Закон в России не сочинялся, но обыкновенно только записывался на бумагу, уже после того, как он сам собою образовался в понятиях народа и мало-помалу, вынужденный необходимостью вещей, взошёл в народные нравы и народный быт» (227). Заметим, что в подобном осмыслении права таится и своя опасность: при ослаблении духовного и нравственного начала в общественном бытии возможно воцарение хаоса и полного бесправия. (История России XX века это продемонстрировала вполне.)
Киреевский же обратил внимание на то, что оскудению духовной жизни человека благоприятствует именно рационалистическое превознесение формы над содержанием, формального права над совестью. Рассудок слишком изворотлив, чтобы не попытаться оправдать любое отступление от правды — искусственной и искусной коррекцией правовых установлений. К этому толкает человека и присущее западному сознанию и психологии вкоренённое в них самодовольство, «Назвав «самодовольство», — пишет Киреевский, — я коснулся ещё одного, довольно общего отличия западного человека от русского. Западный, говоря вообще, почти всегда доволен своим нравственным состоянием; почти каждый из европейцев всегда готов, с гордостию ударяя себя по сердцу, говорить себе и другим, что совесть его вполне спокойна, что он совершенно чист перед Богом и людьми, что он одного только просит у Бога, чтобы другие люди все были на него похожи. Если же случится, что самые наружные действия его придут в противоречия с общепринятыми понятиями о нравственности, он выдумает себе особую, оригинальную систему нравственности, вследствие которой его совесть опять успокаивается. Русский человек, напротив того, всегда живо чувствует свои недостатки и, чем выше восходит по лестнице нравственного развития, тем менее бывает доволен собою. При уклонениях от истинного пути он не ищет обмануть себя каким-нибудь хитрым рассуждением, придавая наружный вид правильности своему внутреннему заблуждению, но даже в самые страстные минуты увлечения всегда готов сознать его нравственную незаконность» (233–234). Это отмеченное Киреевским различие во многом определило и различия в отображении психологии человека — в литературах западных и русской. Внутреннее тяготение собственной греховностью, собственным несовершенством, «самокопание», «самоедство», самобичевание, над которым порою так иронизируют критики западнической opиентации, слишком очевидны в характере героев именно русской литературы и, по сути, отсутствуют в западноевропейской, почти не проявляются в ней. Такое внутреннее различие между западным и русским человеком, отображённое литературой, имеет исток, очевидно, в различиях типа святости православной и католической. Ведь не кто иной, как св. Франциск Ассизский утверждал, что нет такого греха и несовершенства, какое он не искупил бы своими духовными подвигами. Для православного сознания это воспринимается как следствие явной духовной прелести, духовного самообмана. Величайшие православные подвижники, достигавшие высочайшей степени духовного совершенства, неизменно сознавали себя только при самом начале пути спасения собственной души, поражённой тягчайшей греховностью. Такое состояние именуется, как мы знаем, смирением.
«Только смирение, — пишет А.И.Осипов, — проистекающее из познания себя, то есть познания полного бессилия своего естества в его отдельности от Бога, создаёт твердую психологическую базу для вечного принятия человеком Бога как единственного источника жизни и всякого блага. Ибо только оно может полностью и окончательно исключить возможность нового горделивого мечтания стать как Бог (Быт. 3, 5) и нового падения. По существу и подлинное возрождение начинается в жизни христианина лишь тогда, когда он в борьбе с грехом увидит всю глубину повреждённости своей природы, принципиальную её неспособность в чисто природном порядке, без Бога, совершить полноценное добро и достичь искомого блага»158.
Заметим, что духовная ценность русской классической литературы, помимо всего прочего осуществляется и в том, что она помогает, при её духовном восприятии, сознать это бессилие отделённости от Бога, эту глубину повреждённости природы человека. Рационалистическому миропониманию недоступны подобные истины, как недоступны западническому типу мышления очевидные откровения веры. Но рационализм, как бы ни упивался он собою в самодовольстве своём, зашёл, по твёрдому убеждению Киреевского, в философский тупик, выражением которого стала философия Гегеля. А Гегеля Киреевский знал не понаслышке (как, к примеру, Белинский) и не из чтения печатных работ философа — он внимал ему на лекциях в Берлинском университете, был отличён профессором от прочих слушателей и даже почтён приглашением на домашнюю приватную беседу при вечерних огнях. Вот где познал Киреевский тупиковость немецкой премудрости, именуемой классическою. Не забудем, что Герцен в той же диалектике распознал, и справедливо, «алгебру революции», а Ленин усмотрел источник собственной идеологии. Не очевидное ли доказательство тупика этой пути мышления? Где же выход? Если вступление на тупиковый путь было ознаменовано при самом начале уклонением от единства Церкви, то выход — в возвращении к той мудрости, в которой разум одухотворяется верою, совершенное же воплощение единства разума и веры можно обрести только в Церкви, в её Предании, у Святых Отцов — то есть в Православии. «Одного только желаю я: чтобы те начала жизни, которые хранятся в учении Святой Православной Церкви, вполне проникнули убеждения всех степеней и сословий наших, чтобы эти высшие начала, господствуя над просвещением европейским и не вытесняя его, но, напротив, обнимая его своею полнотою, дали ему высший смысл и последнее развитие и чтобы та цельность бытия, которую мы замечаем в древней, были навсегда уделом настоящей и будущей нашей православной России…» (238). Чтобы осознать глубокую мудрость этих слов Киреевского — вера нужна, вера в то, что лишь в Православии пребывает полнота Истины. При отвержении же веры — только и остаётся, что повторить вслед за Герценом: на нет и суда нет.
Николай Mихайлович Языков
Среди творцов русской литературы, близких славянофильскому направлению, из первых нужно назвать Николая Mихайловича Языкова (1803–1846). Ему, помимо всего прочего, выпало навеки быть причисленным к «поэтам пушкинской поры». Да он и знаком был с Пушкиным, пользовался взаимной дружеской приязнью. Не осмыслению ли творческой близости великому поэту посвящён языковский «Гений»?
Когда, гремя и пламенея,
Пророк на небо улетал,
Огонь могучий проникал
Живую душу Елисея:
Святыми чувствами полна,
Мужала, крепла, возвышалась,
И вдохновеньем озарялась,
И Бога слышала она!
Так гений радостно трепещет,
Свое величье познаёт,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полёт;
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зреет для чудес…
И миру новые светила—
Дела избранника небес!
1825
В самом понимании назначения поэзии Языков был духовно един с Пушкиным, он также услышал глас Творца: «Исполнись волею Моей» — для него, так же как и для Пушкина, поэтическое творчество сознавалось близким пророческому служению. В обращении «Поэту» он свидетельствует о том непреложно:
Иди ты в мир, да слышит он пророка;
Но в мире будь величествен и свят:
Не лобызай сахарных уст порока
И не проси и не бери наград.
Языков остерегает литературных собратьев от собирания земных сокровищ — в деле поэтического служения:
Но если ты похвал и наслаждений
Исполнился желанием земным, —
Не собирай богатых приношений
На жертвенник пред Господом твоим:
Он на тебя немилосердно взглянет,
Не примет жертв лукавых; дым и гром
Размечут их — и жрец отпрянет,
Дрожащий страхом и стыдом!
1831
Языков был человеком — и поэтом — религиозным, православным.
И любил свою родину истинно. За что был объявлен адептами революционно-демократической идеологии — реакционером. Его «сурово осудил» сам Белинский. В своей реакционности Языков часто сопоставлялся с другим великим современником — Гоголем. И иные исследователи всерьёз обсуждали, кто на кого больше повлиял в этом отношении — Гоголь на Языкова или же Языков на Гоголя, — и подразумевалось, что один без другого, быть может, удержался бы на «передовых позициях». Но можно ли серьезно рассуждать о несамостоятельности поэта, который уже в двадцать два года написал «Молитву»:
Молю святое Провиденье:
Оставь мне тягостные дни,
Но дай железное терпенье,
Но сердце мне окамени.
Пусть, неизменен, жизни новой
Приду к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам.
1825
Признаем некоторое несовершенство слога, но мужества мысли отрицать не решимся. Языков был не чужд традиции поэтического переложения текстов Писания. И опять-таки должны отметить мы мужество поэта, обратившегося к одному из «беспощадных» псалмов, смущающему многих своею суровостью. Языков написал «Подражание CXXXVI Псалму», то есть знаменитому псалму «При реках Вавилона…». Но должно признать, что в духовном осмыслении текста он оказался не вполне твёрд. Сопоставим завершающие стихи Псалма с соответствующими строфами переложения.
«Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст
тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. 136, 8–9).
Блажен, кто смелою десницей
Оковы плена сокрушит,
Кто плач Израиля сторицей
На притеснителя отмстит!
Кто в дом тирана меч и пламень
И гибель грозную внесёт!
И с ярким хохотом о камень
Его младенцев разобьёт!
1830
У Языкова не просто большее изобилие эмоционально-изобразительных образов (меч и пламень, яркий хохот, смелая десница…), но и отсутствие важного символа: дочери Вавилона. Без него завершающие строфы начинают восприниматься как гневный призыв к мести, как апофеоз ненависти, сродни пушкинскому
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу!
Состояние, недостойное православного. В Псалме же иное: по толкованию Святых Отцов, дочь Вавилона есть символическое обозначение греховности, сатанинского владычества над душою, все следствия которого (детей, младенцев её) мы должны разбить о камень, обозначающий Христа (1 Кор. 10, 4). Из этого примера видно, с какою ответственностью следует подходить к текстам Писания, ибо всякое переложение есть и комментарий — а ложное толкование есть хула на слово Божие. Даже духовно устремлённые люди могут невольно впасть в такой грех. Однако искренность веры Языкова подвергать сомнению невозможно. В вере он и узревает залог спасения, пророческий же долг поэта сознаёт в креплении человеческих душ среди бед и испытаний святыми истинами веры.
Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха,
И ликам ангельским внемли,
И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины, —
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.
1844
Степан Петрович Шевырёв
Не обойти нам вниманием и поэтическое творчество Степана Петровича Шевырёва (1806–1864). О нём ведь что всегда писали и говорили еще в прошлом веке? Реакционный-де профессор, противник и гонитель Белинского и Чернышевского, «кликуша Шевырёв», низкопоклонник, педант… Но надо признать (и опыт накоплен для того уже немалый), что как начнут обвинять человека в консерватизме да реакционности, то воспринимать это надо скорее как похвалу, ибо бездумное стремление к непременной новизне во что бы то ни стало («рабство у передовых идеек», как называл это Достоевский) и, того хуже, — к революции, есть свойство незрелости ума, если вовсе не отсутствие такового. К тому же о Шевырёве похвально отзывались Пушкин, Жуковский, Гоголь, Вяземский и пренебречь такими именами мы не вправе.
Не следует, однако, полагать, что в наследии Шевырёва всё для нас должно быть приемлемо без оговорки. Но оставим в стороне его взгляды и уделим краткое внимание его поэтическим опытам, хотя поэзия и не была для него главным делом жизни: он более прославил своё имя как историк отечественной словесности, при том, что круг его интересов был значительно шире. В стихах Шевырёва можно без труда заметить — и в том их своеобразие — парадоксальное сочетание непреодолённого романтизма с тяготением к архаичности формы, языковой материи. Ясно ощутима его склонность к библейскому слогу, что, несомненно, созвучно внутреннему консерватизму поэта.
Поэтическому мировосприятию Шевырёва явно присуща символизация явлений природы, наполнение их духовным смыслом и одновременно стремлением точнее разгадать этот смысл.
Гром грянул! Внемлешь ли глаголу
Природы гневной — сын земли?
Се! духи и горе и долу
Её вещанья разнесли!
Она язык свой отрешает,
Громами тесный полнит слух
И человека вопрошает:
Не спит ли в нём бессмертный дух?
Мой дух — не спи! — на зов природы
Ответ торжественный воспой,
Что ты, небесный страж свободы,
Нe дремлешь, праздный и немой.
И с благозвучными громами
Земные песни огласи
И вместе с горними духами
Её глаголы разнеси.
Мой дух! Там Он следит за тучей!
Завесу неба раздери
И прямо с верою могучей
К престолу славы воспари.
И, в огневую багряницу
Облекшись, ангелом сияй,
И громоносную десницу
У Милосердного лобзай.
1825
Эти строки по образному восприятию Творца напоминают оду «Бог» Батюшкова, но лишь отчасти. Богочувствие поэта здесь можно назвать не языческим, но апокалиптическим скорее, то есть возводящим наше видение к символике «Откровения». Соединение романтического и молитвенного настроя привлекает внимание в другом раннем стихотворении Шевырёва (в тот момент двадцатилетнего поэта):
О, не знаю, что меня стесняет,
Что мой дух и давит и терзает,
Словно я от казни иль от грома
Рвусь, бегу из отческого дома?
Чем виновен, чем пред Богом грешен
И за что страдаю безутешен?
Божий Сын! Ужель Твоя отрада
Не смирит бунтующего ада,
Не пошлёт святого откровенья
Разогнать души моей сомненья,
Не внушит безумцу мысли здравой
И стези мне не укажет правой?
О, спаси меня, Любовь и Сила!
Иль вели земле, чтоб поглотила,
А не то я — жертва чуждой власти:
Увлекут меня слепые страсти,
И, Твоей лишённый благодати.
Убегу из отческих объятий.
1826
Стихотворение можно назвать поэтической вариацией на тему притчи о блудном сыне (Лк. 15, 11–32). Священное Писание становится, как видим, не предметом для поэтического переложения, но источником создания поэтических аналогий или подражаний. В этом отношении интереснейшим образцом духовной лирики Шевырёва является ода «Мудрость», написанная библейским слогом. В завершающей строфе оды особенно ощутимо стремление подражать торжественному псалмопению:
Но в каждом стоне бытия
Духовным слухом слышал я
Великолепный гимн любови
Во славу Бога и Отца,
И прерывалося стенанье,
И Всесотворшего Творца
Хвалило всякое дыханье.
И выше, выше я парил,
За грани вечные светил,
В чертог духов и Божьей славы,
И слышал их, и видел трон,
Где восседит незримый Он,
И сотряслись мои составы
И зазвучали, как тимпан:
Мне долу вторил океан,
Горе мне вторили перуны:
Мои все жилы были струны,
Я сам — хваления орган.
1828
Принимать или не принимать такого рода поэзию каждый волен по собственной склонности, но уважать, не порицая с высокомерием, — должно.
Константин Сергеевич Аксаков
С понятием славянофильство неразрывно связано в нашем историческом сознании имя Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860), старшего сына С.Т.Аксакова, выдающегося русского писателя. Правда, в начале своего пути, как уже вспоминалось здесь, он увлекался западной премудростью, входил в известный кружок Н.В.Станкевича, объединявшего многих убеждённых западников, но затем сознал, что увлечение внешними формами и нравами западной мысли и западной цивилизации чуждо русскому пониманию нашего национального бытия. Западники ответили насмешкою, ироническими выпадами. Именно К.Аксакову больше всего досталось за попытку вернуться к национальной одежде — за «мурмолки» и «армяки». До сих пор популярна сплетня Чаадаева, размноженная Герценом в «Былом и думах», будто Аксакова за его простонародное одеяние простолюдины принимали за персиянина. Да Тургенев вывел его же в «Записках охотника» под личиною непутёвого помещика Любозвонова, вводившего мужиков в оцепенение своими попытками подделаться под народную речь и псевдонародным же костюмом. Вероятно, такое стремление славянофилов оказалось несколько нарочитым, отчасти неловким, но неясно, почему не подвергается насмешкам принципиально ничем не отличное деспотичное навязывание Петром нелепого, менее удобного западного одеяния, бритья бород, обязательного ношения париков и пр. В надменной иронии своих оппонентов К.Аксаков видел «гордость снисхожденья» и «спесь учёных обезьян». Как и Хомяков, он, будучи истинно православным человеком, знал и указывал главное средство против всего дурного в русской жизни: «Пусть покаянье нам поможет, пусть смоет наш тяжёлый грех».
А то, что не услышали, не захотели услышать подобного призыва — то вина и беда едва ли не всех времён. К.Аксаков хорошо понимал главный источник подобной глухоты — всё ту же гордыню разума. В стихотворении «Разуму» он поэтически обобщил все те упреки рациональному началу, какие мы находим у большинства славянофилов: поэт обвиняет разум в гордыне, предрекает его бессилие, указывает на ограниченность, на раздробленность, на слепоту горделивого рассудка. Всесильным разум может стать лишь в смирении «перед таинством святыни». Мы встречаем здесь идеи, так привычно знакомые нам, но оттого не теряющие свою истинность.
Разум, ты паришь над миром,
Всюду взор бросая свой,
И кумир вслед за кумиром
Низвергается тобой.
Уповая всё постигнуть,
Ты замыслил искони
Мир на мире вновь воздвигнуть,
Повторить творенья дни.
Ты в победу гордо веришь,
Ты проходишь глубь и высь,
Движешь землю, небо меришь,
Но, гигант, остановись!
К небесам идешь ты смело,
С двух сторон на них всходя,
Обращая мысли в дело,
Дело в мысль переводя.
Но напрасно: миогодельность
Не дойдёт к причине дел;
Ты нашёл не беспредельность,
Но расширенный предел.
Чтоб вселенную поверить
И построить вновь её,
Гордо мыслию измерить
Ты мечтаешь бытиё
Рассекая жизнь на части
Лезвием стальным ума,
Ты мечтаешь, что во власти
У тебя и жизнь сама;
Ты её добычей числишь;
Но откинь гордыни лесть:
Умерщвляя, ты ли мыслишь
Жизни тайну приобресть?
В недоступные пучины
Жизнь ушла, остался след:
Пред тобой её пружины,
Весь состав, — а жизни нет.
Отрекись своей гордыни,
В битву с небом не ходи,
Перед таинством святыни,
Перед Богом в прах пади!
Вмиг получит смысл от века
Исполинский труд бойца,
Приближая человека
К познаванию Творца.
И титана след суровый—
Груды сдвинутых громад—
Благозвучно, с силой новой
Славу Богу возвестят.
1857
Нe только западники, но и славянофилы неизменно оставались поборниками свободы, хотя порою их слишком упрекали в антилиберализме. Антикрепостнический дух многих созданий К.Аксакова очевиден. Одной из задушевных его идей была идея преодоления рабства и утверждения свободы слова. «Сила власти — царю, сила мнения — народу», — вот краткая формула социальных и политических воззрений Аксакова. Свои взгляды он выражал ясно и открыто. Крепость власти он видел именно в народной свободе:
Ограды властям никогда
Не зижди на рабстве народа!
Где рабство, там бунт и беда;
Защита от бунта — свобода.
Раб в бунте опасней зверей,
На нож он меняет оковы…
Оружье свободных людей—
Свободное слово!
О, слово, дар Бога святой!..
Кто слово, дар Божеский свяжет,
Тот путь человеку иной—
Путь рабства преступный — укажет
На козни, на вредную речь;
В тебе ж исцеленье готово,
О духа единственный меч,
Свободное слово!
1854
К.Аксаков был не только поэтом, но драматургом, публицистом, литературным критиком, крупным лингвистом. Представляет особый интерес и ценность противопоставление Аксаковым творчества Гоголя и писателей «натуральной школы», отрицание социально-критической направленности «Мёртвых душ», утверждение эпического характера гоголевской поэмы. Аксакова, разумеется, оспоривал Белинский, но обнаружил лишь некоторую узость собственных воззрений. Когда мы размышляем над евангельскими словами о любви или пытаемся осмыслить любовь в более житейском понимании (хотя и не сугубо плотском, как модно особенно с конца XX века), мы порою теряемся перед многомерною глубиною этого слова— любовь. Что она есть? И как она может проявлять себя в нашем обыденном земном бытии? Может быть, один из самых точных ответов дал Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886) в стихотворении «Свой строгий суд остановив…»:
Свой строгий суд остановив,
Сдержав готовые укоры,
Гордыню духа усмирив,
Вперять внимательные взоры
В чужую душу полюби…
Верь: в каждой презренной и пошлой,
В её неведомой глуби,
И в каждой молодости прошлой,
Отыщешь много струн живых,
Мгновений чистых и прекрасных,
Порывов доблестных и страстных
И тайну помыслов святых!
Да не смутит же сор и хлам,
На сердце жизнью наносимый,
Твоих очей! Пусть смело там
Они провидят мир незримый.
Любовью кроткою дыша,
Вглядись в него: и пред очами
Предстанет каждая душа
С своими вечными правдами.
Поверь: нетленной красоты
Душа не губит без возврата:
И в каждом ты послышишь брата,
И Бога в нём почуешь ты!
1847
«Кто любит брата своего, тот пребывает в свете, и нет в нем соблазна» (1 Ин. 2, 10).
Вот одно из испытаний любви: как за наносным сором увидеть образ Божий? Вот и критерий уровня духовного развития. И предостережение от крайностей критического реализма. Позднее Достоевский с гениальным проникновением раскроет эту тему в рассказе «Мужик Марей». В другом своём поэтическом создании поэт прямо утверждает, что появляется любовь прежде всего в молитве:
Она стоит перед иконой,
На ней дрожит лампады свет:
Её молитва обороной
Тебе от горестей и бед!
И силе той молитвы веря,
Ты бодрый дух несёшь в себе…
Готов идти, не лицемеря,
Навстречу жизни и борьбе…
О, что бы ни могло случиться,
Но знать отрадно каждый час,
Что есть кому за нас молиться,
Кому любить и помнить нас!..
1847
И сколько бы мы не вчитывались, ни вникали в смысл поэзии И.Аксакова— мы никогда не ощутим себя оказавшимися вне привычного для нас круга православных истин, проще которых, кажется, нет ничего, но и выше которых тоже нет. Иначе и быть не могло: Иван Аксаков, младший из семейства Аксаковых, является одним из столпов славянофильства, а мы уже привыкли, что слово это — из ближайших к понятию Православия. И. Аксакова, как и прочих его единомышленников, почтили эпитетом— реакционер. Его реакционность выразилась в борьбе с крепостническими порядками. Эпическую поэму «Бродяга» (1852), в которой антикрепостнические мотивы слишком сильны, исследователи рассматривают как прямую предшественницу некрасовской «Кому на Руси жить хорошо» — по сострадательному взгляду на народную жизнь. Пьеса «Присутственный день Уголовной палаты» (1853), едкая сатира на российское дореформенное судопроизводство, была опубликована в «Полярной звезде» Герцена, который назвал это произведение «гениальной вещью». Реакционность Аксакова проявилась и в его уходе добровольцем в ополчение — в период Крымской кампании. И в том, что душою болел он за страждущих ближних своих. И что в годы русско-турецкой войны 1877–1878 годов много сделал для поддержки южных славян в их борьбе за независимость. Что искренне сочувствовал идее объединения всех славян. Что был просто искренне верующим человеком и не склонялся к рабству перед новомодными прогрессивными идейками. Их житейская мудрость и ложь, их теплохладность к Истине — представлялась ему едва ли не главным искушением времени.
Но я к горячему моленью
Прибегнув, Бога смел просить:
Не дай мне опытом и ленью
Тревоги сердца заглушить!
Пошли мне сил и помощь Божью,
Мой дух усталый воскреси,
С житейской мудростью и ложью
От примирения спаси.
Пошли мне бури и ненастья,
Даруй мучительные дни, —
Но от преступного бесстрастья,
Но от покоя сохрани!
Пускай, не старея с годами,
Мой дух тяжёлыми трудами
Мужает, крепнет и растёт,
И, закалясь в борьбе суровой
И окрылившись силой новой,
Направит выше свой полёт!
1846
Этой поэтической молитве вторит иная, созданная позднее:
Нет! Тёмных сделок, Боже правый,
С неправдой нам не допусти,
Покрой стыдом совет лукавый.
Блаженство сонных возмути!
Да пробудясь в восторге смелом
С отвагой пылкою любви,
Мы жизнью всей, мы самым делом
Почтим веления Твои!
1853
Но со временем в стихах И. Аксакова всё более ощущалась горечь, ибо не мог он не видеть многих примеров повреждённости русского духа, не мог не пред-видеть и многих дурных последствий такой повреждённости. Да ведь многое же и оправдывалось в этих предчувствиях. Однако в мироощущении Аксакова не было того обострённого трагизма, каким нередко отмечено бывает внутреннее состояние души поэтов. Сопоставим два поэтических видения, разделённые почти полувековым расстоянием, но ещё более — различным восприятием и постижением бытия. Стихотворение Тютчева «День и ночь» было создано в 1839 году, «Ночь» Аксакова — в 1884.
Тютчев:
На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров—
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!
Но меркнет день — настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Сорвав, отбрасывает прочь…
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами—
Вот отчего нам ночь страшна! (1, 98)159
И.Аксаков:
Спустилась ночь в убранстве звездном,
И, дольних чуждые страстей,
Как бы зажглись по синим безднам
Тьмы зорких, мыслящих очей.
Мир опочил. Едва колышит
Листвы ветвей: кругом дрема
И сон…
Лишь ночь не спит сама,
Живёт и мощно, мерно дышит,
И чутко землю сторожит,
Все вещи таинством обьемлет,
И всё невидимое зрит,
Неизглаголенному внемлет!
Беззвучный хор во мгле ведёт…
И внятна сердцу песнь ночная,
И мнится — с горних тех высот
Сияет правда неземная!..
Как по-разному видят они одно и то же! Единственно лишь как будто и есть общее: ощущение бездны мироздания — но то и так общее место в восприятии ночи (ср. у Ломоносова: «Открылась бездна, звезд полна»). Но в чём основа этого различия? Тютчев отобразил языческое восприятие мира — не станем пока допытываться: подлинное ли то мироощущение, или поэтическая фантазия, опыт перенесения на себя иностороннего состояния. Язычество, которому приписывают гармоническое взаимодействие с миром природы, поистине воспринимает её, мироздание в целом, как нечто таящее в себе ужас перед непостижимою тайною рока. Недаром у Тютчева — мир именно роковой. День, свет — лишь обманчивый покров, скрывающий под собою подлинное: страхи и мглы. Мгла, темнота, отсутствие света — вот истинно языческое мирочувствие. Для Православия то неприемлемо:
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5).
Светло-гармоничное восприятие ночи видим мы у Аксакова. У него нет тютчевского многобожия, этой ужасающей дробности мира. Он чутко прикасается душою к единой Горней правде: ночь помогает ему в том. (Позднее мы встретим сходный образ у Чехова — в повести «В овраге»), И вот это сопоставление помогает разглядеть важную истину: в подлинном христианском мироощущении не может укрываться трагическое начало. Трагизм начинается там и тогда, где и когда происходит разрыв с единым Творцом, дробление мировосприятия в повреждённой грехом душе человека.
6. Фёдор Иванович Тютчев
Неужто дерзнём назвать Тютчева язычником? Нет, без сомнения.
Фёдор Иванович Тютчев (1803–1873) — гениальный русский поэт — личность бесспорно ориентированная в православном духе. Но он с чрезмерною поэтической силою умел расслышать таящиеся в глубочайших глубинах душевных греховные противоречивые состояния, безумно тяготеющие к бесформенному небытию, к хаосу, от которого веет ужасом бесовской тьмы, беспредельной безликости — обезбоженной беспредельности.
О чём ты воешь, ветр ночной?
О чём так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь и взрываешь в нём
Порой неистовые звуки!..
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвётся он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!.. (1, 57)
1830
Его как будто тянет и тянет заглянуть в эту бездну, где в лютом ужасе тьмы укорённый в душе грех сознаёт одноприродное ему начало.
Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный
Как золотой покров она свила,
Покров накинутый над бездной.
И, как виденье, внешний мир ушёл…
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь, и немощен и гол,
Лицом к лицу над пропастию тёмной.
На самого себя покинут он—
Упразднен ум, и мысль осиротела—
В душе своей, как в бездне, погружён,
И нет извне опоры, ни предела…
И чудится давно минувшим сном
Ему теперь все светлое, живое…
И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнаёт наследье родовое (1, 113).
1850
Всё так отчётливо определённо (и узнаваемо уже) в этой образной системе — кроме одного: отчего ночь названа святою? Или оттого, что беспредельная святость творения ещё глубже ощущается в ночной прозрачности, когда свит застилающий зрение дневной покров? Или именно от соприкосновения с этой святостью ещё сильнее ужас собственного «наследья родового», греховного, безопорного, беспредельного?
О, вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!.. (1, 163)
Никто не смог с такою силою поэтической передать вот это состояние, которое вслед за Тютчевым мы могли бы назвать пороговым (экзистенциалисты обозначили его как пограничное— что одно и тоже).
Так, ты — жилица двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески неясный,
Как откровение духов… (1, 163)
Сон… пророчески неясный? Зыбкое состояние сна влечёт к себе поэтически испытующий взор, ибо сон по природе своей есть ночное состояние, но он — и преодоление ночного страха, способность избежать ночных болезненных видений. Едва ли не излюбленный, чаще прочих встречающийся образ у Тютчева— сон.
Слыхал ли в сумраке глубоком
Воздушной арфы лёгкий звон,
Когда полуночь, ненароком,
Дремавших струн встревожит сон?..
……………………………..
Едва усилием минутным
Прервём на час волшебный сон,
И взором трепетным и смутным,
Привстав, окинем небосклон, —
И отягчённою главою,
Одним лучом ослеплены,
Вновь упадаем не к покою,
Но в утомительные сны (1, 9-10).
1825
Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.
Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит сушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах! (1, 17)
1829
Весенней негой утомлён,
Я впал в невольное забвенье;
Не знаю, долог ли был сон,
Но странно было пробужденье…
…………………………….
И мне казалось, что меня
Какой-то миротворный гений
Из пышно-золотого дня
Увлёк, незримый, в царство теней (1, 23).
1829–1851
Здесь, где так вяло свод небесный
На землю тощую глядит, —
Здесь, погрузившись в сон железный,
Усталая природа спит… (1, 31)
1830
И море, и буря качала наш чёлн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
…………………………………………….
Но все грёзы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов (1, 51).
1833
Есть близнецы — для земнородных
Два божества, — то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою дивно сходных—
Она угрюмей, кротче он… (1, 147)
1852
И всё опять зазеленело,
Всё обратилося к весне…
И эта грёза снилась мне,
Пока мне птичка ваша пела (1, 190).
1863
Ночное небо так угрюмо,
Заволокло со всех сторон,
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой (1, 205).
1865
Солнце светит золотое,
Блещут озера струи…
Здесь великое былое
Словно дышит в забытьи;
Дремлет сладко, беззаботно,
Не смущая дивных снов
И тревогой мимолётной
Лебединых голосов… (1, 208)
1866
Во сне ль всё это снится мне,
Или гляжу на самом деле,
На что при этой же луне
С тобой живые мы глядели? (1, 212)
1868
Если смерть есть ночь, если жизнь есть день—
Ах, умаял он, пёстрый день, меня!..
И сгущается надо мною тень,
Ко сну клонится голова моя…
Обессиленный, отдаюсь ему…
Но всё грезится сквозь немую тьму—
Где-то там, над ней, ясный день блестит
И незримый хор о любви гремит… (1, 216)
1869
Тут целый мир, живой, разнообразный,
Волшебных звуков и волшебных снов, —
О, этот мир, так молодо-прекрасный, —
Он стоит тысячи миров (2, 238).
1872
Да, Тютчев любит отображать состояния зыбкие, ускользающие, неуловимые, он как будто тяготеет к острому поэтическому переживанию раздвоенности своего внутреннего бытия.
Всесилен я и вместе слаб,
Властитель я и вместе раб.
Добро иль зло творю, о том не рассуждаю,
Я много отдаю, но мало получаю,
И в имя же своё собой повелеваю,
И если бить хочу кого,
То бью себя я самого (2, 16).
Написавшему эти строки поэту не более семнадцати (исследователи датируют стихи 1810-ми годами, точнее определить нет возможности).
Состояния зыбко-переходные Тютчев улавливает чутко, почти болезненно — не от страха ли боли старается он отдалить их от своей души, перенося вовне, в мир природы чаще всего, подмечая в ней всё те же пороговые состояния?
Вот отличие поэтического пейзажа Тютчева от описаний природы у иных стихотворцев: они запечатлевают устойчивые, своего рода вечные проявления бытия — Тютчев схватывает мимолётное, быстротекущее, мгновение переходное от одной определённой поры к другой. Он импрессионистичен, он пристально вглядывается в почти неуловимое: ему законченное и определённое как будто неинтересно, он гонится за временем и пытается настигнуть то, что, может быть, единственно в своём проявлении вообще и никогда более не явится взору человека.
Как неожиданно и ярко
На влажной неба синеве
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла—
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.
О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!
Смотри — оно уж побледнело,
Ещё минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живёшь (1, 204).
Лев Толстой когда-то восхитился этим «И в высоте изнемогла». И.С.Аксаков же писал: «Изнемогла! Выражение не только глубоко верное, но и смелое. Едва ли не впервые употреблено оно в нашей литературе в таком именно смысле. А между тем нельзя лучше выразить этот внешний процесс постепенного таяния, ослабения, исчезания радуги. Еще г. Тургенев заметил, что «язык Тютчева часто поражает смелостью и красотой своих оборотов. <…> Силой именно поэтической чуткости добывал он от затаённой им сокровищницы родного языка совершенно новый, неожиданный, но вполне удачный и верный оборот или же открывал в слове новый, еще не подмеченный оттенок смысла»160. Но как бы ни было недосягаемо совершенно это описание природы, в ней поэт находит прежде всего отражение тех неуловимых состояний и переживаний, ощущение зыбкости которых болью печали живёт в его душе. И так всегда. Вот описание тончайшего, почти неподвластного слову — предощущения весны:
Ещё земли печален вид,
А воздух уж весною дышит,
И мёртвый в поле стебль колышет,
И елей ветви шевелит.
Ещё природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну послышала она,
И ей невольно улыбнулась… (1, 83)
1865
Восхитимся и мы этим редеющим сном и невольною улыбкою природы— поразимся смелости и силе тютчевской всепроникающей поэтической мысли. Но опять-таки: не природа сама по себе тут перед нами, а лишь отражение в ней душевных движений, столь же неуловимых и непроявленных в своей полноте:
Душа, душа, спала и ты…
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?..
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь…
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?.. (1, 83)
1836
Так сама жизнь является ему неуловимо неясною тайною:
Как дымный столп светлеет в вышине! —
Как тень внизу скользит неуловима!..
«Вот наша жизнь, — промолвила ты мне, —
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма…» (1, 114)
1848–1849
Он любит эту неуловимость, он всматривается любуясь в эти моменты пребывания на пороге от одного к другому. И для поэта как бы не существует предела завораживающей его неустойчивости: неопределённая прозрачность светлого дыма переходит в ещё большую неустойчивость бегущей дымной тени, образуемой лунным светом, который сам по себе есть лишь отражение света истинного… И весь этот трудноуловимый зыбкий образ есть также лишь отражение жизнечувствия человека. И именно так он почти всегда всматривается в природу.
Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят… (1, 45)
1830
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора… (1, 170)
1857
Нe просто краткость, но и обманчивость влечёт поэта в переходных состояниях бытия мира:
Так иногда, осеннею порой,
Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее долы,
Вдруг ветр подует, тёплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою
И душу вам обдаст как бы весною… (1, 109)
1849
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенётся в нас… (1, 223)
1870
Поэт приметливым глазом способен выхватить вдруг среди роскошного буйства стихии то, что непреклонно и жестоко являет собою предвестие увядания и гибели:
Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурь
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!..
Как под незримою пятой,
Лесные гнутся исполины;
Тревожно ропщут их вершины,
Как совещаясь меж собой, —
И сквозь внезапною тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый жёлтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу… (1, 140)
1851
Кто иной заметил бы среди этого широколиственного веселья — первый жёлтый лист? Кто в поздней осени почует веяние весны? Кто расслышит утреннего жаворонка в ненастье вечера, совместит в одном мгновении различные начала, так, что это совмещение не может не ужаснуть душу?
Вечер мглистый и ненастный…
Чу, не жаворонка ль глас?..
Ты ли, утра гость прекрасный,
В этот поздний, мёртвый час?..
Гибкий, резвый, звучно-ясный,
В этот мёртвый, поздний час,
Как безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс!.. (1, 62)
1836
Неустойчивость, тягостная раздвоенность составляли свойства собственной натуры Тютчева; хотя просто устанавливать взаимную связь и зависимость между внутренней жизнью поэта и его поэзией занятие неблагодарное, но и не вовсе бессмысленное. И.С.Аксаков, первый биограф Тютчева (на дочери которого он был, напомним, женат, отчего имел возможность наблюдать поэта слишком близко), утверждал: «…Томился он внутренним раздвоением и душевными муками. Ум сильный и твёрдый — при слабодушии, при бессилии воли, доходившем до немощи; ум зоркий и трезвый — при чувствительности нервов самой тонкой, почти женской, — при раздражительности, воспламенимости, одним словом, при творческом процессе души поэта, со всеми её мгновенно вспыхивающими призраками и самообманом; ум деятельный, не знающий ни отдыха, ни истомы — при совершенной неспособности к действию, при усвоенных с детства привычках лени, при необоримом отвращении к внешнему труду, к какому бы то ни было принуждению; ум постоянно голодный, пытливый, серьёзный, сосредоточенно проникающий во все вопросы истории, философии, знания; душа, ненасытно жаждущая наслаждений, волнений, рассеяний, страстно отдававшаяся впечатлениям текущего дня…»161. В конце концов, сам человек вдруг обращается поэтическим воображением в некую грёзу природы:
Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаём
Себя самих — лишь грёзою природы (1, 225)
Однако природа-то оказывается равнодушно враждебной человеку:
Поочерёдно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной (1, 225)
1871
О том же писал позднее Тургенев, тонко чувствовавший вот эту жестокость равнодушной «матери»-природы (см. стихотворение в прозе «Природа», 1882). Не в том ли обретаются и причины разлада, какой вдруг ощущает поэт, своего разлада с гармонией, присущей природе, — а ощущает его он слишком явно:
Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всём,
Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаём.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поёт, что море,
И ропщет мыслящий тростник? (1, 199)
1865
«Мыслящий тростник» — образ Б.Паскаля, относящийся к человеку. Но только ли мысль разлучает человека с природною гармонией? Мысль невозможна без свободы, а именно свобода способна ужаснуться несвободе установленного природою порядка вещей. Мы уже сталкивались в поэзии Тютчева с тем восприятием мира и природы, какое несет в себе отголоски языческого ужаса перед враждебностью окружающего бытия. Такой ужас (как и ощущаемый разлад с гармонией природы) может возникнуть лишь тогда, когда человек перестаёт, пусть даже на миг, ощущать Творца в творении. Или когда oн опускается до пантеистического мирочувствия, наделяя природу собственною, якобы присущею ей божественною силою и волею. Ведь неслучайно так часты обращения поэта к aнтичности при одухотворении природной стихии — пантеон античных богов входит в образную систему тютчевской поэзии несомненно.
Лениво дышит полдень мглистый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.
И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф покойной дремлет (1, 25)
Конец 1820-х гг.
Тютчевский пантеизм неуловимо соприкасается со своего рода космизмом мироощущения — и бездны космоса подавляют душу человека чувством, коему нет определения:
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой.
То глас её: он нудит нас и просит…
Уж в пристани волшебный ожил чёлн;
Прилив растёт и быстро нас уносит
В неизмеримость тёмных волн.
Небесный свод, горящий славой звездной
Таинственно плывёт из глубины, —
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены (1, 29)
1830
Всё тот же образ — ночи, бездны, пылающей тайны — и никакой другой поэт не воспринимает эту непостижимость столь обострённо. Должно заметить, что исследователи сопрягают образы ночи, хаоса, бездны — в поэзии Тютчева со сходными категориями в философии Шеллинга, несомненно влиявшей в какой-то период на мировоззрение поэта: недаром же и в поэзии его они ближе начальным годам, когда с немецкою премудростью он соприкасался близко. Однако то, что вовсе чуждо душе, запечатлено в ней быть не может и станет противиться всяким влияниям.
Человеку, посмевшему лицом к лицу противостать этому ужасу безграничности окружающей, опорою может стать единственно ощущение и сознание непосредственной связи с Творцом — и горе тому, кто в небрежении утрачивает такую связь. Тютчев несомненно стремился утвердить в душе своей такую опору — даже при мысли об ужасе конца земного бытия:
Когда пробьёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них! (1, 22)
1829
И всё же какие-то осколки, тени языческого мышления вкрапляются изредка в цельность миросозерцания Тютчева, пусть как выражение лишь метафорического осмысления бытия, не более.
Угоден Зевсу бедный странник,
Над ним святой его покров!..
Домашних очагов изгнанник,
Он гостем стал благих богов!..
Сей дивный мир, их рук созданье,
С разнообразием своим,
Лежит развитый перед ним
В утеху, пользу, назиданье… (1, 35)
Кабы не имя Зевса да не упоминание многих благих богов, эти строки можно было бы осмыслить в христианском духе без труда. Не стоит смущаться подобными именами и упоминаниями: они лишь знаки образной символизации неких понятий и явлений — не более. Иначе: третья строфа этого стихотворения парадоксально противоречит первым двум, ибо от многобожия контрастно обращает мысль к славлению единого Бога:
Чрез веси, грады и поля.
Светлея, стелется дорога, —
Ему отверста вся земля,
Он видит всё и славит Бога!.. (1, 35)
1830
Тютчева завораживает и чисто языческое по природе мужество — героизм непосредственного лицезрения роковых мгновений мирового бытия, подвиг соприсутствия богам при созерцании бурь и катаклизмов:
Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
………………………..
«Блажей, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был—
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил! (1, 36)
1830
Нелишне вспомнить, что сходный соблазн Пушкин отверг осенью того же 1830 года — при создании трагедии «Пир во время чумы» («Есть упоение в бою…»). Двойственно можно воспринять и знаменитые строки:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик—
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык… (1, 81)
Плодотворнее всего было бы понимание стихотворения как философски-поэтического протеста против просветительской механистической концепции природы, обедняющей прежде всего самого человека:
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать не дышат
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!
И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседке дружеской гроза!
Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нём не встревожит
И голос матери самой! (1, 81–82)
1836
Должно признать, что в приведённых строках невозможно выискать опровержение той точки зрения, выражаемой часто с заметным идеологическим задором, будто восприятие природы у Тютчева неизменно сопряжено с пантеизмом. Правда, ничто не мешает воспринять эти же строки как чистую метафору, как то метафорическое одухотворение природы, каким вообще полна вся поэзия. Было бы плоско и безнадёжно вульгарно видеть в метафорическом мышлении поэта религиозную однозначность. Всё-таки Тютчев ищет и обретает в природе не самодовлеющее начало, но проявление всемогущества Творца:
Он милосердный, всемогущий,
Он, греющий Своим лучом
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском (1, 196)
1865
Говоря о языке природы, Тютчев скорее разумеет её способность свидетельствовать о Божием деянии, он несомненно видит в природе отсвет Божией славы. Собственно, способность слышать голос природы есть свойство христианского средневекового мировосприятия, когда в каждом проявлении тварного мира человек стремился и был способен сознавать символическое проявление Божественной премудрости. По сути, это видение мира и отображено у Тютчева в цитированных ранее строках — хотя такой смысл и замутняется двусмысленной метафорой. Но совершим недопустимое: попробуем обойтись без нее.
Сей дивный мир,
С разнообразием своим,
Лежит развитый
В утеху, пользу, назиданье…
Святитель Григорий Богослов выразил когда-то ту же мысль:
«Небо, земля и море есть великая, дивная книга Божия». Каждый образ этой книги становится при таком отношении к миру знаком-словом, обращённым к сакральному смыслу творения. Позднее подобное же мировосприятие точно, образно, и с большею конкретностью отпечатлено было в таких строках Ахматовой:
В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе чело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.
1946
«Весь мысленный мир таинственно и в символических образах представляется изображённым в мире чувственном для тех, кои имеют очи видеть. <…> Созерцание мысленного в символах при помощи видимого есть вместе духовное познание»162— писал о том же Максим Исповедник. Но как бы ни воспринимать те или иные образы поэзии Тютчева — основной вектор стремления его души обозначен был вполне ясно. Он познал душу человеческую — на пороге, нa зыбкой грани между двумя непримиримыми проявлениями бытия, и с верою утвердил:
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые—
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть (1, 163)
1855
Взор Тютчева и в глубину души природы направлен с тем, чтобы узреть Творца в этом божественном творении. Вот тут у противников такого осмысления тютчевской поэзии наготове как будто неопровержимый аргумент — строки самого поэта:
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца!
И смысла нет в мольбе! (1, 84)
1836
Что тут возразить? А вот что: удручает примитивизм и механистичность, компьютерность восприятия поэзии, извлечение лишь того, что лежит на поверхности — без понимания сложной энергии стихи, иронического подтекста его, заставляющего отвергнуть всякую возможность «философски-богословского» смысла в стихе — то есть то, что навязывается приведённым строкам. (Вызывает недоумение, как в ловушку этих строк сумел попасться даже Вл. Ходасевич, должный воспринимать поэзию с особой утонченностью.) Необходимо помнить и знать: толкование отдельных строк стихотворения не должно противоречить его целостному смыслу. Цитируемые же строки есть лишь продолжение предшествующего трёхстишия:
И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца… (1, 84)
И т. д.
Тут ведь не более чем упрек некой особе (имени её мы не знаем), отвергшей любовные притязания поэта. Вкладывать в эти строки, шутливо-ироничные, особый богоборческий смысл нет никаких оснований. Возьмём на себя неблагодарный труд переложения ироничной поэзии в ясную и скучную прозу. Содержание стихотворения таково: нет смысла молить тебя о чём-то, потому что у тебя нет ни истинного чувства, ни правды, ни даже души; надо быть мужественным до конца и признать, что молить тебя о любви бессмысленно, поскольку в бездушном создании (творении) нет и Бога, а оттого и молиться некому. Если кому-то непременно нужно отыскать в тютчевском стихотворении проявление греха — сделать это нетрудно; помимо самого мотива к написанию, здесь явное нарушение третьей заповеди. Автор всуе поминает Творца и тем вводит в соблазн читателя, нечуткого к поэзии. Когда же взор поэта серьёзен, он стремится прозреть Творца в Его творении — о том непререкаемо свидетельствует вся поэзия Тютчева. И он же сознаёт едва ли не с отчаянием:
…не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем (1, 10).
А если и удаётся что-то постигнуть, то — трагический парадокс — он, великий поэт, ощущает полное бессилие своё в слове выразить всё богатство, сложность и противоречивость собственных постижений, настроений, стремлений, мыслей.
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои—
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.
Лишь жить в себе самом умей—
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!.. (1, 46)
1830
И поэтому с тем чувством, какое трудно поддаётся определению, — в нём неизбывная печаль, соединённая с глубоко духовным постижением истины, — Тютчев прозревает в словесном творчестве исток муки и радости:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, —
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать… (1, 217)
1869
Вероятно, толчком к вызреванию этой мысли стало сочувственное отношение к одному из его стихотворений — случившееся тремя годами ранее:
Когда сочувственно на наше слово
Одна душа отозвалась—
Не нужно нам возмездия иного,
Довольно с нас, довольно с нас… (2, 174)
1866
Если перед нами начало и завершение единой мысли, единого душевного состояния, то сколь красноречивы сами размеры временного пространства, вмещавшего в себя эту мысль и это состояние — три года. Что это для поэта, который и три дня воспринимал как бездну… И перед самой уже смертию его разум и душа были объяты всё тем же: «Ах, какая мука, когда не можешь найти слова, чтобы передать мысль»163, — эта фраза одна из последних, им произнесённых.
Всё это выразилось в особом отношении Тютчева к собственному поэтическому творчеству: кажется, невозможно назвать другого великого поэта, столь равнодушного подчас к своим созданиям. И.С.Аксаков засвидетельствовал: «Стихи у него не были плодом труда, хотя бы и вдохновенного, но всё же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов. Когда он их писал, то писал невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой потребности, потому что он не мог их не написать: вернее сказать, он их не писал, а только записывал. Они не сочинялись, а творились. Они сами собой складывались в его голове, и он только ронял их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток. Если же некому было припрятать к месту оброненное, подобрать эти лоскутки, то они нередко и пропадали»164.
Это же подтверждается многими мемуаристами. Здесь обретаем мы и причину некоторого несовершенства отдельных тютчевских стихов, невыделанность их формы. В том Тютчев противостоит многим поэтам, прежде всего Пушкину, каторжный труд которого над стихом всем известен (труд также творческий, но не ремесленнический, как мнится многим, кто чужд пониманию поэзии).
Но кажется, никто не заметил важнейшей причины того отношения к собственному поэтическому творчеству, которое наблюдаем мы у Тютчева. Поразительно, но он как будто вовсе не был заражён тем грехом, какого не избежал (в той или иной мере) ни один великий художник: Тютчев не страдал любоначалием. Великие его современники — все (Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Толстой…) — страдали от этого всесожигающего огня гордыни, пребывали в постоянном борении с нею, насколько то было в их власти. Тютчев со смиренной снисходительностью взирал на самоё возможность начальствовать над умами и душами людскими.
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся…
«…Его скромность относительно своей личности не была в нём чем-то усвоенным, сознательно приобретённым, — писал И.Аксаков, — Его я само собой забывалось и утопало в богатстве внутреннего мира мысли, умаляясь до исчезновения в виду откровения Божия в истории, которое всегда могущественно приковывало к себе его умственные взоры»165. Умаляясь до исчезновения…
Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывёт.
На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью в поздней темноте,
Но все, неизбежимо тая,
Они плывут к одной мете.
Все вместе — малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все — безразличны, как стихия, —
Сольются с бездной роковой!..
О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя? (1, 130)
1851
Едва ли не буддистское что-то может почудиться кому-то в этом метафорическом образе слияния «человеческого Я» с роковою бездною, вплоть до утраты личностного начала. Да, Тютчев и здесь приближается как бы к некой опасной черте, за которою христианство исчезает, уступая место иным мировоззрениям, мироосмыслениям. Но всё же у Тютчева тут не отказ от христианства, с его важнейшей духовной ценностью, обретаемой в личности, но беспредельное умаление индивидуалистического начала, человеческой самости («человеческого Я» — как он это обозначает), возвеличение которой поэт остро воспринял в соприкосновении с западной цивилизацией, перенасыщенной соблазнами гуманизма.
«Человеческое «Я», — писал Тютчев в статье «Россия и революция» (1848), — желая зависеть только от самого себя, не признавая и не принимая другого закона, кроме собственного изволения, словом, человеческое «Я», заменяя собою Бога, конечно, не составляет ещё чего-либо нового среди людей, но таковым сделалось самовластие человеческого «Я», возведённое в политическое и общественное право и стремящееся, в силу этого права, овладеть обществом. Вот это-то новое явление и получило в 1789 году название французской революции»166. Вспомним прекраснодушные воздыхания западника Грановского по поводу измышленных благих плодов революции — и ещё более утвердимся в убеждённости, что только религиозный анализ способен распознать истинную суть творящейся истории. Тютчев, благодаря этому, трезво распознаёт истину:
«Революция — прежде всего враг христианства! Антихристианское настроение есть душа революции; это её особенный, отличительный характер. Те видоизменения, которым она последовательно подвергалась, те лозунги, которые она попеременно усваивала, все даже её насилия и преступления были второстепенны и случайны, но одно, что в ней не такового, это именно антихристианское настроение, её вдохновляющее, и оно-то (нельзя в том сомневаться) доставило ей грозное господство над вселенной. Тот, кто этого не понимает, не более как слепец, присутствующий при зрелище, которое мир ему представляет»167.
Тютчев резко противился тому, что составило основу западной ментальности, и об этом точно высказался И.Аксаков: «Мы видели также, что поклонение своему я было ему ненавистно, а поклонение человеческому я вообще представлялось ему обоготворением ограниченности человеческого разума, добровольным отречением от высшей, недосягаемой уму, абсолютной истины, от высших надземных стремлений, — возведением человеческой личности на степень кумира, началом материалистическим, гибельным для судьбы человеческих обществ, восприявших это начало в жизнь и в душу»168.
Всё то же, как видим, противопоставление, обострённо воспринятое всей русской культурой, — противоречие между низшим и высшим знанием, рассудком и верою.
Аксаков же даёт такое объяснение этому свойству личности Тютчева:
«Самая способность Тютчева отвлекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем, что в основе его духа жило искреннее смирение: однако ж не как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, как прирождённое личное и отчасти народное свойство (он был весь добродушие и незлобие); с другой стороны, как постоянное философское сознание ограниченности человеческого разума и как постоянное же сознание своей личной нравственной немощи. Преклоняясь умом перед высшими истинами Веры, он возводил смирение на степень философско-нравственного принципа. Поклонение человеческому я было вообще, по его мнению, тем лживым началом, которое легло в основание исторического развития современных народных обществ на Западе»169.
С некоторым недоумением можем мы воспринять в данном суждении лишь своего рода непризнание тютчевского смирения именно христианской по природе добродетелью. Пожалуй, И.Аксаков выразился несколько неловко, желая подчеркнуть органичность и врождённость этого качества натуры поэта, а не благоприобретённость его под воздействием христианства. Однако если смирение и было у Тютчева врождённым, оно не перестало быть оттого христианским по природе, как и вообще всякая Богом вложенная в человека душа. А то, что Тютчев ещё и осмыслил смирение на философско-нравственном уровне, отнюдь не умаляет его личной смиренности как высшей христианской добродетели.
Уступая многим греховным страстям, Тютчев же и сознавал своё недостоинство перед Богом, отчего его презрение к человеческому Я не могло не быть ещё искреннее, а смирение ещё глубже.
Чертог Твой, Спаситель, я вижу украшен,
Но одежд не имею, да вниду в него (2, 239).
1872
Эта поэтическая реплика на известный текст одного из песнопений страстной седмицы роднит внутреннее самоощущение Тютчева с тем, что видим мы у других русских поэтов — вспомним не только «Чертог Твой вижу, Спасе мой…» кн. Вяземского, но и пушкинское «Напрасно я бегу к сионским высотам…». Отвергая притязания человеческого Я, Тютчев в поэзии своей беспристрастно и порою жестоко подвергает анализу те проявления этого индивидуалистического начала, какие обычно сознаются и рассматриваются на уровне несомненных ценностей человеческого бытия, — и трезво замечает не только неполноценность их, но и губительность для жизни.
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей! (1, 131)
1851
Никто подобно Тютчеву не подверг сомнению самоё любовь — в её человеческом осуществлении, — ибо обычно для поэтов она является объектом преклонения, вдохновенного восторга. Кто-то мог посетовать на мимолётность любовного переживания и посожалеть о том, поскольку всё же не мог отказать ей в признании едва ли не высшей ценностью земной жизни. Даже если «вечно любить невозможно». Тютчев мимо такой мысли тоже не прошёл:
Как ни люби, хоть день, хоть век,
Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек… (1, 139)
1851
Но кто иной мог так дерзновенно жестоко определить любовь:
Любовь, любовь — гласит преданье—
Союз души с душой родной—
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И… поединок роковой… (1, 142)
1851–1852
И кто же ещё так же бесстрашно мог заглянуть в Любовь как в адскую бездну:
Есть близнецы — для земнородных
Два божества, — то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою дивно сходных—
Она угрюмей, кротче он…
Но есть других два близнеца—
И в мире нет черты прекрасней,
И обаянья нет ужасней,
Ей предающего сердца…
Союз их кровный, не случайный,
И только в роковые дни
Своей неразрешимой тайной
Обворажают нас они.
И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений—
Самоубийство и Любовь! (1, 147)
1852
Приравнивать Любовь к непрощаемому греху самоубийства?.. Не станем говорить здесь о личной основе многих подобных тягостных откровений любовной лирики Тютчева. Не коснёмся и роковой любви к Е.А.Денисьевой, с которой связан целый период тютчевского поэтического творчества, — то дело биографов. Укажем лишь без всяких комментариев на два поэтических отголоска этого захватившего поэта рокового чувства: они так полно передают глубину его переживаний и страданий.
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, —
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность (1, 156)
1854
В годовщину смерти любимой женщины, жизнь которой губительно угасила именно земная — и греховная — любовь, Тютчев создаёт один из самых совершенных и глубоких, по выраженному в нем страданию, лирических шедевров русской поэзии:
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня…
Тяжело мне, замирают ноги…
Друг мой милый, видишь ли меня?
Всё темней, темнее над землёю—
Улетел последний отблеск дня…
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня…
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня? (1, 203)
1865
Но ведь ещё за четверть века до того он прозрел эту губительность поэзии, сопряжённой с любовью, — губительность для обольщённого ею человека:
Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови—
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!
………………………
Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесет за облака (1, 99)
1839
Тут в последней строке вместо «иль» поставить бы: «И». Так ведь и случилось в свой срок. Хотя поэзия способна порою, как мнится ему, утишить земные страсти:
Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам—
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре—
И на бунтующее море
Льёт примирительный елей (1, 119)
1850
Но в чём причины такого клокотания страстей? Одна из важнейших для поэта — быстротекущее время. С державинских времён никто в русской поэзии так обострённо не переживал этот ужас бега времени.
Двенадцатилетним отроком, встречая новый 1816 год, он вдруг оказался поражённым тайною всеуничтожающего Хроноса:
О время! Вечности подвижное зерцало! —
Всё рушится, падёт под дланию твоей!..
Сокрыт предел твой и начало
От слабых смертного очей!..
Века рождаются и исчезают снова,
Одно столетие стирается другим;
Что может избежать от гнева Крона злого?
Что может устоять пред грозным богом сим? (2, 7–8)
Время отождествляется в поэзии Тютчева с неумолимым роком — и насколько трагично сознавал он беспощадность этого рока, достаточно ощутить из сравнения двух сходных по теме стихотворений, созданных, к слову сказать, почти одновременно: пушкинских «Стихов, сочинённых ночью во время бессонницы» (1830) и «Бессонницы» (1829) Тютчева.
Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздаётся близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье.
Жизни мышья беготня…
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шёпот?
Укоризна, или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовёшь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу…
Чувство и мысль Пушкина открыты надежде — постигнуть тёмный язык мерного хода времени. Поэт вопрошает — и силится расслышать ответ в однозвучном лепетании судьбы. Тот же звук однообразного ночного времени рождает в душе Тютчева безнадёжную тоску:
Часов однообразный бой,
Томительная ночи повесть!
Язык для всех равно чужой
И внятный каждому, как совесть!
Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья,
Пророчески-прощальный глас?
Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый Рок настиг—
И мы, в борьбе, природой целой
Покинуты на нас самих;
И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак, на краю земли,
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали;
И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло!
Лишь изредка, обряд печальный
Свершая в полуночный час,
Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас! (1, 18)
Для Тютчева язык времени не тёмен (как для Пушкина), но внятен— однако то внятность душевных мук, вопрошаемых совестью. Тоска, стенания времени, покинутость и осиротелость всего мира, призрачность жизни, забвение, погребальное оплакивание… Сколь поразительны эти образы, созданные поэтом, которому всего двадцать шесть лет. Право, в таком переживании вновь ощущаешь отблеск языческого ужаса перед миром, в основе бытия которого — Время — роковой вихрь, безжалостно уничтожающий людское племя.
Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей метёт,
И рад ли ты, или не рад,
Не спросит он… Вперёд, вперёд! (1, 54)
1834
Порою в душе поэта пробуждается горделивое чувство: в самой способности человека бросить вызов стихиям мира — залог победного торжества над самими олимпийскими богами, лишь трепещущими перед Роком. Впрочем, Рок торжествует равно и над людьми, и над богами.
Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побеждённый лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец (1, 129).
1850
Ощущение времени как бездны между отдельными мгновениями жизни — подобная острота восприятия, сверхчувствительность восприятия времени — ни у кого, кажется, кроме Тютчева не встречается более.
Увы, что нашего незнанья
И беспомощней и грустней?
Кто смеет молвить: до свиданья
Чрез бездну двух или трёх дней? (1, 158)
1854
Лишь одно оставляет человеку эта неумолимость бездны времени: безнадёжную надежду мольбы:
О время, погоди! (1, 160)
1855
Впрочем, само время делает восприятие себя самого всё трагичнее и безнадёжнее. Сравним времяощущение трёх поэтов, пытающихся заглянуть в будущее.
У Пушкина — лёгкая улыбка грусти и надежда:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живёт;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдёт;
Что пройдёт, то будет мило.
1825
Четверть века спустя Тютчев уже не столь предаётся лёгкости надежды:
Не рассуждай, не хлопочи!..
Безумство ищет, глупость судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет.
Живя, умей все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего жалеть? О чём тужить?
День пережит — и слава Богу! (1, 126)
1850
Поэт философски смиренен.
Вл. Ходасевич убеждён лишь в неизбежной гибели, которую только и способно принести время:
Не жди, не призывай, не верь:
Что будет — есть уже теперь.
Глаза усталые смежи
О счастии не ворожи!
Но знай: придёт твоя пора—
И шею брей для топора.
Поэт XX столетия без надежды взирает на жизнь, на время, на будущее. В середине предшествующего века Тютчев неколеблемо знал, где и в Ком человек такую надежду может обрести. Но чтобы обрести её, эту надежду, необходима вера — и поэт ставит проблему, важную для всех времён: раскрывает сущностную причину всех бед и страданий самоутверждающегося человеческого Я— как и его, поэта, собственной муки:
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек Отчаянно тоскует…
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит…
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..» (1, 136)
1851
Тютчев прямо опирается здесь на Евангелие, несомненно указывая на причины немощи человеческого Я — перед жизнью, перед миром, перед роком. «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9, 23–24).
Даже обретши свет, человеческое Я отвергает его в бунте. Забывая: «Бог есть свет» (1 Ин. 1, 5). Вера укрепляется словом Божиим — и как бы ни был уверен в себе человек, опирающийся на свою волю и свою силу, он не сможет обойтись без упования на высшую силу и высшую мудрость:
Но скудны все земные силы:
Рассвирепеет жизни зло—
И нам, как на краю могилы,
Вдруг станет страшно тяжело.
Вот в эти-то часы с любовью
О книге сей ты вспомяни—
И всей душой, как к изголовью,
К ней припади и отдохни (1, 188).
1861
Упоминаемая тут книга— Новый Завет (стихотворение так и названо: «При посылке Нового Завета»). Обладание верою и необоримую Горнюю укрепляющую человека силу Тютчев безусловно видит доступным лишь для тех, кто следует заповедям Христа, — и такое его убеждение было естественным и единственно возможным для христианина.
Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живёт,
Не всё, что здесь цвело, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдёт!
Но этой веры для немногих
Лишь тем доступна благодать,
Кто в искушеньях жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать,
Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други
И до конца всё претерпел (2, 225).
1870
Завершение стихотворения есть неявное цитирование, парафраз слов Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). «…Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10, 22). Итак: вера может противостать даже разрушающему действию времени:
Не всё, что здесь цвело, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдёт!
Какая отважная и глубокая мысль: не исчезнет богатство земного бытия, не уничтожится всё, что так дорого и любимо человеком в неизмеримости его мироощущения, но пребудет вечно в вере, в Боге.
Органичное, врождённое и усиленное жизненным опытом смирение Тютчева утверждалось также и в его эстетическом освоении и осмыслении мира — и всё более укрепляло поэта в убеждении, что без веры человеку невозможно подлинно существовать в этом мире. Он ясно сознал несовершенство, противоречивость, слабость, порою и губительность волевых проявлений собственного человеческого Я, и ему становится неприкрыто явным гордое самообожествление индивидуалистического начала западного человека. А следовательно: Тютчеву неизбежно было столкнуться с теми же проблемами, какие с неотвратимостью встали перед умственным взором славянофилов в их духовном стремлении к Истине. Нетрудно заметить, что его мысль постоянно вращалась в кругу тех понятий, какие тревожили всех его современников, и что в решении всех возникающих перед человеческим сознанием вопросов времени Тютчев был несомненно близок именно славянофилам.
Однако Тютчеву в его жизни предстояло одолевать эти проблемы собственными силами и в одиночку — от поэта потребовался истинный подвиг, и он этот подвиг совершил. В тютчевской биографии И.Аксаков точно обозначил путь внутреннего развития поэта-мыслителя, нам остаётся лишь повторить важнейшие выводы жизнеописателя: «Отвергнутый от России в самой ранней, нежной молодости, когда ему было с небольшим 18 лет, закинутый в дальний Мюнхен, предоставленный самому себе, Тютчев один, без руководителя, переживает на чужбине весь процесс внутреннего развития, от юности до зрелого мужества, и возвращается в Россию на водворение, когда ему пошёл уже пятый десяток лет. Двадцать два года лучшей поры жизни проведены Тютчевым за границей. <…> Самое двадцатидвухлетнее пребывание Тютчева в Западной Европе позволило предполагать, что из него выйдет не только «европеец», но и «европеист», то есть приверженец и проповедник теорий европеизма — иначе, поглощения русской народности западной «общечеловеческою» цивилизацией. <…> Каким же непостижимым откровением внутреннего духа далась ему та чистая, русская, сладкозвучная, мерная речь, которою мы наслаждаемся в его поэзии? Каким образом там, в иноземной среде, мог создаться в нём русский поэт — одно из лучших украшений русской словесности?.. Для этого нужна была такая самобытность духовной природы, какой нельзя не дивиться.
<…> Тютчев как бы перескочил через все стадии русского общественного двадцатидвухлетнего движения и, возвратясь из-за границы с зрелой, самостоятельно выношенной им на чужбине думой, очутился в России как раз на той ступени, на которой стояли тогда передовые славянофилы с Хомяковым во главе. <…> Силой собственного труда, идя путем совершенно самостоятельным, своеобразным и независимым, без сочувствия и поддержки, без помощи тех непосредственных откровений, которые каждый, неведомо для себя, исчерпывает у себя дома в отечестве, из окружающих его стихий Церкви и быта, — напротив: наперекор окружающей его среде и могучим влияниям, — Тютчев не только пришёл к выводам, совершенно сходным с основными славянофильскими положениями, но и к их чаяниям и гаданиям, — а в некоторых полемических своих соображениях явился ещё более крайним»170.
Любопытна реакция Чаадаева на явление Тютчева в России, вообще знаменательно само противостояние взглядов этих двух «русских европейцев»: «Чаадаев не мог не ценить ума и дарований Тютчева, не мог не любить его, не мог не признавать в Тютчеве человека вполне европейского, более европейского, чем он сам, Чаадаев; перед ним был уже не последователь, не поклонник западной цивилизации, а сама эта цивилизация, сам Запад в лице Тютчева, который к тому же и во французском языке был таким хозяином, как никто в России, и редкие из французов. <…> Чаадаев глубоко огорчался и даже раздражался таким неприличным, непостижимым именно в Тютчеве заблуждением, аберрациею, русоманиею ума, просветившегося знанием и наукою у самого источника света, непосредственно от самой Европы. Чаадаев утверждал, что русские в Европе как бы незаконнорожденные <…>; Тютчев доказывал, что Россия особый мир, с высшим политическим и духовным призванием, перед которым должен со временем преклониться Запад. Чаадаев настаивал на том историческом вреде, который нанесло будто бы России принятие ею христианства от Византии и отделение от церковного единства с Римом; Тютчев, напротив, именно в Православии видел высшее просветительное начало, залог будущности для России и всего славянского мира и полагал, что духовное обновление возможно для Запада только в возвращении к древнему вселенскому преданию и древнему церковному единству. <…> Россия — глагол, просвещение, жизнь человечества лучших будущих времен. <…> Так вот к какому чаянию привело Тютчева двадцатидвухлетнее воспитание в европейской умственной школе! Так вот на что послужили ему все дары западного просвещения!..»171.
Истина Христова соединялась для Тютчева всегда и неизменно с Православием, и только с ним: оскудение веры и измена Христу виделись ему у стоящих вне православного понимания Христова учения. Православие же неразрывно связывалось для поэта с понятием Святая Русь. Сопряжённые воедино, Христова вера и Русь признавались Тютчевым безусловно — высшими духовными ценностями.
День православного Востока,
Святой, святой, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!
Но и святой Руси пределом
Его призыва не стесняй:
Пусть слышен будет в мире целом,
Пускай он льётся через край… (2, 235)
1872
«…Любовь к России, — утверждал И.Аксаков, — вера в её будущее, убеждение в её верховном историческом призвании владели Тютчевым могущественно, упорно, безраздельно, с самых ранних лет и до последнего воздыхания. Они жили в нём на степени какой-то стихийной силы, более властной, чем всякое иное, личное чувство. Россия была для него высшим интересом жизни: к ней устремлялись его мысли на смертном одре»172. Одно из пророческих откровений Тютчева, оставленное без ответа современниками, оказалось обращённым через их головы прямо в наше время — откровение о России.
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа—
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа! (1, 161)
В сострадании народу своему Тютчев не был одинок в русской поэзии, можно указать на многие иные примеры поэтического развития той же темы. Вот хотя бы блоковское!
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые—
Как слёзы первые любви!
Мысль справедливая, добрая, но несложная, сводящаяся к непритязательному утверждению: как ни скудна, ни бедна эта земля, но я всё же люблю её. Но Тютчев не был бы Тютчевым, когда бы ограничился столь внешним постижением понятия — Россия.
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной (1, 161).
Важнейшее здесь — противопоставление гордыни и смирения — понятий, постигаемых вполне лишь на религиозном уровне. Гордыня — источник мирового зла, смирение — основа спасения, без которой oно невозможно. Гордыня застилает взор, смирение отверзает истинное зрение.
К слову, одним из примеров гордынной слепоты было в ту эпоху известное сочинение де Кюстина, на которое до сей поры ссылаются все противники идеи российского самостояния. Tютчев отозвался о нём без обиняков: «умственное бесстыдство и духовное растление» (в статье «Россия и Германия», 1844).
Тютчев же даёт подлинное осмысление внешней скудости родной земли: за скудостью укрывается смирение, освящающее собою и терпение, покорность воле Христа. Именно Его воле, ибо
Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя (1, 161)
1855
Не называя прямо, Тютчев подводит читателя к этому важнейшему для него понятию — Святая Русь. Русская земля — Святая Русь, ибо несёт в себе благословение Спасителя, а на себе — ношу крестную, завещанную Им (не забудем: идти за Христом значит нести свой крест: Мф. 10, 38). Смирение Святой Руси — от смирения Самого Христа, явившего высший образ, идеал смирения: от Рождества в яслях до принятия позорной «рабской» казни на Кресте. Гордыня (гордыня ума прежде всего) мешает разглядеть за внешней убогостью сквозящую святость смирения — но пророческое слово поэта напоминает об Истине. Его слово направлено — к необходимости сознания Русью своей ответственности за свет истинной веры и сознания ноши своей крестной.
Всё сказаннoe может быть постигнутo лишь верою, но не рассудком.
Вот та проблема — истинного знания, — в спорах о которой постоянно сходились славянофилы и западники. Тютчев в этом споре заявляет твёрдо:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать—
В Россию можно только верить (1, 210).
1866
Ныне появилось множество ниспровергателей этого тютчевского утверждения. Но вдуматься: если Россия понимается как Святая Русь, а всякое обращение к святости возносит мысль к Богу как Началу всех начал, то не уму, а лишь вере подсильно это в себя вместить. Если столь простая истина трудна для чьего-либо сознания, то как же дерзает оно на нечто высшее, на постижение святости?
Те же, кто хотят применить к России «общий аршин», обличают лишь шаблонность собственного мышления, неспособного выйти из общих мест и стереотипных представлений. Так и к любому народу неприменимы единые стереотипы, ибо нации неповторимы и своеобразны — все. А кому мило унылое единообразие, конформистская узкость — должны бы они для начала преодолеть в себе столь недостойный способ мироосмысления, ибо он далёк от правды.
Не стоит, однако, полагать, будто признание России Святой Русью предполагает непременное утверждение её безгрешности и непорочности. Святая Русь — идеал, который дан нам Христом Спасителем. Но отвечаем ли мы Его благословению? Ведь «рабский вид» может соответствовать и рабскому духу. Вера в Россию не есть вера в нынешнюю безупречную святость Руси — но в возможность её движения к идеалу. Тютчев говорит о том прямо и ясно:
Над этой тёмною толпой
Непробуждённого народа
Взойдёшь ли ты когда, Свобода,
Блеснёт ли луч твой золотой?..
Блеснёт твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы… (1, 169)
Следует с определённостью сказать, что поэт имеет в виду не ту свободу, которую заидеологизированное сознание большинства связывает со стереотипом «революционной борьбы» — к революции у Тютчева было неизменное неприятие, — Тютчев ведёт речь о Свободе в высшем, религиозном понимании, что и раскрывается далее в его стихах. Ведь у всякого, кто непредубеждённо прочтёт приведённые строки, родится вопрос: в чём же залог веры в «золотой луч Свободы»? Как, при каком условии она осуществится? Вопрос важнейший: в ответе на него наша судьба. Ведь и греховность велика:
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, —
Кто их излечит, кто прикроет?.. (1, 169)
Поэт, пророк — утверждает с несомненностью:
Ты, риза чистая Христа… (1, 169)
1857
Вот то слово, на которое народ должен ответить. Сочувствие этому слову станет и для народа, как для самого поэта, — Благодатью. Но этот идеал может осуществить себя только там, где отступит и смирится горделивое человеческое Я. Вот одна из самых задушевных мыслей Тютчева. Запад в этом отношении представляется Тютчеву безнадёжным, ибо жизнь и душу Запада узнал поэт не понаслышке, не подобно тем, кто издалека обольщаясь, сотворил себе из Европы кумир, — но в результате долгого и спокойного, пристально-внимательного изучения в тесном соприкосновении с европейской жизнью. Значительные годы провел Тютчев в лютеранской Германии и католической Италии — и именно в особенностях их религиозной жизни усмотрел он причины духовного тупика, в котором оказался Запад.
Знаменитое стихотворение «Я лютеран люблю богослуженье…» (1834) обманчиво апологетично первою строфою своею — но в ней завлекающая ловушка для того, кто захочет узреть в стихах родственный душе смысл. Не всякий сразу распознает здесь иронию:
Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой—
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье (1, 53).
Но «люблю» здесь — значит: «ценю, ибо понимаю истинный смысл, ибо в пустоте этой внешней нет обмана, но есть откровенное отражение внутренней пустоты». А что именно так — раскрывается в последующих строках:
Не видите ль? Собравшимся в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Ещё она не перешла порогу,
Но дом её уж гол и пуст стоит… (1, 53)
Последняя строка второй строфы явно отсылает к словам Христа:
«Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 37–38). Вера покидает этот дом, и скоро он останется обезбоженным бесповоротно. «Лютеран богослуженье» есть последняя попытка воззвать к навсегда оставляющему храм Спасителю — и тщетная.
В последний раз вам вера предстоит…
………………………………….
Ещё она не перешла порогу,
Ещё за ней не затворилась дверь…
Но час настал, пробил… Молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь (1, 53).
1834
Остается лишь мёртвая форма — без жизни, без одухотворяющего начала, достойная сожаления и печальной иронии, какую видим мы в стихотворении «И гроб опущен лишь в могилу…» (1836).
Если лютеран поэт удостоил лишь иронией своей, поэтической и невесёлой, то на католицизм он обрушивает гневный сарказм. В ответ на энциклику папы Пия IX от 26 ноября 1864 года, в которой свобода совести была отнесена к «заблуждениям века», Тютчев обличительно непримирим:
Был день, когда Господней правды молот
Громил, дробил ветхозаветный храм,
И, собственным мечом своим заколот,
В нём издыхал первосвященник сам.
Ещё страшней, ещё неумолимей
И в наши дни — дни Божьего суда—
Свершится казнь в отступническом Риме
Над лженаместником Христа
Столетья шли, ему прощалось много,
Кривые толки, тёмные дела,
Но не простится правдой Бога
Его последняя хула…
Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет, —
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!» (2, 162)
В католическом отступничестве Тютчев видит «тяжкий тысячелетний грех» (стихотворение «Свершается заслуженная кара…», 1867). Подобно славянофилам, заметим, он нигде не говорит о «разделении Церквей», но всегда об отделении, отступничестве католического мира от единства веры, от Православия.
В своих наблюдениях над католичеством Тютчев близок многим западникам. Так, его негодование на католический дух несвободы живо заставляет вспомнить рассуждения на эту же тему у католического священника Печерина. Абсолютно совпадает Тютчев с Чаадаевым во мнении, что католицизм устраивает «Царство Христово как царство мира сего»173. Правда Чаадаева это приводило в восхищение, Тютчев же усматривает в том едва ли не главную причину всех нестроений и пороков Запада. «…Разве присваивать себе Божественное не значит то же, что отрицать его?»174— задает он риторический вопрос в статье, специально посвящённой порокам католического бытия, — «Папство и римский вопрос» (1849).
Привязанная к чисто земным интересам, католическая церковь оказывается поглощённой, по убеждению Тютчева, даже не человеческим Я, но римским Я— что ещё мельче и губительнее для неё. Там, где господствуют земные интересы, человек отрывается от Бога и оказывается предоставленным самому себе, его же Я оказывается «противным Христу по существу»175. Следствие не заставляет себя ждать — революция, разрушительная для бытия человека дьявольская приманка. О революции Тютчев годом ранее (в статье «Россия и революция») писал: «…Чувство смирения и самоотвержения, составляющее основу христианства, она намерена заменить духом гордости и превозношения, благотворительностью вынужденной; и взамен братства, проповедуемого и принимаемого во имя Бога, она намерена утвердить братство, налагаемое страхом…»
И следом иронически присовокупил: «За исключением этих различий, её господство действительно обещает обратиться в царство Христово»176. Должно признать, что взгляды Тютчева весьма родственны тем идеям, которые несколько позднее будет развивать Достоевский. Своё понимание папизма как тёмной греховности, как отступления от христианства поэт незадолго до смерти ясно выразил в стихотворных строках («Ватиканская годовщина», 1871):
Был день суда и осужденья—
Тот роковой, бесповоротный день,
Когда для вящего паденья
На высшую вознёсся он ступень, —
И, Божьим Промыслом теснимый,
И загнанный на эту высоту,
Своей ногой непогрешимой
В бездонную шагнул он пустоту, —
Когда, чужим страстям послушный,
Игралище и жертва тёмных сил,
Так богохульно-добродушно
Он божеством себя провозгласил…
О новом бого-человеке
Вдруг притча создалась — и в мир вошла,
И святотатственной опеке
Христова Церковь предана была.
О, сколько смуты и волнений
С тех пор воздвиг непогрешимый тот,
И как пред бурей этих прений
Кощунство зреет и соблазн растёт.
В испуге ищут правду Божью,
Очнувшись вдруг, все эти племена,
И как тысячелетней ложью
Она для них вконец отравлена.
И одолеть она не в силах
Отравы той, что в жилах их течёт,
В их самых сокровенных жилах,
И долго будет течь, — и где исход?
…………………………….
Но нет, как ни борись упрямо,
Уступит ложь, рассеется мечта,
И ватиканский далай-лама
Не призван быть наместником Христа (2, 230–231).
С болью отметил Тютчев рабское следование иноземному суемудрию — идеям прогресса и цивилизации, — каким постепенно заражалась Россия. Они и сами-то фальшивы, ибо бездуховны, но подражание чужеродным образцам вдвойне отвратительно:
Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский!
Была крестьянской ты избой—
Теперь ты сделалась лакейской (2, 145).
1860-е гг.
Особенно злободневно и мудро звучат эти горькие строки к началу XXI столетия, содержащие прозорливое предупреждение вечным холопам либерального пошиба:
Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация для них фетиш
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы (2, 196).
1867
Кому как не ему, истинному европейцу, было доступно оценить по достоинству западническое холуйство русских либералов…
…………………………………………
Так верно понимать всё, так тонко и глубоко чувствовать истину, так обострённо ощущать губительность греховных состояний и страстей человеческого Я— и не иметь часто силы противиться им! И вот мученье для души: знать истину и не следовать истине… Ужасаться шевелящемуся в глубинах собственной натуры хаосу — и не находить силы противиться ему. Так мы подошли к важнейшему — что освещает жизнь и судьбу истинным светом, что выражает закон любого человеческого бытия и что не оставляет загадок при осмыслении жизненного пути поэта: «Дух мыслящий, неуклонно сознающий ограниченность человеческого ума, но в котором сознание и чувство этой ограниченности не довольно восполнялось живительным началом веры; вера, признаваемая умом, призываемая сердцем, но не владевшая ими всецело, не управляющая волей, недостаточно освещавшая жизнь, а потому не вносившая в неё ни гармонии, ни единства. <…> В этой двойственности, в этом противоречии и заключается трагизм его существования»177.
Закон простой: бессилие человека — в недостатке веры. В том единственно истинная причина трагизма человеческого бытия. Где сильна вера — трагедии нет и быть не может. Сознавая своё недостоинство, он сознавал себя и тяжко наказанным.
Всё отнял у меня казнящий Бог:
Здоровье, силу, волю, воздух, сон… (1, 226)
Так он мыслил на пороге смерти. И он же видел залог надежды на прощение Божие — в прощении той женщины, жены, которая, несомненно оскорблённая изменою, нашла в себе силы не оставить его, в тяжком наказании пребывавшего. В том узрел он Промысл Творца:
Одну тебя при мне оставил Он,
Чтоб я Ему ещё молиться мог (1, 226).
Принял ли Всевышний эту молитву?
Будем верить и надеяться…
Мы уже встречались со свидетельствами о том, что отпечатлевалось на лице поэта — Пушкина, Гоголя — в момент перехода от времени к вечности. Сохранилось такое свидетельство и о Тютчеве.
«…Лицо его <…> видимо озарилось приближением смертного часа, — писал И.С.Аксаков Ю.Ф.Самарину. — Он лежал безмолвен, недвижим, с глазами, открыто глядевшими, вперёнными напряжённо куда-то, за края всего окружающего с выражением ужаса и в то же время необычайной торжественности на челе. «Никогда чело его не было прекраснее, озарённее и торжественнее…» — говорит его жена. <…> Священник также свидетельствовал мне, что Тютчев хранил полное сознание до смерти, хотя уже не делился этим сознанием с живыми. Вся деятельность этого сознания, вся жизнь мысли в эти два дня выражалась и светилась на этом, тебе знакомом, высоком челе…»178. Но что отражал этот ужас? и что за мысль светилась на челе поэта?..
7. О двух подходах к искусству в середине XIX века. Духовные соблазны в искусстве
Исподволь развивалось в литературе — вообще в недрах отечественной культуры — ещё одно противоречие, которое как будто никак почти не связано было со всеми прочими разделениями и противостояниями. Противоречие это в обыденном своём виде проступает на поверхность в виде банального вопроса: что важнее в искусстве — содержание или форма? Вопрос подразумевает, что единства между ними нет и быть не может. По сути, тут проблема раздробленного сознания, которое, как ему и положено, разобщает всё нераздельное, дробит, мельчит — в числе прочего отделяя в искусстве содержание от формы. Но поскольку целостное сознание — целомудрие — и «мудрость мира сего» несоединимы, то и вопрос «остаётся вековечно открытым».
Проблема, разумеется, гораздо шире этого частного вопроса, ибо осмысление предназначенности искусства в земном бытии человека неизбежно выводит всякое сознание на простор с необозримыми горизонтами. Правда, в любой конкретной ситуации проблема эта втягивается в узкие рамки злобы дня — но от того никуда не деться, так что всякий раз, разбирая любую из сторон всего явления, должно не упускать из виду целого. В середине XIX столетия в русской культуре противостали два различных отношения к искусству вообще. Гоголь, как помнится, отдал предпочтение идее пророческого служения искусства, и трагически ощущая бессилие эстетического начала в религиозном преображении мира, разочаровался в смысле художественной деятельности. Последнее десятилетие жизни Гоголя характерно постепенным, но всё более последовательным отречением художника от литературного творчества. Это не могло не воздействовать на умы, хотя бы на подсознательном уровне.
Будь тут кто-то помельче и поплоше, тем можно было бы и пренебречь, но ведь: сам Гоголь! — его так легко не обойдёшь.
Разумеется, пытались всё свалить на безумие, что, может быть, и удалось бы, когда бы не подхватили некоторых срединных идей Гоголя его новоявленные наследники — революционные демократы. Пусть не во всём они сходились с самим Гоголем, но некоторые внешние соответствия ему в своих взглядах усвоили. Они потребовали от искусства прежде всего содержания, коли художественная форма не всесильна, и содержания пророческого (недаром же Некрасов так и назвал посвящённое Чернышевскому стихотворение — «Пророк», 1874). Пророчество, конечно, требовалось не религиозное, но революционеры свою борьбу превратили в религиозное служение Идее, Свободе и пр. Революционные демократы ждали от искусства прежде всего гражданственности: непосредственного участия в общественно-политической борьбе, отражения наболевших вопросов времени, защиты интересов народа, как они их понимали. Основной своей задачей эти деятели видели разрушение существовавшего тогда политического строя, поэтому цели литературы они связывали с непременной её критической направленностью, с обличением социальных пороков. Это, впрочем, всем давно известно. Так «наследники Гоголя» продолжали традиции Белинского в области эстетической мысли.
Говоря о единственно возможном направлении в искусстве, Некрасов спрашивал Тургенева (в письме от 18/30 декабря 1856 г.): «Есть ли другое — живое и честное, кроме обличения и протеста?» Всё, что находилось вне сферы общественных интересов — в том числе и «чистая» поэзия — объявлялось малосущественным или того хуже — пошлостью. Об этом много писал, например, Чернышевский. Вот ещё одно расхождение с Гоголем: для него пошлость была понятием апостасийным, тогда как для подобных Чернышевскому — антиобщественным. Можно бы и так сказать: для каждого пошлость есть предпочтение эгоистических интересов сверхличным ценностям. Только сверхличное каждый понимает на свой манер. Вспомним ещё раз противостояние Гоголя и Белинского; Чернышевский же и его единомышленники от неистового Виссариона в этом ничем не отличались.
Ещё один важный оттенок: когда о служении Истине говорит великий художник Гоголь, это вовсе не означает пренебрежения эстетическою стороною дела (художник на то и художник, чтобы писать художественно), но когда с требованием подчинить искусство своей идеологической доктрине выступает революционный демократ, это означает просто деградацию искусства, его опошление, отказ от искусства. Отрицатели художественности не хотели сознавать, что в искусстве вне художественного совершенства нет и истины. Крайнюю точку зрения на предназначение искусства высказал, как известно, Некрасов в своей чеканной формуле: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Поэтом не быть?.. Так и об искусстве толковать нечего: зарифмованные гражданские идеи — к искусству отношения не имеют. Правда, Некрасов позднее преодолел собственную односторонность:
Форме дай щедрую дань
Временем: важен в поэме
Стиль, отвечающий теме.
Стих, как монету, чекань
Строго, отчётливо, честно,
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям — просторно.
1877
Но Некрасов был всё-таки поэт настоящий. Реальное же осуществление на практике его раннего заблуждения совершил Чернышевский — созданием романа «Что делать?». Всё было бы слишком просто, когда бы укладывалось в схему: односторонность отношения к искусству выказывали лишь революционные демократы. Так ведь и их идейные противники, славянофилы, держались той же точки зрения. А.С.Хомяков, вовсе не чуждый поэзии, служение идее в искусстве ставил выше эстетического самообособления художественного творчества. Это не могло не встревожить тех, кто художественность ставил превыше всего. Да дело даже не в какой-то встревоженности, а во внутреннем неприятии подобной однобокости теми, кто обладал обострённым эстетическим чутьём, а вдобавок к общественным идеям, особенно революционно-прогрессивным, был равнодушен, а то и враждебен. В противоборстве с эстетическими взглядами сторонников искусства служения, искусства идеологического — сложилась теория чистого искусства. По этой теории, искусство должно быть свободным («чистым») от общественной жизни: сфера деятельности художника — создание чистых возвышенных образов, отражающих мир глубоко интимных переживаний человека. Выражено это было в краткой формуле:
«искусство — для искусства». Кроме того, если такие теоретики, как Чернышевский, понимали художественное творчество как акт преимущественно рационалистический, то по убеждению сторонников «чистого искусства» творчество бессознательно, интуитивно. Сторонники искусства служения опирались на авторитет Гоголя. Нужно было противопоставить ему нечто равновеликое. А равновеликою в середине столетия мыслилась лишь одна фигура — Пушкин. Так что судьбою было определено противостояние двух этих имён.
Своеобразным эстетическим манифестом «чистого искусства» стала статья А.В.Дружинина «А.С.Пушкин и последнее издание его сочинений» (1855). Дружинин выделил в русской литературе два направления: «пушкинское», чисто художественное, и «гоголевское», критическое, обличительное, «неодидактическое». Первому явно отдавалось предпочтение перед вторым. Нужно заметить, что термины были выбраны весьма неудачно. Создавалось впечатление, будто Пушкин всегда был далёк от важнейших вопросов своего времени, от служения, — и это Пушкин-то далёк от пророческого служения! — а Гоголь пренебрегал художественной формой своих произведений. Это недоразумение, но оно, особенно относительно Пушкина, бытовало в русском общественном мнении. На собраниях радикально настроенной молодежи можно было услышать такие, например, заявления:
«Советуйте провинциальным барышням сдать в архив не только чтение Поль де Коков и Евгениев Сю, но и Пушкиных, Лермонтовых и других художественных деятелей. Объясните им, что теперь времена переменились и необходимо изучать прежде всего то, что может научить служению общественным интересам, любви к народу…»
Молодёжь, впрочем, всегда ограниченна в своем радикализме, всегда поверхностна (что не мешает ей выдавать своё недоумие за прогрессивность взглядов), но ведь и люди, весьма далёкие и от тех дней и от злобы их, в том же заблуждении пребывали. Как мы помним, даже К.Мочульский утверждал, что Гоголь повернул литературу с пути Пушкина на путь Достоевского. Неужто Пушкина, первого пророка русской литературы, сознательно завещавшего не только поэзии, но и всей культуре — служение «веленью Божию», можно противопоставлять Достоевскому? Да сам Фёдор Михайлович первый бы этому воспротивился. Слишком сложны и Пушкин, и Гоголь, чтобы превращать их имена в ярлыки. Отлучение Гоголя от чистоты искусства — также заблуждение. Был бы он так прост, не появлялись бы о нём столь полярные суждения. Как примирить мнение о. Василия Зеньковского о несомненной зависимости художественного творчества Гоголя от его идейных построений — с утверждением В.Набокова: «Его произведения <…>— это феномен языка, а не идей»179. Кто тут прав? Каждый взял лишь половину правды. Правда — в единстве.
Служение нельзя смешивать с тенденциозностью, которая всегда однобока, замешана на полуправде и оттого становится фальшивою. Об этом остроумно рассуждал Тургенев, имея в виду критиков, подобных Добролюбову: «Господа критики вообще не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора, то, в чём именно состоят его радости и горести, его стремления, удачи и неудачи. <…> Они вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что «проводит свои идеи»; не хотят верить, что точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни — есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями»180. Но Тургенев же, возражая Дружинину на его программную статью, заявил о своём признании «пушкинского» и «гоголевского» направлений: «Но оба влияния, по-моему, необходимы в нашей литературе — пушкинское отступило было на второй план — пусть оно опять выступит вперед — но не с тем, чтобы сменить гоголевское. Гоголевское влияние и в жизни и в литературе нам ещё крайне нужно»181.
А бывает и так: эстетическое начало и не может быть востребовано в какой-то момент жизни: не время. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом» (Еккл. 3, 1).
Опять же Тургенев (а ссылаться на него удобно и потому, что «художественность» защищал он всегда, и последовательно, так что нередко причислялся к безусловным сторонникам «чистого искусства») заметил однажды: «И то сказать — если мужику, которого только что высекли <…> или который только что вернулся вёрст за двадцать в свою семью, брюзгливую и злую оттого, что есть нечего, начать читать Пушкина или Тютчева, — если бы он даже и понял их, непременно бы плюнул и выругался. <…> До стихов ли человеку, забитому нуждой и всякими житейскими невзгодами…»182. Ту же мысль развивал Достоевский — на ином примере — в статье «Г.-бов и вопрос об искусстве» (1861): «…Положим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. <…> Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то, что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые сведения, сообщить некоторые известия о погибших, о пропавших без вести и проч. и проч. И вдруг — на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:
Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья…
…Мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому, что вместо трелей соловья накануне слышались под землёй такие трели, а колыханье ручья появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев нe только не осталось охоты наблюдать
В дымных тучках пурпур розы
или
Отблеск янтаря,
но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни.
<…> Мало того, поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности. <…> Поэма, за которую казнили поэта, как памятник совершенства поэзии и языка, принесла, может быть, даже и не малую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения. Стадо быть, виновато было не искусство, а поэт, злоупотребивший искусство в ту минуту, когда было не до него. Он пел и плясал у гроба мертвеца…»183
Вот: не искусство виновато, а идеология, именуемая «чистым искусством».
«Чистое искусство» само становилось крайне тенденциозно, когда пыталось навязать себя как единственно возможное направление в сфере художественного творчества. Замыкаясь в мире сугубо интимных переживаний и «бессознательной художественности», «чистое искусство» обедняло себя. Оно превращалось в такую же идеологию, как ни стремилось прочь от всякой идеологии. В том и парадокс: отрицание идеологии тоже идеология. Никуда не деться.
У сторонников «чистого искусства» была одна неоспоримая правда: вне эстетически совершенной формы, повторим и повторим ещё, всякая самая высокая идея, какую дерзнёт выразить человек внешними средствами искусства, легко переходит в невыразимо тоскливую пошлость.
Не терпит болтовни искусство,
Жестоко к слабому оно,
Ведь и возвышенное чувство
С плохими рифмами смешно…
— так писал поэт начала XX столетия Л.Каннегисер. Это не все понимают, не все чувствуют, иначе не пытались бы втиснуть в бесталанные зарифмованные строки свои важные и благородные мысли. Но не все понимают и то, что мерзость и пошлость, выраженные в эстетически совершенной форме, ещё более опасны.
И вообще, повторимся, проблема соотношения и главенства либо содержания, либо формы есть заблуждение дробного сознания. Об этом верно сказал И.В.Киреевский: «…Если бы изящные искусства имели время развиться в древней России, то, конечно, приняли бы в ней другой характер, чем нa Западе. Там развивались они сочувственно с общим движением мысли, и потому та же раздробленность духа, которая в умозрении произвела логическую отвлечённость, в изящных искусствах породила мечтательность и разрозненность сердечных стремлений. Оттуда языческое поклонение отвлечённой красоте. Вместо того чтобы смысл красоты и правды хранить в той неразрывной связи, которая <…> бережёт общую цельность человеческого духа и сохраняет истину его проявлений, западный мир, напротив того, основал красоту свою на обмане воображения, на заведомо ложной мечте или на крайнем напряжении одностороннего чувства, рождающегося из умышленного раздвоения ума. Ибо западный мир не сознавал, что мечтательность есть сердечная ложь и что внутренняя цельность бытия необходима не только для истины разума, но и для полноты изящного наслаждения» (233).
Истоки проблемы вполне прояснены: это проблемы мирского секулярного искусства, тесно сопряжённые с западническим типом мышления. Они заразили даже славянофильское сознание, поскольку поэты-славянофилы осуществляли себя в художественном творчестве, законы которого проникли в русскую культуру в потоке общего западного влияния. Киреевский, впрочем, заблуждается, когда говорит об отсутствии развития искусства в древней России: оно как раз развивалось и приняло именно другой характер— духовно-религиозный, — чем на Западе. Заблуждение это объясняется неведением древней русской культуры, к постижению которой в те времена лишь робко приступали, и пока весьма немногие исследователи.
Всё это лежит на поверхности и слишком очевидно, хотя в свое время копий в спорах вокруг всех названных проблем сломано было предостаточно. Пытаясь же заглянуть глубже, мы вдруг различим не вполне приемлемый для нашего отношения к искусству, воспитанного на давних стереотипах, парадокс: искусство есть принадлежность падшего мира, самоприсущее миру выражение и свидетельство его падшести.
К этому нетрудно прийти, когда рассмотришь всю пестроту воззрений на цели и назначение искусства: все они, каждое по-разному, опираются именно на идею несовершенства земного бытия как следствие его падшести. Не всегда такая опора осознанна, но то уж печаль, вина и беда тех, кто предлагает свои версии относительно природы и сущности искусства. Должно ещё заметить, что разные эстетические гипотезы и теории часто не просто входят в противоречие с иными, но и яростно отвергаются создателями этих иных. Наше же дело — постараться хоть вкратце обозреть их в полноте, не смущаясь противоборством и несогласием одного с другим. Впрочем, необъятного всё равно не объять.
Искусство — принадлежность падшего мира, и именно поэтому его опасно обожествлять, как стремятся многие, тем лишь умножая усвоенную миром греховность. Различные мудрецы различно же определяют сущность и смысл искусства, но — два неизменных свойства, ему присущих, отмечают, кажется, все и всегда: фантазию, воображение, в его основе лежащие, и эстетическое начало, от них в искусстве неотрывное. Без одного из этих двух свойств искусство перестаёт быть искусством. Каждое из них питает искусство живительною силой, но каждое же несёт в себе и угрозу саморазрушения искусства. Такова участь всего в земном мире.
Искусство есть всегда игра фантазии. Но что есть фантазия?
«Фантазия вытеснила память Божию после грехопадения, затмила душу образами»184, — эта мысль Максима Исповедника должна быть воспринята нами как одна из основополагающих в православной эстетике: образное воображение есть замена памяти Божией у падшего человечества. Образное мышление есть своего рода суррогат духовного постижения Истины. В соединении с рациональным мышлением оно даёт то знание о мире, какое только доступно падшему со-знанию, и вне веры пребывающему. Через веру же человеку может быть дано знание иного уровня — о том, как мы помним, спорили ещё славянофилы с западниками; это же была одна из излюбленных тем в духовных поучениях святителя Филарета (Дроздова).
Без игры фантазии искусство невозможно. Но фантазия может быть тесно сопряжена со страстями, и об этом многократно предупреждают Святые Отцы. Преподобный Григории Синаит утверждал, что нет ничего такого духовного, чего нельзя было бы извратить фантазией. Он же предостерегал: «Бесы наполняют образами наш ум, или лучше сами облекаются в образы по нам, и приражаются (прилог вносят), соответственно навыкновению господствующей и действующей в душе страсти…»185.
О том, что образный вымысел может быть порождён действием страстей, ведомо и секулярной премудрости: недаром же заметил Монтень: «Душа, теснимая страстями, предпочитает обольщать себя вымыслом, создавая ложные и нелепые представления, чем оставаться в бездействии»186.
Игра (а создавание вымышленной реальности с помощью фантазии — всегда игра) есть всегда подмена истинных реалий мнимыми, условными, действующими в ограниченном пространстве и времени, с какою бы целью такая подмена ни совершалась. Подмена может быть и весьма опасною. Когда XVIII век провозгласил принцип «искусство выше природы» — это совершалось в рамках игрового начала, присущего и русской культуре той эпохи вообще. Но это же есть внедрение в подсознание идеи: творческое начало, присущее человеку, выше любого творческого начала, действующего извне, — будь то Творец Вседержитель, безликая природа, некий неведомый космос или маловразумительный мировой разум. Самовозвеличение человека совершалось на многих основах — в культуре, в искусстве не в последнюю очередь. Игра мнимыми ценностями в искусстве может привести человека к неверию в эти ценности, а затем и в любые ценности, порождая лицемерие и цинизм. Одного западного писателя спросили: следует ли он всем нравственным правилам, какие исповедует и провозглашает в своих произведениях? Ответ был «остроумен»: не носит же сапожник всей той обуви, какую шьет.
Известнейший, много раз приводимый пример такой игры, несоответствия умозрительных построений и собственной жизни — Руссо, наставлявший Европу в искусстве воспитания (что принесло многим многие беды) и сбывавший с рук собственных детей в общественные приюты. Западный тип сознания, прельщённый игровым началом, свободно допускал и допускает расхождение между «теорией» и «практикой». Русская культура исповедовала принцип иной (противясь соблазну извне, но часто и поддаваясь ему, а затем болезненно одолевая его): соответствие убеждений с практикою даже обыденной жизни требовалось неукоснительное. Недаром, вспомним, наставляет гоголевский персонаж сына-художника: «Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится».
Лицемерная игра все-таки не входила в систему ценностей русской литературы. Для сравнения сопоставим со свидетельством И.В.Киреевского, хорошо знавшего Запад и писавшего об органически присущей западному человеку склонности к этической игре: «Если же случится, что самые наружные действия его придут в противоречие с общепринятыми понятиями о нравственности, он выдумает себе особую, оригинальную систему нравственности, вследствие которой его совесть опять успокаивается» (234). На исходе XX века этой игре присвоено наименование — плюрализм. Хотя это обычный нравственный релятивизм, лежащий в основе всех бед человеческих. Точно такой же плюрализм-релятивизм наблюдается и в сфере эстетики. В искусстве выражается эстетическая потребность человека.
Тяга к земной красоте может быть осмыслена как некое воспоминание о Красоте Небесной. К эстетическому началу в земной жизни может быть приложено именно в этом смысле известное поучение Апостола:
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1, 20).
Но секулярное искусство и здесь не может удержаться от таящегося в красоте соблазна, позволяя увлечь себя бесовскими образами. Символ такого соблазна точно выразил Пушкин в известных строках (стихотворения «В начале жизни школу помню я…»):
…женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал—
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.
Так Пушкин, а с ещё большею остротою Гоголь (опережая Достоевского) — ощутил эту двусмысленность земной красоты. Двусмысленность, на которой и строится эстетический плюрализм.
В беспримесном виде Красота Небесная отразилась в формах земной красоты лишь в подлинно церковном искусстве — зримо в иконописи, средневековой архитектуре, в богослужебном знаменном распеве, в духовной литературе.
Особенно очевидным становится различие между церковным и секулярным искусством — при сопоставлении православной иконописи и светской живописи. В православном понимании икона есть окно в Горний мир, через икону надмирная святость являет себя земному миру. Краски православной религиозной живописи суть отблески Фаворского света в доступных земному зрению формах. Этот свет доступен каждому в чувственных ощущениях — при восприятии святых икон, средневековых росписей древних православных храмов. Только смотреть нужно иначе, нежели большинство ныне: не как на «произведения искусства» со всеми его эстетическими особенностями и достоинствами, а именно как на отблески Фаворского света. Живопись светская есть лишь свидетельство человеческого гения, не более, ибо вся — не что иное, как преломление в разных формах и очертаниях света тварного, материального земного. Своеобразие, качественное отличие церковного искусства — искусства Фаворского света — от искусства секулярного, искусства земных форм, — заставило некоторых теоретиков поставить даже вопрос: а искусство ли то вообще? Если признать эстетику Фаворского света некоей мета-эстетикой, то и церковное искусство можно обозначить как мета-искусство. Впрочем, дело не в терминах, но понимании: то качественно иное явление, даже если рассматривать его в привычных рамках искусства вообще. Церковное православное искусство даёт человеку знание, освящённое и освещённое верою, — и только оно. При его восприятии воспоминание о Небесной Красоте даётся человеку в чистом виде, не замутнённое соблазнами и погрешениями земного зрения. Это искусство даёт намек о том знании, каким обладал человек до грехопадения. Запечатлевание мира преображённой святости в таком искусстве есть форма молитвенно-аскетического опыта, подвига, секулярному художнику недоступного.
Трагическое осознание и ощущение этого стало, как помним, одною из причин духовного кризиса Гоголя. Не углубляясь в иные подробности, заметим только, что и нужда в церковном искусстве определяется именно падшестью мира: Адаму до грехопадения никакая икона была не нужна — он сам был первоиконою, неся в себе образ и подобие Божие. Церковное искусство призвано дать человеку припоминание того знания, каким обладал Адам, имевший способность прозревать внутреннюю сущность вещей, когда он давал имена являвшимся ему Божиим тварям. Искусство мирское, если оно не затемнено соблазном, призвано к тому же, но обладает возможностями низшего уровня.
Если искусство церковное отражает молитвенно-аскетический опыт художника, то искусство мирское — его эмоциональный, чувственно-эстетический опыт.
Кроме того, если художник не обладает верою, либо колеблется в ней, он всегда готов уклониться от прямого пути. Одно из таких уклонений, каким подвержено бывает искусство, есть нездоровое тяготение к мистической тайне — как самоцель. В середине XIX века это не было столь заметно, за редким исключением (например, в творчестве В.Ф.Одоевского), но на рубеже XIX и XX столетий осуществилось в полной мере, особенно у символистов.
«…Символист уже изначала— теург, то есть обладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие, — писал А. Блок в 1910 году, — но на эту тайну, которая лишь впоследствии оказывается всемирной, он смотрит как на свою; он видит в ней клад, над которым расцветает цветок папоротника в июньскую полночь, и хочет сорвать в голубую полночь — «голубой цветок»187. В этом нагромождении слов ясно проглядывает неизбежное: поскольку мирской художник не обладает средствами к познанию того, что было доступно религиозному аскету и молитвеннику, то и тайны ему открываются порою тёмные, прелестные, безблагодатные. Доказывать падшесть такого эстетического освоения бытия — нет нужды.
Ближе всего к подлинному духовному искусству в сфере искусства секулярного находится та его часть, которая следует назначению пророческого служения Истине, или, по слову Гоголя, является «незримой ступенью к христианству». И.А.Ильин раскрыл подобную же мысль в таком суждении: «Есть в человеке безмолвная, тёмная глубина — таинственное жилище его инстинкта и его страстей. Там нет слов и мыслей; и произвол дневного сознания там не властен. Именно там укрываются первоначальные, стихийные силы человека, жаждущие простора, но непризванные к власти <…>. И именно там зарождаются и отстаиваются основные содержания человеческой жизни в виде бесформенных глыб и неопределимых, безгранных помыслов. Беспомощно терпя, томясь и страдая, носит человек в своём бессознательном эти силы и вынашивает эти содержания, смутно ощущая в себе их присутствие, но не зная, как к ним подступиться и что с ними начать, не умея их очистить, оформить, взрастить и одухотворить, — и именно поэтому слишком часто становясь их слепым орудием и жертвою. Безвластный и неумелый перед ними, человек сам подпадает их власти и вовлекается ими в их самовольные вихри и бури. И только искусство может помочь ему в этой беде, ибо оно создаёт творческий исход для этих содержаний, перерождая их из глубины, прожигая их духом и облекая их в верные образы, жесты, звуки и слова, вливая, вковывая их в художественную форму. И только религия может окончательно вывести человека из этой беспомощности и этого рабства, давая ему через молитву подлинную и благодатную власть над этими силами»188.
Ильин говорит именно о силах, страстях, инстинктах, порождённых грехопадением. Искусство может помочь человеку справиться с их тёмной властью, но окончательную победу над рабством даст только религиозное, духовное делание. Философ, по сути, высказывает ту же мысль: об искусстве как о начальной ступени к молитвенному одолению страстей. В ступенях к христианству для преображённого Богочеловечества нужды нет. Искусство необходимо греховному человеку. Но и сам художник не всегда может справиться со своими тёмными страстями: если не сознаёт необходимости религиозного служения в творчестве, пророческого призвания. При исполнении пророческого служения воля художника должна следовать воле Божией («исполнись волею Моей»;… «веленью Божию, о Муза, будь послушна»), то есть соответствовать понятию синергии, соработничества твари с Творцом. И так искусство может помочь в стремлении человека к Богу. Но сама Истина в полноте мирскому искусству вряд ли доступна. Это подсознательно ощущают, вероятно, многие деятели искусства, и самое цель своего эстетического творчества видят лишь в поисках, но не обретении Истины. Поиски же нередко сбиваются в сторону, либо теряясь во всё тех же мистических соблазнах, либо в безбожном осмыслении социального бытия, либо в дебрях экзистенциальных психологических загадок. И возникает иллюзия, что конечная истина всё же обретена. Так, революционным демократам казалось, что им открываются загадки бытия — в социальной борьбе за переустройство мира. Искусство является мощным средством познания мира, но не всякое познание овладевает истиною. Еггаге humanum est. Человеку свойственно ошибаться.
Владение истиной (хоть какой, пусть даже иллюзорной) нередко подталкивает художника на путь учительства, властвования над душами и умами. В этом многие видят смысл и предназначение искусства: им начинают пользоваться как средством дидактического воздействия на человека, на общество — что наиболее откровенно проявилось в классицизме, соцреализме, хотя и иные направления дидактизмом, в явной или скрытой форме, не пренебрегают. С этой особенностью искусства сопряжен часто дух любоначалия, разъедающего душу художника, и его, как мы знаем, не смогли избежать величайшие творцы русской литературы. Иллюзия обладания истиной, в её социально-политическом обличии, заставляла художников революционно-демократической направленности видеть назначение искусства в социальном служении. В наиболее приемлемом для православного сознания виде идею выразил Некрасов:
Толпе напоминать, что бедствует народ,
В то время как она ликует и поёт,
К народу возбуждать вниманье сильных мира—
Чему достойнее служить могла бы лира?..
1874
Идея социального служения в русской литературе была прямо сопряжена с задачею критического обличения общественных пороков — что общеизвестно. Об опасности такого использования художественного творчества уже говорилось — и немало. Важно лишь помнить, что такое понимание смысла искусства не ограничивалось лишь деятельностью революционных демократов. Моральные обличения характерны едва ли не для всех направлений и проявлений эстетической практики. В противовес высмеиванию и обличению всего дурного — многие теоретики и практики искусства предъявляли к нему требование поиска и утверждения идеала. Для одних художников при этом было достаточно лишь стремления к идеалу, который они могли мыслить и как недостижимый; другие непременно хотели воплотить его в зримых формах как образец для подражания: и тем воздействовать на бытие человека, общества — что сопрягалось с пониманием искусства как средства наставления и учительства. Единственно стремлением к идеалу могли ограничиться, пожалуй, только романтики («цель ничто, движение всё»), обладание же идеалом становилось потребностью классицистов, отчасти сентименталистов, порою реалистов, в особенности же — художников социалистического реализма. И идеал всегда мыслился как принадлежность исключительно земного бытия. Если и шла речь о религиозно-нравственном искоренении греха и порока, об установлении идеальных форм жизни, то непременно в реальном земном проявлении — от секулярного искусства иного требовать нет смысла: и в подобном-то эстетическом воплощении такая цель труднодоступна для искусства, если доступна вообще. Часто рафинированно-идеальные образы превращаются в слащавую фальшь и перестают принадлежать истинному искусству. Лик святости секулярному искусству неподсильно изобразить, оно изощрено показывать лица, непреображённую плоть, всегда тронутую следами страстей.
Всё это отражает различные внешние, имеющие выход на социум, цели искусства. Но искусство направлено и на внутреннее бытие индивида, оно экзистенциально — и, быть может, в большей степени, нежели социально, — по своему предназначению. Часто оно имеет дело с клокочущими в душе художника страстями, помогает избыть эти страсти, высвобождая их в процессе творчества. Так, Гёте, принудив Вертера к самоубийству от невыносимой любовной страсти, освободился тем от собственного наваждения (и породил моду на самоубийства). Искусство может быть направлено и к утишению страстей. Об этом писал Тютчев в стихотворении «Поэзия». Мало авторитета Тютчева — обратимся к Пушкину:
Рифма, звучная подруга
Вдохновенного досуга,
Вдохновенного труда…
……………………
В прежни дни твой милый лепет
Усмирял сердечный трепет,
Усыплял мою печаль,
Ты ласкала, ты манила,
И от мира уводила
В очарованную даль.
1828
Вон когда появилась в поэзии «очарованная даль» блоковской «Незнакомки»! «Искусство есть примирение с жизнью», — пишет Гоголь Жуковскому, видя в нём своего единомышленника. Служение служением — но художник всегда немного эгоцентрик (а бывает — и много). Иные так и вовсе отвергают саму идею служения: искусство видится им как средство самовыражения, самоутверждения. И средство самопознания, ибо рождаемый воображением образ образно же проявляет вовне скрытые душевные движения. Лирическую предназначенность искусства — не только лирики, но и чего угодно, включая эпос — не сбросить со счетов. У художника его творчество есть бессознательная потребность. Искусство несет в себе исповедальную для художника предназначенность, предоставляя ему возможность достаточно полно (нецерковно — да, но церковная исповедь относится к иной сфере жизни) высказать скопившееся в душе. Dixi et animam meam levavi. Сказал, и тем облегчил душу (лат.) Что сказал и как сказал — это потом, а вначале — необоримая жажда эстетического самовыражения.
И не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет.
Мало смысливший в искусстве Чернышевский указывал на эти строки Фета как на доказательство бессилия и неумности такого рода поэзии. Лев Толстой этими же строками восхищался: вот проявление и доказательство поэзии истинной. Вот эта бессознательность творческого импульса позволяет иным художникам вообще отвергать какое-либо рациональное начало в искусстве. «Нет никаких идей, — говорят они, — есть лишь чистые художественные образы». Наивный самообман: когда некто утверждает, что в его сознании нет никакой идеи, он тем идею и выражает. Когда кто-то заявляет, что нет и не может быть никаких истин, — он уже претендует на выражение хотя бы одной истины. Старая ловушка: в неё, помнится, поймался упрямец Пигасов в споре с Рудиным (роман «Рудин» И.С.Тургенева).
Если есть дар художественный — его должно осуществлять, выразить вовне, иначе он может разорвать душу. Почему человек пишет стихи? Почему слагает музыку, создает эпические полотна… Потому что не может не писать, не слагать, не создавать. Поэзия как неотъемлемое свойство искусства — не профессия, но особое восприятие мира. Рождение стиха, звука, цвета в искусстве — всегда удивляющая тайна, даже для самого творца. Поэтические чувства, волнения, восторги рождаются где-то в неведомой глубине души, переполняют её и облекаются, непостижимо для рассудка, материальною плотью, являя миру чудо искусства. Разумеется, от таланта, Богом данного, зависят прежде всего достоинства этого новоявленного чуда — но и от силы чувства, от интенсивности душевных движений, от опыта, от степени владения материей эстетического языка… Поэтому, как во всяком мирском деянии, здесь также подстерегает соблазн: слишком утвердить свою самость, увлечься самолюбованием, восхищением собственным талантом, упрочить индивидуалистическую самообособленность. И всё это хотя бы подспудно не может не мучить художника.
Искусство даёт не только радость, но и заставляет терзаться своих творцов. Речь не о банальных «муках творчества», трудностях преодоления сопротивляющегося материала, идущего на сотворение образа, — но об одолении изобильных соблазнов, в искусстве таящихся. Поэтому, когда И.А.Ильин определяет искусство как «служение и радость»189, — он имеет в виду скорее идеал, нежели реальность; во всяком случае философ весьма далёк в своем определении от всей полноты эстетической практики. В противовес такому теоретическому воззрению на искусство — практик-художник (в данном случае, А.Блок) определяет искусство как Ад190. Не так категорично, но тоже не как о радости говорил о творчестве в искусстве Чехов, да и не он один. Кто прав — философ или поэт?
Преподобный Григорий Синаит утверждал, что мечтания, соединённые со страстями, строят образы силою бесовской. К значительной сфере в искусстве это имеет, несомненно, отношение прямое. Вероятно, для поэта это всё же остаётся вековечной загадкой.
Нам не понять, не разгадать:
Проклятье или благодать,
Но петь и гибнуть нам дано,
И песня с гибелью — одно.
Когда и лучшие мгновенья
Мы в жертву звукам отдаём, —
Что ж? погибаем мы от пенья?
Или от гибели — поём?
Так терзался Вл. Ходасевич, дитя страшных лет России.
Поэт, душою настроенный на гармонию с миром, В.А.Жуковский, свидетельствовал об ином: «Наслаждение, какое чувствует прекрасная душа, производя прекрасное в поэзии, можно только сравнить с чувством доброго дела: и то и другое нас возвышает, нас дружит с собою и делает друзьями со всем, что вокруг нас!»191. Всё же опыт Жуковского редок. Художник ведь страдает ещё и от несовершенства мира, хоть он и сам вносит в этот мир свою долю несовершенства, не сознавая того, быть может, — и стремится в творчестве противопоставить внешнему миру собственный: сотворённый, пронизанный гармонией, «согласием мировых сил» (как определил её Блок192). Это прежде всего и имеется в виду при утверждении, что искусство само себе цель (искусство — для искусства), что оно самодостаточно и, кроме высокохудожественных образов, от него не должно ничего требовать. «Искусство выше природы» — не один XVIII век жил таким соблазном. Сознавая себя выше природы, художник утверждает себя в творчестве. И тем способен неиссякаемо питать собственную гордыню. Искусство и к этому может быть предназначено: насыщать гордыню человека.
Так раскрывается величайший соблазн искусства. На этот соблазн указывает изначально сам язык. Мы ведь постоянно говорим о художественном творчестве, называем художника творцом. Но есть и религиозное понятие Творца. В создаваемом при помощи искусства мире художнику легко смешать понятия и сознать себя богом.
Ещё и ещё раз вспомним: падение совершеннейшего из ангелов, денницы, совершилось, когда в гордыне своей он возомнил себя подобным Богу (Ис. 14, 12–15). И соблазном быть как боги (Быт. 3, 5) отмечен первородный грех прародителей. Bсё земное зло есть следствие этого соблазна. Зло начинается там, где человек, замыкаясь в собственной гордыне, уподобляет себя божеству. Но человек, противоставший Творцу, не может не ощущать пустоты собственного одиночества. Искусство может стать такому человеку видимостью опоры.
«Для одиноких характерно желание иначе ориентировать свой внутренний опыт, центробежное стремление вон из солнечной системы своего светила в пространство ещё не оформленное, где каждый из них, этих одиноких, смутно хотел бы стать демиургом и зачинательным энергетическим узлом своего нового мира»193, — так Вячеслав Иванов сформулировал основной, пожалуй, закон творчества, утверждаемого на гордыне художника.
Люди искусства всегда это знали или хотя бы о том догадывались.
Однако, когда Флобер говорил, что художник в своём творении должен быть подобен богу, он мыслил, скорее всего, метафорически, но вряд ли было метафорой утверждение Вл. Набокова, что «искусство божественно, ибо именно благодаря ему человек максимально приближается к Богу, становясь истинным полноправным творцом»194.
Многие художники горделиво объявляли себя богами в своей творческой деятельности.
Я — бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах.
Не сотворю себе кумира
Ни на земле, ни в небесах…
— тешил себя Ф.Сологуб, один из творцов серебряного века. Противопоставить своё творчество земле и небесам — и всем сокровищам, там и здесь, — вот куда может увлечь искусство. Правда, предшественники «серебряной поэзии» были мудрее. А.К.Толстой ещё в середине XIX столетия пришёл к выводу:
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Но тщета так тщетою и осталась.
Замыкаясь в себе, в своем новосотворённом иллюзорном мире, либо просто обособляясь в мире внутренних переживаний, который кажется человеку слишком отъединённым от мира внешнего, — поэт может мучительно стремиться к установлению хоть какой-то связи с мирами ближних его.
«Да будут все едино…» (Ин. 17, 21) — эту заповедь Спасителя не может не ощущать в себе как внутреннюю потребность каждая душа, христианка по природе. Искусство, кажется, даёт такую возможность художнику: будучи направленным на души ближних, оно способно создать хотя бы иллюзию общения с миром. Многие практики искусства именно так сознают для себя смысл художественного творчества. Но не является ли такая убеждённость лишь игрою художника с самим собою?
Искусство оттого создаёт в художнике подобную уверенность, что и впрямь переносит его внутреннее состояние, эмоции, страсти — в души внимающих его творчеству. «Цель творчества — самоотдача…» (Пастернак). Совершенный образ рождает в душах читателей, зрителей, слушателей — столь же, может быть, сильный эмоциональный трепет, как и тот, что растревожил самого художника. Замыкаясь, цепь «художник-воспринимающий» рождает сильный и потрясающий душу разряд. Но искусство требует таланта и от тех, коим оно предназначено. Нечуткое к поэзии ухо не пропустит поэтические токи к сердцу человека. У тех же, кто повышенно восприимчив, даже иной несовершенный образ вызывает ответное трепетание души.
Искусство — заражает. Именно как средство заражать других своими чувствами определил искусство Толстой. Искусство заражает — и тем налагает на художника сугубую ответственность: чем заражает он ближнего своего? Многие художники в своём непробиваемом эгоизме такую ответственность отвергают. Через заражение они утверждают себя, свою страсть любоначалия. В искусстве легко пускать все потенции и интенции раз за разом по одному и тому же порочному кругу. Но в противоречии со стремлением, пусть часто и замутнённым, к единству с миром — в искусстве живёт и тяготение (и возможность осуществить такое тяготение) к предельному обособлению от внешнего мира. Для того-то и создаёт себе художник мир иллюзий. Искусство, объявивши само себя истиною, помогает (и художнику, и потребителю такого рода искусства) отвернуться, уйти от всего непривлекательного в жизни — в мир грёз и «идеальных» образов, заслониться от тягостной повседневности вымыслом, созданиями собственной или чьей угодно фантазии. Сколькие безумцы исповедовали стремление ко сну золотому — навевали его пусть даже не всему человечеству, но себе только. У художника тут возможности безграничные, ему незачем ждать помощи извне — всё в его воле. Он живёт в искусстве, он всевластен в созданном им мире.
«Когда меня пугает жизнь, я укрываюсь в искусстве», — признался однажды В.Э.Борисов-Мусатов, один из ярчайших художников серебряного века, и он был не одинок в этом. И что же? Всё вырождается в пустую игру, которая трагически оборачивается безысходностью и саморазрушением души (судьба Блока — о чём речь впереди — есть урок грозный). Как и прочие дары Божии, дар творчества, дар эстетического наслаждения — могут быть волею соблазнившегося человека повёрнуты от блага ко злу. Так, дар продолжения жизни человек сумел поставить в услужение пороку, дар воображения превратить в умственный разврат, дар насыщения пищей — в страсть чревоугодия… Разврат эстетический всё больше проникает ныне в художественную жизнь человечества — «искусство» конца XX столетия (и XXI беды не избегнет) образцов того даёт в изобилии.
Предшествующему веку было до всех поздних изысков далеко. Но обыденное сознание и в те времена уже породило такое понимание искусства, какое родственно всем эстетическим извращениям позднейших времён: искусство становится нередко игрою воображения в любой форме ради развлечения — пресыщенной или чрезмерно ленивой души человеческой. На этой идее основывается и вся массовая культура, и — рафинированное элитное «утончённое» искусство модернизма, авангардизма, постмодернизма и какое угодно подобное. Конечно, в реальности не всё столь расчленено по таблицам, как здесь представлено, не так упорядочено и упрощено — в искусстве всё перемешано, всё перетекает из одного в другое, и не всякий художник даёт себе труд задуматься над смыслом своей деятельности. Различные понимания сущности и целей эстетического творчества могут сопрягаться, тесно переплетаясь не только в пространстве художественного наследия одного поэта, живописца, композитора — но и в пределах единого произведения. Пусть же и живёт искусство во всей этой противоречивости и многосложности.
Должно лишь сознать: «чистого искусства» не существует.
8. Ф.Глинка, В.Бенедиктов, А.Кольцов, И.Никитин, А.Толстой, А.Фет, А.Майков
Всякая периодизация весьма условна. Можно, конечно, обозначить: литература начала века, середины века, второй половины века. Можно ещё более дробно распределить всё по четвертям. Но как быть с теми, кто не вписывается ни в одну хронологию хотя бы по причине долгого пребывания в земной жизни? Так, кн. П.А.Вяземского мы традиционно относим к поэтам пушкинского времени, но с таким же правом его поэзия может быть отнесена и к иным периодам: Достоевский, к примеру, этого старшего собрата Пушкина по поэзии пережил всего лишь на три года. Не забывая о том, коснёмся поэтического творчества некоторых русских поэтов, в середине века пребывавших безусловно.
Фёдор Николаевич Глинка
Поэтическую репутацию Фёдора Николаевича Глинки (1786–1880) немножко подпортил Пушкин, написавший знаменитую эпиграмму:
Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах,
Бормочет нам растянутый псалом:
Поэт Фита, не становись Фертом!
Дьячок Фита, ты Ижица в поэтах!
1825
Тут Пушкин дал волю своему язвительному нраву — как часто в эпиграммах. Глинка же, к слову заметим, занимая важный пост при Милорадовиче, петербургском генерал-губернаторе, употребил в своё время всё влияние, чтобы смягчить участь ссыльного поэта; впрочем, и сам Милорадович Пушкину тоже сочувствовал. Но зато никто лучше Пушкина не дал столь точной, краткой, энергичной и ёмкой характеристики поэзии Глинки (в рецензии на его поэму «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой», 1830):
«Изо всех наших поэтов Ф.Н.Глинка, может быть, самый оригинальный. Он не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму; слог его не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и Батюшковым. Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете князя Вяземского в страницах метафизических или Крылова в сатирической притче. Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединённая с изысканностью, какая-то вялость и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной, всё даёт особенную печать его произведениям» (7, 119).
Сколько ни пиши и ни рассуждай, а лучше всё равно не выйдет.
Эпиграмма же — насмешка больше не над недостатками стихотворных опытов Глинки, а прежде над самим содержанием их. С начала 20-х годов Глинка основное поэтическое внимание обращает на псалмы и некоторые ветхозаветные пророчества — делая их предметом нескольких вольных переложений. Позднее, написавши большую поэму «Иов» (1834), автор определил её жанр так: «Свободное подражание священной книге Иова». Такое определение не только к поэме можно приложить, но и ко всем иным «Опытам священной поэзии» (под таким названием выпущен был в 1826 году сборник значительной части духовных стихотворений поэта). Приведём хотя бы несколько названий подобных «опытов» — они говорят сами за себя: «Гимн Богу», «Искание Бога», «Желание Бога», «Блаженство праведного», «Сила имени Божьего», «Глас к Господу», «Ангел», «Молитва и чаяние», «Молись душа»… Что заставило Глинку желать Бога, искать Бога, обращать свой глас к Господу? Причина та же, что и у многих: неудовлетворённость земным бытием, тяготение греховностью мира.
Гремит на ясном небе гром,
И хлынул в мир разврат как воды,
И мнится, воздух стал грехом…
Почто смущаются народы?..
Искать блаженства где и в чём?
Повсюду пламенным мечом
Сечёт обиженная совесть,
И тлеют заживо сердца;
Ни в чём желанного конца!
Всё недосказанная повесть!
1835
Вот один из приговоров идеалу эвдемонической культуры. Из такого состояния — как к Богу обратиться?
Как с пылкой жаждою елень,
Когда сгорает знойный день,
Склонив рога, бежит, усталый,
Глотать шумящие кристаллы
В брегах студёного ручья,
Так, истомясь, душа моя
В пустынях знойных дольней жизни
Летит к святой своей отчизне,
К Тебе, владеющий судьбой,
К Тебе, мой Боже, Боже правый!
Твоей упиться жаждет славы
И слить навек себя с Тобой!..
Глинке удалось поэтически сформулировать условие истинного счастья в земном мире:
Если хочешь жить легко
И быть к Небу близко,
Держи сердце высоко,
А голову низко.
1830-1840-е
Короче, пожалуй, о смирении и искании небесных сокровищ не сказать. Религиозные настроения сказались в Глинке ещё в годы обучения в кадетском корпусе, где сильное впечатление произвёл на него учитель Закона Божьего отец Михаил (будущий митрополит Петербургский). Искание правды становится на всю жизнь определяющим состоянием Глинки: он даже клятву даёт, выйдя из корпуса, «всегда говорить правду». Удручённый неправдою мира, человек всегда стремится эту правду утвердить — и прежде на том поприще, какое определено ему судьбой. Глинка служил долго и беспорочно, вначале на военных должностях, затем на статских, поднявшись до генеральских чинов. Его имя можно назвать среди героев наполеоновской кампании, за которую был награждён он многими отличиями, иностранными орденами в том числе. Много и нередко успешно боролся он, исполняя государственные служебные обязанности, с тою неправдою, какою так изобильна всегда сфера административного управления, как военного, так и гражданского. Вероятно, отчаяние бессилия, которое порою овладевает человеком, стремящимся честно служить благу всеобщему, завлекло Глинку искать и иных путей борьбы со злом: он вступает в «Союз спасения», а затем в «Союз благоденствия», ещё сравнительно безобидные декабристские общества. Благодаря этому, к Глинке прочно пристал ярлык: поэт-декабрист. Декабристом он был умеренным, монархических убеждений не покидал, поэтому хоть и был арестован, побывал в крепости, но наказанию подвергся мягкому: ссылке на гражданскую службу в Олонецкую губернию — тем и обошлось. Крепостные же впечатления отозвались в строках, ставших известной песнею:
Не слышно шуму городского,
В заневских башнях тишина!
И на штыке у часового
Горит полночная луна!
1826
Была и иная причина декабристских увлечений Глинки: в общество он пришёл, подобно многим другим, из масонской ложи. В масонстве он, как и большинство русских, надеялся отыскать средство к углублённому познанию истины, средство нравственного совершенствования собственного и исправления общественного устроения. Кто не заблуждался в не вполне зрелые свои годы… Соблазна мистической тайны Глинка также не избежал. Он и в более поздние времена (с середины 50-х годов) тем же увлекался: даже спиритизмом. Собственно, сама духовная поэзия его отчасти из этого источника начало взяла: он сам в мемуарах признавался, что ещё в ранние годы, когда стихов не писал, — «играл про себя в мечты и поэтизировал», а затем доводил эту игру до почти реальных «видений». Такая сила воображения не может не соблазнить поэта на блуждание в тупиках мистических обольщений.
А с другой стороны — духовная поэзия была для него средством осмысления собственного времени, его забот и тревог. Исследователи давно отметили, что вольные переложения псалмов становилось под пером Глинки близкими гражданской оде. Или: через переживание страданий Иова поэт пытался постичь смысл выпавших на его долю испытаний. От своих забот и от своего времени никуда не уйти. В спорах вокруг «чистого искусства» и его взаимоотношения с гражданскими мотивами — Глинка сказал своё слово: утверждая, что поэзия и отклик на живые запросы времени совместны и необходимы в этой совместности.
Два я боролися во мне:
Один рвался в мятеж тревоги,
Другому сладко в тишине
Сидеть в тиши дороги
С самим собой, в себе самом.
Несправедливо мыслят, нет!
И порицают лиры сына
За то, что будто гражданина
Условий не снесёт поэт…
……………………….
И легче станет с жизнью битва
И труд страдальца под крестом,
Когда холодная молитва
Зажжётся пламенным стихом!
Не говори: «Поэт спокойным
И праздным гостем здесь живёт!»
Он буквам мёртвым и нестройным
И жизнь, и мысль, и строй даёт…
1846
Было бы ошибочным предположение, что декабрист в прошлом и поборник гражданственности (в поэзии и на служебном поприще) должен сблизиться с новым революционным поколением — напротив: Глинка с годами всё более исповедовал славянофильские взгляды, в безверии же нигилизма и западничества видел проявление зла и исток возможных бед. Среди его друзей — Аксаковы, Хомяков, Погодин, Шевырёв (хотя и Чаадаев тоже). Многие его «последекабристские» стихи легко осмыслить в русле именно славянофильской поэзии. Из известнейших — величественный гимн Москве:
Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады и деревни,
И палаты и дворцы!
Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах;
Сколько храмов, сколько башен
На семи твоих холмах!
……………………….
Кто, силач, возьмёт в охапку
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьёт златую шапку
У Ивана-звонаря?
Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернёт?
Шляпы кто, гордец, не снимет
У святых твоих ворот?!
Ты не гнула крепкой выи
В бедовой своей судьбе,
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе!..
Ты, как мученик, горела,
Белокаменная!
И река в тебе кипела
Бурнопламенная!
И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!..
Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!
1840
Глинка был автором не только стихотворений и поэм, но и опытов в драматическом жанре, басен, мемуарных записок, научно-исторических статей и пр. Наследие его огромно и не во всей полноте освоено исследователями и любителями изящной словесности. Тот же, кто не поленится вычислить разницу между хронологическими обозначениями крайних дат земного пути Глинки, не удержится от того, чтобы не подивиться и его долголетию.
Становлению духовной тематики в русской литературе посвятил многие свои исследования А.Н.Стрижев. Приведём некоторые его наблюдения и выводы: «Сороковые годы XIX в. отмечены появлением ряда замечательных книг духовного содержания, написанных понятно, правильным литературным слогом, без тени нарочитого назидания. Эти задушевные книги предназначались прежде всего людям из простонародья, чтобы приохотить их читать нравственные, глубоко православные сочинения. И к чтению потянулись простецы — приказчики, мастеровые, крестьяне. Душеполезные книги распространяли по всей Руси проворные офени, нагружаясь тяжёлыми коробами в лабазах издателей. Их перепрятывали по котомкам странницы, чтобы, отшагав просёлками многие вёрсты, присесть в укромном уголку и прочесть душепитательный рассказ на евангельскую притчу, а ежели посчастливится, то и достать книжку, повествующую о земной жизни Богородицы.
В создании такой благочестивой литературы для народа самое живейшее участие принимала Авдотья Павловна Глинка (1795–1863). Главная её книга «Жизнь Пресвятые Девы Богородицы, из книг Четьи-Миней» (М., 1840). Твёрдый характер, безупречный литературный вкус, обширные познания в Священной истории закрепили за Авдотьей Павловной руководящую роль в среде церковных беллетристов. Вместе с мужем, поэтом Фёдором Николаевичем Глинкой (1786–1880), она перелагает псалмы стихами, пишет вместе с ним поэму «Божественная капля» — о крестных страданиях Христа, создаёт акафисты святым. Имя Авдотьи Глинки становится хорошо известным читателям православных журналов «Маяк современного просвещения» и «Странник». Писательницей Глинкой создано «Житие и акафист святой великомученице Анастасии-Узорешительнице» (М., 1868). Примечательно, что основные произведения Авдотьи Глинки не устарели до сих пор, их переиздают и читают.
С пробуждением интереса к духовной прозе среди широкого круга читателей в России начинают возникать периодические издания, рассчитанные на православную семью. В 1842 г. писательница Александра Осиповна Ишимова (1804–1881) взялась издавать детский журнал «Звёздочка». В нём подростки находили яркие рассказы из отечественной истории, назидательные проповеди на праздничные дни и в знаменательные даты, воспоминания паломников, побывавших в святых обителях. Перу Ишимовой принадлежит несколько хорошо написанных книг: «История России в рассказах для детей» (1837), «Каникулы 1841 года, или Поездка в Москву» и ряд других. «Золотыми книгами детства» называли читатели произведения Александры Ишимовой. А её журнал «Звёздочка», просуществовавший до 1864 г., положил начало выходу в свет целой серии душеполезных периодических изданий.
В 40-е годы XIX века начала свою литературную деятельность и духовная дочь святителя Игнатия Брянчанинова Софья Ивановна Снессорева (1814–1904). Особым вниманием читателей пользовалась её повесть «Дарьюшка» (1864), в центр повествования которой поставлена духовная подвижница из народной среды. Выходили и другие книги С.Снессоревой: «Монахиня Ангелина» (С-Пб., 1888), «Санкт-Петербургский Воскресенский первоклассный общежитийный монастырь» (С-Пб., 1887), но главным произведением писательницы был труд «Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ея икон, чтимых Православной Церковью» (С-Пб., 1892), не утративший познавательного интереса и в наши дни.
Ещё плодотворнее поработала на ниве духовного просвещения писательница Александра Николаевна Бахметьева (1823–1901), создав целую серию душеполезных книг для детского чтения. Главные её сочинения: «Рассказы из истории Христианской Церкви. От I-го до половины XI века. Части 1–3 (М., 1863), «Рассказы из русской церковной истории. Части 1–2 (М., 1860), «Рассказы о земной жизни Иисуса Христа. Кн. 1–5 (М., 1857–1858). Излагала А.Бахметьева для детей и жития святых, в частности жития просветителей славян Кирилла и Мефодия (1885). Произведения писательницы отмечены верностью духу Предания, простотой и живостью повествования.
Многочисленные переиздания её книг говорят о незатухающем интересе к ним со стороны широких кругов читателей»195.
Владимир Григорьевич Бенедиктов
Поэтическая судьба Владимира Григорьевича Бенедиктова (1807–1873) складывалась странно, отчасти парадоксально. Вначале, при выходе первой книги в 1835 году, поэт имел шумный успех, иные ценители ставили его даже выше Пушкина. Но затем имя Бенедиктова оказалось едва ли не навсегда связано с понятием (от этого имени и произведенным) — «бенедиктовщина», что означает: невысокий вкус, банальность, шаблонность поэтического мышления. «Развенчал» Бенедиктова Белинский — с его почти непогрешимым эстетическим чутьем. Конечно, художественный дар поэта не выделялся силою и оригинальностью, особенно в лирике любовной, да и в некоторых притязаниях на философское осмысление бытия. Однако в обращении к духовным темам поэтическая искренность Бенедиктова помогала ему, особенно в поздний период, превозмогать немощь таланта, рождала смелые образы, неизбитые идеи. А что это так — доказывает созвучность его стихов нашему времени.
К России
Не унывай! Все жребии земные
Изменчивы, — о дивная в землях!
Твоих врагов успехи временные
Пройдут, как дым, — исчезнут, яко прах,
Всё выноси, как древле выносила,
И сознавай, что в Божьей правде сила,
А не в слепом движении страстей;
Не в золоте, не в праздничных гремушках,
Не в штуцерах, не дальномётных пушках
И не в стенах могучих крепостей,
Да, тяжело… Но тяжелей бывало,
А вышла ты, как Божий день, из тьмы:
Терпела ты и в старину не мало
Различных бурь и всякой кутерьмы.
От юных дней знакомая с бедами,
И встарь ты шла колючими путями,
Грядущего зародыши тая,
И долгого терпения уроки
Внесла в свои таинственные строки
Суровая История твоя.
Остаётся лишь удивляться, как точно он угадал и отметил наши беды, нашу боль, наши проблемы. Из глубины времени обращая к нам жёсткий вопрос, поэт указывает каждому и собственную вину в собственных же бедах:
А мы так много в сердце носим
Вседневной лжи, лукавой тьмы—
И никогда себя не спросим:
О люди! христиане ль мы?
Творя условные обряды,
Мы вдруг, за несколько монет,
Ото всего отречься рады,
Зане в нас убежденья нет, —
И там, где правда просит дани
Во славу Божьего креста,
У нас язык прилип к гортани
И сжаты хитрые уста.
Поэт полностью бездарный и неоригинальный никогда не сумеет одолеть жёстких границ своего времени, а если и ответит сочувственно настроениям и потребностям душевным какого-то круга читателей, то ненадолго. Важно и то, что поэзия Бенедиктова в лучших, хоть и немногих образцах своих одухотворена искренней верою и исконно православным стремлением к смирению и покаянию — а это верный признак истинной духовности высших проявлений его поэтического мироосмысления. Поэт знает несомненно: только в уповании на Бога, в Его помощи, в Его милосердии обретается человеком опора всегда и всюду.
Над нами те ж, как древле, небеса, —
И так же льют нам благ своих потоки,
И в наши дни творятся чудеса,
И в наши дни являются пророки.
Бог не устал: Бог шествует вперёд:
Мир борется с враждебной силой змия;
Там — зрит слепой, там — мёртвый восстаёт;
Исайя жив и жив Иеремия.
Не истощил Господь Своих даров,
Не оскудел духовной благодатью:
Он всё творит, — и библия миров
Не замкнута последнею печатью.
Кто духом жив, в ком вера не мертва,
Кто сознаёт всю животворность Слова,
Тот всюду зрит наитье Божества
И слышит всё, что говорит Егова. —
И, разогнав кудесничества чад,
В природе он усмотрит святость чуда,
И не распнёт он Слово, как Пилат,
И не предаст он Слово, как Иуда, —
И брата он, как Каин, не убьёт;
Гонимого с радушной лаской примет,
Смирением надменных низведёт,
И слабого, и падшего подымет, —
Не унывай, о малодушный род!
Не падайте, о племена земные!
Алексей Васильевич Кольцов
Алексея Васильевича Кольцова (1809–1842) историки русской литературы не числят, кажется, в поэтах духовных, религиозных. Иные современники, напротив, скорее склонны были укорять его в безбожии. Но в чем это «безбожие» могло кому-то привидеться? В том, что поэт как будто избегал тем сугубо церковных? Так это ещё не довод. Истинно религиозный человек и не обязан к месту и не к месту твердить имя Господне постоянно, дабы не совершалось то всуе.
Кольцов — поэт истинно народный, что признаётся всеми за бесспорную истину. Религиозность же народная — часто особого свойства, что и отразил Кольцов в своей поэзии. Простой человек не торопится выставить напоказ собственное отношение к Богу, тщательно укрывает его порою (что давало в своё время религиозно нечуткому Белинскому повод объявить русский народ равнодушным к вере). Религиозность народа, как и духовность поэзии Кольцова, сказывалась в обращении к вере в минуты сокровенных раздумий над важнейшими вопросами бытия. Испытание веры совершается тем выбором, который постоянно предлагает человеку жизнь, — выбором между небесными и земными сокровищами. Как русский православный писатель, Кольцов в этом выборе не колеблется. И он предается размышлениям о «земном счастье» — для человека эвдемонической культуры нет важнее вопроса, — и счастье это разумеет несомненно:
Не тот счастлив, кто кучи злата
Сбирает жадною рукой
И — за корысть — родного брата
Тревожит радостный покой;
Не тот, кто с буйными страстями
В кругу прелестниц век живёт,
В пирах с ничтожными глупцами
Беседы глупые ведёт
И с ними ценит лишь словами
Святую истину, добро,
А нажитое серебро
Хранит, не дремля, — под замками.
……………………………..
Не он! — Но только тот блажен,
Но тот счастлив и тот почтен,
Кого природа одарила
Душой, и чувством, и умом,
Кого фортуна наградила
Любовью — истинным добром.
Всегда пред Богом он с слезою
Молитвы чистые творит,
Доволен жизнию земною,
Закон небес боготворит,
Открытой грудию стоит
Пред казнью, злобою людскою,
И за царя, за отчий кров
Собой пожертвовать готов.
1830
То, что в основе такого убеждения лежит евангельская мудрость, — сомневаться не приходится. Религиозность народа, отражённая поэзией Кольцова, проявляется и в том ещё, что, отыскивая ответы на обступающие его вопросы, человек как бы бессознательно ищет опору в наставлениях церковных, не мудрствуя лукаво сознаёт в них высшую правду. Показательно стихотворение «Удалец» (1833).
Мне ли, молодцу
Разудалому,
Зиму-зимскую
Жить за печкою?
Мне ль поля пахать?
Мне ль траву косить?
Затоплять овин?
Молотить овёс?
Кольцов повторяет мотив разбойничьих песен, логика которых влечёт мысль по накатанной колее: силы много, тратить их попусту в обыденном труде негоже, лучше обратиться на иное:
Если б молодцу
Ночь да добрый конь,
Да булатный нож,
Да темны леса!
Стану в тех лесах
Вольной волей жить,
Удалой башкой
В околотке слыть.
С кем дорогою
Сойдусь, съедусь ли, —
Всякий молодцу
Шапку до земли!
Оберу купца,
Убью барина.
Мужика-глупца
За железный грош!
Так называемые «блатные» песни, столь хорошо известные человеку XX века, строятся по той же схеме, разве что вульгарнее и по форме и по содержанию. Но у народного поэта находится важнейший довод, разрушающий все соблазны:
Но не грех ли мне
Будет от Бога—
Обижать людей
За их доброе?
В церкви поп Иван
Миру гуторит,
Что душой за кровь
Злодей платится…
Поэтому и молодецкой силе указывается иное приложение;
Лучше ж воином,
За царёв закон,
За крещёный мир
Сложить голову!..
Обращение к Богу, к вере мы нередко видим в тех стихотворениях Кольцова, которые и не связаны прямо с духовным поиском, а говорят о простейших жизненных ситуациях, ибо это так же естественно для поэта, как дыхание. И в том также признак истинности его веры. Как всякая вера, она может и колебаться сомнением:
На что мне, Боже Сильный,
Дал смысл и бытие,
Когда в стране изгнанья
Любви и братства нет.
…………………………
А люди — те же звери:
И холодны и злы;
Мишурное величье —
Молебный их кумир,
И золото и низость—
Защитник их и бог.
И Ты, Отец Небесный,
Не престаёшь вседневно
Щедроты лить на них.
Важно: такое состояние способно питать безверие — жизнь даёт тому множество подтверждений, — но у Кольцова на пути к безверию заслон: молитва к Богу с просьбою дать мудрость для постижения такого труднопостижимого противоречия:
О, просвети мне мысли,
Нерадостны оне,
И мудрости светильник
Зажги в моей душе.
1829
Так и во всяком сомнении — свет не от рассудочного знания, но от Божией мудрости. В размышлении над тайнами природы («Великая тайна», 1833) поэт так же переходит от тяжких дум к сладостной молитве:
Что же совершится
В будущем с природой?…
О, гори лампада,
Ярче пред распятьем!
Тяжелы мне думы,
Сладостна молитва!
Внешне: никакой логики. Но в том-то и искренность и истинность такого духовного проявления, что оно совершается наперекор всякой логике. Такое противопоставление основано на понимании простейшей и важнейшей истины:
Две жизни в мире есть:
Одна светла, горит она, как солнце…
…………………………………
И это — жизнь земного духа:
Долга она — как Божья вечность…
Другая жизнь темна:
В её очах земная грусть и ночь…
…………………………………
И это — жизнь земного праха:
Кратка она, как блеск звезды падучей.
1837
Отсюда и истекает состояние, которое так сродни тому, что выражено в мольбе евангельского персонажа: «Верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9, 24).
Поэт может явить себя и подлинным религиозным философом, прозревшим великую тайну единства мироздания, тайну не постижимого рассудком влияния духовного мира человека на проявления бытия мира всеобщего:
Не может быть, чтобы мои идеи
Влиянье не имели на природу.
Волненье страстей, волненье ума,
Волненье чувств в народе—
Всё той же проявленье мысли.
Небесный свет перерождает воздух,
Организует и живит элементы
И движет всеми — по произволу Духа.
1840
Кольцов с большой поэтической силой выразил укоренённую в народной жизни и народной душе не нарочитую, но органически присущую русскому человеку бесхитростную веру:
Пред Тобою, мой Бог,
Я свечу засветил,
И премудрую книгу—
Пред Тобою раскрыл.
Твой небесный огонь
Негасимо горит;
Бесконечный Твой мир
Пред очами раскрыт!
Я с любовью к Тебе
Погружаюся в нём:
Со слезою стою
Перед светлым лицом!
И напрасно весь мир
На Тебя восставал,
И напрасно на смерть
Он Тебя осуждал:
На кресте, под венцом,
И спокоен, и тих,
До конца Ты молил
За злодеев Своих!..
1838
Вот и ответ на то раннее сомнение, вот и помощь неверию. Вот и духовное прозрение: истина в любви Милосердного.
Иван Саввич Никитин
Есть среди многих прекрасных стихотворений Ивана Саввича Никитина (1824–1861) одно, которое, при всей его безыскусности и непритязательности внешней, мы можем без боязни впасть в преувеличение поставить в ряд великих шедевров русской поэзии. Недаром даже Добролюбов, не очень благоволивший к стихам Никитина, отметил эти строки с незатейливым названием «Дедушка» (1858).
Лысый, с белой бородою,
Дедушка сидит.
Чашка с хлебом и водою
Перед ним стоит.
Бел как лунь, на лбу морщины,
С испитым лицом.
Много видел он кручины
На веку своём.
Все прошло; пропала сила,
Притупился взгляд;
Смерть в могилу уложила
Деток и внучат.
С ним в избушке закоптелой
Кот один живёт.
Стар и он, и спит день целый,
С печки не спрыгнёт.
Старику немного надо:
Лапти сплесть да сбыть—
Вот и сыт. Его отрада—
В Божий храм ходить.
К стенке, около порога
Станет там, кряхтя,
И за скорби славит Бога
Божие дитя.
Рад он жить, не прочь в могилу—
В тёмный уголок…
Где ты черпал эту силу,
Бедный мужичок?
Сыскать ли более точный образ истинного христианского отношения к жизни — в миру, в бытовой обыдённости? Немногими штрихами, но полно обозначенная жизнь человека— радостное приятие всего, что предназначено волею Божией. При физической немощи — великая духовная сила. В чём источник той силы? Стихотворение заканчивается вопросом, риторическим по сути, ибо ответ уже дан: «И за скорби славит Бога божие дитя». Если не мудрствовать лукаво, то в этом ведь и выявляется единственно истинная вера, укрепляющая дух. Вопрос о крепкой опоре для человека на жизненном пути не был для поэта отвлечённым: собственная жизнь его была полна многих тягот и лишений, и обретение силы духовной стало насущною необходимостью и для него самого. Никитин не замкнулся в своём индивидуальном бытии, ибо стремился разглядеть, ощутить одухотворяющую силу во всём Божием мире.
Присутствие непостижимой силы
Таинственно скрывается во всём:
Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном,
И в блеске дня, и в тишине могилы,
В движении бесчисленных миров,
В торжественном покое океана,
И в сумраке задумчивых лесов,
И в ужасе степного урагана,
В дыхании прохладном ветерка,
И в шелесте листов перед зарёю,
И в красоте пустынного цветка,
И в ручейке, текущем под горою.
1849
Красота природы определена для поэта Божиим в ней присутствием. Этого же чувства не отнять и у других русских поэтов — многие, вслед за Лермонтовым, могли бы сказать: погружаясь в красоту Божьего мира—
счастье я могу постигнуть на земле
И в небесах я вижу Бога.
Но у Никитина это ощущение, быть может, становилось особенно
обострённым.
Когда, один в минуты размышленья,
С природой я беседую в тиши,
Я верю: есть святое Провиденье
И кроткий мир для сердца и души;
И грусть свою тогда я забываю,
С своей душой безропотно мирюсь,
И небесам невидимо молюсь,
И песнь пою, и слёзы проливаю.
Можно сказать: наблюдать и видеть мир так приметливо, как то обнаруживаем мы у Никитина в его пейзажной лирике, — до восхищения и любования самыми тончайшими проявлениями красоты каждого мига бытия природы — это значит выражать свою любовь к Богу, ибо в красоте творения отражается всегда красота и совершенство Творца. Напротив: небрежение красотою творения есть равнодушие к его Создателю. Никитин же, когда и не называет имени Божьего, о своей любви к Нему говорит каждою строчкой.
Птички солнышка ждут, птички песни поют,
И стоит себе лес, улыбается.
Boт и солнце встаёт, из-за пашен блестит,
За морями ночлег свой покинуло,
На поля, на луга, на макушки ракит
Золотыми потоками хлынуло.
Разумеется, любить природу может и безбожник, а и для него в такой любви раскрывается возможность душевного движения к Творцу — но не всякий использует такую возможность. Для Никитина же состояние духовной жажды было естественно. И едва ли не постоянно. Внутренний порыв его поэзии поэтому — всегда неизменен и устремлён ввысь. Стихотворений с религиозными темами у него множество — перечислять все нет смысла: их надобно читать. Главное, что их единит — горячая убеждённость: ни в чём, кроме веры, не найти человеку поддержки и опоры. Это стало главною темою всего поэтического творчества Никитина. С несомненностью увидел он животворящую силу в святой благодати, о которой смиренно и молил Творца:
О Боже! Дай мне воли силу,
Ума сомненья умертви—
И я сойду во мрак могилы
При свете веры и любви.
Мне сладко под Твоей грозою
Терпеть, и плакать, и страдать;
Молю: оставь одну со мною
Твою святую благодать.
1851
Стихотворение называется — «Молитва». Слово частое в названиях стихов Никитина: «Молитва», «Молитва дитяти», «Сладость молитвы»… Именно в сладости молитвы ищет поэт и обретает, подобно многим, утешение в тяготах земных, прославляя Бога за посылаемые скорби. В сладости молитвы и в обращении к Слову:
Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах предвечного Слова
Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви,
И сердца тревожного муки
Как скоро смиряют они!..
Здесь всё в чудно сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,
И Сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И Вечного Сына рожденье,
И Крест, и терновый венец.
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души!
1853
Разумеется, такая направленность поэтического дара Никитина не могла вызвать сочувствия революционного демократа Добролюбова, что и стало скрытой причиною неприятия никитинской поэзии критиком, ибо смирение антиреволюционно по сути своей. А ведь Никитин вовсе не был поборником идеи «чистого искусства», замкнутости поэта в личных переживаниях:
Нет, ты фигляр, а не певец,
Когда за личные страданья
Ждёшь от толпы рукоплесканья,
Как милостыни ждёт слепец;
Когда личиной скорби ложной
Ты привлекаешь чуждый взгляд
С бесстыдством женщины ничтожной,
Доставшей платье напрокат.
Нет, ты презрения достоин
За то, что дерзостный порок
Ты не казнил как чести воин,
Глашатай правды и пророк!
Никитин был истинным печальником за народ, он через собственное сердце пропускал общие беды — это одна из причин его ранней смерти — и к тому же звал собратьев по перу:
Не так бы плакал всенародно
От скорби истинный поэт!
Ты позабыл, что увядает
Наш ум в бездействии пустом,
Что истина в наш век страдает,
Порок увенчан торжеством…
………………………..
Об этом плачь в тиши глубокой,
Тогда народ тебя поймёт
И, может быть, к мечте высокой
Его укор твой приведёт.
1855
Видя во всём святую благодать, Никитин стал одним из самых проникновенных певцов природы, обогатил русскую поэзию многими шедеврами пейзажной лирики. Он обладал несомненным панорамным зрением — оно величественно проявилось в одном из шедевров русской поэзии, стихотворении «Русь» (1851), где всё необозримое пространство русского бытия поэт охватывает единым взором. И важнее всего: Русь для поэта не просто широкое пространство, дивящее своими красотами, но — державная и Православная родина.
Это ты, моя
Русь державная,
Моя родина
Православная!
Широко ты, Русь,
По лицу земли
В красе царственной
Развернулася!
……………..
И теперь среди
Городов твоих
Муравьём кишит
Православный люд.
По седым морям
Из далёких стран
На поклон к тебе
Корабли идут.
И поля цветут,
И леса шумят,
И лежат в земле
Груды золота.
И во всех концах
Света белого
Про тебя идёт
Слава громкая.
Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью.
Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову!
Не всегда громкая, но всегда истинная поэзия Никитина раскрывает смысл подлинной духовности, запечатлённой в тревожащих всякую чуткую душу строках его стихов.
Алексей Константинович Толстой
Алексей Константинович Толстой (1817–1875) более известен читателю как тонкий лирик (недаром на музыку положены многие его стихи), исторический романист (кто же не читал «Князя Серебряного»), драматург (историческая трилогия о событиях на Руси прославлена многими постановками), как несравненный мастер иронии, наконец (Козьма Прутков едва ли не превзошёл славою одного из своих создателей), но гораздо менее знаем мы его как поэта духовной направленности. Между тем, в самом обращении к истории, например (и в прозе, и в драме), нельзя не увидеть стремления дать нравственно-религиозное осмысление не только событий давнего прошлого, но и жизни вообще. И если в лирике поэта произведений чисто духовного содержания не столь много, то это вовсе не говорит о религиозном индифферентизме его, но, быть может, лишь о целомудренном нежелании обнаруживать слишком сокровенные переживания. Но религиозное чувство, если оно есть, не может не обнаружить себя. Вот обращается Толстой (в стихотворении «Благовест») к столь знакомой всем теме, с наибольшим совершенством раскрытой в «Вечернем звоне» Т.Мура — И.Козлова, — и нетрудно увидеть: романтизированная тоска по утраченному времени и оставленной родине преображается под его пером в молитвенное переживание и тягу к небесной радости:
К себе он тянет
Неодолимо,
Зовёт и манит
Он в край родимый…
…………………..
Молюсь и каюсь я,
И плачу снова,
И отрекаюсь я
От дела злого;
Далёко странствуя
Мечтой чудесною,
Через пространства я
Лечу небесные,
И сердце радостно
Дрожит и тает,
Пока звон благостный
Не замирает…
1840-е
Однако христианское мирочувствие поэта отразилось во всей полноте не в лирических стихах, а в поэмах «Грешница» и «Иоанн Дамаскин», главная тема которых — торжество надмирной святости. Сюжет «Грешницы» (1858) прост, безыскусен: некая грешница-блудница (события происходят в Иудее при правлении Пилата) горделиво утверждает, что никто не сможет смутить её и заставить отречься от греха, однако «святость Христа» повергает её в рыданиях ниц. Разумеется, важно поэтическое воплощение избранной темы, победы святости над грехом. Об уровне поэзии можно судить хотя бы по небольшому отрывку, в котором переданы народные толки о появившемся в Иудее новом проповеднике — о Христе:
Любовью к ближним пламенея,
Народ смиренью Он учил,
Он все законы Моисея
Любви закону подчинил;
Не терпит гнева Он, ни мщенья,
Он проповедует прощенье.
Велит за зло платить добром;
Есть неземная сила в Нём,
Слепым Он возвращает зренье,
Дарит и крепость, и движенье
Тому, кто был и слаб, и хром;
Ему признания не надо,
Сердец мышленье отперто,
Его пытующего взгляда
Ещё не выдержал никто.
Целя недуг, врачуя муку
Везде спасителем Он был,
И всем простёр благую руку,
И никого не осудил.
То, видно, Богом муж избранный!
Он там, по оппол Иордана,
Ходил как посланный небес,
Он много там свершил чудес,
Теперь пришёл Oн, благодушный,
На эту сторону реки,
Толпой прилежной и послушной
За Ним идут ученики.
Поэма «Иоанн Дамаскин» (1859) есть своего рода поэтическое переложение жития святого. Разумеется, автор выделил в пересказе прежде всего то, что живо тревожило его душу: Толстого привлекла тема осуществления поэтом Божьего дара, преодоления препятствий для духовного поэтического творчества.
Надо признать, что собственно духовным содержанием поэт — мирской поэт — при этом как бы и пренебрёг. Поэма А.К.Толстого являет собою показательный пример, сходный с тем, что даёт и живопись XIX века: когда светский художник берётся за религиозное содержание, он неизбежно обедняет его, ибо языку его искусства полнота духовная недоступна. Это мы наблюдаем, например, в изображениях Христа даже у признанных мастеров: у А.Иванова, Крамского, Поленова и др. Это же ощутимо и в поэме Толстого о святом гимнослагателе. Хотя, должно признать, вдохновенный стих поэта звучен, прекрасен:
Воспой же, страдалец, воскресную песнь!
Возрадуйся жизнию новой!
Исчезла коснения долгая плеснь,
Воскресло свободное слово!
Того, Кто оковы души сокрушил,
Да славит немолчно созданье!
Да хвалят торжественно Господа сил
И солнце, и месяц, и хоры светил
И всякое в мире дыханье!
Блажен, кому ныне, Господь, пред Тобой
И мыслить и молвить возможно!
С бестрепетным сердцем и с тёплой мольбой
Во имя Твоё он выходит на бой
Со всем, что неправо и ложно!
Раздайся ж, воскресная песня моя!
Как солнце взойди над землёю!
Расторгни убийственный сон бытия
И, свет лучезарный повсюду лия,
Громи, что созиждено тьмою!
А всё же переложения, подражания и стилизация всегда уступают духовной подлинности.
Особого разговора требует историческая трилогия А. К.Толстого, состоящая из трагедий «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Феодор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870). Трилогию можно рассматривать как одно грандиозное произведение в пятнадцати актах: настолько тесно близки между собою все части — событиями и составом действующих лиц. Главный герой трилогии — Борис Годунов, с ним связана основная нравственно-религиозная проблематика её. Борис — в центре событий, разворачивающихся не только в последней трагедии, но и в первых двух: как действующее лицо он равнозначен и царю Иоанну, и Феодору. Единство действия трёх трагедий основано на сквозной интриге — на стремлении Бориса к власти и на пребывании его во власти, хотя каждая часть строится и на собственной идее, выделяемой из общего содержания трилогии.
Драматургия первой части определяется болезненными метаниями души Иоанна Грозного — души, обуреваемой губительными страстями, но и ищущей упокоения в смирении и раскаянии. В зависимости от внешних обстоятельств верх берёт то одно, то иное стремление, отчего резко меняется поведение царя, а поступки его становятся непредсказуемы. Всё завершается смертью грешника, так и не сумевшего побороть свои страсти. Среди этих-то метаний и действует Борис, поставивший пред собою далёкую, почти несбыточную цель — восхождение на трон. Именно Годунов становится подлинным убийцею Грозного, точно рассчитав, каким разрушительным для жизни царя станет гневное волнение, которое Борис возбуждает в нём сообщением о речах колдунов-прорицателей.
Во второй трагедии Борис вынужден противоборствовать не необузданности страстей кровавого тирана, но ангельской кротости его сына. Жизнь оборачивается иною, трагичною же стороною: попытка утвердить отношения между людьми на началах христиански чистых завершается крахом, благие намерения приводят ко многим смертям, гибельным и для судеб царства. Кротость Феодора, сопровождаемая наивной доверчивостью, превращается в обыденное незнание тёмных сторон человеческой натуры — Феодор сознательно отказывается верить в это тёмное, что переполняет жизнь, он хочет существовать в мире идеальных жизненных начал, но дурные страсти неискоренимы, Борис легко совершает необходимые шаги к трону. И поистине страшен он, когда, ни словом не обмолвившись о потаённом желании своём и многажды наказывая беречь царевича Димитрия, отдаёт незримо приказание устранить его из жизни.
Третья трагедия, трагедия самого Бориса, обнаруживает иную грань — ту же проблему, какую в те же годы мучительно осмыслял Достоевский, проблему времени, но и проблему всех времён: возможен ли грех ради благой цели, можно ли преступить через кровь, нравственно позволить себе это пере-ступление во имя блага всеобщего? Борис у Толстого — не традиционный и заурядный злодей-властолюбец, он рвётся к трону не ради насыщения примитивной страсти — нет. Годунов государственно мудр, прозорлив, искренне желает блага стране и народу. Он хорошо видит, сколькие беды несёт благому делу и жестокий деспотизм Иоанна, и бездумная жалостливость Феодора. Он же и ясно сознаёт: только ему доступно провести царство через все препятствия к истинному процветанию — ради этого он и совершает то, что в итоге приводит его к гибельному концу.
Выбор темы и главного героя трагедии неизбежно вынуждает сопоставление «Царя Бориса» с «Борисом Годуновым» Пушкина. Влияние предшественника порою ощутимо у Толстого, но всё же он строит драматургию свою на иной основе, более традиционной для европейской литературы нового времени. У Пушкина, если вспомним, развитие сценического действия строилось не на сцеплении событий и связи героев в единой плоскости, но на взаимоотношении человека с Промыслом Божиим, на взаимодействии двух уровней исторического бытия: мета-истории и событийной суеты. Толстой всё строит на основе, традиционно присущей трагедии «шекспировского типа» (если позволить себе этот условный термин) — такая система прозрачнее для понимания, что, к слову, подтверждается и театральной практикой: постоянными провалами пушкинских постановок и триумфами толстовских. Не вдаваясь в сопоставление на более глубоком уровне (где обнаружится явное превосходство пушкинской драматургии), отметим лишь, что Толстой сумел отстоять свою самостоятельность в трагедийном осмыслении истории. Впрочем, историю он, в сопоставлении с Пушкиным, представляет более традиционно: как борьбу добра со злом, осуществляющуюся в столкновении человеческих страстей. Такой же подход к истории нетрудно распознать и в историческом романе «Князь Серебряный» (1862). А.К.Толстой даёт всегда исключительно нравственный анализ исторических событий, причём совершает его всегда в пространстве христианской нравственности, — да иного и быть не могло.
К религиозным сюжетам и темам оказались причастны едва ли не все русские поэты. В середине века, и в более позднее время, помимо названных ранее, можно вспомнить ещё Л.А.Мея, А.Н.Плещеева, А.М.Жемчужникова, Я.П. Полонского, А.А.Григорьева, А.Н.Апухтина, С.Я.Надсона… Обозреть всё это поэтическое пространство невозможно, и нет надобности, многие поэтические опыты не всегда нуждаются в пояснениях и дополнительных рассуждениях. Не упустим из виду, что и при избрании для своих поэтических упражнений чисто религиозных проблем можно оставаться лишь на уровне поэтического любопытства к ним (как, например, при использовании античных мифов — о христианстве умолчим), можно же и при взгляде на самые обыденные предметы не покидать религиозной серьёзности. Но пусть это останется личною проблемою совести каждого художника. И всё же: не всякий, произносящий имя Спасителя, есть художник истинно религиозный. Предложим пример из смежного искусства: когда И.И.Крамской создавал своего «Христа в пустыне», он сам признавался, что не вполне уверен: Христа ли он изображает. Или некий отвлечённый образ. Ясно без пояснений. Остановим краткое внимание лишь на некоторых образцах поэзии, обратимся к двум крупнейшим поэтам «чистого искусства» — к творчеству Фета и Майкова. Поэзия их и впрямь чиста, если понимать под этим словом беспримесную подлинность. Оставляя вне пространства нашего внимания всю полноту их поэтических интересов, задержимся лишь на соприкосновении поэзии с особенностями их религиозного осмысления бытия.
Афанасий Афанасьевич Фет
Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892) — поэт безмерно одарённый, но имеющий среди великих поэтов репутацию наиболее безразличного к Православию. В причины того углубляться не станем, будем благодарны и за ту чистую радость, какую он дарит своими стихами. Доводом же против излишней категоричности суждений о религиозном индифферентизме Фета могут быть его стихи же, хотя, нужно признать, духовным темам он посвящал своё внимание не часто. Фет был причастен традиции переложения текстов Писания — хоть он и не перелагал выбранные им места, а скорее отражал свои вольные фантазии на избранные темы. Впрочем, в XIX веке это общая особенность такого рода поэзии. Вольность же в подходе к священному тексту всегда оборачивается утратою глубины мысли, если не полным её искажением. Красноречив пример одного из стихотворений Фета: поэт нафантазировал по поводу известного эпизода из Евангелия от Иоанна — искушения Христа фарисейским вопросом об участи взятой в прелюбодеянии грешницы (Ин. 8, 1-11). Поэт сводит всё к некоему эмоционально-психологическому проникновению Сына Божия в душу грешницы — и тем искажает, принижает и даже опошляет евангельскую мудрость:
Но Он на крик не отвечал,
Вопрос лукавый проникая,
И на песке, главу склоняя,
Перстом задумчиво писал.
Во прахе, тяжело дыша,
Она, жена-прелюбодейка,
Золотовласая еврейка
Пред ним, грешна и хороша.
Её плеча обнажены,
Глаза прекрасные закрыты,
Персты прозрачные омыты
Слезами горькими жены.
И понял Он, как ей сродно,
Как увлекательно паденье:
Так юной пальме наслажденье
И смерть — дыхание одно.
Тут сказалась общая беда многих поэтов — особенно в более поздний период. Лучше обратимся к оригинальным поэтическим опытам, передающим интимные переживания автора.
Когда кичливый ум, измученный борьбою
С наукой вечною, забывшись, тихо спит,
И сердце бедное одно с самим собою,
Когда извне его ничто не тяготит;
Когда бездумное, но чувствами всесильно
Оно проведает свой собственный позор,
Бестрепетностию проникнется могильной
И глухо изречёт свой страшный приговор, —
Страдать, весь век страдать бесцельно, безвозмездно,
Стараться пустоту наполнить и взирать,
Как с каждой новою попыткой глубже бездна,
Опять безумствовать, стремиться и страдать, —
О, как мне хочется склонить тогда колени,
Как сына блудного влечёт тогда к Отцу.
Я верю вновь во всё, — и с шепотом моленья
Слеза горячая струится по лицу.
Тут, отчасти используется пушкинский образ, можно сказать: вот — ум не ищет Божества, но сердце стремится к Нему. Тоже ведь у Фета здесь тема безверия, но от того, пушкинского, какое движение вперёд!
Неожиданно обнаруживается у Фета соприкосновение с Державиным: в поэтическом религиозном самопознании: так узнаваемо являют себя идеи и образы оды «Бог» в таких строках:
…Ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам бессильный и мгновенный
Ношу в груди как оный серафим
Огонь сильней и ярче всей вселенной.
Меж тем, как я, добыча суеты,
Игралище её непостоянства,
Во мне он вечен, вездесущ, как Ты,
Ни времени не знает, ни пространства.
Разумеется, один поэт не повторяет, но развивает мысль другого поэта, но всё же легко было бы взять к этим строкам эпиграф из Державина:
…Ты во мне сияешь
Величеством Своих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Впрочем, Фет и взял себе эпиграфом из начальной строфы оды «Бог» строку «Дух всюду сущий и единый…» — для стихотворения «Я потрясён, когда кругом…». Не касаясь иных примеров обращения Фета к поэтическому выражению религиозных движений души, завершим эти краткие заметки указанием на фетовское осмысление молитвы Господней:
Чем доле я живу, чем больше пережил,
Тем повелительней стесняю сердца пыл,
Тем для меня ясней, что не было от века
Слов, озаряющих светлее человека:
«Всеобщий наш Отец, Который в небесах.
Да свято имя мы Твое блюдем в сердцах,
Да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, как в небесах, так и в земной юдоли.
Пошли и ныне хлеб насущный от трудов,
Прости нам долг: и мы прощаем должников,
И не введи Ты нас, бессильных, в искушенье,
И от лукавого избави самомненья».
В композиции этого стихотворения сразу узнаётся пушкинское «Отцы пустынники и жены непорочны…», а именно: вначале идёт своего рода предисловие, где открыто говорится об отношении поэта к молитве, а затем в переложении то же развивается в неявной форме, с некоторыми отступлениями от канонического текста, в которых и угадывается поэтический комментарий. В переложении Фета, признаем, важных отступлений от молитвы нет: различия же вполне объяснимы особенностями версификации. Но не упустим небольшого, но красноречивого добавления в самом конце.
В молитве: «…но избави нас от лукавого» (Мф. 6, 13).
У Фета: «И от лукавого избави самомненья».
Вот уже высказалось понимание самого поэта, не для всех обязательное (точнее: для всех необязательное), да и несколько сужающее смысл молитвенной просьбы, хоть и не слишком: ибо гордыня, от которой молит избавить поэт, дьявольское же порождение в душах наших. Пушкин, как помним, от той же гордыни (в иной форме — любоначалия) сугубо молил очистить его душу.
Важное заключение можем сделать мы под конец: вполне оригинальный в своей лирической дерзости, Фет в религиозных поэтических опытах следует — то в формальных моментах, то в избранных темах — не вполне открыто, не явно, но следует — своим предшественникам. Как будто опасается оказаться на этом поприще слишком самостоятельным. Или это непреднамеренно так вышло?
Аполлон Николаевич Майков
Популярность (употребим противо-поэтическое словечко) поэзии Аполлона Николаевича Майкова (1821–1879) несправедливо ниже масштаба его дарования. Более известными оказались разного рода неумные и пошлые стихи, подобные тем, что писал, например, В.Курочкин:
Я нашёл, друзья, нашёл,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всём гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орёл.
Это казалось таким злободневным, дерзким, глубоким. Не то что у Майкова:
Дорог мне перед иконой
В светлой ризе золотой,
Этот ярый воск возжённый
Чьей неведомо рукой.
Знаю я: свеча пылает,
Клир торжественно поёт—
Чьё-то горе утихает,
Кто-то слёзы тихо льёт,
Светлый ангел упованья
Пролетает над толпой…
Этих свеч знаменованье
Чую трепетной душой:
Это — медный грош вдовицы.
Это — лепта бедняка,
Это… может быть… убийцы
Покаянная тоска…
Это — светлое мгновенье
В диком мраке и глуши,
Память слёз и умиленья
В вечность глянувшей души…
Достоевский об этих стихах в письме Майкову писал: «…бесподобно. И откуда Вы слов таких достали! Это одно из лучших стихотворений Ваших…»196. Вообще и похвальных, и восторженных отзывов о поэзии Майкова было предостаточно. Белинский сопоставлял его стихи с пушкинскими, Плетнёв ставил Майкова «побольше Лермонтова», Некрасов и Чернышевский в 1855 году говорили о Майкове как о поэте, равного которому «едва ли имеет Россия», Дружинин находил «поэтический горизонт» Майкова обширнее, нежели у Тютчева, Фета и Некрасова. Мережковский утверждал: «После Пушкина никто ещё не писал на русском языке такими неподражаемо-прекрасными стихами. Поэт подымает нас на неизмеримую высоту философского созерцания, а между тем в его драмах нет и следа того рассудочного элемента, который часто портит слишком умные произведения»197. Поэтому под «непопулярностью» поэзии Майкова нужно подразумевать историческую судьбу его наследия, участь его особенно в советское время. За исключением нескольких хрестоматийных стихотворений о русской природе («Весна», «Сенокос», «Летний дождь», «Ласточки») — всё, созданное Майковым, то, чем восхищались ценители XIX века, русскому читателю неизвестно. И это движение к непопулярности началось при жизни Майкова, и по его вине: ведь сначала надежды на него возлагали, не без некоторого основания, самые прогрессивные литераторы за близость его принципам «натуральной школы», за демократичность поэзии. Позднее передовые же критики (Добролюбов, в частности) осуждали его за «измену». Ещё позднее — можно ли было ожидать доброго отношения к поэту, которого «реакционный» «Гражданин» причислял к «реальной силе в противодействии революционному движению»? Что ж! истинный поэт преодолел узкие рамки того, чем его хотели бы ограничить Белинский или Добролюбов. Он, в отличие от них, полагал, что хлеб насущный есть прежде всего — духовный:
О Боже! Ты даёшь для родины моей
Тепло и урожай, дары святого неба —
Но, хлебом золотя простор её полей,
Ей также, Господи, духовного дай хлеба!
1857
Майковым могли восхищаться истинные ценители истинной поэзии, но таковых всегда немного. У массового же демократического читателя, проходившего выучку у таких властителей дум, как Чернышевский или Писарев (не говоря уже о более мелких и более бесцветных, подобных Антоновичу или Елисееву), — могло ли стремление к Православию добавить поэту признания и симпатий? Средоточием высокой духовности стал для Майкова православный храм. Что же удивительного, что в своих исканиях он стал ближе славянофилам, нежели поборникам социального прогресса?
Многие исследователи утверждают, будто Майков обладал в значительной степени языческим мировосприятием, которое так и не смог преодолеть. Доказательством считается интерес поэта к античной литературе, к античным временам вообще: он переводил древних поэтов, и подражал им, и использовав сюжеты античной истории в своих произведениях. Но ведь и в обращении к античной культуре можно обрести начатки христианской мудрости — святитель Василий Великий недаром учил этому. Обращение же к истории определено важной идеей творчества Майкова — убеждённостью в торжестве христианства над ущербным язычеством («Олинф и Эсфирь», «Три смерти», «Смерть Люция», «Два мира»). А от соприкосновения с античной поэзией воспринял Майков в значительной степени особое чутьё, особый вкус к поэтическому совершенству стиха — из чего исходит и его особое отношение к поэзии, его приверженность «чистому искусству». Он полагал, что Муза кухаркой быть не должна. Но и игрушкою тоже быть не годится. Важно соображение.
К слову: популярность Фета, большая, чем у Майкова, объяснялась и безрелигиозностью значительной части его творчества, и некоторой скандальностью, возбуждаемой вокруг его имени бранными отзывами прогрессивных литераторов. Многих, к примеру, завораживал тот факт, что в стихотворении «Шёпот, робкое дыханье…»(1850) нет ни одного глагола, как нет и критики крепостного права, — до высокой поэзии этого безусловного шедевра ценителям Курочкина и дела не было. Мастера рекламы (любой) знают: скандальность делу популяризации чего угодно весьма способствует. Вины Фета в том не было, он стал жертвою обычной пошлости.
Майков был мудр, ибо знал: суетность человеческой жизни когда-нибудь придёт к неизбежному — к той тьме, в которой потребен окажется Свет особый, Свет Святости. Как то избыть? Мирское мудрствование знает одно давнее шаблонное заблуждение относительно иноческого подвига: монашество-де есть измена живой жизни, выражение полной общественной бесполезности.
Если понимать общественный интерес как «борьбу» за земное благополучие, то иночество и впрямь никакого касательства к тому не имеет. А вот в истинной нужде человеческой — без него нет исхода из тьмы:
И ангел мне сказал: иди, оставь их грады,
В пустыню скройся ты, чтоб там огонь лампады,
Тебе поверенный, до срока уберечь,
Дабы, когда тщету сует они познают,
Возжаждут Истины и света пожелают,
Им было б чем свои светильники возжечь.
1883
О том же раздирающем душу человеческую противоречивом стремлении к сокровищам небесным и земным, внимание к которому явно и скрыто определяет всё своеобразие русской литературы, поэт своё слово — в общем хоре православных голосов — сказал несомненно:
Смотри, смотри на небеса,
Какая тайна в них святая
Проходит молча и сияя
И лишь настолько раскрывая
Свои ночные чудеса,
Чтобы наш дух рвался из плена,
Чтоб в сердце врезывалось нам,
Что здесь лишь зло, обман, измена,
Добыча смерти, праха, тлена,
Блаженство вечное лишь там.
Концу своей жизни Майков предстоит как религиозный поэт-философ, глубина мудрости которого не уступает тютчевской — а она, кажется, стала эталоном поэтической философии. Вопросу, вековечному вопросу человека о непостижимой ему конечности его познания, ограниченности разума — Майков противопоставляет истинно богословский ответ:
Из бездны Вечности, из глубины Творенья
На жгучие твои запросы и сомненья
Ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг,
И плачешь, и клянёшь ты Небо в озлобленье,
Что не ответствует на твой душевный крик…
А Небо на тебя с улыбкою взирает,
Как на капризного ребенка мать.
С улыбкой — потому, что все, все тайны знает,
И знает, что тебе ещё их рано знать!
1892
Эти строки включены в цикл «Из Апполодора Гностика» (фигура вымышлена — давняя традиция литературы), где совершается, как и в цикле «Вечные вопросы», подведение итогов осмысленной поэтом жизни человека: время и вечность, страдание и спасение, земное и небесное — измеряются поэтом мерою, единственно к ним приложимою:
Дух века ваш кумир; а век ваш — краткий миг.
Кумиры валятся в забвенье, в бесконечность…
Безумные! ужель ваш разум не постиг,
Что выше всех веков — есть Вечность!..
1877
Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звёзды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…
1878
«А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5, 20). Все творцы русской литературы мучились этими же, и подобными им, вопросами, сопрягая их с думой о судьбе России. И как поэт русский истинно, Россию не сторонне наблюдающий и любящий, Майков только в одном и может узреть светлое будущее родной земли, истинно светлое:
Снилось мне: по всей России
Светлый праздник — древний храм,
Звон, служенье литургии,
Блеск свечей и фимиам, —
На амвоне ж, в фимиаме,
Точно в облаке стоит
Старцев сонм и нам, во храме
Преклоненным, говорит:
«Труден в мире, Русь родная,
Был твой путь; но дни пришли—
И, в свой новый век вступая,
Ты у Господа моли,
Чтоб в сынах твоих свободных
Коренилось и росло
То, что в годы бед народных,
Осенив тебя, спасло;
Чтобы ты была готова—
Сердце чисто, дух велик—
Стать на судище Христово
Всем народом каждый миг;
Чтоб, в вождях своих сияя
Сил духовных полнотой,
Богоносица святая,
Мир вела ты за собой
В свет — к свободе бесконечной
Из-под рабства суеты,
На исканье правды вечной
И душевной красоты…»
1878
Пророчество в том сне — или лишь несбыточные грёзы — определить придётся русскому человеку уже в XXI столетии.
Краткая библиография второй части
Аксаков И.С. Биография Ф.И.Тютчева. М., 1880.
Барабаш Ю. Гоголь: загадка «прощальной повести». М., 1993.
Бородкин М.М. Поэтическое творчество Майкова. М.-СПб., 1900.
Вересаев В. Гоголь в жизни. М., 1990.
Воропаев Владимир. Духом схимник сокрушенный: жизнь и творчество Н.В.Гоголя в свете Православия. М., 1994.
Воропаев В.А. Н.В.Гоголь: жизнь и творчество. М., 1999.
Бернштейн Э.Г. Судьба Лермонтова. М., 1964.
Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н.В.Гоголь. СПб., 1994.
Гиппиус В.В. От Пушкина до Блока. М.-Л., 1966.
Григорьян К.Н. Лермонтов и его роман «Герой нашего времени». Л., 1975.
Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. М.-Л., 1959.
Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Вып. 1–2. Петрозаводск, 1994, 1998.
Егоров Б.Ф. Литературно-критическая деятельность В.Г.Белинского. М., 1982.
Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995.
Зеньковский В.В. История русской философии. М., 1991.
Золотоусский И.П. Гоголь. М., 1984.
Каплин А.Д. Из истории русской религиозной мысли ХIХв.: славянофильская идея исторического развития России. Харьков, 2000.
Караганов А. Чернышевский и Добролюбов о реализме. М., 1955.
Кожинов В.В. Тютчев. М., 1985.
Лаврецкий А. Эстетика Белинского. М., 1959.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981.
Маймин Е.А. Хомяков как поэт. //Пушкинский сборник. Псков, 1968.
Макагоненко Г.П. Гоголь и Пушкин. Л., 1985.
Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. М., 1978.
Мануйлов В.А. Михаил Юрьевич Лермонтов: биография писателя. Л., 1976.
Мережковский Д.С. Лермонтов. Гоголь. СПб., 1911.
Мочульский К.В. Духовный путь Гоголя. Париж, 1934.
Николаев Д. П. Сатира Гоголя. М., 1984.
Носов В.Д. «Ключ» к Гоголю. Лондон, 1985.
Озеров Л. А.А.Фет. О мастерстве поэта. М., 1970.
Пигарёв К.В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962.
Пруцков Н.И. Русская литература XIX века и революционная Россия. Л, 1971.
Скатов Н.Н. Кольцов. М., 1983.
Стафеев Г.И. Сердце полно вдохновенья: жизнь и творчество А.К.Толстого. Тула, 1973.
Степанов М., священник. Религия М.Ю.Лермонтова. Воронеж, 1915.
Степанов М., священник. Религия И.С.Никитина. Воронеж, 1913.
Тарасов Б.Н. Чаадаев. М., 1986.
Тарасов Борис. Непрочитанный Чаадаев. Неуслышанный Достоевский. М., 1999.
Тонков В.А. И.С.Никитин: очерк жизни и творчества. М., 1968.
Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Paris, 1983.
Фохт У.Р. Лермонтов: логика творчества. М., 1975.
Храпченко М.Б. Николай Гоголь. М., 1984.
Христианство и русская литература. Сб. 1–3. СПб., 1994, 1996, 1999.
Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове. М.-Л., 1961.
Эльсберг Я.Е. Герцен: жизнь и творчество. М., 1963.
Примечания ко второй части
1. Здесь и далее ссылки на произведения Лермонтова даются непосредственно в тексте с указанием тома и страниц в круглых скобках по изданию: М.Ю.Лермонтов. Собр. соч. в 4-х томах. М., 1964–1965.
2. Цит. по: Нилус Сергей. Великое в малом. Новосибирск, 1994. С. 193.
3. Беседы старца Варсонофия Оптинского с духовными детьми. М.-Рига, 1995. С. 59.
4. Белинский В.Г. Собр. соч. Т.1. М., 1948. С. 687.
5. Мережковский Д.С. Лермонтов. Гоголь. СПб., 1911. С. 43.
6. А.П.Чехов о литературе. М., 1955. С. 297.
7. Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. С. 214.
8. Цветник духовный. М., 1909. Ч.2. С. 177.
9. Там же. С. 177.
10. Tам же. С. 179.
11. Де Сад, маркиз. Жюльетта. Т.2. М., 1992. С. 136.
12. М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1964. С. 242.
13. Там же. С. 243.
14. Там же. С. 244.
15. Соловьёв B.C. Литературная критика. М., 1990. С. 290–291.
16. Там же. С. 291.
17. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. Письма. Т.2. М., 1987. С. 386.
18. Здесь и далее ссылки на произведения Гоголя даются непосредственно в тексте по изданию: Н.В.Гоголь. Собр. соч. в 9-ти томах. М., 1994;— с указанием тома и страницы в круглых скобках.
19. Мочульский К. Гоголь. Соловьёв. Достоевский. М., 1995. С. 37.
20. Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н.В.Гоголь. СПб., 1994. С. 192.
21. Мочульский К. Цит. соч. С. 10).
22. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т.13. Л., 1952. С. 293.
23. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995. С. 75.
24. Цветник духовный. М., 1903. С. 206.
25. Гиппиус В…. Зеньковский В. Цит. соч. С. 212.
26. Ремизов A.M. Неуёмный бубен. Кишинёв, 1988. С. 537.
27 Есаулов И.А. Цит. соч. С. 67.
28. Там же. С. 67.
29. Там же. С. 70–71.
30. Гиппиус В…Зеньковский В. Цит. соч. С. 219.
31. Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 445.
32. Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 43.
33. Цит. по: Носов В.Д. «Ключ» к Гоголю. Лондон, 1985. С. 18.
34. Цит. по: Книжное обозрение. 4 февраля 1983.
35. Де Ларошфуко Франсуа. Максимы. Паскаль Блез. Мысли. Де Лабрюйер Жан. Характеры. М., 1974. С. 120.
36. Собрание писем святителя Игнатия Брянчанинова. М., СПб., 1995. С. 400.
37. Литература в школе. 1996. № 2. С. 24.
38. Белинский В.Г. Собр. соч. Т.З. М., 1948. С. 709.
39. Гиппиус В. Зеньковский В. Цит. соч. С. 208–209.
40. Цит. по: Гоголь Н.В. Мертвые души. М., 1988. С. 20.
41. Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 263.
42. Воропаев Владимир. Духом схимник сокрушенный… М., 1994. С. 12–13.
43. Богословские труды. Т.32. М., 1996. С. 279.
44. Цит. по: Воропаев Владимир. Цит. соч. С. 17–18.
45. Преподобного Иоанна ЛЕСТВИЦА. Сергиев Посад, 1908. С. 76.
46. Русский архив. 1900. № 4. С. 534–535.
47. Русская старина. 1901. № 2. С. 294.
48. Цит. по: Воропаев Владимир. Цит. соч. С. 20.
49. Вересаев В. Гоголь в жизни. М., 1990. С. 399.
50. Гиппиус В. Зеньковский В. Цит. соч. С. 199.
51. Журнал Московской Патриархии. 1993. № 4. С. 44.
52. Тургенев И.С. Собр. соч. Т.10. М., 1956. С. 278, 282–283.
53. Русское общество 30-х годов XIX в. М., 1989. С. 318.
54. Белинский В.Г. Т.З. С. 709.
55. Там же. С. 712.
56. Там же. С. 708.
57. Там же. С. 709.
58. Там же. С. 709.
59. Там же. С. 709.
60. Там же. С. 709–710.
61. Там же. С. 710.
62. Там же. С. 710.
63. Вересаев В. Гоголь в жизни. С. 518.
64. Цит. по: Воропаев Владимир. Цит. соч. С. 100.
65. Мочульский К. Цит. соч. С. 56.
66. Просветитель. № 1. М., 1994. С. 32–33.
67. Вересаев В. Цит. соч. С. 535.
68. Там же. С. 534–535.
69. Цит. по: Воропаев Владимир. Цит. соч. С. 146.
70. См.: Воропаев Вл. Последние дни жизни Николая Гоголя. //Литературная учёба. 1966. № 2. С. 46–58.
71. Цит. по: Воропаев Владимир. Духом схимник сокрушенный. С. 129.
72. Последний год жизни Пушкина. М., 1988. С. 548.
73. Там же. С. 539.
74. Вересаев В. Цит. соч. С. 569.
75. Аксаков К.С. Аксаков И.С. Литературная критика. М., 1982. С. 218.
76. Щеглов М. Литературно-критические статьи. М., 1958. С. 55.
77. Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. Т.1. М., 1967. С 6–7.
78. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т.10. М., 1961. С. 217.
79. Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т.2. М., 1975. С. 280.
80. Ильин И.А. Собр. соч. Т.6. Кн.1. М., 1996. С. 313.
81. Тургенев И.С. Собр. соч. Т.10. М., 1956. С. 349.
82. Толстой Л.Н. Собр. соч. Т.15. М., 1964. С. 264.
83. Добролюбов Н.А. Собр. соч. Т.7. М.-Л., 1963. С. 235–236.
84. Петров С.М. Проблемы реализма в художественной литературе. М., 1962. С. 84.
85. Там же. С. 23.
86. А.Григорьев. Материалы для биографии. Пг., 1917. С. 114.
87. Цит. по: Распутин Валентин. Собр. соч. Т.З. М., 1994. С. 361.
88. Тургенев И.С. Собр. соч. Т11. М., 1956. С. 179.
89. Цит. по: Пономарёв С. Высокопреосвященный Филарет, Митрополит Московский и Коломенский. Киев, 1868. С. 81.
90. Богословские труды. Т.32. М., 1996. С. 279.
91. Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. М., 1982. С. 151–152.
92. Там же. С. 191.
93. Аксаков К.С. Аксаков И.С. Цит. изд. С. 201.
94. Там же. С. 197.
95. Тургенев И.С. Собр. соч. Т.2. М., 1954. С. 119.
96. Булгаков С.Н. Соч. Т.2. М., 1993. С. 439–440.
97. Записки А.И.Кошелева. М., 1991. С. 51.
98. Там же. С. 90–92.
99. Там же. С. 90–91.
100. Воспоминания Б.Н.Чичерина. М., 1991. С. 156.
101. Герцен А.И. Собр. соч. Т.5. М., 1956. С. 133.
102. Там же. С. 135.
103. Там же. С. 148.
104. Там же. С. 171.
105. Воспоминания Б.Н.Чичерина. С. 27.
106. Там же. С. 40.
107. Там же. С. 40.
108. Записки А.И.Кошелева. С.87.
109. Русское общество 30-х годов XIX века. М., 1989. С. 318.
110. Там же. С. 319.
111. Цит. по: Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1987. С. 5.
112. Записки А.И.Кошелева. С. 90.
113. Воспоминания Б.Н.Чичерина. С. 106.
114. Герцен А.И. Т.5. С. 156–158.
115. Там же. С. 160.
116. Там же. С. 160.
117. Герцен А.И. Т.7. М., 1958. С. 277.
118. Хомяков А.С. Собр. соч. Богословские и церковно-публицистические статьи. Изд. Сойкина. С. 172.
119. Воспоминания Б.Н.Чичерина. С. 21.
120. Русское общество 30-х годов XIX века. С. 99.
121. Герцен А.И. Т.5. С. 138.
122. Русское общество 30-х годов XIX века. С. 85.
123. Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1987. Здесь и далее ссылки на это издание даются непосредственно в тексте, с указанием страницы в круглых скобках.
124. Герцен А.И. Т.5. С. 148.
125. Русское общество 30-х годов XIX века. С. 98.
126. Герцен А.И. Т.7. С. 289.
127. Там же. С. 471.
128. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. Письма Т.З. М., 1981. С. 171–172.
129. Воспоминания Б.Н.Чичерина. С. 16.
130. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т.5. Л., 1973. С. 78–79.
131. Нилус Сергей. Великое в малом. Новосибирск, 1994. С. 187.
132. Пестов Н.Е. Современная практика православного благочестия. Кн. I. СПб., 1994. С. 34.
133. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т.5. С. 79.
134. Новый мир. 1984. № 10. С. 204.
135. Булгаков С.Н. Соч. Т.2. С. 648.
136. Булгаков С.Н. Т.2. С. 437.
137. Здесь и далее ссылки на сочинения Печерина даются непосредственно в тексте по изданию «Русское общество 30-х годов XIX века». М., 1989; с указанием страницы в круглых скобках.
138. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т.14. С. 232.
139. Тургенев И.С. Собр. соч. Т.2. М., 1954. С. 119.
140. Журнал Московской Патриархии. 1994. № 6. С. 75.
141. Краткая литературная энциклопедия. Т.6. М., 1971. С. 438.
142. Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 271.
143. Герцен А.И. Т.5. С. 157.
144. Цит. по: ЖМП. 1994. № 6. С. 77.
145. Там же. С. 77.
146. Там же. С. 76.
147. Флоровский Георгий. Цит. соч. С. 277.
148. Хомяков А.С. Собр. соч. С. 79.
149. Аксаков К.С. Полн. собр. соч. М., 1875. С. 63.
150. Здесь и далее ссылки на сочинения Киреевского даются непосредственно в тексте по изданию: Киреевский И.В. Избранные статьи. М., 1984; с указанием страницы в круглых скобках.
151. Воспоминания Б.Н.Чичерина. С. 19.
152. Там же. С.20.
153. Там же. С. 161.
154. Там же. С. 158.
155. Там же. С. 157.
156. Там же. С. 162.
157. Там же. С. 156.
158. Православная беседа. 1995. № 3. С. 3–4.
159. Здесь и далее ссылки на стихотворения Тютчева даются непосредственно в тексте по изданию: Тютчев Ф.И. Лирика. Т. 1–2. М., 1965; с указанием тома и страницы в круглых скобках.
160. Аксаков И.С. И слово правды… Уфа, 1986. С. 277–278.
161. Там же. С. 237.
162. Писания свят. отцов. Т.1. С. 305–306.
163. Цит. по: Кожинов Вадим. Тютчев. М., 1994. С. 477–478.
164. Аксаков И.С. И слово правды… С. 267.
165. Там же. С. 235.
166. Сочинения Ф.И.Тютчева. СПб., 1900. С. 475–476.
167. Там же. С. 475.
168. Аксаков И.С. Цит. соч. С. 259.
169. Там же. С. 235.
170. Там же. С. 231, 240, 242, 251.
171. Там же. С. 255–258.
172. Там же. С. 261.
173. Сочинения Ф.И.Тютчева. С. 499.
174. Там же. С. 499.
175. Там же. С. 501.
176. Там же. С. 476.
177. Аксаков И.С. Цит. соч. С. 237.
178. Цит. по: Кожинов Вадим. Цит. соч. С. 478.
179. Набоков Владимир. Романы. Рассказы. Эссе. СПб., 1993. С. 345.
180. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т.3. С. 55.
181. Там же. С. 55.
182. И.С.Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969. С. 429.
183. Достоевский Ф.М. Т.18. С. 75–76.
184. Цит. по: Позов А. Основы христианской философии. Мадрид, 1970. С. 158.
185. Добротолюбие. Т.5. С. 191.
186. Монтень М. Опыты. Кн.1. М., 1979. С. 24.
187. Блок А. Собр. соч. Т.5. М.-Л., 1962. С. 427.
188. Ильин И.А. Собр. соч. Т.6. Кн.1. М., 1966. С. 63
189. Там же. С. 53.
190. Блок А. Т.5. С. 433.
191. Цит. по: Книжное обозрение. 4 февраля 1983.
192. Блок А. Т.6. С. 161.
193. Аполлон. 1914. № 3. С. 17.
194. Цит. по: Литературная газета. 5 сентября 1990.
195. Личный архив А.Н.Стрижёва.
196. Достоевский Ф.М. Т.28. Кн.2. Л., 1985. С. ЗЗЗ.
197. Полное собрание сочинений Д.С.Мережковского. Т.ХVШ. М., 1914. С. 80.
Научное издание
Дунаев Михаил Михайлович
ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Части I–II
Заведующий редакцией В.В.Лебедев
Редактор М.М.Дунаева
ЛР № 071027
«Христианская литература».
103051, Москва, Петровка, 28/2.
Подписано в печать 1.10.2001 г.
Формат 60x84/16. Печать офсетная. Бумага офсетная № 1
Усл. печ. л. 46. Тираж 6000 экз.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии 4-го филиала Воениздата
Заказ № 5884

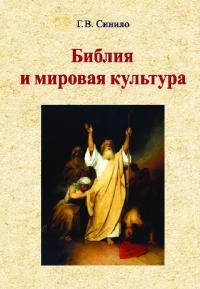

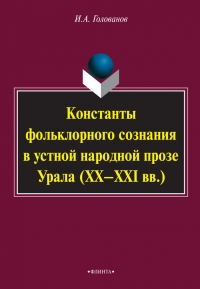


Комментарии к книге «Православие и русская литература в 6 частях. Часть 2 (I том)», Михаил Михайлович Дунаев
Всего 0 комментариев